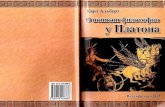Очерк исследования структуры системы философии...
Transcript of Очерк исследования структуры системы философии...
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Коротких В.И.
ОЧЕРК ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
СИСТЕМЫ ФИЛОСОФИИ ГЕГЕЛЯ
Москва «Прометей»
1999
ББК – 87.3 Печатается по решению редакционно-издательского УДК 1 / 14 совета МПГУ и ученого совета ЕГПИ Кор – К – 68 Рекомендовано к печати кафедрой истории зарубеж- ной философии МГУ им. М.В. Ломоносова В.И. Коротких. Очерк исследования структуры системы философии Гегеля. - Москва «Прометей», Елец ЕГПИ, 1999. – 371 с. ISBN 5-7042- 0944-0
В монографии развивается оригинальный взгляд на систему фило-
софии Гегеля. В центре внимания автора находится соотношение основных элементов «системы» - Феноменологии, Логики и реальной философии. Впервые в отечественной литературе предпринимается попытка анализа концептуальной структуры «Феноменологии духа».
Монография, однако, не является лишь узкоспециальным научным исследованием. Она представляет интерес для всех читателей, интересующихся историей европейской культуры. Реконструкция завершившей классическую европейскую философию системы Гегеля позволяет воссоздать её концептуальные предпосылки и оказывается необходимым условием актуального в сегодняшней философской ситуации осмысления соотношения классической и постклассической философии.
Рецензенты: доктор философских наук, профессер, зав. кафедрой истории зарубежной философии МГУ им. М.В. Ломоносова А.Ф. Зотов доктор философских наук, профессор Г.Я. Стрельцова
ОТ АВТОРА Работа над книгой, которую я не без сожаления
отпускаю теперь со своего письменного стола, продолжалась в течение почти пятнадцати лет: первые фрагменты, вошедшие в окончательной редакции во вторую главу, были написаны в марте 1985 года, а последние строки заключения - в ноябре 1998 года, еще около года ушло на стилистическую обработку текста. В продолжение работы приходилось отказываться от множества гегелеведческих мифов и, соответственно, заново перерабатывать уже, казалось, законченные части. Отдельные нестыковки и разночтения, видимо, еще остались в тексте, за что я заранее приношу свои извинения. Надеюсь, однако, что эти недостатки хотя бы частично компенсируются внутренним единством и полнотой сформулированной в книге концепции.
Отбирая материал для окончательной редакции книги, я вынужден был оставить за ее границами большую часть полемических замечаний и историографических ремарок, а также рассмотрение того содержания “Феноменологии духа”, которое не является необходимым для реконструкции системы философии Гегеля. Подобное авторское самоограничение, по-видимому, было оправданным в связи с тем, что книга, и без того обширная, могла бы и вовсе лишиться определенных границ, если бы я позволял себе развивать в деталях множество сюжетов, возникавших у меня в процессе работы. Эта вынужденная тематическая и стилистическая ограниченность исследования, надеюсь, будет восполнена, когда завершится работа над двумя другими книгами - “Предмет и структура “Феноменологии духа” Гегеля” и “Образы системы философии Гегеля в европейской культуре 19-20 веков”. Появление всех трех книг означало бы, что оказались реализованными те рожденные из переживания “полного понимания” гегелевских текстов интуиции, которые впервые возникли у меня в середине 80-х годов.
Вспоминая о начале исследований, с чувством благодарности называю имена своих учителей. Мое
систематическое изучение философии Гегеля начиналось под руководством проф. В.Н.Кузнецова. Первым результатом исследований стала диссертация “О соотношении логической идеи и мира в философии Гегеля”, написанная под руководством проф. Г.Я.Стрельцовой и защищенная в МГУ им. М.В. Ломоносова в 1992 году. Ценные критические замечания на этом этапе работы были сделаны профессорами А.М. Каримским, А.Ф. Зотовым, А.Л. Доброхотовым. С благодарностью отмечаю, что формирование моих научных интересов, предопределившее выбор темы и направления исследования, осуществлялось под глубоким благотворным влиянием профессоров Г.Г. Майорова, А.Н. Чанышева, А.Ф. Грязнова, доц. М.А. Гарнцева. Выражаю также признательность всем преподавателям кафедры истории зарубежной философии МГУ за помощь и внимание к моей работе.
Благодарю родных и друзей - имен не называю не по забывчивости, а потому, что, к счастью, пришлось бы назвать слишком много имен, - которые в разные годы и по-разному помогали мне в работе. На их счет прошу отнести лучшие страницы этой книги.
Я МОГУ БЫТЬ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УБЕЖДЕН, ЧТО ПОНЯЛ АВТОРА, ЛИШЬ ЕСЛИ Я В СИЛАХ ПОЛНОСТЬЮ ОТОЖДЕСТВИТЬСЯ С НИМ В ЛЮБОМ ДВИЖЕНИИ ДУХА, ЛИШЬ ЕСЛИ Я В СОСТОЯНИИ, НЕ ИСКАЖАЯ ЕГО СВОЕОБЫЧНОСТИ, ПЕРЕВЕСТИ И ПРЕОБРАЗИТЬ ЕГО НА СТО РАЗНЫХ ЛАДОВ.
НОВАЛИС
В В Е Д Е Н И Е а). Предмет и структура исследования. Философия
Гегеля традиционно рассматривается как систематическая философия, как “система философии”. Таково было и ее самопонимание, декларированное уже в предисловии к “Феноменологии духа”. Однако вопрос о том, каковы элементы этой системы и отношения между ними, до сих пор остается открытым. Опыт дискуссий о философии Гегеля показывает, что решение этой проблемы, если оно все же будет сформулировано, может быть только очень нетривиальным, а, значит, оно должно основываться на новом осмыслении самых фундаментальных принципов гегелевского мировоззрения.
Обычно в гегелеведческих исследованиях под “системой философии” понимается трехчастная последовательность: Логика - Философия природы - Философия духа, представленная в “Энциклопедии философских наук”, т. е. “система философии” отождествляется с “энциклопедической системой”. Исторические и содержательные основания такого понимания хорошо известны и кажутся весьма внушительными. Однако центральная проблема энциклопедической системы - проблема соотношения предметов Логики и реальной философии (Философии природы и Философии духа), или логической идеи и мира,1 в границах энциклопедической системы является неразрешимой. Исследователи могли по-разному истолковывать ее неразрешимость, но признавалась она всеми, - за исключением, может быть, лишь тех читателей Гегеля, которые считали возможным ограничиться повторением формул самого философа.
Думается, что новое обсуждение проблемы структуры системы философии Гегеля может иметь смысл только в том случае, если будут найдены принципиально новые основания анализа философии Гегеля.2 В настоящем исследовании я предлагаю рассмотреть эту проблему с учетом опыта “Феноменологии духа”, которая, на мой взгляд, до сих пор оставалась в большей степени “тайной” гегелевской философии, нежели реально анализировалась в качестве ее “истока”.
Исходным пунктом исследования является мысль о необходимости уточнения понятия предметности применительно к философии Гегеля. Именно, поскольку Логика и реальная философия описывают движение типов предметности, конституируемых в “Феноменологии духа”, то и решение проблемы соотношения этих элементов энциклопедической системы следует искать в “Феноменологии”. В предлагаемом исследовании я пытаюсь показать, что именно такая постановка проблемы способна задать новую перспективу исследованию систематического строения философии Гегеля. Вместе с решением проблемы соотношения Логики и реальной философии обращение к “Феноменологии духа” имеет целью и прояснение структуры этого фундаментального гегелвского труда, поскольку не только система философии Гегеля основывается на “Феноменологии”, но и “Феноменология”, конечно, может быть понята только в перспективе “системы”, ведь кроме “результата” “Феноменологиии”, каковым и является “система”, никакой другой неслучайной точки зрения на нее нет.3
Если рассмотрение “Феноменологии духа” выявляет специфику спекулятивной предметности и указывает на ее отличие от других предметных уровней, то рассмотрение “Науки логики” позволяет описать движение, или реализацию, этого собственно философского предмета. Рассмотрение “Логики” в контексте изучения системы Гегеля тем более важно, что ввиду морфологического родства “Феноменологии” и “Логики”4 она также становится причастной к формированию предметных сфер: определенности каждого предметного уровня в своей существенности, как логические определенности, выявляются только “Наукой логики”.
Анализ “Феноменологии духа” и “Науки логики” позволяет сформулировать основные принципы системы философии Гегеля, установить ее состав и понять соотношение ее элементов, а также установить отношение системы философии Гегеля к его энциклопедической системе. В результате рассмотрение “Феноменологии духа” и “Науки логики” выявляется, что в каждом из этих произведений Гегеля “структура системы философии” отражается, по-существу, в
полном объеме с той, однако, разницей, что в “Феноменологии духа” “структура системы философии” - это естественная для субъекта последовательность способов постижения духа, тогда как в “Науке логики” речь идет о их собственной - взятой в соответствии с их чистой определенностью - координации.
В соответствии с предметом и задачами исследования его основное содержание излагается в трех главах: в первой главе исследуется становление понятия спекулятивной предметности, во второй - его реализация в “науке”, в третьей главе предпринимается попытка анализа структуры “Феноменологии духа”. Во введении дается описание методологических оснований исследования. Так как в предлагаемом исследовании предпринимается целостное рассмотрение содержания “Феноменологии духа” (за исключением глав VI и VII) и “Науки логики”, то оно может рассматриваться и как концептуальный комментарий к этим трудам, “концептуальный” означает в этом контексте: выполненный со строго определенных методологических и теоретических позиций.
б). Форма и стиль исследования. Фундаментальная трудность понимания и передачи мысли Гегеля - причем это в равной мере относится и к “Феноменологии”, и к “Логике” - заключается в том, что речь у него идет все время об одной и той же структуре, и структура эта дана сразу (как, например, в первом же предложении основного текста “Феноменологии” определяется структура феноменологической предметности), но мысль Гегеля занята тем, как эта структура формирует свое развитое для-себя-бытие. Поэтому Гегель совмещает единство используемых выразительных средств, призванных показать, что это одна и та же структура, с демонстрацией постепенного нарастания спекулятивной содержательности. Гегель постоянно стремится найити возможность продемонстрировать, что данный этап эволюции описываемой структуры “уже” отличается от предыдущего, но оставить в то же время возможность и для того, чтобы и последующий этап мог чем-то от него отличаться. Конструируя таким образом “континуум спекулятивной мысли”, он и в самом малом фрагменте движения находит промежуток между этими “уже” и “еще не-”, что требует от читателя напряженного внимания5 и
особого рода вкуса, который выражается в готовности следить за деталями мысли (не теряя при этом из вида целого) и старательно их каталогизировать.
Из сказанного уже ясно, что работа о Гегеле не может сводиться к воспроизведению его языка и стиля, - как раз того, что и следовало бы попытаться объяснить. Книги о Гегеле, написанные “языком Гегеля”, - это худшие книги о Гегеле. С другой стороны, однако, эта особая сложность произведений Гегеля не является каким-то лишь внешним, “техническим” их элементом, без которого можно было бы и обойтись. Нет, эта по видимости лишь техническая сторона философии Гегеля на деле принадлежит к ее сущности, содержанию. Способ выражения мысли Гегеля тождествен самой мысли. Мы неизбежно впадем в самообман, если предположим, что к предмету гегелевской философии можно пробраться каким-то другим путем, минуя его невыносимую “терминологию”. Поэтому сомнительными должны представляться и попытки писать о Гегеле легким и изящным языком. Хотя кажется, что примеры, готовые опровергнуть это заявление, найти нетрудно (в русской традиции самый красноречивый из таких примеров - книга И.А. Ильина), все же следует признать, что подобные сочинения много выиграли бы в своем содержании, если бы оставили неудовлетворенными естественные в других случаях притязания своих авторов на элегантность. В самом деле, можно ли всерьез относиться к задаче достижения стилистического совершенства, приступая к пунктуальному разбору таких труднейших произведений мировой философской литературы, как “Феноменология духа” и “Наука логики” ?
Наилучшим выходом из этого противоречивого положения было бы для комментатора попытаться не останавливаться на “тексте” и попытаться самому, “лично” увидеть ту “реальность”, о которой говорит философ. В таком случае проблема языка исследования должна отойдет на второй план, поскольку сам предмет найдет, конечно, способ сказать о себе. В случае с Гегелем, по-видимому, решение этой сверхзадачи оказывается принципиально возможным в связи с тем, что он написал специальное произведение, целью которого как раз и является провести всякого читателя к самой
спекулятивной предметности, - “Феноменологию духа”. Если выпадет счастье, и “бесконечность” и “разум”, “дух” и “абсолютное знание” и т.д. станут для сознания такими же легко узнаваемыми предметами, как и вещи повседневного опыта, то и чтение Гегеля станет занятием легким и радостным, а, в свою очередь, созданный таким сознанием - т.е., собственно, таким “читателем” Гегеля - текст о гегелевской философии - даже до крайности перегруженный “терминологией”, даже формально воспроизводящий “язык Гегеля” - будет выглядеть не как спрятанный под “непонятностью” неудовлетворительно выполненный отчет о “научной работе”, а как приглашение к искреннему разговору о вещах, не любить которые можно лишь потому, что о них не знаешь.
В самом деле, всякому человеку, которому случалось писать о великих книгах, приходилось пережить нечто подобное тому, что пережил Пьер Менар, “автор”6 “Дон Кихота” у Борхеса: исследуемый текст по мере его изучения кажется все более понятным, ясным, полным и неделимым, самодостаточным. Все сильнее становится желание не прерывать цитаты, все реже возникает желание их пояснять или что-то добавлять к ним. Если не устоять перед этим покоряющим очарованием изучаемого текста,7 то текст собственный просто начнет повторять его. И кто, живший вместе с Сервантесом или Гегелем, не поймет этого “просто” ?
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ в). “Исторический” и “систематический” способы
реконструкции философии Гегеля. Обсуждение проблем гегелевской философии, предпринимаемое не с “исторической”, а с “систематической” точки зрения, требует внимания к методологической стороне работы не в меньшей мере, чем к содержательной. При “историческом” рассмотрении гегелевской философии, ограничивающимся, по-существу, перечислением “идей”, высказанных философом в определенной последовательности,8 целое философской
системы предполагается сохраняющимся в своих основных чертах, но выступающим как бы не сразу, а постепенно. При этом подразумевается, что понимание системы философии достигается воспроизведением этой постепенности движения, которое, собственно, и формирует целое. Оно же само вследствие постепенности своего возникновения и воспроизведения остается всегда на заднем плане, тогда как непосредственным предметом обсуждения являются этапы его формирования или его части. Такая позиция недостаточна для понимания всякой внутренне разработанной системы. Тем более неэффективна она при реконструкции гегелевской философии, которая должна пониматься прежде всего как философия целого.9
Именно интуиция целого, единства, разворачивающего себя в бесконечное многообразие и снова сводящего его к себе, является источником гегелевского философствования. Но эта интуиция как раз и не схватывается при ограничении исследователем своей задачи лишь “исторической” точкой зрения на философию Гегеля. При более же пристальном рассмотрении выявляется, что подобная позиция есть просто предлог для отказа мыслить философскую систему Гегеля иначе, чем в качестве последовательности частей или этапов становления. Но тем самым разоблачает себя и предполагавшееся существующим целое. Декларируемая “историчность” подхода оказывается противостоящей не внеисторичности, или абстрактности, а способности понимать то логически “синхронное” целое, которое вследствие историчности (дискурсивности) своей реализации как раз и приняло вид “системы”. Сегодня задача осмысления философии Гегеля как целостного построения, “системы”, требует перевести взгляд исследователя именно на то единство, которое, живя в каждой части, делает ее именно “частью” - частью целого - и тем самым сохраняет себя в качестве точки отсчета мышления философа.
г). Самостоятельное видение предмета как условие реконструкции философской системы Гегеля. Указанная точка отсчета, конечно, не может быть просто найдена в тексте философа, “вычитана” из текста. Во-первых, истинное, представляя себя в “науке”, само оказывается дискурсивным,
просто выступает постепенно, частями. Поэтому в границах “науки” (в специфически гегелевском смысле этого термина) эта точка отсчета, строго говоря, вообще не может быть указана, оставаясь либо принципом, т.е. лишь началом истинного, либо частным моментом его разворачивания в систему.10 Во-вторых, понимание такого философа, как Гегель, требует не только обращения к тексту “Феноменологии духа” или “Науки логики”, но и самостоятельного видения того предмета, изображением которого является движение феноменологических формообразований или логических категорий.
Исполнение этого требования не вносит в гегелевскую философию никакого “интуитивизма”, “иррациоанализма” и т.п.. Речь идет лишь о том, что в основе понимания философа всегда лежит собственный предметный опыт исследователя. Открытость для исследователя через текст предметного опыта философа делает возможным равноправный диалог между ними, в результате которого может сформироваться существенная интерпретация. Я считаю необходимым, таким ообразом, присоединиться к старому герменевтическому требованию, согласно которому автора нужно понять лучше, чем он сам себя понимал, но - и это самое главное - вижу возможность его исполнения в возможности выхода с помощью философа в предметность, впервые им найденную и описанную. Таким образом, реконструкция философии Гегеля как целостной системы, предполагая необходимость самостоятельного видения исследователем предмета, который был описан философом, не может сводиться к повторению гегелевских оценок собственной философской системы, эта реконструкция - не воспроизведение уже имеющейся, якобы, в трудах философа “истины”, но ее первое открытие и формулирование, поскольку как сознающее себя систематическое целое она и может быть только результатом совместных усилий философа и интерпретатора.11
Не следует бояться “интерпретаций”, ни одна интерпретация все равно не сможет оказаться настолько гениальной, чтобы полностью сплавиться и слиться со своим предметом, чтобы стать неотделимой от него. Понимание вообще является не повторным воспроизведением фактов чьей-
то интеллектуальной жизни, а, скорее, осознанием той исторической и культурной дистации, которая нас от них отделяет, в результате чего всегда и оказывается, что в основе всякого понимания лежит само-понимание. Поэтому мы должны стремиться дать именно ту интерпретацию философии Гегеля, которую можем дать только мы. Только наше понимание - причем, от “нашего” отказаться невозможно, да, к тому же, делать этого и не следует, исли мы хотим сохранить поддерживающую нас историческую почву, - является завершением его мысли.
Представленная методологическая позиция обуславливает и некоторые внешние особенности работы. Стремление основывать свои суждения о гегелевской философии на видении самого предмета неизбежно приводит к попыткам образного его описания. В особенности зрительно-световые образы кажутся часто необходимыми для понимания и передачи гегелевской мысли. Прав И.А. Ильин, писавший, что Гегель видит мыслью и мыслит как бы воочию, приближаясь в этом к Пармениду и Платону (см.:21,1,111). В “Науке логики” в особенности “Учение о сущности” допускает зрительно-световое истолкование. Происходит это не только в связи с использованием терминов scheinen, die Reflexion, но и прежде всего в связи с тем, что сама природа Сущности как бы подсказывает зрительные образы в качестве чувственных аналогов понятий: отношения категорий в “Сущности” уподобляются движению взгляда, в котором видящий, как кажется поначалу, теряется в видимом, но видимое (Бытие) оказывается лишь моментом видения (Сущности), развернутого из точки взгляда (Понятия).
Конечно, образное представление результатов мышления ничего не может внести дополнительно к самой мысли. Более того, на этом пути возможны упрощения, смещение акцентов, расставленных выверенной терминологией, и т.п.. И все же опыт образного видения мысли необходим. Дело не в том, что образ чем-то дополняет мысль, а в том, что сама мысль в своем завершении - “прочтении”, конгениальном понимании - образна и “видима”. “Образ” есть просто сохранение единства бесконечно различенного, и образность оказывается поэтому неотделимой от спекулятивной мысли. Наше представление о
чувственном образе является субъективным аналогом формы спекулятивной мысли и потому неизбежно выступает в сознании, которое обращено на спекулятивную предметность.
д). Отношение к методологической позиции И.А. Ильина. Методологическое значение “Феноменологии духа”. Для уточнения представленной методологической позиции целесообразно определить в общих чертах ее отношение к методологической позиции, реализованной в труде И.А. Ильина “Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека”.12 И.А. Ильин утверждает, что фундаментальным принципом гегелевской философии является принцип слияния “мышления” и “смысла”. В соответствии с этим он считает, что смысл, т.е. спекулятивная предметность, открывшаяся философу и описанная им, может быть вновь достигнута только в том случае, если будет хотя бы отчасти повторен его душевно-духовный опыт. Поэтому, полагает И.А. Ильин, в реконструкции философии Гегеля возможна лишь большая или меньшая степень приближения к оригиналу, но, во всяком случае, полное и адекватное понимание философа невозможно. Нельзя, говорит он, повторить силу гениального видения, можно лишь отчасти воспроизвести его.
Я думаю, что тот душевно-духовный опыт, о необходимости которого для понимания философии Гегеля говорит И.А. Ильин, был выражен в “Феноменологии духа”, поэтому для того, чтобы совершить выход в открытую философом предметность,13 исследователю вовсе не обязательно быть непосредственно конгениальным философу, нужно лишь понять действительную значимость “Феноменологии духа” как особого пути к открытию особого предмета мышления и максимально точно пройти этим путем вслед за философом. Характерная для И.А. Ильина психологизация гегелевской философии обусловлена именно невниманием к этой роли “Феноменологии” в системе Гегеля.14
Одним словом, тот путь к спекулятивной предметности, принципиальную важность которого почувствовал И.А. Ильин, но который он представил как проблему, даже как некую тайну гегелевской философии, является на самом деле открытым - и именно: открытым для всякого читателя “Феноменологии духа”.
Принцип же слияния мышления и смысла, на значимости которого для понимания гегелевской философии справедливо настаивает И.А. Ильин, не терпит ущерба от того, что выход в спекулятивную предметность перестает быть тайной. Дело в том, что принцип этот следует истолковывать не “психологически”, а трансцендентально. Во введении к “Науке логики” Гегель пишет: “В качестве науки истина есть чистое развивающееся самосознание и имеет образ самости, что выражается в том, что в себе и для себя сущее есть осознанное понятие, а понятие, как таковое, есть в себе и для себя сущее” (1,1,103). Логическая идея, раскрываясь в науке, эксплицирует свою внутреннюю структуру (самосознающее понятие), оказывающуюся тождественной чистому самосознанию (“Я” в трансцендентальном смысле), естественным носителем которого является конечный дух.15 И речь здесь не может идти об уподоблении самосознания логическому или какого-то их сходстве. Для трансцендентальной философии просто бессмыслен вопрос о бытии, которое не было бы предметом сознания, о бытии, еще не открытом сознанием, - например, в реальной истории культуры или с помощью “Феноменологии духа”. Речь должна идти именно о тождестве истинного самого по себе, логического как истинного, развернувшего свою структуру в форме, пригодной для дискурсивного восприятия, и чистого самосознания, “Я” в трансцендентальном смысле, к которому через “Феноменологию” поднимается “я”, конечный дух. Это одна и та же сущность, различие их определяется только характером субстрата, носителя. Именно так должен быть истолкован принцип слияния мышления и смысла, если “Феноменология” понимается как путь к открытию спекулятивной предметности.
Выявляемое “Феноменологией” структурное тождество самосознания и бытия обеспечивает, таким образом, возможность для исследователя собственного опыта видения предмета, а особое строение предмета “Феноменологии”, включающего в себя “наше сознание”, т.е. непосредственно - сознание автора и читателя (о чем мы специально будем говорить в первой главе), - и его необходимость. И вот в этом собственном видении предмета и состоит способ повторения душевно-духовного опыта философа (и опосредованно -
реального опыта культуры), а желанный результат этого драматического процесса - достижение изначальной интуиции философа, реализацией которой является вся философская система, - должен удостоверить его правильность и конструктивность.
е). “Самостоятельность текста” как формальный принцип интерпретации. В современной гуманитарной культуре продолжает существовать тенденция толковать текст с помощью внешних ему средств. В историко-философских или историко-литературных исследованиях на каждом шагу можно встретить ссылки на обстоятельства личной жизни автора, его психологию, особенности политеческой ситуации, внетекстовые заявления автора. Подобный подход чаще всего обусловлен непродуманностью методологических оснований исследования и влиянием вульгаризированных форм различных идеологий, например, марксизма или фрейдизма. Несмотря на все различия, которые могут существовать в такого рода интерпретациях, они едины в утверждении принципиальной несамостоятельности рассматриваемого текста.16
В гегелеведческих исследованиях такой подход выражается прежде всего в том, что ключевые вопросы интерпретации философии Гегеля решаются на основании самооценок философа. “Объективность” исследования подменяется тем самым “субъективностью объекта исследования”. Исследователь как бы отказывается от необходимости “проверки” суждений философа, но, в конечном счете, - отказывается от понимания философа.
На деле же реконструкция философии Гегеля, оказываясь возможной лишь при условии самостоятельного видения открытого философом предмета, не может сводиться к повторению авторских оценок философской системы. Действительная реконструкция, напомним об этом, - не воспроизведение уже имеющейся в трудах философа истины, но ее первое открытие и формулирование, поскольку как деяние понимающего прочтения она и может быть только результатом совместных усилий автора и интерпретатора.17
В исследовании, посвященном философии Гегеля, следует оставить без внимания и “жизнь” философа, т.е. его бытовую
биографию, личную психологию и т.п.. Жизнь мыслителя по имени “Гегель” и жизнь одноименного обывателя - это две разные жизни, и если мы хотим понять первую, то о второй следует постараться забыть. Слова Гессе “Где налицо какие-либо произведения, там историк просто не может не соединить их с жизнью их творца как две нерасторжимые половины некоего живого целого” (18,50) могли бы быть названы, таким образом, отрицательным полюсом той методологической позиции, которую стремится реализоваить предлагаемое исследование. Его следует воспринимать как попытку рассмотреть гегелевский текст в качестве самостоятельного и самодостаточного единства, в качестве предмета, который один лишь может свидетельствовать о себе, и лишь такие свидетельства текста будут приниматься нами в качестве основания для тех или иных наших суждений о нем.18
Но, собственно, что такое “текст” в нашем случае, применительно к Гегелю ? Всякий, кто хотя бы бегло познакомился с несколькими десятками томов его “сочинений”, поймет неформальность этого вопроса.
ж). “Замысел” и “реализация” философии Гегеля, корпус сочинений Гегеля. Некритическое принятие гегелеведами самооценок философа и использование других ненадежных методов интерпретации сформировали представление, будто гегелевская философия полна противоречий, логических нестыковок, необъяснимых переходов и т.п.. Вряд ли имеет смысл показывать в каждом отдельном сучае, что подобные “противоречия” есть чаще всего лишь результат навязывания гегелевской философии чуждых ей установок. Скорее следует попытаться реконструировать центральное содержание гегелевской системы как единое непротиворечивое построение (чем мы и будем заняты в ходе этого исследования), в конце концов, только в результате такой реконструкции можно будет оценить и те элементы мировоззрения Гегеля, которые в это непротиворечивое целое, возможно, не войдут.
Исследователи, осознающие реальность трудностей реконструкции философии Гегеля в ее “полном объеме”, иногда пытаются выделить у Гегеля “замысел” и “реализацию” и показать, что проблемы возникают именно на уровне
реализации, например, вследствие несбалансированного проведения различных принципов. При этом предполагается, что при определенных условиях эти недостатки могли бы быть устранены. Конечно, стремление выделить в философии Гегеля “замысел” и “реализацию” свидетельствует о чуткости исследователей к логическим трудностям реконструкции системы. Легко заметить, однако, что такое различение нарушает принцип самостоятельности текста, поскольку “замысел” как некое субъективное намерение автора, не нашедшее адекватного отражения в тексте, - это элемент внешний по отношению к нему, повод для произвольных предположений комментатора, ведь все они в таком случае могут относиться к тому, что философ намеревался выразить, а не к тому, что он реально выразил. Принцип самостоятельности текста требует от интерпретатора сохранять независимость кроме всего прочего и от тех оценок текста, которые были даны самим автором. В конце концов, исследуемый текст - это и замысел, и реализация в одном лице, и манифестация замысла, и, одновременно, попытка его осуществления.
И опыт гегелеведения в конечном счете подтверждает обоснованность сомнений в конструктивности различения “замысла” и “реализации” для реконструкции философии Гегеля.19 Думается, следует признать, что в трудах философа представлена адекватная реализация его замысла, но, конечно, критически следует подойти к оценке имеющегося корпуса сочинений философа. Именно, следует поставить под сомнение, будто несколько десятков томов его “сочинений” могут быть представлены как единый текст, требующий единого комментария.20 Следует признать тот простой факт, что только два произведения были написаны Гегелем как научные исследования - “Феноменология духа” и “Наука логики”. Таким образом, только “Феноменология” и “Логика” должны были бы быть признаны действительной реализацией творческого замысла философа, если бы мы нашли все же достаточно оснований для продолжения использования этих понятий применительно к задаче осмысления метода интерпретации философии Гегеля. Все остальное - учебные пособия для студентов, конспекты лекций, неизданные рукописи - было написано в связи с теми или иными
событиями внешней, “мирской”, жизни философа, они более или менее случайны как с точки зрения выбора предмета, так и со стороны формы исследования и повествования. Рассматривать эти тексты как равноправные и содержательно однородные с “Феноменологией” и “Логикой” - такой подход не может не казаться сегодня странным, а его господство в гегелеведении на протяжении столь длительного времени - удивительным. И хотя, с другой стороны, оставить из всего корпуса сочинений Гегеля лишь несколько томов, объявив все остальное не относящимся непосредственно к “системе Гегеля”, - также, может быть, не лучшее из того, что мог бы в других условиях сделать историк гегелевской мысли, но все же следует согласиться с тем, что это непростое решение было подготовлено долгой историей споров о философии Гегеля, споров, в которых определенно было установлено лишь то, что “системы” в тех границах, которые были указаны Гегелем и его учениками, просто не существует.
И если сегодня мы можем вернуться к опыту мысли “вместе с Гегелем” лишь через критический пересмотр состава его сочинений, то останавливаться перед этим препятствием с миной ложного пиитета перед мнением философа и декларируемым стремлением к “научности” (отождествляемой в этом случае, видимо, с неразборчивостью) было бы только проявлением формализма. Впрочем, доказательством конструктивности избранных методологических принципов может быть лишь успешная рекнструкция системы философии Гегеля, только она может подтвердить и оправданность критического отношения к воспроизводимому сегодня корпусу сочинений философа.
Размышления же о том, как было возможно на протяжении десятилетий некритически воспроизводить образ системы философии, сфабрикованный в гегелевской школе, приводят к выводу, что причиной этой наивной доверчивости интерпретаторов являлось отсутствие у них ясной постановки вопроса о предмете философских исследований Гегеля. Какую “реальность”, собственно, описывает философ ? Могут ли быть совмещены все “реальности”, описанные Гегелем в его “сочинениях” ? Сам философ имел очень ясные предметные интуиции. Определение “о чем” часто вытеснялось у него
определением “что” - более конкретным, спекулятивно-содержательным. Первое просто не нуждается в постоянном повторении, этой теме специально посвящена “Феноменология духа”, говорить об этом на каждом шагу невозможно (ввиду особого методически-научного стиля изложения Гегеля) и не нужно (если сознание читателя действительно следует за сознанием автора). С одной стороны, это и делает гегелевские описания собственно предметными, а не относящимися лишь к методу выявления предметности, как это имеет место, например, у Гуссерля. Но, с другой стороны, это затрудняет их понимание и интерпретацию, поскольку требует от исследователя собственного опыта видения предмета, что, в свою очередь, возможно лишь в том случае, если “Феноменология” прожита как личный путь к спекулятивной предметности.
Если мы хотим сегодня заново приступить к обсуждению проблем систематического строения гегелевской философии, то начать нам следует, конечно, с выяснения специфики предметов Логики, Философии природы и Философии духа, причем ключем к пониманию философа и основанием для диалога с ним будет для нас общее движение к предмету (Феноменология), в ходе которого мы должны будем рассматривать “Феноменологию духа” вне зависимости от авторской интерпретации, обусловленной, в свою очередь, характером “Энциклопедии”, и других внешних для “Феноменологии” обстоятельств.
Легко заметить, что мы получили теперь возможность ответить на вопрос, как соотносятся два основных положения сформулированной методологической позиции - принцип самостоятельности текста как предмета интерпретации и принципа самостоятельного видения интерпретатором предмета: первый принцип - формальное условие возможности второго, второй - содержательное основание первого. В конце нашего исследования мы увидим, что это соотношение лишь воспроизводит то соотношение, которое связывает гегелевские “Феноменологию” и “Логику”.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ з). Традиционное понимание предмета Логики.
Традиционное представление о предмете Логики и его соотношении с предметом реальной философии состоит в следующем. Логика, Философия природы и Философия духа мыслятся как части философской системы, изображающей абсолютное на трех ступенях его становления. Логика изображает абсолютное в его домировом бытии, а Философия природы и Философия духа изображают абсолютное как реализованное в истории природы и духа, или Логика мыслится как изображение “чистой” логической идеи, а Философия природы и Философия духа - как изображение идеи в ее природном инобытии и возвращении к себе в становлении духа. При этом в гегелеведческой литературе всегда приводится известное место из введения к “Науке логики”, которое рассматривается как данное самим Гегелем определение предмета Логики: “Это содержание (т.е. содержание Логики, - В.К.) есть изображение Бога, каков он в своей вечной сущности до сотворения природы и какого бы то ни было конечного духа” (1,1,103). Кроме определения предмета Логики комментаторы видят в этом фрагменте и непосредственное указание философа на особый способ существования абсолютного до природы и духа, а, следовательно, и на сопоставимость логической идеи как одного из способов существования абсолютного с другими его способами - природой и духом, - т.е. на их рядоположенность.21
Чаще всего в гегелеведческой литературе просто принимается предпосылка, что в трех частях “Энциклопедии”, которые, якобы, и есть три части системы философии Гегеля, отражаются три различных типа реальности, каждый из которых соответствует абсолютному на определенном этапе его становления. По-разному может оцениваться роль времени в этой “триаде”, но само признание ее соответствия внутренней структуре гегелевской философии, как правило, под сомнение не ставится.
и). Статус предметности в трансцендентальной философии. Думается, что вопрос о предмете Логики должен обсуждаться исходя из ясного понимания того обстоятельства,
что Фихте и Гегель сохранили принцип философии Канта, явившийся одним из следствий его “коперниканского переворота” в философии, - принцип, согласно которому предмет познания строится только в самом процессе познания. Более того, именно Гегель придает этому принципу завершенность, полагая, что неправомерно утверждение сознанием существования чего-либо, что не составляет его содежания, что никак с ним не связано. У Канта наряду с утверждением этого принципа сохранялось понятие независимой от сознания реальности, “вещи в себе”. Гегель считает, что и Фихте, несмотря на то, что он отбросил понятие вещи в себе как догматический пережиток в критической философии, не смог избежать противостояния субъекта и объекта. “Я” у Фихте, считает Гегель, ограничено “иным”, а тем самым конечно и эмпирично. Причину этого положения он видит в том, что Фихте не смог осуществить очищение “естественного” субъекта и его возвышение до философской точки зрения, поскольку не увидел необходимости рассмотрения диалектики непосредственного сознания, выводящей за границы противоположности сознания и предмета, снимающей эту противоположность.
Итак, предмет, который не может быть построен в процессе познания, не может и существовать, являясь лишь пустой абстракцией реальности. Вопрос о предмете Логики и предмете реальной философии - это, таким образом, вовсе не вопрос об “объективной”, независимой от деятельности сознания реальности, которая, якобы, существует как логическая идея, природа и дух и в финале истории находит свое адекватное отражение в энциклопедической системе, а вопрос о различных формообразованиях сознания, полагающих в качестве своего предмета различные типы реальности, утверждающих различные способы отношения сознания и предметности.22
Опыт, показывающий “познавательную индифферентность” объекта, сознание свершило в философи Канта, поскольку после “Критики чистого разума” стала очевидной неспособность материального компонента познания (ощущений) служить источником дифференциации, конкретизации знания, их “информационная бесполезность”.
“Ощущение” у Канта в качестве одного из элементов опыта необходимо для удостоверения существования предмета, но не может ничего внести в его сущность, логическую определенность. “Существование” оказывается при этом принципиально немыслимым. Чтобы приписать его предмету, всегда необходимо выйти за пределы его понятия (Кант не хочет сделать исключения даже для бога). Поскольку же бытие мыслится (безотносительно к опыту это означает для Канта мышление возможности бытия), оно полагается, конституируется, создается в своей определенности сознанием.23 В “Феноменологии духа” эта установка выражается в том, что смена в ходе опыта сознания понятия предмета означает на самом деле и смену предмета, - их содержательное различение невозможно.24 Итак, решение вопроса о предмете Логики и его отличии от предмета реальной философии должно быть найдено не утверждением особого способа существования абсолютного (“до” природы и духа), который оказывался бы неким объектом, рядоположенным природе и духу,25 а пониманием предмета Логики как трансцендентального предмета, создаваемого, так же как и предмет реальной философии, деятельностью определенных формообразований сознания.
к). “Феноменология духа” как путь к логической идее. Завершенный ряд формообразований, каждое из которых описывает определенный тип соотношения сознания и предмета, был построен Гегелем в “Феноменологии духа”. Стремление исследователей отождествить систему философии Гегеля с энциклопедической системой, отведя “Феноменологии” скромную роль философской пропедевтики, “снятой”, якобы, в “зрелой” системе, оставляет читателя “Науки логики” без ответа на вопрос о предмете Логики и подталкивает к объективистски-натуралистическому пониманию последнего как одного из проявлений абсолютного наряду с природой и духом.26 В образе “абсолютного знания”, спекулятивного разума, “Феноменология” нашла формообразование сознания, разворачивание которого в целостную систему (“науку”=Логику) означает вследствие заложенной “Феноменологией” трансцендентальной постановки вопроса и создание особого предмета этой
деятельности спекулятивного мышления - логической идеи. Логическая идея как предмет Логики и природа и дух как
предмет реальной философии не могут поэтому соотноситься непосредственно, их связь опосредована деятельностью формообразований сознания, полагающих предметы Логики, реальной философии, “эмпирической” науки и т.д.. Построение логической идеи как предмета Логики становится возможным благодаря достижению в “Феноменологии” формы абсолютного знания, спекулятивного понятия. “Логика” раскроет внутренние отношения этого предмета, его содержание, “структурность”. Но сама необходимость его построения сознанием доказана “Феноменологией”. Никак нельзя поэтому согласиться с мнением, будто “Феноменология духа” имеет значение лишь некоторого введения в систему философии Гегеля.27 Напротив, “Логика” должна рассматриваться как раскрытие истины, понятие которой было сформулировано в “Феноменологи”, как ее детальная реализация, а “Философия природы” и “Философия духа” - как повторное ее выражение в полупонятийной форме в научно-систематических, образовательных и популяризаторских целях.
л). Постановка проблемы предмета реальной философии. Реальная философия выражает свое содержание посредством понятий, использующих в качестве своих принципов логические категории, но не способных свести к ним всего многообразия полагаемой и выражаемой предметности, все частные случаи конструируемых форм природы и духа. Они выражают их несобственным, непонятийным образом, как бы лишь указывают на наличное бытие, но не способны возвести его в мысль.
Являясь, таким образом, по своей форме полуфилософией, реальная философия устанавливает свой предмет как принципиально двусоставный. Он имеет рациональную структуру (он мыслим посредством категорий), но, кроме этого, он должен быть “дан”, т.е. должен включать в себя свою границу (бытие, материю, вещество, “иное”, вещь в себе и т.п.), но, в отличие от спекулятивного понятия, должен оставлять эту границу неснятой.28 Поэтому, в отличие от Логики, конституирующей логическую идею как абсолютную тотальность, реальная философия конституирует
последовательность лишь относительных, выражающих лишь особенное содержание общностей.
Реальная философия как деятельность формы сознания, которая является промежуточной между “чувственной достоверностью”, сознанием вообще, и “абсолютным знанием”, создает вместе с “эмпирической наукой”29 предмет, замкнутый с одной стороны логической идеей, а с другой - “миром” как совокупностью единичных событий. Этот предмет и есть собственно “реальность”, тогда как логическая идея должна быть признана скорее сверх-реальностью, поскольку ее конституирование осуществляется сознанием, преодолевшим себя как сознание, снявшим различие знания и предметности, а хаос случайности мира чувственной достоверности - некой не-до-реальностью. И эта реальность не может”коснуться” своих границ - ни “верхней”, ни “нижней”, - поскольку их “общение” не может происходить непосредственно, оно возможно не на уровне полагаемой сознанием предметности (которая есть ведь лишь часть феноменологического формообразования как действительного целого), а только на уровне движения самих формообразований, в Феноменологии, потому что “предмет” в трансцендентальной философии оказывается неразрывно связанным с конституирующим его сознанием, является неким “негативным сознания”. Поэтому часто высказывавшийся Гегелю упрек, что он, дескать, недостаточно ясно показал “переход” логической идеи в природу (странно, однако, что его не упрекали подобным образом в недостатках обоснования перехода от природы к духу, с традиционной точки зрения на систему Гегеля это было бы вполне логично), был бы справедлив, если бы все эти “переходы” не были уже рассмотрены в рамках “Феноменологии”, но, конечно, не как переходы от одного типа предметности к другому, а как переходы в процессе движения формообразований сознания, полагающих структурно различные типы предметности.
Есть очень большая условность в том, что предметом реальной философии считают природу и дух. Правильнее было бы говорить, что это совокупность понятий различной степени общности, описывающих явления природы и духа, это реальность, лишь соотносящаяся с природой и духом (если последние понимать как “существования”), но не совпадающая
с ними. И эти понятия “подвижны”, им гарантирована возможность бесконечной, т.е. неопределенно продолжительной, эволюции, поскольку, как сказано, предметность реальной философии и “эмпирической” науки не может “коснуться” ни одной из ограничивающих ее сфер. Стремление же обязать естествознание и Философию природы как его систематическое завершение объяснять “события” и “объекты” природы30 никогда не сможет увенчаться полным успехом, поскольку необходимые для этого “начальные условия” всегда будут оставаться неким нерационализируемым остатком,31 чем-то таким, что вследствие своей принципиальной чужеродности действительному предмету науки может быть лишь “дано”, т.е. предоставлено из другой предметной области. Поэтому объяснения, даваемые наукой (и самые общие - реальной философией) “событиям” или “объектам” природы, не составляют принадлежности самой науки, а возникают из стремления прояснить, рационализировать мир чувственной достоверности и восприятия, являющийся границей той предметной сферы, которая действительно подлежит науке. В общем же можно сказать, что сама необходимость делать поправки на “начальные условия” означает, что предметные сферы философии и науки уже покинуты, и мы вступаем в предметность, являющуюся коррелятом “естественного сознания”, предметность, нижней границей которой является “это” чувственной достоверности.
Но, с другой стороны, не так ли обстоит дело, что сами понятия реальной философии в их отличии от логических категорий возможны лишь постольку, поскольку существует чувственно воспринимаемый мир, задающий все “начальные условия” ? И как была бы возможна Философия природы без самой “природы” или хотя бы безотносительно к ней ? Короче говоря, что же все-таки есть действительный предмет реальной философии и науки - природа и дух или система понятий, принципов и законов, способных прояснить, рационализировать мир единичных событий природной и духовной жизни ? Если природа, то в чем состоит различие предметов реальной философии и “чувственной достоверности”, и почему в рамках самого естествознания
существует неустранимое различие между законами природы и “начальными условиями” ее единичных событий ?32 Если система понятий и законов, то в чем можно увидеть основания их отличия от логических категорий ? Логические категории представляют, выражают только “смысл”, т.е. сами себя, они непосредственно тождественны с той реальностью, которую они описывают. А категории реальной философии ? Если они также самореферентны, то они сливаются с логическими категориями, и содержание реальной философии должно в таком случае считаться включенным в Логику. Если же нет, т.е. если они представляют события истории мира, относятся к единичным явлениям природы и индивидуальным проявлениям духа, то в чем же природа “нерационализируемого остатка”, почему всегда остается принципиально немыслимое “существование”, почему “природа не делится на идею без остатка” ?
м). Пример традиционного подхода к проблеме предмета реальной философии. Во введении к “Философии природы” сказано: “Теоретическое отношение к природе противоречиво внутри самого себя, т.к. оно, по-видимому, непосредственно приводит к противоположности того, чего оно хочет достигнуть. А именно: мы стремимся познать природу, которая действительно существует, а не то, что не существует. Но вместо того, чтобы оставить ее такой, какова она есть, и брать ее такой, какова она поистине, вместо того, чтобы воспринимать ее, мы делаем нечто совершенно другое. Мысля предметы, мы тем самым превращаем их в нечто всеобщее, вещи же в действительности единичны, и льва вообще не существует.” (4,2,16) Невозможность отступления от решения этой классической проблемы соотношения общего и единичного обусловливается тем, что с точки зрения трансцендентальной постановки вопроса оказывается невозможным разделение бытийного и познавательного аспектов, поскольку предметность полагается и гарантируется в своем существовании сознанием, субъектом. И несколькими страницами ниже удостоверяется объективность общего как предмета реальной философии и науки: “Это всеобщее в вещах не есть нечто субъективное, принадлежащее исключительно нам, а в качестве ноумена, противопоставленного преходящему
феномену, представляет собой истинное, объективное в самих вещах...” (4,2,19).
В послесловии к последнему отечественному изданию “Философии природы” утветждается, будто это противоречие разрешимо в рамках самой Философии природы: “Необходимость философии природы Гегель связывает с разрешением внутреннего противоречия, присущего теоретическому отношению к природе. Естествознание как форма теоретического отношения к природе стремится познать природу так, как она существует в действительности, однако оно “превращает природу в нечто совершенно другое”. “Мысля предметы, мы тем самым превращаем предметы в нечто всеобщее, вещи же в действительности единичны.” Теоретическое освоение мира предполагает постижение вещей как всеобщего и противопоставление субъекта и объекта. Тем самым первоначальное стремление постичь природу “становится для нас невыполнимым с самого начала”. Это теоретико-познавательное затруднение (выделено мной, - В.К.) и должно быть разрешено философским рассмотрением природы.” (4,2,600)
Вряд ли следует считать случайностью, что “затруднение” это в рамках реальной философии разрешено все же не было, доказательством чему являются, например, поиски решения этой проблемы, предпринятые И.А. Ильиным. Однако, я считаю, что в гегелевской философии на самом деле решение проблемы предмета реальной философии и его соотношения с предметом Логики оказывается все же возможным. Я думаю, что нам следует отыскать в “Феноменологии духа” те образы сознания, которые имеют непосредственное отношение к конституированию предмета Философии природы и Философии духа, и установить их отношение к формообразованиям сознания, конституирующим предметность в качестве мира чувственной достоверности и восприятия - с одной стороны, и логической идеи - с другой.
“Феноменология духа” имеет сложную структуру, движение “Феноменологии” проходит несколько циклов. Но специфичность этих циклов имеет только феноменологические основания, т. е. обусловлена различным соотношением модусов сознания, тогда как формы предметности, конституируемые в
этих циклах, совпадают. Например, предмет реальной философии и науки, так же как и предмет Логики, выступает в ходе феноменологического движения несколько раз, каждый раз он выступает в новом феноменологическом контексте, в качестве предмета нового формообразования, но структурно, по форме соотношения и опосредования в нем элементов, это один и тот же предмет. Поэтому нам сейчас нет пока необходимости выявлять все образы “Феноменологии”, причастные, например, к конституированию предмета реальной философии, достаточно рассмотреть лишь первый в ходе феноменологического движения образ, который, повторим, с точки зрения структуры полагаемой предметности тождествен всем остальным аналогичным образам.Таким образом, пока наше рассмотрение “Феноменологии духа” будет ограничиваться в основном задачами выяснения соотношения реальной философии и Логики в энциклопедической системе. Поиск такого - предварительного - образа “Феноменологии” целесообразен для нас сейчас потому, что именно в ходе решения проблемы соотношения Логики и реальной философии выявится в конечном счете и фундаментальная роль “Феноменологии духа” в философской системе Гегеля - следовательно, изменится и само наше видение системы.
Глава первая
СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ СПЕКУЛЯТИВНОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ В “ФЕНОМЕНОЛОГИИ ДУХА”
Что недоступно пониманию, то находится в несовершенном состоянии, его должно постепенно сделать понятным.
НОВАЛИС
1. Предмет “Феноменологии духа”. Структура
предмета Феноменологии и структура “Феноменологии духа”.
Прежде всего нам предстоит установить принципы рассмотрения “Феноменологии духа”, необходимые для конкретного анализа ее содержания и структуры. Самим философом эти принципы были осознаны лишь частично, и в той мере, в какой они были осознаны им, они составили основное содержание “Введения”. Последующее изложение, однако, и тематически, и содержательно выходит за его границы.
Наше исследование исходит из того, что предметом “Феноменологии” является понятие сознания. Всякому читателю Гегеля известно, что он часто говорит о понятии чего-либо как о в-себе-бытии в противоположность реализации понятия, развитому для-себя-бытию предмета. Конечно, предмет “Феноменологии”, как он выступает перед нами в начале феноменологического движения, является понятием сознания и в этом смысле. Но в нашем контексте я хотел бы обратить внимание на другой смысл этого выражения: я говорю о понятии сознания потому, что хочу отделить сознание как таковое или сознание как чистую структуру от его носителя, “субстрата”. Я утверждаю, что сама сущность феноменологического замысла Гегеля состоит в том, чтобы
рассмотреть сознание безотносительно к тому, “кто им обладает”, именно, рассмотреть сознание как чистую структуру. Только в этом образе сознание может выступать как предмет Феноменологии (да и философии вообще), во всех остальных случаях оно составляет предмет психологии и других частных наук.
Но что, собственно, означают выражения “сознание как таковое”, “сознание как чистая структура”, т.е. где точная граница, отделяющая рассмотрение понятия сознания от рассмотрения истории “существ, обладающих сознанием” ? Я утверждаю, что такой точной границей является предположение о “существовании” сознания. Рассмотрение сознания как существующего предмета (разумеется, без экспликации “существования”, что и могло бы устранить неопределенность) неизбежно влечет к тому, чтобы превратить описание сущности сознания в описание определенности существ, им обладающих. И тогда вслед за “существованием” тянутся его, вернее, его носителей, эмпирические определенности и различения, например, различения “индивидуального” и “общественного”, “субъективного” и “интерсубъективного” и т.п. При этом исчезает сама специфика феноменологического рассмотрения сознания, и путь к пониманию “Феноменологии” оказывается закрытым. Избежать этой трудности можно лишь посредством точного понимания предмета “Феноменологии” как сознания самого по себе, трансцендентальной структуры, а не определенности его носителей.
Рихард Гайм в свое время утверждал, что “Феноменология” представляет собой странную смесь истории и психологии, которая наносит ущерб им обоим: “Феноменология есть не что иное, как психология, в которую вмешательство истории внесло беспорядок и запутанность. В то же время, это есть и история, потрясенная в своем внутреннем ходе вмешательством психологии” (17,203). По-существу, это наивное понимание сущности и характера “Феноменологии” воспроизвод ится и до сегодняшнего дня.33 И положение это не должно казаться странным как раз потому, что точное понимание трансцендентального характера предмета Феноменологии в гегелеведческой литературе
отсутствует. Исследователи “Феноменологии духа” вообще очень редко ставят под сомнение представление, что таким предметом является нечто “реальное” - история, история философии и религии, психология различных эпох и культур, современные Гегелю научные споры и т.п..
Однако, мы ведь действительно находим в “Феноменологии” очень много таких описаний формообразований сознания, которые неизбежно напоминают нам о фактах истории (а составители примечаний и комментариев, в свою очередь, часто и вовсе считают свою задачу выполненной, если им удается такие соответствия обнаружить). Признаем, что это обстоятельство очевидным образом противоречит представленному пониманию предмета “Феноменологии”. Разъяснение этой трудности может быть, по-видимому, двояким: во-первых, реальная история “повторяет”, конечно, сюжет феноменологического движения, поскольку ее субъекты являются носителями того самого сознания, о котором идет речь в “Феноменологии”, а потому и эксплицируют в своих действиях описываемые в “Феноменологии” трансцендентальные структуры, во-вторых, Гегель в качестве автора “Феноменологии” выступает не только как “Философ”, но и как индивидуум, сознание которого ограниченно и специфично. Для “Философа” есть образы сознания, для “человека” - конкретные события реальной истории, и пробиться через них к образам сознания (а затем - и к их чистым логическим структурам), т.е. “стать Философом”, возможно лишь через эти единичные факты, так что, конечно, нет ничего удивительного в том, что фактически-историческое слишком часто и определенно проступает через универсально-феноменологическое, это как раз очень понятно и простительно, но вот совсем дрругое дело - видеть в этой “человеческой слабости” Философа существо метода “Феноменологии”, такой подход свидетельствует уже о непонимании ее основной идеи.
В связи с наивно-реалистическим пониманием предмета “Феноменологии” исследователи традиционно предполагают, будто Гегель как бы зашифровал в ней реальную историю, и читатель должен теперь ее расшифровать. Нельзя отрицать, что Гегель оставил, к сожалению, много меток, по которым ее
таким образом можно было бы расшифровать, но то, что в результате этой процедуры получилось бы, оказалось бы уже не Феноменологией, а той вызывающей недоумение смесью истории и психологии, о которой писал Гайм, т.е. идея “Феноменологии” подобными действиями разрушается, что и доказывает их несоответствие изначальной интуиции автора.
Но, с другой стороны, не странно ли было бы требовать от человека - пусть и “гения” - создания некой “идеальной книги”, а ведь именно такой идеальной книгой должна была бы быть “Феноменология”, если бы ее замысел - развить трансцендентальное отношение до уровня “абсолютного знания” - был осуществлен во всей его чистоте ? В самом деле, тогда всякий читатель, как первоначально и автор, “наше сознание”, имел бы идеального героя (“само сознание”), через которого познавал бы (или создавал бы, что в трансцендентальной философии одно и то же) идеальный предмет - спекулятивную предметность, логическую идею. Такая книга была бы избавлена от какой бы то ни было случайности в выборе предмета повествования или развития ее сюжета, она представляла бы собой образец совершенной согласованности всех частей, - не многого не хватало бы ей, чтобы можно было объявить ее атрибутом Бога или созданием Святого духа.
И все же, сознавая все относительное несовершенство “Феноменологии”, мы должны стремиться видеть в ней именно попытку реализации этого беспримерного по своей теоретической дерзости замысла, должны оценивать ее именно с точки зрения того, как она реализует этот замысел. И уж явным недоразумением должны быть признаны те все еще бытующие способы прочтения “Феноменологии”, которые сводятся к отыскиванию в ней знакомых исторических или литературных образов. Последнее - то, что лучший читатель-феноменолог - должен не замечать в “Феноменологии”, то, что следовало бы понимать не как “намеки”, приоткрывающие фундаментальный уровень смысла “Феноменологии духа”, а как примеры даваемых автором как “первым Феноменологом” ложных показаний, запутывающих читателя и уводящих его от правильного метода прочтения “Феноменологии”.
Итак, “Феноменология духа” должна пониматься как
изображение сознания, а не истории его носителей, и границей, охраняющей верное понимание предмета “Феноменологии”, является “существование”, которое мы должны остерегаться ему приписывать. Во введении упоминалось уже о трансцендентальной точке зрения философии Гегеля, которая заключается в том, что рассмотрению подлежит лишь то бытие, которое составляет предмет сознания, лишь познаваемое, мыслимое бытие. В представленном понимании предмета Феноменологии мы видим специфическое выражени этой установки применительно к “Феноменологии духа”: предмет здесь - чистая, т.е. лишь формальная, структурная определенность сознания, а не определенность вступающих в существование и, следовательно, воплощающихся в реальной истории носителей сознания. Наоборот, именно анализ, или, точнее, феноменологическое наблюдение движения разворачивания структурной определенности сознания позволяет увидеть в феноменологическом движении точки, в которых сознание постулирует в качестве своего предмета некое “объективное” (и как следствие - также и реально-историческое) существование, так что “объективность”, как, конечно, и противостоящая ей в ее же мире “субъективность” предмета (в отличие от значимого для Философа, предшествующего им, трансцендентального способа рассмотрения) устанавливаются самим сознанием как следствие движения его структур, т.е. сознание как бы видит свой предмет таким-то или таким-то в зависимости от степени развернутости своих структур, но оказывается, что развернуть их полный, замыкающийся самосознанием, ряд оно может лишь в том случае, если не будет ставить предварительно само себя ни в какое соотношение с “существованием”, в чем, собственно, и состоит специфика трансцендентально-феноменологического метода.
Но трансцендентальная точка зрения не только находит в “Феноменологии” свое специфическое выражение, на самом деле, именно “Феноменология” как основание философии Гегеля и задает точное различие, если можно выразиться так непосредственно, двух “видов бытия” - бытия-определенности или определенности в качестве бытия и бытия как простого неразложимого существования. Само это различие есть
различие трансцендентальное, различие, возникающее в ходе движения сознания и существующее лишь для сознания, которое по необходимости коррелируется только с тем бытием, которое может быть осознано, стать знанием, определенностью сознания, но, как следствие, “оттеняет” и его противоположность. Зависимость различения двух “видов бытия” от феноменологического рассмотрения сознания заключается в том, что бытие-определенность и бытие как простое неразложимое существование имеют в качестве своих “генетических” предпосылок моменты феноменологического опыта - предмет сознания и понятие сознания о предмете, эти моменты опыта и есть первоначальные образы “определенности” и “существования”. Сравнение предмета и понятия, чем в прямом смысле и является феноменологический опыт, представляет собой не только движение к слиянию понятия и предмета, но и превращение бытия, которое предполагалось сознанием самостоятельно существующим, в бытие-определенность, сведение “существования” в некую действительно не имеющую “объема” точку, - так в процессе феноменологического движения и формируется трансцендентальная точка зрения философии Гегеля.34
Различение бытия-определенности и бытия как простого существования более или менее ясно выступает во многих метафизических системах. Мы можем встретиться с ним у Платона, Аристотеля, Плотина, средневековых философов, Канта, Фихте, Шеллинга. Очевиднейшим образом на него указывает Витгенштейн (предл.6.44 “Логико-философского трактата”): “Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist” (13,71),35т.е. мистическое - не в том, каков мир, не в том, что он такой-то или такой-то, а в том, что он вообще существует. 36
В чем же, однако, состоит проблема соотношения “определенности” и “существования”, если попытаться сформулировать ее максимально просто ? - То, что мы говорим, всегда есть определенность - “логос”, выражающий “суть бытия”, “чтойность”. Но не является ли источником и основанием движения логоса скорее само бытие, а не его суть, определенность ? Ведь то, что мы говорим, относится не само к себе (последнее - частный случай, выделяемый кавычками), а
к тому, о чем мы говорим. Не остается ли оно в таком случае неуловимым - некой “вещью в себе”, скрывающейся за своей определенностью?
Не следует думать, будто это лишь псевдопроблема на том основании, что здесь, якобы, мы имеем дело с экстраполяцией на мир логико-грамматической структуры предложения (суждения) - всякий предикат есть предикат некоторого субъекта. Скорее наоборот, структура предложения стихийно выражает инстинктивно схваченную сознанием - всяким сознанием, строящим суждения, - суть этой фундаментальной проблемы.
Гегель (можно ли сказать, что по-шпенглеровски “одновременно” с учением Аристотеля об Уме в античной философии ?) в конечном счете сформулирует следующее решение проблемы: определенность нуждается в субстрате, логической субстанцией которого является “существование”, только до тех пор, пока сознание находится в сфере той предметности, определенность которой является конечной. Движение к “бесконечности” как структуре философской предметности (аналогичной, видимо, в этом смысле “мыслящему себя мышлению” аристотелевского Ума) означает слияние “бытия” и “определенности”. Для “бесконечности” как структуры абсолютной, завершенной в себе, определенности бытие есть не не-определенность, не недоступная ее абсолютно-отрицательному движению (диалектическому методу) неразложимая точка, а просто первая, самая бедная определенность.
Шеллинг выбирает другой путь решения этой проблемы.37
Он утверждает, что гегелевская философия, отражая только определенность бытия или будучи чисто логической философией, есть лишь часть действительной философии, именно, негативная философия. Она должна быть дополнена “позитивной” философией, философией, обращенной непосредственно к бытию. Опыт исканий Шеллинга показывает, однако, что это был не путь построения новой философии, а лишь путь прощания с философией - той философией, которая постигала чистые формы (структуры) определенности бытия, может быть, - с единственно возможной философией, осознавшей в “Феноменологии”
трансцендентальную точку зрения как свое адекватное и чистое выражение, а потому также - и как свое завершение.38
Итак, “Феноменологией” завершается становление традиции трансцендентальной философии, рассматривающей лишь бытие-определенность или определенность в качестве бытия, т.е. ту предметность, которая в полной мере порождается самим сознанием, и у Гегеля - сознанием, проходящим последовательность “ступеней” феноменологической “лестницы”. Следовательно, предметность в трансцендентальной философии должна соотноситься с этим порождающим ее движением сознания, - с методом в широком смысле, представленным в “Феноменологии”. Именно, предметность у Гегеля есть как бы плоскость фиксированных крайних точек периодического движения (“пульсирования”) метода, плоскость точек, в которых он достигает непосредственности.
Метод “Феноменологии” как реальный способ организации ее содержания (последовательности формообразований) есть движение феноменологического опыта, взятое в целом. По отношению к каждому отдельному формообразованию это движение выступает как путь “сомнения” и “отчаяния”, в котором оно теряет свою специфичность и обособленность, становясь снятым моментом целого. Собственно понятие метода “Феноменологии”, метода в узком смысле, выражает, однако, лишь механизм, формальную сторону этого диалектического движения.
Направляется оно имманентной феноменологическому опыту целью - понятием сознания о себе, самосознанием: “Она (цель феноменологического движения, - В.К.) - там, где знанию нет необходимости выходить за пределы самого себя, и где понятие соответствует предмету, а предмет - понятию.” (2,4,45) Имманентность этой цели феноменологическому движению обусловлена тем, что “сознание для себя самого есть понятие себя” (2,4,45-46). Феноменология и оказывается поэтому движением, в котором сознание самопочинно достраивает себя до своего понятия, реализует его. Как сознание движется к этой цели ? Прежде всего на этот вопрос отвечает Гегель во “Введении”.39
Анализ “Введения” не является необходимым этапом
решения нашей исследовательской задачи, хотя, следует признать, именно этот фрагмент гегелевского текста - и в силу содержательных возможностей, и по своей стилистической ясности, свойственной всем после- и предисловиям, - способен вознаградить труд имеющего вкус к спекулятивной философи интерпретатора.40 Заметим, однако, что в целом “Введение” указывает на то обстоятельство, что “Феноменология духа” в существенной степени должна пониматься как попытка опровержения агностических следствий философии Канта, которые, по мнению Гегеля, вытекают из “наивно-непосредственного” характера осуществления его “критической” установки.
В основе философии Канта лежит предположение, будто предмет познания - это в-себе-бытие, некая абсолютная сущность, уже обладающая всеми своими достоинствами и без всякого направленного на нее познания, а познание - орудие или среда, с помощь. которого или через которую постигается эта сущность, нечто среднее между уже имеющимися субъектом и предметом, третье по отношению к ним. “Феноменология духа”, напротив, рассматривает познавание, воспринимая его как единое целое, без предварительного разделения на субъект и объект, рассматривает последовательность опытов сознания, показывая, как на каждом этапе (в каждом формообразовании) единое сознание определяет свои крайние члены - субъект и предмет. Таким образом, идея “Феноменологии” предполагает рассмотрение действительного познавания, которое само лишь и определяет свои полюсы субъективного и объективного, тогда как Кант в “Критике чистого разума” пытается рассудочно сконструировать познание как связь между абстрактным субъектом (со всеми его способностями) и абстрактным объектом, “вещью в себе”.
“Введение”, особенно, его последние абзацы, можно было бы назвать методологическим резюме “Феноменоменологии”. Видимо, так понимал его значение и сам Гегель. Но помимо представленного в нем органичного описания метода “Феноменологии” мы можем попытаться рассудочно суммировать те его элементы, которые непосредственно относятся к понятию предмета Феноменологии, и тем самым
конкретизировать его, наметив его структуру, ведь пока мы лишь представили некоторые соображения относительно его онтологического статуса.
Это предварительное (до конкретного рассмотрения основного текста) выделение структуры предмета Феноменологии целесообразно потому, что, во-первых, оно способствует пониманию специфики феноменологического движения в каждом отдельном пункте, а, во-вторых, позволяет понять концептуальную структуру “Феноменологии духа”, поскольку структура текста в конечном счете должна повторять структуру описываемого этим текстом предмета.
Прежде всего следует обратить внимание на характеристику предмета Феноменологии как “являющегося знания” (2,4,44,47) или характеристику феноменологического движения как “отношение науки к являющемуся знанию” (2,4,46). Что значит “являющееся знание” ? - Дело в том, что в “Феноменологии” помимо сознания как предмета рассмотрения - понятия сознания - представлено сознание феноменолога - автора и читателя. Конечно, у каждой книги есть автор, и она существует ради того, чтобы быть прочитанной. Но в “Феноменологии” сознание автора и читателя непосредственно включено, как бы вплетено в сам предмет описания, без него просто невозможно движение повествования,41 поскольку предметом является не просто сознание (как понятие сознания), но сознание, представленное сознанию феноменолога, что и означает “являющееся знание”.42
Сознание феноменолога Гегель часто обозначает как “мы”, это - “наше сознание”, сознание же как предмет наблюдения феноменолога - как “само сознание”.43 “Само сознание”, являющееся предметом “нашего сознания”, в свою очередь, отличает от своего соотношения с иным, т.е. от знания, в-себе-бытие этого иного, “сущность”, т.е. также устанавливает свою предметность. Природа сознания как раз и состоит в установлении в-себе-бытия предмета и снятии его “в-себе-” через установление определенности этого “в-себе-” для сознания, что, как говорилось выше, называется в Феноменологии опытом сознания.44 Таким образом, мы выявили трехчастную структуру предмета Феноменологии: “наше сознание” - “само сознание” - “предмет”.
СОЗНАНИЕ ПРЕДМЕТ “Наше сознание”
СОЗНАНИ Е ПРЕДМЕТ “Само сознание”
ПРЕДМЕТ “Предмет”
Этот вывод можно выразить еще и так: предмет
Феноменологии составляет взаимодействие “нашего сознания” и “самого сознания”, каждое из которых есть соотношение себя со своим предметом, причем второе - предмет первого. Сделаем несколько уточнений. Во-первых, феноменологическое движение, как мы это увидим ниже, например, в случае с чувственной достоверностью, инициируется “нашим сознанием”, следовательно, оно возможно лишь потому, что изначально в качестве предмета феноменологического рассмотрения установлена трехчастная структура, включающая в себя “наше сознание”. Если бы “только одно” сознание было предметом рассмотрения, то его предметность представлялась бы последовательностью не связанных друг с другом впечатлений.45 Движение предметности, завершающееся в ее снятии в абстрактно-всеобщих “теперь” и “здесь”, есть следствие рефлексии, но не над предметностью, а над восприятием предметности. Другие философы так и говорият: “рефлексия”, “мышление”, или: без мышления изменчивость чувственного мира невоспринимаема, и тем самым решают частную задачу доказательства “неистинности” мира (или “неистинности” мышления, которое, чтобы сформировать последовательность впечатлений, вынуждено пользоваться еще чем-то, что во впечатлениях непосредственно не содержится, - все зависит от вкуса). Гегель же, формулируя идею Феноменологии, вводит “наблюдателя”, “наше сознание”, превращая тем самым “предмет” в феномен,
явление для другого сознания - “самого сознания”, - и тем самым решается задача установления источника движения предметности при сохранении его целостности. Этим абсолютно органичным - феноменологическим - решением проблемы Гегель избавляется от необходимости поиска внешних оснований для перехода от одного впечатления к другому. Итак, непосредственность и, следовательно, неподвижность предметности (например, предмета “чувственной достоверности) снимается в акте ее явления “другому” сознанию, в акте ее возведения в феномен.
Во-вторых, субъект феноменологического движения, “наше сознание”, есть одновременно, хотя и в разном отношении, и элемент трансцендентальной структуры (как часть предмета Феноменологии), и “эмпирически-реальное” сознание автора и читателя, которое одно лишь в Феноменологии есть “сущее” и “живое” сознание, а не только понятие сознания. Из этого обстоятельства не следует, конечно, никакого “субъективизма”, поскольку сознание это отличается от трансцендентальной структуры лишь со стороны своего носителя, в себе же оно столь же всеобще, как и “само сознание”, т.е. его содержание, которое будет эксплицировано в ходе феноменологического движения, окажется общезначимым. Но, с другой стороны, именно благодаря участию “нашего сознания” как элемента структуры феноменологической предметности в движении Феноменологии будет совершаться процесс “образования” индивида, его возвышение до философской точки зрения.
Если брать “наше сознание” лишь в качестве элемента феноменологической предметности, то оно оказывается столь же независимым, например, от меня как читателя, как и “само сознание”, но все же роль, которую каждое из них играет в структуре феноменологической предметности, различна. Дело в том, что в “Феноменологии” все события описываются с точки зрения какого-то определенного сознания, они всегда увидены кем-то, во всяком описываемом событии присутствует сам рассказчик. Чтобы узнать о событии, следует отождествить свое читательское сознание с этим рассказчиком, встать на его точку зрения. Так, “наше сознание” - это то сознание, с которым мы отождествляемся в начале каждого опыта, это
точка зрения, с которой “мы” видим событие, и как первый взгляд на событие - это “достоверность” сознания. Но опыт совершается. И в результате его то событие, которое видели “мы”, т.е. “я” читателя и “наше сознание” как элемент трансцендентальной структуры, видит и “само сознание”, и “я” читателя отождествляется теперь с ним. Теперь это уже не “достоверность”, а “истина”. А с точки зрения “нашего сознания” мы уже видим событие другим или видим другое событие. “Мы” как бы на шаг впереди, уже начинаем новый опыт, когда “само сознание” завершает прежний. Разумеется, и “само сознание”, торопясь с каждым опытом вслед за “нашим сознанием”, меняет свое видение событий. И чем же для него является “истина”, кому оно передает свое видение событий ? - “Предмету”, последнему (глубинному) уровню феноменологической предметности. Таким образом, структура, описывающая в начале опыта сознание или отношение сознания к предмету, в конце опыта становится самим предметом. Так сознание в Феноменологии полагает предметность - сначала в образе “самого сознания”, а затем - в образе “предмета”. Как мы видим, один “шаг”в движении феноменологической предметности - это путь от “достоверности” к “истине”, движение от точки, в которой определенная структура, например, “бесконечность”, описывает отношение сознания к предмету, до точки, в которой она сама становится предметом.
Но даже если рассматривать “наше сознание” со стороны его индивидуального носителя, то оно лишь до известной степени совпадает с сознанием автора и читателя, а именно, это есть сознание автора (читателя), поскольку оно определяется пройденным в “Феноменологии” путем, тем, что оно уже “узнало”, участвуя в феноменологическом движении. Помимо этого, конечно, в нем имеется и много другого содержания, но за него Феноменология ответственности уже ненесет.46
В соответствии с наличием в структуре феноменологической предметности “нашего сознания” и “самого сознания” один и тот же предмет (одна и та же структура) дважды является сознанию или дважды выступает как предмет знания: в первый раз - для “нас”, наблюдающего, производящего “опыты” сознания, во второй раз - для “самого
сознания”. Почему, однако, предмет сначала выступает для “нас” и
лишь затем - для “самого сознания” ? Это ведь очевидным образом противоречит тому, что “наше сознание” связано с “предметом” в структуре феноменологической предметности через “само сознание”. Казалось бы, предмет наоборот должен был бы сначала выступать в “самом сознании” и лишь затем - в “нашем сознании”. Такой вывод, однако, был бы правилен, если бы “предмет” в Феноменологии мыслился как самостоятельное сущее, независимое в своем бытии от сознания, лишь соотносящееся с сознанием в-себе-бытие, движение которого могло бы быть основанием и источником для движения сознания. Но предмет безотносительно к сознанию, в котором он выступает, не обладает бытием ни вкаком смысле. “Быть” значит: “быть для сознания”, - таков основной принцип феноменологического способа рассмотрения. Момент в-себе-бытия предмета, котоый в рефлексии непосредственного сознания может противостоять достоверности сознания как истина его предмета, разоблачает себя как пустая абстракция бытия, как лишь предполагаемое бытие предмета. Эта установка и делает “Феноменологию духа” завершением традиции трансцендентализма в европейской философии.
В соответствии с этим и определенность не “поднимается” от “предмета” через “само сознание” к “нашему сознанию”, а, напротив, “спускается” в противоположном направлении.47 Это движение есть полагание или конституирование сознанием предметности, наполнение пред-полагаемого в-себе-бытия предмета трансцендентальной определенностью. Феноменологическое движение оказывается завершенным, когда определенность трижды - на каждом уровне феноменологической предметности - проходит полный цикл структурного усложнения, достигает уровня самосознания или, с формальной стороны, строит “бесконечность”. Первый раз “бесконечность” становится предметом “нашего сознания”, второй раз - предметом “самого сознания”, в третий раз сам “предмет” должен увидеть себя в качестве самосознания, носителя “бесконечности”, - стать духом.
Тем самым определяется и наша задача исследования
структуры “Феноменологии духа”: целое феноменологического движения должно распасться на три “круга”, т. е. на три относительно независимых, но вследствие своей структурной (логической) тождественности соотносящихся друг с другом замкнутых построения, и мы в третьей главе нашего исследования должны будем тщательно проследить их соотношение, основываясь на конкретном рассмотрении текста “Феноменологии духа”. Как мы увидим, феноменологическое движение - и в целом, и в границах каждого “круга” - образует некое “феноменологическое время”, т. е. последовательность опыта, которая задается соотношением “нашего сознания” и “самого сознания” в структуре феноменологической предметности, последовательность, в которой более сложные формообразования вначале являются предметом “нашего сознания”, совпадая с “самим сознанием”, и затем - предметом “самого сознания”.
Разберем еще несколько затруднений, которые могут выявиться таким определением задачи исследования “Феноменологии”. Например, почему источником феноменологического движения выступает все же “наше сознание”, а не “само сознание”, ведь и оно как со-знание содержит, кажется, необходимое для инициирования движения различение “я” и “предмета”. Повторим, однако, что “наше сознание” - единственное “сущее” и “живое” сознание в Феноменологии, тогда как “само сознание” - лишь понятие сознания, структура или смысл, у которого до начала феноменологического движения не может быть никакого носителя. В связи с этим “Феноменология” оказывается книгой, в которой действующие лица, т.е. различные образы сознания, начинают двигаться и мыслить лишь после того, как попадают в поле зрения “нашего сознания”, непосредственно - сознания автора и читателя. Без их участия они не обладают никакой реальностью, они подобны знакам, из которых мы не сможем извлечь смысла, если сами его в них прежде не вложили.
Может показаться, что такое “магическое” истолкование книги является надуманным, но, в то же время, легко понять, что только в такой ситуации возможно обратное воздействие “Феноменологии” на читателя: оказываясь в процессе чтения книги перед необходимостью наполнять феноменологические
структуры содержанием своего сознания, “оживлять” их, читатель возвышает и свое сознание до запрограммированного книгой уровня, в нашем случае - до уровня непосредственного восприятия “бесконечности”, до уровня спекулятивного мышления. “Феноменология” - да может быть, и всякая книга - обеспечивает “образование” сознания ведь совсем не потому, что сообщает какие-то “сведения”, а потому, что заставляет его переструктурировать себя, делая его способным видеть то, чего прежде оно видеть не могло. Магия, таким образом, разоблачает себя, превращаясь в педагогику и наставление.
Вспомним теперь о том моменте заключительного фрагмента Введения, в котором Гегель указывает на трудность, заключающуюся в проблематичности различения предмета и знания о предмете, поскольку только как знание оно для сознания и выступает. Но различие, говорит Гегель, имеется уже в том, что “сознание вообще знает о предмете” (2,4,48). “Вообще знает о предмете” означает: знает о бытии предмета, о том, что предмет есть и помимо знания о нем. Гегель, таким образом, указывает на возможность преодоления этой трудности посредством использования двусмысленности “бытия”: с одной стороны, бытие - это то, что отличает предмет от знания о нем (вспомним Канта), а, с другой стороны, бытие - это уже определенность (поскольку мы можем знать о бытии), первоопределенность, фиксирование которой инициирует движение, в ходе которого выявляются и все прочие определенности (вспомним не только о “Логике”, но и о “Пармениде” Платона).
Думается, что Гегель мог бы и более органично для Феноменологии представить выход из этой ситуации, хотя и указанная двусмысленность “бытия” не есть нечто случайное и поверхностное, не есть просто недостаточно определенное употребление термина, напротив, мы могли бы сказать, что именно из этой изначальной проблематичности “бытия” развился весь сюжет классической западноевропейской философии. Дело в том, что в Феноменологии предмет для сознания существует только как направление его собственного движения (вследствие чего, может быть, и нельзя признать вполне корректным со стороны Гегеля использование первого, кантовского, смысла “бытия”), как переход от одного знания к
другому, и только этот “переход” и есть предмет, или: установление в ходе опыта неистинности одного знания есть одновременно установление истинности другого, и чистая абстракция этого действия - именно сам “переход” - и есть предмет. Так что для опыта, конечно, требуются не “два” для-сознания-бытия и акт сравнения между ними, а лишь “одно” бытие и усмотрение его неистинности, а уход от него к другому, взятый сам по себе, а не как момент этого движения, и есть предмет.48
Итак, мы должны перейти теперь к установлению границ “первого круга” “Феноменологии” и исследованию его структуры, т.е. нам предстоит знакомство прежде всего с опытом “нашего сознания”. Однако, ведь в этом пространстве повествования будет, конечно, происходить постоянная смена опытов “нашего сознания” и “самого сознания”. По-существу, речь следовало бы вести все же о едином опыте, в котором “оба” сознания - лишь точки зрения на него. “Само сознание” как бы постоянно “догоняет” в нем “наше сознание”, отставая от него на один “шаг”. Этот “шаг” - рефлексия “нашего сознания” над опытом “самого сознания”.
Можно ли отделить описание одного опыта от описания другого опыта ? Кажется, многое мешает ответить на этот вопрос утвердительно. “Само сознание” всегда остается предметом “нашего сознания”, никогда не выпадает из поля “нашего” внимания, поэтому все “его” опыты - “наши”. Но у “нас” - более удобная точка зрения для созерцания этих опытов, поэтому, как можно легко заметить по тексту, “его” опыты, более трудные, занимают больший объем повествования, тогда как “наша” позиция, ввиду ее ясности, достигаемой вследствие того, что мы наблюдаем непосредственно совершающее опыты “само сознание” извне, не включены в феноменологическое действо как его непосредственные участники и потому не обязаны воспроизводить их иллюзии, часто нуждается для своего выражения лишь в одной формуле. Этот по существу единый процесс феноменологического опыта может быть представлен, видимо, так: опыты “самого сознания” - предмет “нашего” наблюдения, они - и “наши” опыты, воспроизведение “его” опыта как его наблюдение и описание и есть “наш” опыт.
Упомянутые же лаконичные формулы - лишь резюме этих опытов, доступное только “нам”, так что собственно “наше” видение единого опыта “самому сознанию” остается недоступным (во всяком случае, до конца “круга”).49
Самое главное, что необходимо иметь ввиду для понимания феноменологического движения, - это многослойность предмета Феноменологии. Если не учитывать того, что предмет Феноменологии многослоен, что он не совпадает с “самим сознанием”, то возникают всевозможные недоразумения, например, представление, будто Гегель навязывает предмету путь его эволюции.50 Предположения о произвольности феноменологических построений, однако, неверны, поскольку точка зрения автора в “Феноменологии” - нечто большее, чем просто субъективный взгляд писателя, в качестве “нашего сознания” она принадлежит самому предмету Феноменологии. В частности, верно, что источником феноменологического движения является “наше сознание” (мы специально будем говорить об этом ниже), но это именно “наше сознание”, а не внешняя предмету субъективность писателя.
Какой смысл, имея ввиду все сказанное, может заключаться в попытке установления границ “первого круга” “Феноменологии” ? Как мы увидим в ходе рассмотрения текста “Феноменологии духа”, хотя “наше сознание” и “само сознание” разделяет лишь один “шаг” феноменологического опыта, но расстояние это ввиду особой сложности феноменологического повествования оказывается в тексте весьма значительным. Содержательно “наше сознание” настолько опережает “само сознание” в достижении цели феноменологического движения, что различие в описании их опытов закрепляется в тексте как различие замкнутых на себя, формирующихся как целое “кругов”, которые я и предлагаю считать основными структурными элементами “Феноменологии духа”. Для выявления значения “Феноменологии духа” для реконструкции системы философии Гегеля первоначально просто не требуется анализировать весь состав “Феноменологии”, реально оказывается достаточным пройти только ее “первый круг”, поскольку структурно-логически все “круги” тождественны, и уже в “первом круге”
конституируются структуры всех типов предметности, хотя пока они конституируются только для “нас”.51
Проблема соотношения “кругов” в “Феноменологии” - это проблема структуры “Феноменологии духа”, определяемая особым строением предмета Феноменологии, ее решение не связано непосредственно с решением проблемы структуры системы философии Гегеля. Для решения же последней требуется прежде всего проанализировать структуру движения “внутри” феноменологического “круга” и установить специфику завершающего его типа предметности. Так как в границах каждого “круга” полагается предметность обеих частей “Энциклопедии”, то, найдя структурные соответствия предметов реальной философии и Логики уже в “первом круге”, мы сможем понять действительный характер их отношений, не определенный в “Энциклопедии” из-за отсутствия в ней Феноменологии.
Устанавливая границы “первого круга” и исследуя его логическую структуру, мы, таким образом, просто разделяем рассмотрение двух названных проблем. Итак, пока мы попытаемся точно сформулировать значение “Феноменологии” для реконструкции системы философии Гегеля на материале “первого кпуга” и осуществить эту реконструкцию, и лишь затем - обосновывая ее - вернемся к рассмотрению проблемы структуры “Феноменологии духа”, что, как увидим, составляет особую исследовательскую задачу, лишь связанную с интересующей нас проблемой строения системы философии Гегеля, но не составляющую непосредственного этапа ее решения.
2. Проблема источника и природы феноменологического движения (опыт “чувственной достоверности”).
В предыдущем параграфе мы наметили структуру предмета Феноменологии на основе описания феноменологического метода, данного Гегелем во Введении. Первое предложение основного текста также дает указание на эту структуру, быть может, даже более определенное и ясное, чем описание Введения: “Знание, прежде всего или непосредственно составляющее наш предмет, может быть только непосредственным знанием, знанием непосредственного или сущего” (2,4,51). Вспомним, что “знание” в “Феноменологии” указывает как на определенную сторону отношения сознания к своему предмету, отношение “внутри” сознания между “полюсом субъективности” и “полюсом объективности”, так и на сознание как целое, поскольку этим отношением оно и исчерпывается, ведь субъект и объект, “я” и предмет выступают лишь как крайние термины этого отношения. (Воспроизводимый сознанием момент в-себе-бытия предмета постоянно снимается в феноменологическом опыте, превращаясь в бытие предмета для сознания, в знание.) В рассматриваемом предложении “знание” в первых двух употреблениях несет скорее второе значение, а в третьем употреблении - первое. Поэтому, преодолевая эту “двусмысленность”, его можно переформулировать следующим образом: Сознание, прежде всего или непосредственно составляющее наш предмет, может быть только непосредственным сознанием, знанием непосредственного или сущего. Мы видим здесь, таким образом, указание на те же “действующие лица” феноменологического движения, которые задаются и описанием Введения: “мы”, “наше сознание” - “наш” предмет, “само сознание” - “его” предмет, “предмет”, непосредственно сущее.
Так как предмет “нашего сознания” сам есть сознание (“само сознание”), то от “субъективного полюса” “нашего сознания” (но, как увидим ниже, не от всего “нашего сознания”) не требуется каких-то “специальных” действий, оно должно лишь наблюдать свой предмет52. Об этом говорит
второе предложение текста: “Мы должны поступать точно так же непосредственно или воспринимающе, следовательно, в нем (“самом сознании”, - В.К.), как оно представляется нам, ничего не изменять и постигать без помощи понятия” (2,4,51). Итак, в первых двух предложениях основного текста “Феноменологии” устанавливается структура предмета Феноменологии, и его движение ограждается от внешнего вмешательства “нашего сознания”.
Первый предмет феноменологического рассмотрения - “чувственная достоверность”. Предмет феноменологического рассмотрения вообще, взятый как особый образ сознания, особое его формообразование, есть “чувственная достоверность”. В более близком смысле, “чувственная достоверность” - это “само сознание”.
Чувственная достоверность с точки зрения специфики ее объекта обладает видимостью богатейшего, бесконечно богатого познания, и с точки зрения надежности ее субъекта - видимостью самой подлинной достоверности, поскольку “она еще ничего не упустила из предмета, а имеет его перед собой во всей его полноте” (2,4,51). Однако на деле “эта достоверность сама выдает себя за истину самую абстрактную и самую бедную” (2,4,51).
Что означает это движение от “достоверности” к “истине” ? Формально, “достоверность” и “истина” - границы одного “шага” феноменологического опыта, его исходный пункт и его результат. Но, далее, “достоверность” - это простое тождество сознания, “я”, “полюса субъективности” в сознании. “Достоверность” - то, что есть для сознания и, как завершение и принцип этого ряда - оно само. “Истина” же - соотношение сознания с предметом, а поскольку сам предмет - предмет сознания, его простое негативное, то “истина”, как и “достоверность”, есть также и соотношение сознания с самим собой, но соотношение не непосредственное, каким была “достоверность”, а соотношение через предмет, негативное, выявившийся результат опыта сознания.
Тем самым “шаг” феноменологического опыта, заключающийся в движении от “достоверности” к “истине”, есть, во-первых, движение конкретизации структуры сознания через введение опосредования и его снятие, т.е. познание
(источником этого движения является в конечном счете сравнение сознанием всякого содержания с самим собой), но, во-вторых, и переход сознания от прежнего предмета к новому: сознание в каждом шаге движения как бы выносит вовне и устанавливает перед собой то, чем прежде было оно само.
Что касается нового предмета, то он пребывает в сознании, становясь элементом его структуры. Но что происходит с прежним предметом, с тем, что сознание устанавливало в качестве “сущности” или “истины” в прежнем акте своего движения ? - Этот предмет “отделяется” от сознания (конечно, не от сознания вообще, а только от сознания, ушедшего вперед, к новому предмету, но именно оно ведь и составляет предмет феноменологического рассмотрения, “мы” ушли вместе с ним), как бы “откладывается” в ходе движения феноменологического опыта в “независимую” от сознания реальность, Эта реальность и есть чистая предметность, “предмет” как глубинный уровень структуры предмета Феноменологии. С этой точки зрения, Феноменология оказывается движением порождения, конституирования предметности, и каждый шаг этого движения порождает особый, по определенной схеме структурированный, уровень или слой предметности, составляющих в совокупности всю “независимую” от сознания реальность.53
“Расстояние” от первой “достоверности” до первой “истины” - бытие, чистое бытие. Оно - простая непосредственность первого различения или непосредственность, в которой живет первое различение “достоверности” и “истины”. Оно - и первая “истина” (поскольку первая “достоверность” - не имеющая “объема”, непостижимая, точка отсчета). Это значит: истина самая абстрактная и бедная, но также - и масштаб истины вообще.Соответствующая же этой “истине” “достоверность” (пришлось бы сказать: “достоверность” “чувственной достоверности”) - простое единство “я”.
“Чувственная достоверность” есть, таким образом, рассматриваемая в качестве особого формообразования простая структура сознания, состоящая в первичном различении его на “достоверность” и “истину”, или в установлении отношения
“я” к предмету.И это устанавливаемое отношение (Гегель говорит: “достоверность как отношение” (2,4,51-52)) также оказывается непосредственным. Природа этой непосредственности заключается в конечном счете в том, что так как в опыте (познании) сознание сравнивает свой предмет с самим собой, то чистое тождество “я” и тождество “я” и предмета выступают как исходные пункты и критерии опыта сознания.
Насколько можно понять, сюжет опыта “чувственной достоверности” завязывается с помощью некоторого предвосхищения, совершаемого “нашим сознанием”: “мы” при рассмотрении “чувственной достоверности” среди бесчисленных различий “везде находим главное различие, состоящееименно в том, что в чувственной достоверности сразу выделяются из чистого бытия оба названные “эти”: “этот” как “я”, и “это” как предмет. Если мы (выделено Гегелем, - В.К.) вдумаемся в это различие, то окажется, что я и предмет чувственно достоверны не только непосредственно, но в то же время и опосредованно: “я” обладаю достоверностью через нечто иное, а именно через вещь; а эта последняя достоверна точно так же через нечто иное, а именно через “я””(2,4,52).54
Почему Гегель считает такое выражение существа дела неимманентным самому предмету, действительному феноменологическому опыту ? Он говорит: “Это различие ... непосредственности и опосредования проводим не только мы (“наше сознание”, - В.К.), но находим его в самой чувственной достоверности (в “самом сознании”, - В.К.), и его надо принять в той форме, в какой оно есть в чувственной достоверности, а не так, как мы его только что определили” (2,4,52). А далее сказано: “Нам не нужно рефлектировать и размышлять о том, чем он (предмет, - В.К.) мог бы быть поистине, а нужно только его рассматривать так, каков он в чувственной достоверности” (2,4,52). Дело здесь, таким образом, не в деталях формулировок, а в том, как в феноменологическом опыте “распределить роли” между “нашим сознанием” и “самим сознанием”. Выше было замечено, что источником феноменологического движения является “наше сознание”. Однако, насколько можно понять, Гегель пытается здесь
представить феноменологический опыт как результат движения лишь “самого сознания”. Он, видимо, полагает, что тем самым он следует феноменологическому требованию “поступать непосредственно или воспринимающе”, т.е. лишь созерцать развитие опыта, но не вмешиваться в его движение. Но правильно ли он истолковывает это проистекающее из природы феноменологического метода требование ?
Нам следует тщательно проследить движение опыта “чувственной достоверности” и установить, удается ли реально Гегелю представить это движение как движение “самого сознания”, без всякого вмешательства “нашего сознания”. Если да, то из этого станет очевидной сомнительность предложенного выше понимания соотношения элементов структуры предмета Феноменологии, и мы должны будем вернуться к самому началу нашего рассмотрения “Феноменологии духа”. Если же нет, то в этом случае нам нужно будет, во-первых, разобраться в допущенной Гегелем путанице, а во-вторых, иследовать, совместимо ли вообще требование непосредственного восприятия “нашим сознанием” “самого сознания” с той логикой их отношений, которая задается структурой феноменологической предметности, и если да, то представить конкретно, в чем же на самом деле это требование должно заключаться. Ясно, что разобравшись в этих проблемах, мы поймем и то, как следует оценивать те или иные интерпретации метода гегелевской “Феноменологии”, в частности, взгляд Кожева, согласно которому гегелевский метод является феноменологическим в гуссерлевском смысле или чисто дескриптивным методом.
Вслед за приведенным выше выражением отличия действительного опыта чувственной достоверности от его предвосхищения Гегель повторяет описание предмета феноменологического рассмотрения, данное в первом предложении основного текста с той, однако, разницей, что здесь это описание относится уже не к Феноменологии вообще, а именно к первому ее опыту. Гегель говорит, что за сущность в нем принимается предмет, тогда как “я”- за несущественное: “Одно в ней (чувственной достоверности, - В.К.) устанавливается как простое непосредственно сущее, или как сущность, это - предмет, а другое - как несущественное и
опосредствованное, которое в ней есть не в себе, а через нечто иное, это - “я”, некоторое знание, знающее предмет только потому, что он есть, и могущее быть, а также и не быть. Но предмет есть истинное и сущность; он есть безразлично к тому, знают его или нет; он остается и тогда, когда его не знают; но знания нет, если нет предмета.”(2,4,52)
Это рассуждение - чистое выражение той позиции сознания, которую можно было бы назвать “точкой зрения бытия” в противоположность “точке зрения определенности”. При этом имеются ввиду два момента: 1). непосредственное и опосредованное лишь различаются, разводятся; 2). сущностью признается непосредственное, а опосредованное - несущественным. На протяжении всего “первого круга” “Феноменологии” “точка зрения бытия” будет жить как простой субстрат, носитель всех последующих, структурно более сложных, формообразований. Она будет ставиться к ним в различные отношения, и движение смены этих отношений, смыкаясь в единую структуру, решит в конце концов ее собственню участь. Здесь же “точка зрения бытия” выражена до каких бы то ни было отношений к определенности, в чистом виде.
Так как в чувственной достоверности предмет определяется в качестве сущности, то ее опыт есть прежде всего опыт предмета, опыт того, “соответствует ли понятие о нем, что он есть сущность, тому, как он в ней наличествует” (2,4,52). Мы подошли к центральному пункту первой главы и одному из важнейших пунктов “Феноменологии”, который позволит нам ответить на вопрос об источнике феноменологического опыта. Гегель говорит, что “ей самой (“чувственной достоверности” в непосредственном смысле, “самому сознанию”, - В.К.) надо задать вопрос: что такое “это” ?” (2,4,52).
Я утверждаю, что в этом пункте Гегель выходит за границы своего намерения лишь воспринимать, рассматривать чувственную достоверность, “само сознание”, не привнося в это рассмотрение ничего из “нашего сознания”,55 а, с другой стороны, в этом пункте прорывается действительный смысл феноменологического движения как движения порождения и определения, конкретизации сознанием предмета. Одним
словом, я утверждаю, что именно в этом пункте выявляется роль “нашего сознания” как основания и действительного источника движения феноменологического опыта.
Мы должны задуматься над тем, что, собственно, означает вопрошание “нашим сознанием” “самого сознания” в контексте рассмотрения логической структуры вопроса. Сущность вопрошания заключается в том, что структурой вопроса задается возможность - следовательно, необходимость - синтеза, движения определения, конкретизации. Изначально-синтетическая сущность вопроса вводит “само сознание” в сферу опыта или раскрывает его для опыта, хотя оно первоначально, само по себе, есть лишь непосредственно сущее, точнее, как понятие сознания несет лишь формальную различенность “я” и предмета, непосредственно сущего. Вопрошание как бы дает толчок движению феноменологического опыта, обнаруживая неистинность лишь непосредственного отношения сознания к предмету. И источник этого движения - “мы”, “наше сознание”. Обратиться к предмету с вопросом - означает: предположить, что его простота опосредована, что его непосредственность синтетична, что его сущность - не простой субстрат, а единство всеобщих определений. И эта сущность предмета (и “самого сознания”, и в дальнейшем - “предмета”) открывается лишь через деятельность “нашего сознания”, только в нем лежит источник его движения.
Далее, тем, что предмет вводится в сферу вопроса, он вводится в сферу абсолютной, завершенно-бесконечной рефлектированности сознания. Последняя всегда живет в вопросе в образе связки “есть”.56 “Что есть “это” ?”: бесконечная рефлектированность “есть” делает структуру вопроса диалектичной по отношению ко всякому конечному ответу (например, “ночь” или “дерево”). То, чего требует вопрошание “нашего сознания” от предмета, “самого сознания”, - это смены его предмета, создания нового предмета, поскольку “живое”, изначально-подвижное “наше сознание” само эту процедуру уже совершило, выявив в диалектичной сфере вопрошания неприемлемость первого предмета. Это требование будет воспроизводиться “нашим сознанием” до тех пор, пока предмет не совпадет с изначальной и абсолютной
формой сознания - самосознанием (“я”, “бесконечностью”),57 т.е. пока предмет сам не выявит свою завершенно-рефлектированную структуру, адекватную структуре порождаемого “нашим сознанием” “есть” (как бы “бесконечности” в себе).58 Все другие предметы в качестве ответов будут оказываться лишь промежуточными ступенями. Первая из них - всеобщее как истина “чувственной достоверности”. Построение сознанием абсолютного предмета, который будет соответствовать его собственной завершенно рефлектированной природе, только и будет означать действительный ответ на вопрошание сознания и тем самым снятие вопроса как источника диалектического по своему методу и спекулятивного по уготовленному им завершению опыта сознания. Это - заданное в качестве цели завершение “первого круга” “Феноменологии”.
Опыт относительно предмета чувственной достоверности (см.: 2,4,52-54) - движение ответа на вопрос: что такое “это” (“теперь”,”здесь”) ? - утверждает всеобщее как истину первого предмета сознания или первый его опосредованный (его собственной деятельностью) предмет. Этот новый предмет, всеобщее - “опосредованная простота” (2,4,53). По отношению к первому, непосредственному предмету он есть “нечто негативное вообще”(2,4,53), поскольку он есть благодаря тому, что первый предмет не есть, или он есть в исчезновении первого предмета. “Такую простоту, которая есть благодаря негации, не есть ни “это”, ни “то”, некоторое “не-это” и равным образом равнодушна к тому, есть ли оно “это” или “то”, мы называем некоторым всеобщим; на деле, следовательно, всеобщее есть то, что истинно в чувственной достоверности.”(2,4,53) “Так как чувственная достоверность показывает в самой себе всеобщее как истину своего предмета, то для нее, стало быть, остается в качестве ее сущности чистое бытие, но не как то, что непосредственно, а как нечто такое, для чего существенны негация и опосредствование, следовательно, не как то, что мы подразумеваем (meinen) под бытием, а бытие вместе с определением, что оно есть абстракция или чисто всеобщее ...”(2,4,53). Так как предмет чувственной достоверности пытается утвердить себя в качестве только и всецело бытия, бытия безотносительно к
определенности, то он оказывается невыразимым в языке, лишь подразумевается говорящим, поскольку язык (“по своей божественной природе”(2,4,58), скажет Гегель в конце первой главы) выражает только всеобщее. К этой мысли Гегель возвращается не раз не только в “Феноменологии”, но и в “Логике”, посколькув глазах философа она убедительно демонстрирует иллюзорность, лишь мнимость сферы чувственной достоверности, как, впрочем, и всякой прелдметной области, которая сконструирована сознанием, не завершившим своего восхождения к своей абсолютной форме - самосознанию.
Гегель так констатирует заверщение первого этапа опыта “чувственной достоверности”: “Если мы сравним отношение, в котором сначала выступили знание и предмет, с тем отношением, в котором они выступают в этом результате (т.е. опыте, выявляющем, что всеобщее есть истина предмета чувственной достоверности, - В.К.), то оно оказывается обратным. Предмет, который должен был составлять то, что существенно, теперь составляет то, что несущественно в чувственной достоверности; ибо всеобщее, которым он стал, уже не такое, каким предмет должен был по существу быть для чувственной достоверности, - теперь чувственная достоверность наличествует в противоположном, а именно, в знании, которое прежде составляло то, что несущетвенно. Ее истина - в предмете как предмете, принадлежащем мне (in meinem Gegenstande), или в мнении (Meinen): предмет есть, потому что я о нем знаю. Чувственная достоверность, таким образом, хотя и изгнана из предмета, но этим еще не устранена (aufgehoben), а только оттеснена в “я”.”(2,4,54)
Опыт субъекта чувственной достоверности (см.: 2,4,54-55) оказывается подобным опыту ее предмета, поскольку первоначальный субъект - некоторое единичное “я” - диалектически возводится к своей истине - всеобщему “я”: “”Я” есть только всеобщее “я”, так же как “теперь”, “здесь” или “это” вообще; я подразумеваю, конечно, некоторого единичного “я”, но подобно тому, как я не могу выразить словами, что я подразумеваю под “теперь”, “здесь”, точно так же я не могу выразить словами, что я подразумеваю под “я”.”(2,4,54)
Проделанный до сих пор опыт относительно чувственной достоверности выявляет, что “предмет и “я” суть те всеобщности, в которых не остаются или не имеются подразумеваемые мной “теперь”, “здесь”, “я””(2,4,55), он “приводит нас (“наше сознание”, - В.К.) к тому, что мы устанавливаем как сущность чувственной достоверности ее самое, взятую в целом, - уже не один лишь какой-нибудь момент ее, как было в тех двух случаях, где ее реальностью должен был быть сперва предмет, противоположный “я”, а потом - “я”. Следовательно, только сама чувственная достоверность в целом придерживается себя как непосредственности, и тем самым исключает из себя всякое противоположение, которое имело место в предшествующем.”(2,4,55)
Как Гегель представлят опыт чувственной достоверности как целого? Так как выяснилось, что непосредственность не может быть утверждена ни как непосредствнность предмета, ни как непосредственность “я”, то созание пытается сохранить непосредственность тем, что вообще не допускает в себе различие “я” и предмета. “Истина чистой непосредствености сохраняется как остающееся равным себе самому отношение, которое не проводит никакого различия между “я” и предметом в смысле существенности и несущественности и в которое потому вобще не может проникнуть никакое различие.” (2,4,55).
Здесь наступает второй ключевой момент развития сюжета опыта “чувственной достоверности”: “Итак, раз эта достоверность более не желает подойти к нам, когда мы обращаем ее внимание на “теперь”, которое есть ночь, то мы (“наше сознание”, - В.К.) подойдем к ней и заставим ее показать нам то “теперь”, которое утверждетя. Мы должны заствить показать нам это “теперь”; ибо истина этого непосредственого отношения есть истина этого “я”, который ограичивается одним “теперь” и одним “здесь”. Если бы мы занялись этой истиной позже или находились бы дальше от нее, то она не имла бы никакого значения; ибо мы сняли бы непосредственность, которая сущственна для нее. Поэтому мы должны занять место в том же пункте времени или пространства и заставить показать нам ее, т.е. превратить себя в
то же самое “это я”, которое обладает достоверным знанием.” (2,4,55-56) Итак, “эта достоверность более не желает подойти к нам” - это прежде всего значит, что “чувственная достоверность” есть относительно самостоятельное или просто отдельное формообразование сознания, а не какой-то преходящий фрагмент его эволюции. Она как отдельное формообразование может замкнуться в себе и выдавать себя за неподвижное завершенное целое.59
Два прежних опыта сознания относительно чувственной достоверности были двумя ответами “самого сознания” (собственно “чувственной достоверности”) “нам”, “нашему сознанию” на “наш” вопрос: Что такое “это” (“теперь”, “здесь”)? Или: Что такое “я” ? Но “само сознание” более не желает отвечать на этот вопрос. В чем здесь дело ?
Когда вопрос вводится по отношению к предмету “чувственной достоверности”, а затем и по отношению к ее субъекту, то предмет (или субъект) в качестве конечного бытия оказываются перед бесконечной мощью абсолютной, завершенной в себе рефлексии, живущей в вопросе в образе “есть”. Поэтому и предмет, и субъект вынуждены были включиться в “движение ответа”, в движение рефлексии, в результате чего и снимались как конечное бытие в новом рефлектированном предмете (субъекте). В этом главный смысл тех двух опытов, в результате которых “это” и “я” становились всеобщими - всеобщим “это” и всеобщим “я”. Но чувственная достоверность в целом есть соотношение субъекта и предмета, есть просто соотношение (специфика крайних терминов нам сейчас безразлична, речь идет именно о структуре соотношения). Это соотношение непосредственно, или утверждает здесь себя в качестве такового. Но именно как соотношение оно рефлектированно в себя, как и всякое соотношение, оно несет в себе бесконечное опосредование, “есть”, оно само (как прежде вопрос, обращенный к одному из его крайних терминов) есть “суждение”. Повторим: хотя “чувственная достоверность” и выдает себя за нечто чисто непосредственное, но в себе она есть завершенная, бесконечная, абсолютная рефлектированность, вследствие чего она и может выдавать себя за чистую непосредственность (всякое опосредование есть в ней как снятое), поэтому как
целое, как соотношение (а не в качестве одного из своих моментов, что имело место в двух прежних случаях), она остается нечувствительной к рефлексии вопрошания, остается незатронутой ею. Прежний способ “нашего сознания” “разговорить” “само сознание” исчерпал себя, не срабатывает больше, “достоверность более не желает подойти к нам”, и “наше сознание” должно отыскать теперь другие пути для продолжения феноменологических опытов.
Гегель говорит, что “мы”, “наше сознание” подойдем к чувственной достоверности, “самому сознанию” и “заставим ее показать нам то “теперь”, которое утверждается”, мы должны заставить показать нам это “теперь””. Что это значит ? - Гегель говорит, что “мы”, “наше сознание” должны занять место в том же пункте времени или пространства ..., т.е. превратить себя в то же самой “это я”, “само сознание”, чувственную достоверность как целостное соотношение, которое обладает достоверным знанием. Речь, таким образом, идет о том, что для продолжения феноменологического опыта необходимо уже не вопрошание лишь “нашим сознанием” “самого сознания”, а прямое, непосредственное отождествление “нашего сознания” как источника движения феноменологического опыта с предметом рассмотрения, “самим сознанием”. Что, однако, достигается в результате такого отождествления ?
Выше мы уже говорили о том, что единственным “живым” сознанием в Феноменологии является “наше сознание”. Это значит, что только в нем реально живет бесконечная рефлектированность, только оно есть действительная всеобщность. 60 “Само сознание” есть только в-себе-всеобщее, бесконечная рефлектированность не положена в нем. Оно есть лишь понятие сознания, тогда как в “нашем сознании” понятие сознания живет актуально. И прямое отождествление “нашего сознания” с “самим сознанием” актуализирует и потенциально-бесконечную рефлектированность последнего, которая прежде пребывала лишь во “в-себе”, а тем самым она и обращает замкнутую посредством некоторого “своеволия” “чувственную достоверность” на всеобщее, как бы силой заситавляя ее взглянуть на нее, т.е. на себя, и, далее, признав всеобщее своей истиной, - раствориться в нем. Прежде всеобщее достигалось в
результате движения разворачивания ответа моментов “чувственной достоверности” на вопрошание “нашего сознания”. Теперь всеобщее достигается достоверностью как целым. Это - всеобщее как истина “чувственной достоверности”, и вместе с ее достижением завершается и становление нового формообразования сознания, формообразования, предметом которого является всеобщее. Это новое формообразование - “восприятие”.
Однако, с точки зрения структуры, достигнутое теперь всеобщее как результат всего движения, истина “чувственной достоверности” как целого, ничем не отличается от всеобщего как истины лишь предмета или лишь субъекта “чувственной достоверности”, поэтому специально рассматривать завершение опыта чувственной достоверности мы не станем. Укажу лишь на одно примечательное обстоятельство. Так как “наше сознание”, накладывающееся на “само сознание”, есть не только трансцендентальная структура, но и естественное, “эмпирически-реальное” сознание автора и читателя, то и опыт приобретает некоторый “субъективный” оттенок: движение опыта предстает как “указывание”, т.е. выступает в образе субъективной процедуры. Это не должно нас смущать, поскольку мы нашли причину появления этого оттенка субъективности. Следует помнить, что “наше сознание” - не обязательно источник внешней рефлексии, поскольку оно является необходимым компонентом структуры феноменологической предметности.
Итак, теперь, в конце рассмотрения первой главы “Феноменологии”, мы снова оказались перед необходимостью уточнения принципа непосредственности феноменологического восприятия. Первый опыт сознания в целом убеждает в том, что требование непосредственно, лишь воспринимающе постигать предмет не может означать, что феноменологическое движение есть лишь описание движения “самого сознания”. Напротив, источником феноменологического движения является “наше сознание”. Но требование это, однако, законно, если его понимать как стремление строго различать “наше сознание” как элемент феноменологической предметности и случайную деятельность его “субъективного полюса”. В таком истолковании это
требование не нарушает представленного понимания источника и природы феноменологического движения.
3. Становление “бесконечности” как структуры
спекулятивной предметности (опыты “восприятия” и “рассудка”).
“Чувственная достоверность” пыталась схватить единичное, поскольку именно единичное она считала сущим. Но опыт привел ее ко всеобщему как ее истине. Формообразование сознания, принявшее эту истину, т.е. установившее “как всеобщее то, что для него есть сущее” (2,4,60), - “восприятие”. Полюсами формообразования являются всеобщее “я” и всеобщее как предмет. Гегель говорит, что для “нашего сознания” здесь уже ясно, что моменты восприятия - воспринимающее “я” и воспринимаемый предмет - несущественны, поскольку они “выпадают (т.е. проявляются как самостоятельные, - В.К.) только в своем явлении (2,4,60), а “наше сознание” уже видело возникновение всеобщности как принципа формообразования, поэтому для “нашего сознания” только она и есть существенное. Но этого еще не видит “само сознание”, ведь оно есть то, что возникло в качестве всеобщего для “нашего сознания”, т.е. оно, естественно, не видело собственного возникновения. Для него существенны оба момента восприятия в их отдельности от целого, поскольку оба они всеобщи. “А так как они относятся друг к другу как противоположные, то в этом соотношении только одно может быть существенным, и различие существенного и несущественного следует распределить между ними. Одно, определенное как (нечто) простое, предмет, есть сущность, безразлично, воспринимается он или нет; процесс же восприятия как движение есть то непостоянное, которое может быть или не быть, а также то, что несущественно.”(2,4,60) Опыт “восприятия”, как и опыт “чувственной достоверности”, начинается тем самым с установления приоритета “точки зрения бытия” или преимущественного права стороны предмета.
Далее Гегель представляет развитие предмета
“восприятия” (вещи) (см.: 2,4,61-63). Так как всеобщее как принцип предмета “восприятия” есть опосредствованный принцип, т.е. он возник из иного - того, что “чувственная достоверность” предполагала сущим в качестве единичного, - то бытие предмета оказывается несущим в себе негативное.61 В чем состоит отрицательность предмета “восприятия” ? С одной стороны, вещь есть простое соотношение с собой, среда, в которой совместно, но не соприкасаясь, находятся все свойства, безразличные как к среде, так и друг к другу. Но, с другой стороны, единство вещи есть единство, не только безразличное к любым свойствам, но и исключающее всякие свойства, не только некоторое “также”, но и “одно”, а, кроме того, определенное свойство (а не-определенных свойств быть не может) возможно лишь через соотнесение его с другими свойствами, а не только с самим собой, или через действительное различение свойств.
Гегель говорит, что сознанию на этом этапе, когда предмет восприятия установлен как истинное, следует лишь воспринимать его. Всякое неравенство предмета с самим собою, которое может выявиться в восприятии, должно быть отнесено к процессу восприятия, но не к предмету, который есть истинное и вследствие этого не может быть неравным себе.
Описывая опыт “самого сознания” относительно процесса восприятия, Гегель говорит, что он лишь развивает опыт “нашего сознания”, который содержался в определении предмета восприятия и отношении к нему сознания. В конце концов этот опыт показывает, что сознание, пытаясь лишь воспринимать предмет, на деле обращается к самому себе и из себя направляет процесс восприятия, а следовательно, само формирует и предмет восприятия и, кроме того, осознает эту свою “сверх-воспринимающую” деятельность - рефлексию: “Возвращение сознания в самого себя, непосредственно вмешивающееся в чистое постижение, - ибо оно оказалось существенным для процесса восприятия, - изменяет истинное. Сознание в то же время признает эту сторону как свою и принимает ее на себя, благодаря чему, следовательно, оно получает истинный предмет чистым.” (2,4,64) Сознание “различает свое постижение истинного от неистинности своего
воспринимания, исправляет неистинность, и поскольку оно само предпринимает (vornimmt) это исправление, истина как истина (Wahrheit) воспринимания (Wahrnehmen), без сомнения, относится к сознанию. Поведение сознания ... таково, что оно уже не просто воспринимает, а сознает также свою рефлексию в себя и отделяет ее от самого простого постижения.”(2,4,64-65) Тем самым сознание вынуждено двигаться по кругу: оно не может остановиться ни на том, что вещи суть в себе определенные вещи, поскольку это разрушает их самотождественность, ни на том, что они суть лишь абстрактное “одно”, тогда как их определенность создается сознанием, поскольку вещи должны сами отличаться друг от друга, ни на том, что вещи суть некоторые “также”, как бы “охватывающие поверхности”, а в “одно”сводит их определенности сознание, разъединяя их посредством “поскольку”. Сознание, говорит Гегель, “попеременно делает как само себя, так и вещь, и тем и другим: чистым “одним”, лишенным множественности, и некоторым “также”, разложенным на самостоятельные материи”(2,4,66).
Невозможность для сознания остановиться на каком-то одном этапе движения принципиально меняет сам его предмет: теперь им может быть только все рефлектирующее движение сознания в целом. “Предмет для него теперь это движение в целом, прежде распадавшееся между предметом и сознанием.”(2,4,66) Тем самым “само сознание” на опыте узнает то, что уже видело прежде “наше сознание”: моменты восприятия действительны лишь в целом формообразования, и всякая попытка установить один из них за истинное ведет к противоречию, которое снимается только в рефлектирующем движении восприятия как целого. Последние попытки сознания сохранить предмет как единичную чувственно воспринимаемую вещь неумолимо разрушаются противоречием, возникающим между ее для-себя-бытием и ее бытием-для-иного (см.:2,4,66-68).
Каким-то образом “распределить” (выражение Гегеля) противоречие между двумя предметами и сохранить их обособленными от взаимного перехода, который в конце концов снимет и для-себя-бытие, и бытие-для-иного предмета как единичной вещи, поскольку снимает саму эту вещь как
предмет сознания, невозможно. “Предмет (Gegenstand) в одном и том же аспекте есть скорее противоположное (Gegenteil) себе самому: он есть для себя, рефлектирован в себя, есть “одно”; но это бытие для себя, рефлектированность в себя, бытие “одним” установлено в некотором единстве с противоположным ему - с бытием для чего-то иного, и потому установлено только как снятое; или: это для-себя-бытие столь же несущественно, как и то, что единственно должно быть несущественным, т.е. отношение к другому.
Предмет благодаря этому в своих чистых определенностях или в определенностях, которые должны были составлять его существенность, снят точно так же, как он в своем чувственном бытии превратился в нечто снятое. Из чувственного бытия он становится чем-то всеобщим.”(2,4,68)
И хотя “это всеобщее, так как оно проистекает из чувственного, по существу обусловлено последним и потому вообще не есть подлинно себе самой равная всеобщность, а такая, которая испытывает воздействие некоторой противоположности ...”(2,4,68-69), все же “то и другое (для-себя-бытие и бытие-для-иного, - В.К.) находятся по существу в некотором единстве”(2,4,69). Поэтому “теперь имеется налицо безусловная абсолютная всеобщность (выделено меной, - В.К.), и сознание здесь действительно вступает в царство рассудка”(2,4,69).
Феноменологическое движение достигло важного пункта: построена структура, являющаяся реальным прообразом “бесконечности”, структура, движение которой, как мы увидим, будет означать завершение “первого круга” “Феноменологии”. Как и все результаты в “первом круге”, этот промежуточный результат достигнут только “нашим сознанием”, именно его предметом является здесь безусловная абсолютная всеобщность. Только “мы” видим, что чистые определенности предмета сознания - для-себя-бытие и бытие-для-иного - состоят в некотором единстве, и это необусловленное инаковостью (поскольку она уже содержится в нем) единство и есть безусловная абсолютная всеобщность. “Само сознание” еще не видит этого, для него его предмет выглядит еще как чувственная всеобщность. Сущность построенной здесь структуры состоит в том, что она свою
инаковость содержит в себе, а потому исключена из всех внешних себе противоположений, она же есть опосредование этой инаковости, и в замкнутой (завершенной, абсолютной) бесконечности этого движения опосредования она совпадает с инаковостью.
Теперь, конечно, следует вспомнить и о завершении опыта “чувственной достоверности”, ведь и всеобщее, или чистое бытие, явившееся результатом ее опыта, также, очевидно, является прообразом “бесконечности”, только значительно более отдаленным. “Отдаленность” здесь следует понимать как меньшую степень конкретности, как абстрактность опосредования противоположностей в структуре всеобщего или чистого бытия. Вспомним, что по отношению к единичным “теперь” и “здесь” оно выступало как нечто негативное вообще: “Такую простоту, которая есть благодаря негации, не есть ни “это”, ни “то”, некоторое “не-это” и равным образом равнодушна к тому, есть ли оно “это” или “то”, мы называем некоторым всеобщим”(2,4,53). В качестве сущности “чувственной достоверности” выступает всеобщее как простое отрицание единичного.62
Отметим еще одно любопытное обстоятельство, выступающее при сравнении результата II главы с результатом I главы (или началом II главы). Вспомним, что в начале опыта “восприятия” “само сознание” еще было убеждено в значимости каждого из полюсов формообразования, тогда как для “нашего сознания” уже выявилось, что только всеобщее как принцип есть сущность восприятия, что различенные всеобщности - воспринимающее и воспринимаемое - выступают обособленно только в явлении. “Наше сознание” уже видело, что субъект и предмет “чувственной достоверности” растворяются в ее целом в движении указывания, в котором реально именно это движение, а не отдельные его моменты. Конечно, эта структура - движение указывания или принцип всеобщности в качестве сущности восприятия - проще и абстрактней, чем сформировавшееся в ходе опыта “восприятия” единство для-себя-бытия вещи и ее бытия-для-иного, единства, которое есть безусловно-всеобщее. Но различаются они не только этим. Нельзя не заметить, что безусловно-всеобщее “восприятия” и движение указывания
“чувственной достоверности” выступают как комплементарные по отношению друг к другу, поскольку в одном случае различие дается со стороны субъекта (“я” и “мое” движение указывания, предмет здесь - лишь момент последнего), а в другом случае - со стороны предмета (в соотношении для-себя-бытия и бытия-для-иного субъект - также лишь момент последнего). Кажется, даже название II главы указывает на преобладание в ней опыта относительно именно предмета восприятия: во-первых, под “вещью” понимается и для-себя-бытие, и бытие-для-иного, тогда как сторону субъекта представляет здесь только “иллюзия”, во-вторых, “die Teuschung” как обозначение предмета восприятия, как он дан сознанию, не указывает ни на что, кроме заблуждения и обмана, являясь в этом полной противоположностью столь любимой Гегелем в других случаях “die Erscheinung”. Таким образом, только “чувственная достоверность” и “восприятие” вместе составляют единство опыта сознания относительно субъекта и предмета сознания на начальном этапе феноменологического движения.
Вернемся, однако, к рассмотрению опыта “восприятия” и посмотрим, как характеризует Гегель достигнутый прообраз “бесконечности”. “Истинное, которое должно быть обретено, ... оказывается противоположностью в одном и том же аспекте (выделено меной, - В.К.) и тем самым имеет свой сущностью всеобщность, лишенную различия и определения (выделено мной, - В.К.)”(2,4,69) Конечно, нам уже хочется сказать: всеобщность, в которой различия и определения есть как снятые. Но даже то истинное, которое выступает здесь, есть лишь для “нашего сознания”. “Само сознание” же еще удерживает здесь различенные стороны и определенности (взятые безотносительно друг к другу - абстракции) от сведения их в единство, и переходит от одной из них к другой, используя всевозможные “а также” и “поскольку”. Сознание, которое ведет себя таким образом, - рассудок. От более высокого формообразования, к которому приближается “наше сознание”, рассудок отличается тем, что он не видит еще, что, перебирая все возможные определенности, он движется по кругу, и что, следовательно, действительным предметом сознания должен стать сам этот круг, а не его исчезающие
составляющие, и притом - круг, собранный в одну точку. Думается, именно так можно истолковать завершение II
главы “Феноменологии”. Вчитаемся в эти строки. “Эти пустые абстракции единичности и противоположной ей всеобщности, точно так же как (абстракции) сущности, связанной с несущественным, (абстракции) чего-то несущественного, которое, однако, в то же время необходимо, суть силы, игра которых есть воспринимающий рассудок ... Он, который считает себя подлинным реальным сознанием, является в процессе восприятия только игрой этих абстракций ... Вовлеченный в круг этих ничтожных сущностей, он бросается в объятия от одной к другой ... он старается отстаивать и утверждать с помощью своей софистики попеременно то одно, то прямо противоположное ...”(2,4,69) “Тому, к чему природа этих неистинных сущностей, собственно говоря, хочет побудить рассудок: мысли об упомянутой всеобщности и единичности, о “также” и “одном”, об упомянутой существенности, которая необходимо связана с некоторой несущеситвенностью, и о чем-то несущественном, которое все же необходимо, - связать и тем самым снять такие мысли об этих не-сущностях, - этому он противится, опираясь на “поскольку” и разные аспекты или принимая одну мысль на себя, чтобы сохранить другую отдельно и как истинную мысль. Но природа этих абстракций связывает их в себе и для себя.”(2,4,70) “Этот процесс ... составляет ... повседневную и постоянную жизнь и деятельность сознания ... В этом процессе оно неудержимо движется к результату, состоящему в одинаковом снятии всех этих существенных существенностей и определений, но в каждый отдельный момент оно сознает в качестве истинного только данную одну определенность, а затем - снова противоположную.”(2,4,70) Движение рассудка как особого формообразования сознания представляет III глава “Феноменологии духа”.
В начале III главы, как и в начале II главы, Гегель указывает на различие между тем, что есть на этом этапе предмет “самого сознания”, и что - предмет ”нашего сознания”. Предмет “самого сознания” - мысли, т.е. разнообразнейшие определенности, и “само сознание”, переходя от одной из них к другой или воспринимая их отдельно друг от друга, ведет себя
как “воспринимающий рассудок”, а предмет “нашего сознания” - те же мысли, но взятые в единстве, или как снятые в целом, т.е. безусловно-всеобщее.63 “Это безусловно-всеобщее, которое уже теперь есть истинный предмет сознания (“самого сознания”, - В.К.), еще остается предметом его ...”(2,4,71), т.е. “само сознание”, по-существу, уже сейчас имеет своим предметом безусловно-всеобщее, но еще не видит этого, или, как говорит Гегель, безусловно-всеобщее остается лишь предметом его, “оно еще не овладело своим понятием как понятием”(2,4,71). “Для сознания предмет ушел из отношения к другому обратно в себя и потому стал в себе понятием; но сознание для себя самого еще не есть понятие, и потому в указанном рефлектированном предмете оно не узнает себя.”(2,4,71)
Рассудок, таким образом, есть формообразование сознания, не узнающее себя в своем предмете,64 который в себе уже есть безусловно-всеобщее, или устанавливающее свой предмет, безусловно-всеобщее, как лишь соотносящийся с собой. Положение, при котором сознание не узнает в своем действительном предмете себя самого или отказывает ему в для-себя-бытии, задает созерцательное отношение сознания к предмету: “сознание не принимает участия в его свободной реализации, а только наблюдает за ней и только постигает ее”(2,4,71-72).
Движение рассудка начинается с того специфически-феноменологического действия прямого совмещения “нашего сознания” и “самого сознания”, которое было описано нами в предшествующем параграфе. Цель этого действия в сфере рассудка также ничем не отличается от его цели в сфере чувственной достоверности: так как “само сознание” созерцательно или пассивно относится к своему предмету, а предмет, как полагает трансцендентальная философия, в таком случае “останавливается”, “замирает”, теряет всякую видимость бытия, то необходим некоторый внешний толчок, который возобновил бы движение опыта сознания, и таким толчком, преодолевающим инертность “самого сознания”, является акт его прямого совмещения с “нашим сознанием”. “Живое” “наше сознание” актуализирует предметно-конструирующую деятельность “самого сознания”, и процесс
феноменологического опыта продолжается. Читаем у философа: “Сперва мы должны еще занять его
(“самого сознания”, - В.К.) место и быть понятием (здесь: для-себя-бытием в противоположность в-себе-бытию “самого сознания”, - В.К.), которое развивает то, что содержится в результате; в этом развитом предмете (т.е. предмете, каким он станет в результате деятельности сознания, в котором совпадают “наше сознание” и “само сознание” - В.К.), который предстает сознанию как нечто сущее, сознание впервые становится для себя сознанием, постигающим в понятиях (“наше сознание” уже стало таковым как сознание безусловно-всеобщего, - В.К.)”(2,4,72). Гегель показывает тем самым путь к результату, достижение которого будет означать построение понятия спекулятивной предметности, т.е. окажется выполнением с точки зрения “нашего сознания” основной задачи “Феноменологии духа”, которая заключается в том, чтобы указать всякому естественному сознанию путь к спекулятивной науке, Логике.
Ключевой момент движения рассудка - опыт рассмотрения “силы”.65 В чем его существо ? В качестве предмета сознания установлена сила как движение, противоположные моменты которого (разворачивание и сведение) требуют друг друга и в то же время снимают друг друга. Сознание на этом этапе удерживает различенность этих противоположных моментов, хотя и вынуждено признать их снимаемость друг другом. Но “сила” есть ступень эволюции безусловно-всеобщего и, значит, единство в-себе-бытия и бытия-для-иного. Поэтому “в себе” или для “нашего сознания” никаких различий моментов в “силе” найти уже нельзя, они непосредственно есть лишь как снятые, но “само сознание”, т.е. собственно рассудок, еще держится этого различия. “Различие, - говорит Гегель, - ... имеется только в мысли”(2,4,73), и “сила, чтобы быть тем, что она есть поистине (т.е. чтобы и для “самого сознания” стать тем, что она уже есть “в себе” или “для нас”, - В.К.) должна быть полностью освобождена от мысли (т.е. от рассудочных фиксаций различия ее моментов, - В.К.) и установлена как субстанция этих различий”(2,4,73).
Это приводит к обострению конфликта: сила есть единство противоположных моментов, но - именно как
поистине противоположных, т.е. самостоятельных, в себе сущих сторон. Тем самым собственно сила выступает как “внутреннее” вещей, тогда как противостоит этому “внутреннему” движение взаимного снятия противоположно направленных проявлений силы. Последнее теперь исключено из силы, рефлектированной в себя (т.е. увидевшей себя как внутреннее), но тем самым оно и само стало силой. Таким образом, имеются “две силы”, или мы должны признать двойственность силы, и прежнее взаимное снятие моментов превращается в “игру сил”: “Игра обеих сил состоит в том, что они определены противоположным образом и существуют в этом определении друг для друга, а также в том, что происходит абсолютный, непосредственный обмен определениями, - переход, благодаря которому только и существуют эти определения, в коих силы выступают как будто самостоятельно.”(2,4,75)
Воспринимая этот - обостренный благодаря самостоятельному существованию обоих противоположных начал - конфликт, “само сознание” приходит к тому же положению о непосредственной снятости всякого различия сил, которое “нашему сознанию” было известно уже в начале опыта силы.66 “У этих сил нет собственных субстанций, которые были бы их носителями и сохраняли их. Понятие силы (выделено мной, - В.К.), напротив, сохраняется как сущность самой ее действительности”(2,4,76-77). “Истина силы остается только мыслью о ней”(2,4,77). Понятие силы, мысль о ней, всеобщее, которое рассудок признает сущностью силы, - это “внутреннее” вещей, тогда как “игра сил” существует теперь для рассудка в качестве явления.
Новый предмет рассудка - “внутреннее” вещей - не распадается на в-себе-бытие и внешнее проявление, но такое различенное бытие силы опосредует отношение рассудка к “внутреннему”. Сознание в качестве рассудка “проникает взором сквозь этот средний термин игры сил к истинной скрытой основе (Hintergrund) вещей”(2,4,77).
Гегель черезвычайно глубокомысленно и тонко описывает феноменологическое происхождение “внутреннего”: Чувственно-предметное в явлении вследствие завершенности его диалектики выступает для сознания как негативное.
Поэтому сознание рефлектирует из него в себя, но по аналогии со своей прежней внешне-опредмечивающей деятельностью оно представляет эту рефлексию как самостоятельное предметное существование - “внутреннее”, - не узнавая в нем себя, не понимая, что эта рефлексия есть только опосредованное вне-себя-бытием возвращение в себя.68
Как результат рефлексии сознания всебя “внутреннее” несет в себе момент для-себя-бытия сознания. Но для-себя-бытие естьнегативное движение,69 а характером негативности обладает здесь для сознания явление, поэтому “негативность”, совпадая для сознания с “предметностью”, удаляется им от себя и конституируется как “внутреннее”, и сознание не узнает в нем своей саморефлексии.70
Промежуточные итоги таковы: “Наш предмет отныне - умозаключение (der Schluss), у которого крайние термины - “внутреннее” вещей и рассудок, а средний термин - явление”(2,4,78), “внутреннее” же определяется здесь (видимо, для того, чтобы отличить его от безусловно-всеобщего) как абсолютно-всеобщее.
Как принципиально отличное от “явления”, “внутреннее” непознаваемо, но непознаваемо оно потому, что определено пока как “ничто” явления или чистое потустороннее для сознания. Но “внутреннее” связано с явлением, более того, так как само оно “пусто”, то по содержанию оно совпадает с явлением: “явление есть его сущность и на деле его осуществление”, оно есть “явление как явление”(2,4,79). Это, конечно, один из важнейших пунктов полемики с “Критикой чистого разума”: для сознания, которое по существу своему говорит только о том, что является ему в качестве определенности (“трансценден-тальная точка зрения” в философии), бессмысленно указывать на некоторое неявленное бытие, - последнее в любом случае реально оказывается лишь нераспознанной аббревиатурой того же явления.
В явлении же, или “игре сил”, выявляется сводимость всего многообразия содержания к простому или всеобщему различию. “Это различие как всеобщее различие есть ... простое в игре самой силы и истинное в игре, оно есть закон силы.”(2,4,80) “Простым различием абсолютно меняющееся явление становится благодаря своему отношению с простотой
“внутреннего” или рассудка.”(2,4,80) Почему ? - Простым различием является “внутреннее”, поскольку оно есть для-себя-бытие или завершенно-негативное движение. Но состоявшееся отождествление его с явлением или принятие явления “внутрь” сверхчувственного сводит к простому различию и все определенности явления. Всеобщее различие “выражено в законе как постоянном образе изменчивого явления. Таким образом, сверхчувственный мир есть покоящееся царство законов, хотя и находящееся по ту сторону воспринимаемого мира (ибо в последнем законы проявляются только благодаря постоянному изменению), но в нем точно так же наличествующее и составляющее его непосредственное спокойное отображение.”(2,4,81)
Но установившееся соотношение закона и явления не устраивает их обоих. Явление всегда оказывается содержательно избыточным по отношению к закону, т.е. закон не описывает всего явления, ограничивается лишь одной стороной, выражает только всеобщее различие, не адекватное созерцаемому многообразию явления. Пытаясь преодолеть это взаимное несоответствие, сознание пытается “развернуть” закон, построить систему соотносящихся законов. Это, однако, “противоречит принципу рассудка, для которого как для сознания простого “внутреннего” всеобщее в себе единство есть то, что истинно”(2,4,81). Поэтому вместе с “развертыванием” сознание осуществляет и противоположное действие, т.е. снова сводит их к одному закону. “Но с этим совмещением (Ineinanderfallen) законы утрачивают свою определенность; закон становится все более поверхностным, и на деле поэтому обнаруживает не единство данных определенных законов, а некоторый закон, упускающий их определенность.”(2,4,81) “Рассудок мнит, будто он нашел всеобщий закон, выражающий всеобщуюдействительность как таковую, но на деле он нашел только понятие самого закона ...”(2,4,81).
Полученное понятие закона противостоит не только определенным законам (из-за того, что “определенность самого определенного закона принадлежит еще явлению или, вернее, чувственному бытию”(2,4,82)), но и закону как таковому: последний из-за непосредственности постижения различия
устанавливает самостоятельное “существование моментов (соотношение которых выражает закон) как равнодушных и в себе сущих существенностей”(2,4,82), как говорит сам Гегель. Если теперь эти моменты возвращаются к понятию закона, к простому единству “внутреннего”, то это достигается только некоторым внешим, “дополинительным” актом: само по себе ни понятие закона не разворачивается в многообразие установленных различий, ни различия не возвращаются в простое единство. Между тем, будучи единством различенного, понятие закона требует ведь именно этого, это есть “внутренняя необходимость закона”. В самом предмете рассудок “внутреннюю необходимость закона” увидеть еще не может, но в движении “объяснения” он примиряет предмет с этой необходимостью.
В опыте “объяснения” завершается конституирование сознанием предметности, являющейся коррелятом “эмпиричес-кой” науки и реальной философии, как в опыте “силы”- оно начиналось. Структура предмета реальной философии исчерпывается движением от “силы” к “объяснению”, движением от первого выступления “идеального” бытия для “восприни-мающего рассудка” до деятельности, в которой любое “существование” может оправдаться перед сознанием в своей определенности лишь посредством установления связи с идеальным бытием понятия закона. Начиная с “объяснения”, сознание движется к “бесконечности” как абсолютной структуре опосредования сознанием предметности, сводящего любые образы бытия к “я”, самосознанию. Проследим, однако, как описывает Гегель этот процесс.
Прежде всего рассудок, который стремится сохранить единство и неизменность своего предмета, вынужден взять действительное движение предмета на себя, он представляет это движение как свое движение, выражает его в слове. Речь рассудка, или движение слова, должна выражать, с его точки зрения, это мнимо неподвижное бытие. “Но в этом движении мы познаем именно то, что недоставало закону, а именно самое абсолютную смену; ибо это движение, если к нему присмотреться ближе, прямо противоположно себе самому. А именно, оно устанавливает некоторое различие, которое не только для нас не является различием, но которое оно само
снимает как различие.”(2,4,85) “Налицо не только простое единство - в том смысле, что нельзя было бы установить никакого различия, но это движение состоит в том, что некоторое различие, конечно, проводится, но так как это различие не есть различие, то оно опять-таки снимается. - Итак, вместе с объяснением перемена и смена, которые прежде были вне “внутреннего”, были только в явлении, проникли в само сверхчувственное; но наше сознание из внутреннего как предмета перешло на другую сторону - в рассудок и в нем находит смену.”(2,4,85)
Охарактеризуем точно тот пункт, в котором находится феноменологическое движение, поскольку именно в этом пункте, на мой взгляд, сознание переходит к конституированию тех структур предметности, которые сольются вскоре в “бесконечность”, и, следовательно, именно через этот пункт нужно было бы провести разделительную линию, если бы мы захотели по возможности точно разграничить формообразования, полагающие реально-философскую предметность, от того формообразования, которое конституирует уже структуры спекулятивной, логической предметности.
Итак, сознание в “объяснении” окончательно преодолело связь с “явлением” как противоположным “внутреннему” и осталось один на один с “внутренним”, поэтому сознание теперь целиком пребывает в сфере мысли и, значит, во-первых, движение из “явления” перешло во “внутреннее”, а из-за отсутствия “препятствий” в нем (оно же “пусто”) - получило характер абсолютного движения (оно противоположно себе самому, является “чистой сменой”, т.е. структурно совпадает с “ожидаемой” вот-вот “бесконечностью”), а, во-вторых, “наше сознание” склонно пока интерпретировать это движение как движение сознания (“самого сознания”, рассудка), а не движение предмета, или всего формообразования в целом, склонно интерпретировать его именно как “объяснение”.
Последнее предубеждение рассудка, однако, исчезает: “Так как понятие как понятие рассудка есть то же, что “внутреннее” вещей, то эта смена (абсолютное движение, о котором упоминалось выше, - В.К.) становится для рассудка законом “внутреннего””(2,4,85). Будучи чистой сменой или
“моментальным” переходом всякого определения в противоположное, это движение разделяет предмет - теперь уже чисто мысленный предмет, закон оставленного явления или достигнутую наконец “внутреннюю необходимость закона” - на две части или противоположные стороны.
Вследствие этого “первое сверхчувственное, покоящееся царство законов, непосредственное отображение воспринимаемого мира (т.е. “внутреннее”, которое еще соотносилось с явлением и было чуждо движения, - В. К.) обращается в свою противоположность; закон был вообще тем, что остается себе самому равным, точно так же, как и его различия; но теперь (после преодоления “явления”, установления чистой смены во “внутреннем” и отказа “самого сознания” воспринимать эту смену только как свое движение, - В.К.) установлено, что и то, и другое составляют противоположность самому себе; равное себе отталкивается от себя, а себе неравное, напротив, устанавливается как равное себе. На деле только при этом определении различие есть внутреннее различие, или различие в себе самом, так как равное не равно себе, а неравное - равно себе. - Этот второй сверхчувственный мир есть таким образом мир наизнанку, а именно (поскольку одна сторона уже имеется в первом сверхчувственном мире) - перевернутый мир этого первого мира. Тем самым “внутреннее” как явление завершено. Ибо первый сверхчувственный мир был лишь непосредственным возведением воспринимаемого мира во всеобщую стихию; он имел свой необходимый противообраз в воспринимаемом мире, еще удерживавшем для себя принцип смены и изменения; первому царству законов недоставало этого принципа, но он получает его в качестве мира наизнанку.”(2,4,86)
Таким образом, движение, которое прежде - в форме “объяснения” - жило в рассудке, перенесено теперь в предмет. Гегель возражает против того, чтобы считать мир наизнанку сущностью первого сверхчувственного мира, который, якобы, есть некоторое его явление: “Таких противоположностей внутреннего и внешнего, явления и сверхчувственного, как двоякого рода действительности здесь уже не имеется. Отталкиваемые различия не распределяются снова между двумя такими субстанциями, которые были бы их носителями и сообщали бы каждому из них отдельно устойчивое
существование ...”(2,4,87). Вспомним, что с выступлением “второго сверхчувственного мира” “внутренее” как явление оказалось завершенным, т.е. оно теперь уже не требует какого-то дополнительного, внешнего себе, явления или явления, которое не было бы в точности им самим, - потому что оно само и есть явление - структурно: потому что движение, которое прежде реализовывалось как движение “сущность-явление”, теперь само перешло в сущность, “внутреннее”, благодаря чему оно и оказалось завершенным явлением. Заметим, что “явление”, таким образом, лишь указывает на наличие структуры рефлексии, “внешность” же, “вещь в себе” используется сознанием лишь до тех пор, пока структура эта не может воспроизводиться сознанием самостоятельно, без помощи сущего, которое сознание представляет внешним себе. - Выступление этого момента, видимо, можно считать и принципиальным завершением в рамках “Феноменологии духа” полемики с точкой зрения “Критики чистого разума”.
Второй сверхчувственный мир - это предмет, который порождает абсолютную инаковость в себе, и - в силу завершенно-бесконечного ее опосредования - он и тождествен этой инаковости, поэтому для своего движения он ни в какой внешней себе инаковости не нуждается. Структура этого предмета - “бесконечность”.
Посмотрим, как характеризует Гегель эту структуру. Для достижения “бесконечности” необходимо “воспроизвести и постичь это абсолютное понятие различия как внутреннего различия” (2,4,88). Надо мыслить чистую смену, или противоположение внутри себя самого, (т.е.) противоречие.”(2,4,88) “... Оно есть противоположное некоторому противоположному, или: “иное” само непосредственно имеется в нем”(2,4,88).
О “втором сверхчувственном мире”, структурой которого является “бесконечность”, Гегель говорит, что “он для себя есть мир наизнанку, т.е. обратный себе самому; он есть сам этот мир и ему противоположный мир в одном единстве. Только таким образом сверхчувственный мир есть различие как внутреннее различие, или различие в себе самом, или есть в качестве бесконечности.”(2,4,88) Моменты внутреннего различия “имеют свое “иное” в себе и суть лишь одно единство”(2,4,89). “Бесконечность” “сама составляет все
различия, как и их снятость, следовательно, пульсирует внутри себя, не двигаясь, трепещет внутри себя, оставаясь спокойной. Она равна себе самой, ибо различия тавтологичны; это различия, которые не есть различия. Эта себе самой равная сущность соотносится поэтому только с самой собой.”(2,4,89) О каждой из различенных сторон внутреннего различия, или “бесконечности”, Гегель говорит: “Оно не есть противное некоторому “иному”, а есть только чистое противное; таким образом, оно, следовательно, в самом себе есть противное себе. Или оно вовсе не есть противное, а есть только для себя, есть чистая себе самой равная сущность, которая не имеет в себе никакого различия.”(2,4,89) Бесконечность есть “абсолютный непокой чистого самодвижения, заключающегося в том, что что определено каким-либо образом, например, как бытие, есть скорее то, что противоположно этой определенности ...”(2,4,90). Последний пример, конечно, очевиднейшим образом указывает на генетически-структурное родство Феноменологии и Логики.
Все приведенные характеристики “бесконечности”, разнообразные и черезвычайно выразительные, свидетельствуют не только о силе интуиции бесконечности у Гегеля, но и о том, что достижение “бесконечности” является самым важным событием во всем феноменологическом движении. Все прежнее движение формообразований сознания стремилось к этому открытию, Гегель и сам прямо говорит об этом (см.:2,4,90-91). Он замечает здесь, что свободно “бесконечность” выступает в “объяснении”, в связи с чем мы и попытались представить этот пункт как решающий этап эволюции рассудка к спекулятивным структурам логической предметности.
Выступление “бесконечности” означает, что процесс усложнения и конкретизации соотношения сознания и предмета достиг максимума, феноменологическое движение в одном из “кругов” завершилось, стало абсолютным движением или ... совпало с покоем. Но какое сознание достигло здесь, в “первом круге”, цели феноменологического движения ? - Я утверждаю, что понятия бесконечности достигает здесь не “само сознание”, а только “наше сознание”. Только “нашему сознанию” здесь открывается, что его действительный предмет
- “бесконечность”. “Само сознание” еще не видит того, что оно опосредует свой предмет по модели “бесконечности”, его предмет (“предмет”) “бесконечностью” еще не стал.71 Послушаем философа: “Это движение (к “бесконечности”, - В.К.) или эта необходимость в таком виде есть еще необходимость и движение рассудка, или оно как таковое не есть предмет рассудка, а предметы для него в этом движении суть положительное и отрицательное электричество, расстояние, скорость, сила притяжения и тысяча других вещей, составляющих содержание моментов движения.”(2,4,91) “Хотя в противоположном законе как изнанке первого закона, или во внутреннем различии бесконечность сама становится предметом рассудка, но последний опять не достигает ее как таковой, поскольку он опять разделяет различие в себе - самоотталкивание одноименного и взаимное притягивание неодинакового - на два мира или на две субстанциальные стихии.”(2,4,91) “То, что для рассудка (для “самого сознания”, - В.К.) есть предмет в чувственной оболочке (некий сущий субстрат, по отношению к которому бесконечно опосредствующие друг друга противоположности - его “предикаты”, - В.К.), есть для нас (для “нашего сознания”, - В.К.) в его существенной форме, как чистое понятие (т.е. “наше сознание” постигает формально тот же предмет, тот же субстрат, но в его существенной форме - форме чистого понятия,- т.е. усматривает в его движении “бесконечность”, - В.К.). Это постигание различия, как оно есть поистине, или постигание бесконечности как таковой есть для нас или в себе.”(2,4,91)
Прежде нам уже встречалось выражение, согласно которому “для нас”=“в себе”, но теперь оно встретилось нам в важнейшем месте, применительно к первому выступлению “бесконечности”, и мы должны разъяснить, почему это так, почему “для нас”=“в себе”. Для “нашего сознания” это содержание уже выступило, стало “нашим” предметом, а для “самого сознания” - оно еще “в себе”. “Странность” феноменологической ситуации заключается в том, что это “в себе” “самого сознания” - оно само. Для него уже выступили все определенности, но оно не видит еще того, “кто” эти определенности созерцает, и в “чем”, следовательно, они
снимаются, не видит, что то целое, по отношению к которому определенности выступают, - это оно же само, самосознание.72
Выступление “бесконечности” - последняя ступенька движения к самосознанию, “бесконечность” - чистая логическая структура самосознания, логическое содержание, которому в качестве прототипа феноменологического формообразования соответствует самосознание, “я” в трансцендентальном смысле.73 Но, снова, какое сознание становится здесь самосознанием ? - После того, как мы определили феноменологический коррелят “бесконечности” на этом этапе движения, ответ на этот вопрос очевиден. В качестве самосознания здесь пока выступило только “наше сознание”, но не “само сознание”. Так как “бесконечность в том виде, как она есть, есть предмет для сознания, то сознание (“наше сознание”, - В.К.) есть самосознание”(2,4,90). “Так как для сознания (“нашего сознания”, - В.К.) это понятие бесконечности есть предмет, то, следовательно, оно есть сознание различия как некоторого различия, столь же снятого; оно есть для себя самого, оно есть различие неразличенного или самосознание. Я различаю себя от себя самого, и в этом непосредственно для меня дано то, что это различенное неразличено. Я, одноименное, отталкиваю себя от себя самого; но это различенное, установленное как неодинаковое, будучи различено, непосредственно не есть различие для меня.”(2,4,91) “Необходимое продвижение от первых формообразований сознания, для которых их истинное было некоторой вещью, некоторым “иным”, нежели они сами, выражает именно то, что не только сознание о вещи возможно лишь для самосознания, но что только это последнее есть истина этих форм. Но эта истина имеется только для нас, а еще не для сознания (выделено мной, - В.К.). Самосознание возникло сначала для себя (такое замкнувшееся на себя самосознание станет предметом рассмотрения в IV главе “Феноменологии”, - В.К.), а еще не как единство с сознанием вообще.”(2,4,91)
Достижение в ходе феноменологического движения “бесконечности” непосредственно выявляет трансцендентальную природу “Феноменологии” и гегелевской философии вообще. На подобные разоблачения “объективности” Гегель будет обращать внимание всякий раз,
когда перед сознанием снова (в завершении последующих “кругов”) будет выступать “бесконечность”. Гегель пишет: “Выявляется, что за так называемой завесой (явлением,- В.К.), которая должна скрывать “внутреннее”, нечего видеть, если мы сами не зайдем за нее, как для того, чтобы тем самым было видно, так и для того, чтобы там было что-нибудь, на что было бы смотреть.”(2,4,92)
Предмет сам по себе не обладает никакой определенностью, и всякая определенность его есть результат того, что сознание уже перенесло на него определенность структур своей деятельности, - об этом уже говорит “Критика чистого разума”, - более того: что сознание конституировало эту определенность и как сущее, здесь, в конце “первого круга” - как сущее самосознание, “жизнь”, - а вот это уже позиция “Феноменологии духа”.
Итак, “наше сознание” поднялось до уровня самосознания, или структура его предмета выявила для него свою структуру “бесконечности”. Тем самым замкнулся “первый круг” “Феноменологии”, т.е. цель феноменологического движения оказалось достигнутой, хотя достигнута она пока только “нашим сознанием”. Согласно общей концепции “Феноменологии”, этот же путь (“этот же”, конечно, лишь формально-структурно) должно пройти “само сознание”, что составит “второй круг” “Феноменологии”. Однако с точки зрения формы соотношения сознания и предмета оба “круга” “Феноменологии” тождественны, поэтому для нас нецелесообразно ждать завершения всего феноменологического построения для того, чтобы эксплицировать понятие бесконечности. Напротив, контекст нашей работы, в которой исследуется прежде всего специфика структур логической и реально-философской предметности, требует эксплицировать понятие бесконечности как ту точку отсчета, по отношению к которой эти структуры и могут быть охарактеризованы. Кроме того, экспликация “бесконечности” значима и для дальнейшего рассмотрения “Феноменологии”, поскольку “бесконечность” выступает в каждом “круге” как цель феноменологического движения, и для понимания самого существа гегелевской философии, ведь актуальное мышление “бесконечности” и есть, собственно, спекулятивное мышление,
т.е. для Гегеля - сама философия. Сам Гегель, несмотря на все его экспрессивные описания
“бесконечности”, замечает, что “разъяснение ее (бесконечности, - В.К.) понятия - это дело науки (т.е. Логики, - В.К.)”(2,4,91), и к анализу понятия бесконечности в “Логике” мы теперь и должны будем обратиться. Заметим, что этот переход от “Феноменологии” к “Логике” может быть охарактеризован в нескольких планах, с нескольких точек зрения. С точки зрения рассмотрения понятия бесконечности, мы переходим от становления “бесконечности” к ее реализации, с точки зрения будущей “Логики”, достижение “бесконечности” в ходе феноменологического движения (в любом из его “кругов”) означает полагание сознанием спекулятивной предметности (логической идеи), а тем самым и снятие предметности реальной философии (таковы действительные отношения между Логикой и реальной философией, если рассматривать их в связи с порождающей их предметность Феноменологией), и мы переходим, следовательно, к рассмотрению самодвижения логической идеи, - т.е., рассмотрев формирование предмета Логики, мы пепреходим теперь к рассмотрению ее метода, - с точки зрения же “Феноменологии”, т.е. той точки зрения, которой мы пока по большей части держались, наш переход к анализу “Науки логики” означает попытку раскрыть логическое содержание главного принципа “Феноменологии” - принципа бесконечности. Прежде, однако, мы должны будем вкратце остановиться на тех фрагментах дполонительных текстов “Логики”, которые имеют отношение к пониманию связи между “Феноменологией духа” и “Наукой логики”. Видимо, это целесообразно постольку, поскольку заключения о философии Гегеля часто делаются именно на основании этих текстов, - будто Гегель и не вспоминал о “царском пути” в философии !
4. Общая характеристика соотношения “Феноменоло-гии духа” и “Науки логики”.
Имманентное рассмотрение гегелевской философии, т.е. рассмотрение, которое могло бы ограничиться только содержанием гегелевской мысли, в достигнутом нами пункте уже должно было бы переходить к характеристике содержания “Науки логики”. Однако, отношения между “Феноменологией” и “Логикой”, сами по себе, на мой взгляд, очень простые и ясные, в силу различных обстоятельств обросли множеством искажающих их недоразумений и мифов. Поэтому мы вынуждены будем еще специально задержаться на характеристике этих отношений, но это будет уже, конечно, характеристика, внешняя для самих “Феноменологии” и “Логики”. Впрочем, сам философ, испытывая, как известно, стойкую нелюбовь к предисловиям, которые неизбежно оказываются рассудочными и внешними действительному развитию содержания, а, следовательно, состоят из “заверений”, - словечко это Гегель всегда выписывал с демонстративным презрением - не отказывался все же от составления предисловий, поскольку понимал, видимо, неизбежность использования и внешних указаний для формирования правильного понимания своих произведений. И мы должны будем прокомментировать некоторые фрагменты предисловий, написанных Гегелем к Большой Логике и Малой Логике, фрагменты, которые могут прояснить рассматриваемый нами вопрос.
Вспомним прежде всего, что “Феноменология” формирует трансцендентальную предметность различных степеней сложности (конкретности, глубины опосредования). Структура предельно сложной предметности - “бесконечность”. Логика представляет собой описание этой предметности самой по себе. Она же - и свободное движение этой предметности, поскольку это не некая “иная” по отношению к сознанию предметность, а его же собственная чистая структура.
К сожалению, это простое положение дел далеко не всегда описывается адекватно в специальной литературе. В отечественной литературе последних десятилетий преобладает мнение, согласно которому в “системном мышлении” философа после написания “Феноменологии духа” произошел
некий “разрыв”, и формирование так называемой зрелой, т.е. энциклопедической, системы происходило уже на новой, “логической”, основе.
Приведем здесь в качестве примера несколько фрагментов из книги Н.В.Мотрошиловой “Путь Гегеля к “Науке логики””, в которой формулируется эта точка зрения.74 “”Феноменология духа” ... оказалась переходным этапом, после которого снова начались поиски оснований системы.”(32,118) “Гегель после создания “Феноменологии духа” будет существенно иначе понимать идею системности и пойдет по другому пути в организации собственной системы философии.”(32,118) “На закате своей жизни Гегель придавал “Феноменологии духа” скорее то значение, что она знаменовала утреннюю зарю его творчества и что была тесно связана с идейно-философской ситуацией начала века, став ее свидетельством. Эта авторская оценка обусловлена главным образом изменившимся характером зрелой философской системы Гегеля, но также - о чем забывают некоторые гегелеведы, захлебывающиеся от восторга, когда пишут о “Феноменологии духа”, - существенными недостатками теоретического характера ( ? - В.К.), которые выявляются не только в свете более поздних идей, концепций, методологических решений, но и при сопоставлении одних положений Гегеля с другими, объявленных самим автором целей и способов их реализации, достигнутых результатов.”(32,119) “Мы констатировали тот факт ( ? - В.К.), что здание гегелевской системы росло дальше не на фундаменте феноменологии (а ведь для этого он был заложен).”(32,224) “В Нюрнберге Гегель выбрал логику в качестве основания системы, идеалистический логицизм - в качестве ее метафизического, онтологического фундамента, логический принцип системности - в качестве своего рода диалектико-логической системной парадигмы, победившей другие, ранее рассмотренные варианты системного мышления.”(32,229)
То же мнение о соотношении “Феноменологии” и “Логики” высказывает и М.Ф.Быкова, она пишет: “Необходимо иметь ввиду, что “дедуцирование” чистой сущности (имеется ввиду конституирование спекулятивной предметности, логической идеи, - В.К.) отнюдь не означает решения
проблемы начала логики. Именно в том и состоит, по ммысли Гегеля, научность логики, что она только своим собственным развитием обосновывает свое начало, его содержательность. (Ниже мы прокомментируем фрагмент Гегеля, который дает повод для этого недоразумения. - В.К.) Феноменология никогда не достигала начала или бытия как такового. Она есть лишь восхождение от представления к точке зрения мышления, “очищение” мышления от “плевел” являющегося духа. Бытие же, как содержание начала, есть уже само в-себе-сущее мышление. И в этом смысле “Феноменология” - это лишь подготовительное движение, а не особая наука, формирующая все дальнейшее развертывание знания.”(12,60)
Как видим, отрыв Логики от Феноменологии достигает здесь какой-то предельной черты. Не говоря даже о тех трудностях, которые неизбежно возникают в “Энциклопедии”, когда ее пытаются рассматривать без “Феноменологии” (М.Ф.Быкова, кстати, и не упоминает о них в своем исследовании), следовало бы спросить, откуда же берется предметность Логики, ведь ее дальнейшее спонтанное движение показывает, что это какой-то совсем особый предмет, он, как предмет, в-себе-бытие, уже имеет сложную конструкцию, структуру, замыкающую в себе определенный процесс ее становления. Нам уже ясно, что эта особая подвижность “бытия” - подвижность достигаемой в каждом феноменологическом “круге” “бесконечности”. Но даже если и не доходить до “бесконечности” как завершения структурной эволюции феноменологических формообразований, должно быть все же понятно, что предмет этот как-то возник, что он был сконструирован. И сконструирован он мог быть только в “Феноменологии”.
Но представленная точка зрения выглядит еще более странной, а ситуация - почти комичной, - от того, что М.Ф.Быкова сама же цитирует в своем исследовании (см.:12,42) фрагмент из “Жизни Гегеля” К.Розенкранца, в котором говорится, что в летнем семестре 1806 года Гегель читал лекции по логике только в связи с феноменологией (как жаль, что он не поступал так мудро и в дальнейшем !), а именно: от понятия абсолютного знания он непосредственно переходил к понятию бытия.
Обратимся теперь к рассмотрению тех дополнительных фрагментов текста “Логики”, которые имеют отношение к прояснению связи “Феноменологии духа” и “Науки логики”, но которые по методологическим основаниям уже не будут привлекаться для специального анализа основного содержания “Наки логики” во второй главе нашего исследования. Прежде всего следует отметить, что в предисловии к первому изданию “Науки логики” (март 1812 г.) Гегель ссылается на предисловие к “Феноменологии духа” (январь 1807 г.) как на текст, полностью сохраняющий свое значение, что, очевидно, не согласуется с положением о “разрыве” в “системном мышлении” филосоыа между 1807 и 1812 годами. Он повторяет, например, высказанное тогда положение, согласно которому философия не может заимствовать свой метод у математики (см.:1,1,78), дает характеристику духа как истины разума, поскольку он есть завершение диалектического движения рассудка, отрицающего “простое” (имеются виду сферы чувственной достоверности и восприятия), отрицательного разума и положительного разума, - движения, которое создает “всеобщее, которое конкретно внутри себя”(1,1,79). Замечательно, что это “духовное движение” (представленное уже в “Феноменологии духа”) Гегель прямо называет “абсолютным методом познания”(1,1,79), т.е. тем предметом, который в своей чистой определенности изображается в “Логике”. Уже из этих замечаний можно сделать заключение, что никакой принципиальной границы между “Феноменологией” и “Логикой” нет. Самое главное, далее в этом предисловии (см.:1,1,79-80) Гегель говорит, что “Феноменология духа” готовит предмет “Логики”, поскольку сознание в Феноменологии “становится чистым знанием, дающим себе в качестве предмета ... чистые сущности, как они суть сами по себе”(1,1,79), а самодвижение этих чистых сущностей (т.е. просто категорий) “представляет собою то, что конституирует науку и изображением чего она является”(1,1,79).
Разве можно выражаться понятнее ? Гегель говорит, что эти указания описывают “внутреннее”, т.е. содержательное и
существенное, отношение между Феноменологией и Логикой. Далее он говорит о внешнем, формально-систематическом отношении между ними. (Следует заметить, что в литературе обсуждается почти исключительно только это последнее.) В 1806-1807 годах, когда печаталась “Феноменология”, Гегель полагал, что второй частью “системы наук” станет совокупность Логики и реальной философии. Это намерение Гегеля хорошо понятно с точки зрения нашей интерпретации “Феноменологии духа”. В самом деле, после “Феноменологии”, которая описывает отношения различных формообразований сознания и структур предметности, должно быть дано описание самих этих предметных сфер без соотношения с породившим их трансцендентальным сознанием. Конкретно речь идет о двух высших ступенях каждого из изоморфных “кругов” “Феноменологии”, порождающих два наиболее сложно структурированных типа предметности - логическую идею и предмет реальной философии, или природу и дух.
Первая часть “системы науки”
Вторая часть “системы науки”
“КРУГ” 2
феномелогического движения
ЛОГИКА
1
РЕАЛЬНАЯ
ФИЛОСОФИЯ
1. - Тождественные по структуре формообразования,
конституирующие природу и дух как предмет реальной философии.
2. - Тождественные по структуре формообразования, конституирующие логическую идею.
В 1812 году Гегель заявляет, что пока он выполнил
только часть своего намерения относительно создания второй половины “системы наук”, разработал только “Логику”. Но от самого намерения он не отказывается, об этом нет ни слова, т.е. в “системных построениях” Гегеля в период между 1806 и 1812 годами ничего не изменилось, никакого “разрыва” между “Феноменологией” и “Логикой” нет. Что же касается продолжения работы над “системой науки”, то и здесь мы не встречаем в 1812 году каких-либо изменений позиции мыслителя в сравнении с 1807 годом: Гегель прямо говорит о своем намерении разработать позднее обе реальные философские науки. Одним словом, “Логика” - прямое продолжение “Феномено-логии”, а реальная философия, предметность которой также была конституирована в “Феноменологии духа”, вполне может быть мыслима как вторая (наряду с Логикой) описывающая движение особого уровня предметности философская наука.
Почему же, однако, когда “Энциклопедия”, излагающая и Логику, и реальную философию, пусть и не в виде теоретического трактата, а хотя бы в виде учебника, появилась, никто, в том числе и сам Гегель, не вспомнил, что тем самым оказалось реализованным давнее намерение относительно создания второй части “системы науки” ? Следует прямо признать, что идея “системы науки” в том виде, в каком Гегель сформулировал ее в Йене, к этому времени (1816 г.) основательно деградирует в сознании самого философа. Гегель постепенно “забывает” ( ?! ) “Феноменологию”, хотя объективно - и именно реконструкцией этой объективности мы и занимаемся внашем исследовании - Феноменология присутствует и в энциклопедической системе, поскольку без своего предметно-уготовляющего основания невозможны ни Логика, ни реальная философия.
Этому почти немыслимому забвению “Феноменологии” самим ее автором способствует то, что Гегель не читает лекционного курса по феноменологии (она чисто технически, по уровню своей сложности, не может быть предметом университетского, тем более, гимназического, образования), о “Феноменологии” вообще мало кто знает из тех людей, которые окружают теперь Гегеля, - за исключением, видимо, Дауба, Габлера и, позднее, Хинрихса. Ну разве не является в этих условиях психологически понятным столь невероятное забвение ? А, в то же время, Логика и реальная философия, оставленные без своего действительного источника и основания, срастаются противоестественным “переходом”, и вот “система Гегеля”, как она всем известна, готова !
Повторим этот важнейший пункт, характеризующий взаимоотношения Логики, реальной философии и Феноменологии, еще раз, но теперь уже с учетом обсуждавшихся выше вопросов о месте реальной философии в системе Гегеля и о возникновении темы “перехода”. На протяжении повествования “Феноменологии духа” и “Науки логики” философ и читатель поднимаются от “первого для нас” к “первому самому по себе”. В “Логике” это движение завершается. Поэтому переход от Логики к реальной философии оказывается событием, не являющимся естественным для самой мысли, чего и не удалось скрыть
философу. Можно сказать, что собственно “система философии” состоит у Гегеля только из двух частей - Феноменологии и Логики. Однако, Феноменология формирует, как мы видели, и предметность реальной философии, но только предметность эта в феноменологическом движении лежит не “после” логической идеи, а “до” нее, она расположена не “выше”, а “ниже” предмета Логики. Поэтому “переход” из логической идеи в природу совершить нельзя, но мыслить природу и дух как предмет феноменологического формообразования, который способен стать объектом специальной философской науки, конечно, можно. Стремление же (необходимость ?) говорить о “переходе” возникла у Гегеля из-за непродуманности вопроса о предмете Логики и предмете реальной философии. Забвение “Феноменологии” - действительной связи между “Логикой” и реальной философией - требовало установить хотя бы какую-то связь между ними, и Гегель выстроил энциклопедические дисциплины в последовательность. Так возник немыслимый “переход” от одного мыслимого предмета к другому, также вполне мыслимому, предмету.
Забвение переходов (1) и (2) заставило Гегеля говорить о невозможном переходе (3)
“круг”
“Фено-
2
ЛОГИКА
меноло- 3 гии
духа” 1 РЕАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИ
Задержимся еще на данном Гегелем в 1812 году обещании
разработать и реальную философию в качестве теоретического трактата. Ссылаться на недостаток времени, оправдывая Гегеля за то, что он этого обещания так и не выполнил, невозможно: Гегель прожил еще почти двадцать лет и, случалось, тратил чернила и по менее значительным поводам. Видимо, внутреннее чувство все-таки говорило философу, что о
реальной философии невозможно говорить столь же обстоятельно, как и о Логике. Это в конечном счете лишь предфилософия, даже парафилософия: она использует философские понятия для создания образа чувственного мира - того объекта, который на самом деле в своей непосредственности предметом философии не является. Действительный предмет философии - адекватно, т.е. понятийно, помысленный дух, логическая идея. “Мир”, предмет реальной философии, - это, конечно, та же идея, но выраженная бесконечно-определенной мыслью лишь частично, а именно, выраженная настолько, насколько при этом используются философские категории, или насколько позволяет та глубина опосредования, которая свойственна построенной сознанием реально-философской предметности.
Трагизм гегелевской философии заключается, однако, не в существовании наряду с “философией” еще и “парафило-софии”, а в том, что связь с Феноменологией, породившей и Логику, и реальную философию, затуманилась и стушевалась в сознании философа, и вследствие этого они, оставшись без своего действительного основания, вынуждены были объединиться немыслимым переходом в противоестественном (без Феноменологии) конгломерате “Энциклопедии”. Покажется ли после этого легким труд “гегелеведов”, обосновывающих необходимость “перехода” и спекулятивное преимущество “Философии духа” перед “Феноменологией” и “Логикой” ?
Во Введении к “Науке логики” мы также находим вполне ясное выражение тех внутренних отношений, которые связывают “Феноменологию” и “Логику”. Послушаем философа: “В “Феноменологии духа” я представил сознание в его поступательном движении от первой непосредственной противоположности между ним и предметом до абсолютного знания. Этот путь проходит через все формы отношения сознания к объекту и имеет своим результатом понятие науки. (Как же еще понятнее мог Гегель выразить необходимость Феноменологии для Логики ? - В.К.) Это понятие, следовательно, (независимо от того, что оно возникает в рамках самой логики) (выделено мной, это замечание Гегеля я специально разъясню ниже, - В.К.), не нуждается здесь (в
“Логике”, - В.К.) в оправдании, так как оно его получило уже там (в “Феноменологии духа”, - В.К.); и оно не может иметь никакого другого оправдания, кроме этого его порождения сознанием, для которого все его собственные образы разрешаются в это понятие как в истину. (Интересно даже, как смогли бы прокомментировать это утверждение Гегеля исследователи, заявляющие, будто Гегель отказался от “феноменологической модели” построения системы, т.е. от Феноменологии как первой части философскойсистемы. - В.К.) Резонерское (видимо, следовало бы перевести “рассудочное”, поскольку речь идет об обосновании, которое могло бы быть дано во введении, т.е. о внешнем содержанию, неимманентном, обосновании, - В.К.) обоснование или разъяснение понятия науки может самое большее привести лишь к тому, что понятие станет объектом представления и о нем будут получены исторические сведения; но дефиниция науки, или, точнее, логики, имеет свое доказательство исключительно в указанной необходимости еепроисхождения.”(1,1,101-102)
И далее Гегель резюмирует: “Итак, в настоящем произведении понятие чистой науки и его дедукция берутся как предпосылки постольку, поскольку феноменология духа (здесь, видимо, указана философская наука, а не произведение, - В.К.) есть не что иное, как дедукция его. Абсолютное знание есть истина всех способов сознания, потому что, как показало (описанное в “Феноменологии духа”) движение сознания, лишь вабсолютном знании полностью преодолевается разрыв между предметом и достоверностью самого себя, и истина стала равной этой достоверности, так же как и эта достоверность стала равной истине.”(1,1,102)
Комментировать здесь, собственно говоря, просто нечего, кроме выделенного мной замечания Гегеля, которое, по-видимому, намекает на некий альтернативный способ возникновения понятия Логики и тем самым способствует появлению представленных ошибочных мнений о характере отношений между Феноменологией и Логикой. Разберемся, однако, внимательно в том, что на самом деле имеет ввиду здесь философ. Прежде всего обратим внимание на то, что пишет Гегель в самом начале Введения, на мой взгляд, речь там идет о том же самом. Гегель говорит, что в содержание Логики
“входит не только указание научного метода (о чем Гегель уже упоминал в тексте чуть выше, - В.К.), но и вообще само понятие науки, причеи это понятие составляет ее конечный результат: она потому не может заранеесказать, что онатакое, что лишь все ее изложение порождает это знание о ней самой как ее итог (Letztes) и завершение. И точно так же ее предмет, мышление или, говоря определеннее, мышление, постигающее в понятиях, рассматривается по существу внутри нее; понятие этого мышления образуется в ходе ее развертывания и, стало быть, не может быть предпослано.”(1,1,95-96)
Когда мы будем рассматривать во второй главе нашего исследования завершение “Науки логики”, то встретимся со структурой “обращения”, существенный смысл которой состоит в том, что предшествующее в ходе спекулятивного движения, абстрактное, на деле может быть понято только из последующего, конкретного (ведь онтологической значимостью у Гегеля обладает максимально конкретное - Понятие, Идея, Дух). Так, например, предмет Логики, ближайшим образом, ее начало, т.е. “бытие”, на деле есть не то абстрактное бытие, о котором говорится в самом начале, а есть в конечном счете конкретнейшее, абсолютная идея. “Предмет” есть “бытие” или “в-себе-” абсолютной идеи, но вот чтобы принять это “в себе”, нужно уже знать и “для-себя”. Что есть предмет, в-себе-бытие, мы на деле узнаем только тогда, когда постигаем этот предмет в его отношении к идеалу, пределу его становления, его завершению и “свершению”.
Именно на это и указывает Гегель, когда говорит, что понятие науки - помимо его конституирования в Феноменологии - возникает в рамках самой Логики, так как на протяжении “Логики” мы постигаем лишь то, что есть “бытие”, ее абстрактное начало. Но следует, конечно, помнить, что “бытие” абстрактно только в совершенно определенном смысле, по отношению к последующим категориям “Логики”. Как особая предметность, как в-себе-бытие в ряду других образов в-себе-бытия, оно предельно конкретно, оно сконструировано в соответствии с максимально сложной структурой опосредования сознанием “иного” - в соответствии с “бесконечностью”, именно поэтому оно спонтанно движется, движется вплоть до своего конкретнейшего завершения, идеала
- абсолютной идеи, ведь в себе, в качестве особого типа предметности, она уже есть это конкретнейшее.
Наивные вопросы, через которые проходит всякий читатель “Науки логики”, например, почему же “вдруг” “бытие” начинает двигаться, совпадает с “ничто”, в результате чего возникает “становление” и т.д., рождаются, конечно, из-за неспособности читателя “Науки логики” с самого начала принимать эту изначально уже конкретную предметность Логики. “Феноменология” и должна учить этому, читатель, прошедший школу “Феноменологии”, легче и яснее сможет представить эту особенность логического движения.
Нам же, в свою очередь, теперь совершенно понятно, что это становление, или раскрытие, предмета Логики в рамках самой “Логики” не может заменить его изначального, феноменологического, построения. Это просто совершенно разные процессы. Именно это обстоятельство и следовало бы учесть тем интерпретаторам Гегеля, которые перенимают мнение, будто Логика (без Феноменологии) сама является неким самообосновывающимся основанием системы. На самом же деле, в одном случае (Феноменология) речь должна идти о действительном основании системы - о конструировании предметности, из которой органически вырастает ее конкретнейшее завершение, а в другом случае (Логика) - о даваемом “спекулятивным воспоминанием” конкретном постижении этой предметности с точки зрения ее достигнутого завершения, т.е. об обосновании системы. Не думаю, что это довольно подробное разъяснение способно показаться излишним потому, что относится оно к одному взятому в скобки беглому замечанию Гегеля. Я хочу показать, что реально Гегель нигде не отходит от результатов “Феноменологии”, что объективно, независимо даже от своих заявленных намерений, движение Логики и реальной философии основывается все-таки на Феноменологии.
Во Введении присутствует еще одно упоминание о “Феноменологии”, но теперрь уже в контексте замечаний о методе философии. Сначала Гегель вспоминает, что еще в предисловии к “Феноменологии” говорил о неприменимости метода математики в философии (см.:1,1,107), а затем указывает на феноменологическое происхождение одного из
важнейших элементов диалектического метода - принципа конкретного отрицания: “В “Феноменологии духа” я дал образчик этого метода (философского, диалектического метода, - В.К.) применительно к более конкретному предмету, к сознанию (“конкретный” здесь у Гегеля значит не спекулятивно-конкретный, как обычно, а чувственн-конкретный, связанный с предметно-чувственной определенностью, - В.К.). Там я показал формы сознания, каждая из которых при своей реализации разрешает (aufloest) в то же время самого себя, имеет своим результатом свое собственное отрицание, - и тем самым перешла в более высокую форму.”(1,1,107) Повторим, таким образом, что между “Феноменологией” и “Наукой логики” никакого “разрыва” обнаружить невозможно, Логика реально является продолжением той философии, начало которой положила Феноменология, и Гегель сам осознает это, т.е. в 1812 году Гегель еще остается полностью верным опыту “Феноменологии”, о чем неоспоримо свидетельствуют разобранные нами фрагменты дополнительных текстов “Науки логики”.
Обратимся теперь к рассмотрению дополнительных текстов первой части “Энциклопедии”, Малой Логики. Выше мы признали, что появление “Энциклопедии”, в которой Феноменология оказалась сведенной к фрагменту о трех отношениях мысли к объективности, знаменовало собой начало “процесса забвения” Феноменологии как первого элемента системы философии. Тем не менее, Феноменология и в Гейдельберге не только объективно остается фундаментом гегелевской философии, но, более того, Гегель в “Энциклопедии” и непосредственно вспоминает о “Феноменологии” и делает очень интересные замечания, которые мы должны прокомментировать. Именно, достойный внимания фрагмент мы находим в разделе “Предварительное понятие”, он непосредственно предшествует рассмотрению отношений мысли к объективности. Вот он: “В моей “Феноменологии духа”, которая потому и была обозначена как первая часть системы науки, я начал с первого простейшего явления духа, непосредственного сознания, и развивал его диалектику до точки зрения философской науки,
необходимость которой доказывается этим движением. (Гегель, как видим, не только не отказывается от “Феноменологии”, но и поясняет, почему она вышла с таким подзаголовком: она доказывала необходимость точки зрения философской, спекулятивной, науки, т.е. Логики. - В.К.) Но при выполнении этой задачи я не мог, однако, остановиться на формализме голого сознания, ибо точка зрения философской науки наиболее содерджательна и наиболее конкретна в себе (Видимо, Гегель хочет сказать, что он не мог ограничиться только описанием форм соотношения сознания и предмета, но вынужден был также частично давать описание самих предметных сфер, чем вообще-то должны заниматься уже Логика и реальная философия, которые Гегель в йенский период намеревался представить, как мы видели, в качестве второй части “системы науки”. - В.К.); будучи результатом предшествующих ступеней (эволюции сознания, - В.К.), она (точка зрения философской науки, - В.К.) имела своей предпосылкой конкретные формы сознания, например: мораль, нравственность, искусство, религию. В это развитие содержания (“Феноменологии духа”, - В.К.), кажущееся на первый взгляд ограниченным лишь формальной стороной (т.е. проблематикой соотношения сознания и предмета, - В.К.), входит также развитие содержания предметов особых частей философской науки (прежде всего, конечно, Философии духа, - В.К.). Это развитие (содержания реальной философии, описывающей уже только предметность, - В.К.) должно, так сказать, происходить за спиной сознания (ведь непосредственно взгляд сознания, “нашего сознания”, направлен на формы соотношения сознания и предметности, на феноменологические формообразования, “само сознание” как непосредственный предмет Феноменологии, а не на описание “предмета”, предметности самой по себе, например, морали, религии и т.п., - В.К.), поскольку содержание (самих предметных сфер, - В.К.) относится к последнему (сознанию, - В.К.) как нечто от него независимое (как существующее в себе).”(4,1,132-133)
Систематизируем наше понимание этого интереснейшего фрагмента: ввиду того, что на уровне феноменологических формообразований сознание сохраняет за предметом момент в-
себе-бытия, изображение предмета лишь частично выступает перед сознанием, лишь в той мере, насколько это необходимо для воссоздания соотношений сознания и предмета, на что в Феноменологии непосредственно и направлено внимание сознания, тогда как изображение предметности происходит “за спиной сознания”, составляет “фон” повествования, хотя Гегель, не желая ограничиваться “формализмом голого сознания”, и вынужден давать частичные описания этого заднего плана. - Чудесно ! Гегелю-систематику “энциклопедической эпохи”, оказывается, больше всего не нравится некая “неупорядоченность” феноменологического изложения, ведь в “Феноменологии” в соответствии с самим существом ее подхода приходилось совмещать изображение знания, т.е. бытия предмета для сознания, с изображением предмета самого по себе, предмета, который пребывает еще для сознания во “в себе” и выступит для него только на следующем этапе движения, - но ведь для “нашего сознания” (вспомним, что “в себе”=“для нас”) он уже выступает, с чем и связана необходимость давать его хотя бы частичные описания. Однако, ведь только так - через сравнение понятия и предмета, бытия-для-сознания и в-себе-бытия, и может осуществляться феноменологический опыт !
Продолжим рассмотрение фрагмента: “Изложение становится благодаря этому запутанным (вот что теперь раздражает Гегеля, лектора и “методиста”, - В.К.), и то, что должно быть предметом конкретных частей (т.е. второй части “системы науки”, реальной философии и Логики, описывающих предметные сферы, - В.К.), излагается отчасти уже во введении (в “Феноменологии духа” как первой части системы, описывающей отношения сознания и предметности, - В.К.). Рассмотрение, предпринятое здесь (имеется ввиду следующее за этим фрагментом описание отношений мысли к объективности, - В.К.) имеет еще (по сравнению с “Феноменологией духа”, - В.К.) то большое неудобство (“еще”: еще одно, наряду с тем “неудобством” самой “Феноменологии”, которое описано выше, - В.К.), что оно может быть лишь историческим и рассудочным (внешним, не-имманентным действительному, т.е. феноменологическому, процессу осознания необходимости философской точки зрения,
- В.К.); оно должно, однако, преимущественно помочь нам уразуметь, что вопросы о природе познания, вере и т.д., которые мы ставим себе в представлении и которые мы считали совершенно конкретными (здесь “конкретный” опять значит: связанный с многообразными чувственно-предметными условиями, - В.К.), на самом деле (когда философская точка зрения достигнута, - В.К.) сводятся к простым определениям мысли (за видимым многообразием чувственных различий выступает игра легко поддающихся охвату мысленным взором категорий, - В.К.) и лишь в логике находит свое истинное разрешение.” (4,1,133)
Повторим еще раз: “Феноменология духа” теперь не устраивает Гегеля не по содержательным, а по формально-дидактическмим соображениям, а именно: с целью избежать “запутанности” - впрочем, естественной и даже необходимой с точки зрения самого существа феноменологического метода - Гегель разделяет теперь (в рамках энциклопедической системы) предваряющий Малую логику фрагмент о трех отношениях мысли к объективности, ограничивающийся именно “формализмом голого сознания” (Гегель признает, впрочем, его рассудочно-исторический, “заверяющий” характер как еще одно неудобство “наряду” с “неудобством” феноменологического изложения), и содержащую лишь описание предметности последовательность (которая на самом деле последовательностью и не является !) Логики и реальных философских наук, в которых - спокойно ! - есть место и для “феноменологии духа”, - разве “явление” духа не есть также один из моментов той предметности, которая подлежит реальной философии ! 75
В последние месяцы жизни Гегелю снова пришлось вернуться к “Феноменологии” в связи с подготовкой второго ее издания (Гегель “успел” просмотреть, однако, только первые листы Предисловия). В связи именно с этой работой Гегель оценивает “Феноменологию” как “своеобразное раннее произведение” (5,588), что дает исследователям основание полагать, будто он оставил за “Феноменологией” лишь исторически-биографическое значение.76 Мы видели, однако, что, по-существу, эта оценка исследователей, да и гегелевская самооценка, неверны. На мой взгляд, скорее, скупые строки
этого документа подтверждают лишь нежелание Гегеля заново продумывать “Феноменологию”, явившееся следствием того “забвения”, которое начало покрывать “Феноменологию” еще в Гейдельберге, когда официально она уже оказалась за границами “новой” - энциклопедической - системы.
И все же даже в 1831 году Гегель ценит и - более того - любит “Феноменологию”. Доказательство тому - полное “феноменологических” ассоциаций предисловие ко второму изданию “Науки логики”. (Гегель работает над ним одновременно с подготовкой второго издания “Феноменологии”, редактирует и значительно расширяет “Учение о бытии”, предисловие ко второму изданию написано за неделю до скоропостижной кончины.) Например, прямо ссылаясь на “Феноменологию”, Гегель повторяет свой каламбур: “То, что известно (bekannt), еще не есть поэтому познанное (erkannt)”(1,1,83) Интересен фрагмент, который как бы невзначай указывает на теоретическое преимущество вытекающей из Феноменологии Логики перед реальной философией: “В тихой обители пришедшего к самому себе и лишь в себе пребывающего мышления умолкают интересы, движущие жизнью народов и индивидов. “Во многих отношениях, - говорит Аристотель в той же связи, - человеческая природа зависима, но эта наука (“первая философия”, - В.К.), которой ищут не для какого-нибудь употребления, есть единственная наука, свободная сама по себе, и потому кажется, будто она не есть человеческое достояние.” Философия в своих мыслях еще имеет дело с конкретными (здесь снова в значении “погруженный в чувственность, чувственно-конкретный”, - В.К.) предметами - богом, природой, духом; логика же занимается этими предметами всецело лишь в их полной абстрактности (здесь: постигает их сущностно, теоретически, - В.К.).”(1,1,84-85)
Может показаться, что это совершенно невинное замечание общего характера, и с пониманием существа гегелевской философии оно не связано. Но это не так. С этим контекстом несовместимо, например, представление, будто в Философии духа истинное, абсолютное77 и т.д. постигается в более адекватной форме, чем в Логике, как подлинно для себя сущее. - Не следует ли нам, напротив, сделать тот вывод, что
заявления о спекулятивном преимуществе “Философии духа” “энциклопедический” Гегель вынужден был делать, стремясь придать хотя бы какую-то степень разумности последовательности “Идея - Природа - Дух”, в то время как реально никакой последовательности энциклопедических единиц помыслить нельзя, а можно помыслить лишь понятийную форму постижения духа (идеи) - Логику, - и чувственно-понятийную форму его постижения - реальную философию, и, следовательно, не дух в его реально-философской представленности есть адекватно постигшая себя идея, а, напротив, идея есть дух как таковой, есть просто понятийно постигший себя дух.
На мой взгляд, именно целое гегелевской философии, столь очевидно выступающее в таких пограничных вопросах, как, например, вопрос о соотношении “Феноменологии” и “Логики”, или вопрос о соотношении Логики и Философии духа, дает сегодня право интерпретатору оценивать и отдельные гегелевские оценки и высказывания как более или менее соответствующие этому теперь уже совершенно очевидному целому.
Вернемся, однако, к гегелевскому тексту. Повторением сформулированного во введении к “Феноменологии духа” понятия метода феноменологического рассмотрения выглядит критика кантовской философии, с которой мы встречаемся ниже: “... Вещь может быть для нас не чем иным, как нашим понятием о ней. Если критическая философия понимает отношения между этими тремя терминами так, что мы ставим мысли между нами и вещами, как средний термин, в том смысле, что этот средний термин скорее отгораживает нас от вещей, вместо того, чтобы соединять нас с ними, то этому взгляду следует противопоставить простое замечание, что как раз эти вещи, которые будто бы стоят на другом конце, по ту сторону нас и по ту сторону соотносящихся с ними мыслей, сами суть мысленные вещи (абстракции от конкретных смыслов - понятий о вещах, которые лишь добавлят к ним подразумеваемое - что и означает “мысленные” - “существование”, - В.К.) и как совершенно неопределенные (не несущие ничего, кроме “существования”, - В.К.) они суть лишь одна мысленная вещь (так называемая вещь в себе), пустая
абстракция.”(1,1,87) В этом фрагменте замечательно ясно выступает то
обстоятельство, что именно начатое Фихте преодоление остатков “догматизма” и “агностицизма” кантовской философии и должно было с необходимостью привести к становлению завершенного и совершенно недвусмысленного трансцендентализма, который реализовался в “Феноменологии духа”. Следует иметь ввиду поэтому, что когда Гегель обращается к критике кантовской философии, он исходит в этой критике из установки феноменологического трансцендентализма, пусть даже сама “Феноменология” - частично потеряв с годами в глазах Гегеля “актуальность”, - и не упоминается непосредственно.
Предпринятое нами рассмотрение дополнительных фрагментов гегелевских текстов показывает, что соотнесение Логики с Феноменологией, в результате чего логическое выступает как подлинная сущность, сердцевина духа, которая “одущевляет дух, движет и действует в нем”(1,1,88), затрудняет обоснование самодостаточности энциклопедической системы - а это ведь и есть главный “гегелеведческий” предрассудок ! - системы, в которой, несмотря на все оговорки, синтез (дух) должен был бы все-таки обладать спекулятивным приоритетом перед тезисом (логической идеей). Либо мы утверждаем значимость “Феноменологии” для “системы”, и тогда “Логика” - раскрытие последней сущности пришедшего в “абсолютном знании” к самопознанию духа, либо мы, объявляя “Логику” первой частью “системы”, должны оставлять возможность для того, чтобы в конце развития “системы” установить дух как истинное бытие идеи. Поэтому, кстати, слабее всего выглядят те интерпретации системы философии Гегеля, которые, с одной стороны, не считают Феноменологию первой частью “системы”, а, с другой стороны, понимают гегелевскую философию как “логицизм”, утверждая, что дух78 - это лишь знающая себя, сущая для себя идея, в сущности именно идея, а не какая-то третья по отношению к идее и природе субстанция, в которой логическая идея в ее своеобразии снималась бы.
Впрочем, с точки зрения нашего исследования, гегелевская философия также могла бы быть оценена как “логицизм”, но только у нас квалификация эта определялась бы
не тем, что в абсолютном духе логическая идея познает тольку саму себя (в связи с чем и возникали всегда сомнения относительно целесообразности и спекулятивной значимости ее “перехода” в природу и “возвращения к себе” в становлении духа), а тем, что в Феноменологии структура предметности, полежащая рассмотрению Логики, устанавливается в качестве истины, завершения всей последовательности - “галереи” - образов соотношения сознания и предметности, и, следовательно, любая предметность, положенная в феноменологическом движении как элемент трансцендентальной структуры, - в том числе и в первую очередь, дух в его реально-философской явленности, - постигаемая в своей сути, в форме понятия, есть в конечном счете Логическое, Идея, тогда как повторное выступление “той же” предметности в качестве духа в реальной философии есть не “снятие” Идеи, а лишь ее представление в “полупонятийной”, соответствующей характеру предметности реальной философии, форме.
Глава вторая
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ СПЕКУЛЯТИВНОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ В “НАУКЕ ЛОГИКИ”
Все, что можно мыслить, мыслит само: есть проблема мышления. НОВАЛИС Понятие предмета Логики было выработано в
“Феноменологии духа” в качестве понятия такой предметности, которая целиком соответствует рефлексивной структуре самосознания или, с точки зрения характера опосредования бытия и “иного”, соответствует понятию бесконечности. “Наука логики” описывает внутреннюю структуру этой предметности, эксплицирующуюся в ее самодвижении, а тем самым снимает ее как лишь предметность или “реализует” ее. Так как описываемая предметность является трансцендентальной или есть лишь для чистого самосознания, то ее описание оказывается одновременно и ее построением, - для самосознания в силу завершенного характера его рефлексивности невозможна данность, которая не была бы одновременно и “созданностью”. Это может быть выраженно еще и так, что построение логической идеи осуществляется индивидуальностью, которая положила себя как всеобщность, совершила в себе бесконечное опосредование инаковости. Эта деятельность индивидуальности есть, значит, “самостороительство”, логическая идея остается полностью свободной в этом построении. Она не является “продуктом” деятельности самосознания, который отделялся бы от своего источника. Она и есть самосознание, реализующее свою природу, или просто самосознание, как оно есть поистине, в соответствии с понятием самосознания. Итак, логическая идея есть самостроительство чистого самосознания, а теория, описывающая этот процесс, в силу его трансцендентального характера, оказывается и совпадающей с ним.
Если в первой главе рассматривался феноменологический
процесс построения спекулятивной предметности, то здесь речь будет идти о процессе его самоуглубления, “об-основания”, т.е. о движении от логической идеи или логического вообще к абсолютной идее или спекулятивному идеалу. В первой главе было выяснено, что спекулятивная предметность соотносится с точки зрения своей внутренней формы или структуры с понятием бесконечности. Предстоящий теперь путь есть путь углубления этого понятия, его конкретизации. Важно заметить, что в ходе этого движения преимущественный интерес будут представлять не сами логические категории, фиксирующие степень раскрытия логического,79 а формы соотношения и способы опосредования категорий, показывающие механизм самостроительства логической идеи. Поэтому по отношению к целому “Науки логики” нас будет интересовать сторона формы или способ построения всеобщности логического в каждой из трех частей “Логики”, т.е. теперь нас будет интересовать собственно метод Логики, в отличие от первой главы нашего исследования, в которой речь шла о феноменологическом становлении ее предмета.
Формально речь будет идти о том аспекте логического учения Гегеля, который - под именем “диалектики” - отождествлялся в отечественной философской культуре последних десятилетий с философией Гегеля вообще. Важнейшей историко-философской предпосылкой гегелевской диалектики является вывод платоновского “Парменида”: ни одна идея, взятая отдельно от других, не может рассматриваться в качестве истинной, истина - не в той или иной идее, а в связи идей и в их движении. Рассмотрение всякой идеи, свободное от внешней рефлексии, неизбежно выводит к другим идеям, т.к. обусловленная самой природой мысли форма идеи - всеобщность - не удовлетворяется ограниченностью содержания отдельной, “особой”, идеи. Результатом рассмотрения идей должна выступать их система, знание как всеобъемлющее целое. 80
Исторические образы того переосмысления диалектического опыта, который оставил в философии Платон, оказались весьма различными. Уже Аристотель дает принципиально иной вариант реализации своих
диалектических устремлений: он строит прежде всего эмпирическую всеобщность знания, перечисляя существующие точки зрения, взгляды и пытаясь отыскать их единое основание. Именно во всеобщности рассмотрения видел Гегель спекулятивную сторону философии Аристотеля.81
Но для Гегеля как наследника философии Декарта и идеи метода Нового времени в целом приемлемо лишь методическое отыскание истины, а это значит, что необходимо найти “идею” (смысл), которая по форме - в качестве всеобщности, “бесконечности”, - была бы тождественна знанию как целому, а по содержанию - в качестве “наиабстрактнейшего” - противоположна ему. И здесь снова Гегель мог учиться у Платона, который, рассматривая диалектику идей, исходит из предпосылки, что бытие является подобным первопредикатом, основой и источником всякой предикации (см.:16,148). “Бытие” как первая категория “Логики” также является первым предикатом абсолютного и создает “спекулятивное поле”, в котором, выступая в качестве субъекта по отношению к другим категориям, делает возможным процесс самоопределения мысли.
1. Учение о бытии. При рассмотрении процесса эволюции понятия
бесконечности в “Логике” следует иметь ввиду те формальные условия, которые приближают либо удаляют его от понятия бесконечности “Феноменологии”. Существенное различие их определяется тем, что “феноменологическая” “бесконечность” представляет собой процесс, в котором в качестве опосредующих друг друга противоположностей выступают моменты сознания - “я” и предмет, тогда как “логическая” “бесконечность” “сплетается” в движении простых определений мысли - “бытия” и “ничто” (или бытия и “иного” вообще).
С другой стороны, эти понятия, напротив, сближаются тем, что результат и в “Логике”, и в “Феноменологии” выступает как для-себя-бытие, как чистая структура, равнодушная к специфике своих моментов (в “Феноменологии” прежде всего как самосознание). Открывающееся единство
результата показывает, что различие природы опосредуемых моментов есть различие исчезающее, различие, обусловленное специфическим контекстом “Феноменологии”.
Далее, следует иметь ввиду, что “феноменологическая” “бесконечность” должна соотноситься не только с “беско-нечностью” “Бытия”, но и с теми способами опосредования противоположностей, которые вырабатываются в “Сущности” и “Понятии”, поскольку она является структурной моделью всей спекулятивной предметности, тогда как по отношению к “логической” “бесконечности” характер опосредования противоположностей “рефлексии” и “развития” является прежде всего противостоящим.
И, наконец, “логическая” “бесконечность”, будучи представлена как подробно разработанная категория науки, выявляет те моменты, которые в “феноменологической” “бесконечнос-ти” пребывали “в себе”, благодаря чему с позиций “Логики” в целом “бытие” и оказывается абстрактной категорией, тогда как по отношению к процессу своего становления в “Феноме-нологии” она, напротив, должна была бы быть оценена как максимально конкретная структура предметности - единственная форма предметности, которая способна к самодвижению, процессу спекулятивного самоопосредования.
Поскольку понятие утвердительной, или истинной, бесконечности первоначально конструируется в разделе “Качество” в процессе перехода от “наличного бытия” к “для-себя-бытию”, то и наше рассмотрение его должно будет сначала воспроизвести основные этапы этого процесса, после чего будут сделаны необходимые дополнения относительно изменений, привносимых в понятие бесконечности в разделах “Количество” и “Мера”.
Гегель систематически рассматривает понятие бесконечности в главе о наличном бытии. Последнее он понимает как результат движения “становления”, как продукт кристаллизации внутри самопротиворечивой текучести некоторой устойчивости, заключающейся в простом единстве бытия и ничто. Конкретизацией этого единства и будет процесс восхождения к утвердительной бесконечности, “на этом едистве как на основе зиждутся все дальнейшие определения”
(1,1,171). На ступени наличного бытия моментами становления
выступают уже не просто “бытие” и “ничто”, а налично сущее как утвердительное - “нечто”, и другое налично сущее, но определенное как отрицательность, присущая “нечто” - “иное”. Различие между “нечто” и “иным” основано не на природе самого наличного бытия, т.е. не на природе определенности, выделившей именно “это” наличное бытие, а определяется лишь точкой отсчета, тем, какую определенность мы выделим как первичную, как “это”, называя его поэтому “нечто”, а все остальное - “иным”. Взяв за исходное другое наличное бытие, которое в первом случае бралось как “иное”, мы получим в качестве “иного” то, что в первом случае было представлено нами как “нечто”. “Нечто” и “иное”совершенно равноправны по отношению друг к другу, нет никаких оснований для того, чтобы избрать одно из них как “привилегированную систему отсчета”, “нечто” - в такой же мере “иное”, как “иное” - “нечто”. Это обстоятельство необходимо иметь ввиду на протяжении всего рассмотрения “Бытия”, поскольку именно “равномощность” бытия и “иного”, заложенная наличным бытием как именно простым единством бытия и ничто, обусловливает “трудный” характер движения опосредования в сфере бытия. В этом опосредовании противолежащие стороны могут выступать по отношению друг к другу только как “качественные”, т.е. непосредственные, отрицания, и вследствие абстрактности соотношения, которое они образуют, они и оказываются способными лишь непосредственно замещать друг друга.
Диалектика “нечто” и “иного”, заключающаяся в том, что “нечто” требует “иного” как удостоверения своего утвердительного характера, а “иное” является “иным” не только по отношению к “нечто”, но и по отношению к самому себе, а, следовательно, сливается с собой, становясь “нечто”, свидетельствует не только о том, что различие “нечто” и “иного” является в существенной степени различием внешней рефлексии, но и о том, что мысль требует сведения утвердительности и отрицательности в одно сущее, в котором они будут сохраняться лишь как моменты. В соответствии с этим наличное бытие определяется как “в-себе-бытие” и
“бытие-для-иного”. Оно есть в-себе-бытие как тождественное с собой бытие, и оно есть бытие-для-иного как подвергнутое отрицанию, но сохраняющееся бытие.
С помощью этих определений Гегель вводит понятие границы. “Нечто” как в-себе-бытие есть отрицание всякого другого “нечто”. Но всякое “нечто” есть в-себе-бытие или всецело отрицательное по отношению к другому “нечто”, а значит, бытие-для-иного, выражающее эту отрицательность, утверждает общность всех “нечто”, или: единственная определенность, делающая возможным утверждение общности “нечто” со всяким другим, - та, что “нечто” не имеет ничего общего с этими другими. “Нечто” представляет себя как абсолютно оригинальное, но оригинальность каждого “нечто” и есть как раз то, что является общим для всех “нечто”.
Это общее предстает, с одной стороны, как отрицание “нечто”, как оно есть в себе самом, и, с другой стороны, как утверждение общности всех “нечто”, как они есть для другого. “Граница” есть то, что и отделяет “нечто” от другого, и пролегает через само “нечто”. Граница пронизывает “нечто”, и “нечто” есть лишь эта граница, замыкающая его через присущую ему определенность и обеспечивающая этим замыканием общность всех “нечто”, не имеющих в самих себе ничего общего. Послушаем философа: “Нечто как непосредственное наличное бытие есть, следовательно, граница в отношении другого нечто, но оно имеет ее в самом себе и есть нечто через ее опосредование, которое в то же время есть его небытие. Граница - это опосредование, через которое нечто и иное есть и не есть.”(1,1,189) Граница, таким образом, не только отрицает “нечто”, но и дает ему начало. “Нечто” есть лишь благодаря своей границе. “Эти границы суть принцип того, что они ограничивают, подобно тому, как единица, например, как сотая, есть граница, но также и элемент целой сотни.”(1,1,190)
“Нечто”, имманентное своей границе, есть “противоречие, заставляющее его выходить за свои пределы”(1,1,190). Это постоянное выхождение за свои пределы, постоянное беспокойство и движение “нечто” обязаны своим постоянством его неспособности достичь удовлетворения, поскольку в самом понятии границы, имманентной “нечто”, заключается
противоречие, заставляющее его бежать от себя и вне себя находить снова только себя, т.е. те границы, за которые гнала “нечто” его самопротиворечивость. Это и есть “конечное”, которое Гегель определяет как “нечто со своей имманентной границей, постигаемое как противоречие самому себе, в силу которого оно выводится и гонится дальше себя”(1,1,191). “Конечные вещи суть, но их соотношение с самими собой состоит в том, что они соотносятся с самими собой как отрицательные, что они именно в этом соотношении с самими собой гонят себя дальше себя, дальше своего бытия. Они суть, но истиной этого бытия служит их конец. Конечное не только изменяется как нечто вообще, а преходит; и не только возможно, что оно преходит, так что оно могло бы быть и не преходя, но бытие конечных вещей как таковое состоит в том, что они содержат зародыш прехождения как свое внутри-себя-бытие, что час их рождения есть час их смерти.”(1,1,192)
В движении конечного82 его определение раскрывается как “долженствование”, т.е. как снятие ограниченности “нечто”. Однако, это снятие не означает первоначально освобождения от конечности, поскольку в качестве лишь не-конечного бесконечное на деле сохраняет конечное, через которое оно только и может себя определить. Такой способ соотношения бытия и иного Гегель определяет как “бесконечный прогресс”, “дурную бесконечность”.
Выхождение конечного в долженствовании за свои пределы содержит два момента:
1. “Долженствование, взятое само по себе, содержит предел”(1,1,200), а поэтому, выходя за границы данной конечности, оно не выходит за границы конечности вообще. Отрицая данный предел, долженствование само воспроизводит его как другой предел. Конечное здесь не преходит как конечное, а преходит лишь как “это” конечное. Гегель показывает, что постулирование долженствования как высшей категории мышления, отрицающей, якобы, конечное, как раз приводит к абсолютизации конечного.
2. Вместе с тем уже в бесконечном прогрессе имеется отрицание и конечного, и предела, и даже выступает то, что они встречаются в бесконечном прогрессе “лишь как моменты некоторого целого, и что каждое из них обнаруживается лишь через посредство своей противоположности, а по существу
также и через посредство снятия своей противоположности”(1,1,213).
Единство этих двух моментов в бесконечном прогрессе выступает неявно, и первоначально мысль фиксирует лишь первый момент этого единства. Бесконечный прогресс с точки зрения фиксирования только его первого момента представляет из себя следующее. Бесконечное, как оно непосредственно видится в бесконечном прогрессе, есть первое, непосредственное отрицание конечного. Последнее здесь не снимается вообще, а сохраняется как абсолютно противоположное конечному, как фиксирование его иного, его небытия. Бесконечность здесь - небытие конечного, они выступают как равноправные моменты, имеющие бытие только во взаимоопределении.
Более того, истинно сущим оказывается здесь на деле только конечное, потому что только оно обладает утвердительностью (определенностью), бесконечное же оказывается всецело отрицательным, неопределенным. Не конечное получает свое бытие от бесконечного, а наоборот, бесконечное - от конечного, потому что оно есть только как иное конечного, как отрицание его бытия. Бесконечное здесь оттеняет конечное, всецело подчинено ему. Постулирование такой бесконечности (понятия долженствования) означает, по-существу, возведение конечного в абсолют.
Противоречивость конечного не разрешается в таком бесконечном, напротив, рассудок, исповедывающий такую бесконечность как высшее понятие философии, “пребывает в непримиримом, неразрешенном, абсолютном противоречии”(1,1,204). “Это противоречие сразу же сказывается в том, что наряду с бесконечным остается конечное как наличное бытие; имеются, таким образом, две определенности; имеются два мира - бесконечный и конечный, - и в их соотношении бесконечное есть лишь граница конечного и, следовательно, само есть лишь определенное, конечное бесконечное.”(1,1,204)83 Хотя рассудку и трудно расстаться с простотой непосредственного отрицания конечного, мышление не задерживается долго на этой категории. И как необходимо было бросить взгляд на непосредственный результат прехождения конечного, так же
необходимо мышление преодолевает и этот свой собственный взгляд.
Выше приводилось замечание Гегеля, показывающее, что в бесконечном прогрессе имеется момент, рассмотрение которого приводит к пониманию бесконечного как истинного бесконечного. В самой непосредственной форме этот момент подразумевает единство конечного и бесконечного. Единство конечного и бесконечного имеется уже в их взаимоопределении. Взаимоопределение конечного и бесконечного означает, что, говоря о бесконечном, мы говорим о не-конечном, что подразумевает и характеристику конечного, и, наооборот, о конечном мы можем говорить лишь в его соотношении с долженствованием как отрицанием конечного. Гегель выражает суть взаимоопределения конечного и бесконечного следующим образом: “Конечное конечно лишь в соотношении с долженствованием или с бесконечным, а бесконечное бесконечно лишь в соотношении с конечным. Они неотделимы друг от друга и в то же время всецело иные в отношении друг друга; каждое из них имеет в самом себе свое иное; таким образом, каждое есть единство себя и своего иного и есть в своей определенности наличное бытие, состоящее в том, чтобы не быть тем, что оно есть оно само и что есть его иное”(1,1,206).
Однако, возникает иллюзия, что “если их брать безотносительно, так что они будут соединены лишь союзом “и”, то они будут противостоять друг другу как самостоятельные, каждое из которых есть только в самом себе”(1,1,208). Но, бесконечное, взятое таким образом, “есть одно из этих двух, но как лишь одно из двух, оно само конечно, оно не целое, а лишь одна сторона, оно имеет свою границу в противостоящем, таким образом, оно есть конечное бесконечное”(1,1,209). А конечное, взятое таким образом, как “поставленное само по себе в отдалении от бесконечного, есть это соотношение с собой, в котором удалена его относительность, зависимость, его преходящность, оно есть та же самостоятельность, то же утверждение себя, которым должно быть бесконечное”(1,1,209). Таким образом, конечное и бесконечное, взятые как в их взаимоопределении, так и безотносительно друг к другу, приводят к одному итому же
результату - единству конечного и бесконечного. Однако, столь непосредственная форма единства не
является уже удовлетворительной. Хотя в себе и конечное, и бесконечное содержат свое иное как необходимый момент, это единство конечного и бесконечного “определено в каждом из них различным образом”(1,1,210). В чем состоит это различие ? Бесконечное как в-себе-бытие содержит себя в качестве момента единства бесконечного и конечного как свое сущностное определение (предназначение), а конечное оно содержит лишь как момент, хотя и необходимый, но противоположный этому своему определению. И конечное как вовне-себя-бытие имеет в качестве своего предназначения не само себя, а свое отрицание - бесконечное.
Здесь для рассудка возникает возможность закрепить сложившееся неравенство как неизменное. Используя ее, он утверждает соотношение конечного и бесконечного как качественное различие, в котором они абсолютно раздельны. Правда, ради этого он должен забыть достигнутое им самим понимание того, что “единство конечного и бесконечного не есть ни внешнее сведение их вместе, ни ненадлежащее, противное их определению соединение, в котором оказывались бы в себе раздельные и противоположные, самостоятельные в отношении друг друга, сущие, и, стало быть, несовместимые определения, а каждое есть само по себе это единство, и притом лишь как снятие самого себя, как снятие, в котором ни одно не имеет перед другим преимущества в-себе-бытия и утвердительного наличного бытия”(1,1,210-211).
Понятие единства конечного и бесконечного, определенное сначала непосредственно, углубляется следующим образом. Имманентное конечному отрицание самого себя выступает теперь не как отрицание данного “нечто”, а как отрицание отрицания, потому что само конечное определилось как полностью отрицательное в себе, как не-бытие. В своем отрицании оно возвращается, таким образом, к самому себе. Так же и бесконечное, снимая себя в конечном, отрицает такое свое бытие, которое было определено лишь как небытие конечного, т.е. как полностью отрицательное, потустороннее. И здесь имеется возвращение в себя, отрицание отрицания. “Следовательно, одно и то же отрицание отрицания
- вот что имеется в обоих. Но это отрицание отрицания есть в себе соотношение с самим собой, утверждение, однако, как возвращение к самому себе, т.е. через опосредствование, которое есть отрицание отрицания.”(1,1,211) “Оба, конечное и бесконечное, суть движение, состоящее в возвращении к себе через свое отрицание, они даны лишь как опосредствование внутри себя, и утвердительное обоих содержит отрицание обоих и есть отриуание отрицания.”(1,1,213)
Итак, конечное и бесконечное определились в качестве лишь моментов некоторого целого. Это целое является результатом, полученным вследствие развития самих определений этих категорий, и по отношению к ним в их непосредственности выступает как их истина. Это целое и есть истинная бесконечность, а дурная бесконечность наряду с конечным выступают в качестве моментов этого целого.
Уже представленное понятие бесконечности Гегель характеризует следующим образом: “Бесконечное, каково оно на самом деле, есть процесс, в котором оно низводит себя до того, чтобы быть лишь одним из своих определений, противостоять конечному и, значит, быть самому лишь одним из конечных, а затем снимает это свое отличие от себя самого для утверждения себя и есть через это опосредствование истинно бесконечное.”(1,1,214)
Определенное как процесс, истинно бесконечное не укладывается уже в форму единства конечного и бесконечного, которое сначала представлялось как абстрактное, неподвижное единство. Оно есть теперь становление. Но, в отличие от становления, как оно было определено в начале логического движения, т.е. от такого становления, которое имеет своими моментами бытие и ничто (возникновение и прехождение), теперь моментами становления являются более высокие категории - конечное и бесконечное. Поэтому становление здесь уже включает в себя достижения своих моментов. Например, с категорий конечного в понятие истинной бесконечности вошло бытие как наличное бытие. Поэтому можно сказать, что бесконечность есть не только становление, но и налично сущее, есть единство становления и его результата. Но бесконечное как налично сущее есть реальность в более высоком смысле, чем наличное бытие, как оно было
определено первоначально, потому что, включая всебя определенность налично сущего, оно оставило позади себя связанную с этой определенностью ограниченность, характерную для категорий сферы наличного бытия.
До сих пор предметом нашего рассмотрения была категория бесконечности и связанные с ней категории, которые рассматриваются Гегелем в разделе о качестве. Реализацией бесконечного на этом этапе является категория для-себя-бытия - категория, в которой восстановлена исходная непосредственность, и которая, в то же время, в качестве своих идеальных моментов содержит бытие и наличное бытие, а значит, и характерную для наличного бытия определенность. “Но теперь эта определенность уже не есть более конечная определенность, нечто в его отличии от другого, но бесконечная определенность, содержащая в себе различие как снятое.”(4,1,236)
Если “нечто” представить в качестве “метафизической точки”, то можно будет сказать, что “линией” она становится для того, чтобы достичь своего для-себя-бытия, простого соотношения с собой, - и тем самым создает свой замыкающий “линию” в “точку” “объем”. Так начинается завершающееся “бесконечностью” движение логического самоопосредования. Точка как “точка” не знает себя как “всю” реальность, она “предполагает”, что существует, может быть, некое “иное”, - и испытывает себя отрицанием этой непосредственности. - “Истинная бесконечность” как замкнутая в “точку” бесконечная “линия” оказывается, таким образом, неким “пустым местом”, о котором говорят структуралисты: оно в конечном счете связывает разнородные “серии” бытия (конечного) и небытия (бесконечного) и обеспечивает возможность спонтанного движения (остановленного в любой точке - “игры”) всей структуры. В “означающей серии” (“дурная бесконечность”) “бесконечность” всегда присутствует актуально, хотя бы для “встроенного” в нее субъекта она и находилась до определенного времени “в себе”, а в “означаемой серии” (“конечное”) - напротив, лишь как потенциальная бесконечность, лишь как прехождение конечного, бесконечное снятие его границ ... Сливающиеся в простое единство “естественный избыток” “означающей серии”
и “естественный недостаток” означаемой делают возможной ту “простоту взгляда”, которой завершилась классическая философия и к которой приближается, кажется, и современность. - Таким можно было бы представить исток спекулятивной диалектики, если бы мы не связывали себя представляющимся естественным для научного соообщества обязательством пользоваться для передачи мысли тем языком, в котором она родилась. - Впрочем, подобный или всякий иной “перевод” не несут нового смысла, они лишь показывают “достаточность” логического аппарата классической философии и для постклассической эпохи, следовательно, представляют повод усомниться, что философии удалось пережить свою класическую эпоху.
Посмотрим теперь на первый раздел “Логики” в целом. Предмет Логики - процесс самоопределения мысли или процесс конкретизации построенной Феноменологией спекулятивной предметности. Источник логического движения - внутреняя “противоречивость” исходной категории, тождественной по своей структуре “феноменологической” “бесконечности”, например, “самосознанию” или предметности “абсолютного знания”. Достигнутая в результате движения самоопределения мысли первичная определенность выступает и как ограниченность, конечность. Конечное бытие не имеет в себе полной утвердительности. Свое убежище от собственной противоречивости оно находит в утвердительной бесконечности, содержащей и конечное, и его абстрактное отрицание в качестве своих моментов.
“Для-себя-бытие” выступает как реализация “истинной бесконечности”, как завершенное “качество” (завершение процесса эволюции тождественной бытию определенности), что и выражают приведенные слова Гегеля о бесконечной определенности, содержащей в себе различие как снятое.
“Количество”, предстающее как снятое “качество”, безразличная бытию определенность, проходит те же этапы скрытой противоречивости, выявления определенности и снятия противоречия определенности и конечности в количественной бесконечности. Поэтому нам нет смысла воспроизводить еще раз уже знакомую нам структуру “бесконечности”. Остановимся лишь на тех сторонах
количественной бесконечности, которые отличают ее от ее прообраза и аналога в сфере качества.
Категорий, аналогичной “нечто”, является здесь “определенное количество”. Однако, описанный выше механизм выхождения “нечто” за свои границы Гегель уже не воспроизводит. Почему ? - Эти две категории сходны тем, что каждая из них выражает достижение новой ступени определенности в своей сфере. Но у них имеется и важное различие. Если нечто было положено как определенное сущее вообще, и его “подвижность” выводилась из его определения, то определенное количество уже изначально положено изменяющимся, подвижным. Гегель пишет, что определенное количество “не только может выходить за пределы всякой определенной величины, эта определенность не только может изменяться, но положено именно то, что она должна изменяться. Определение величины продолжает себя, непрерывно переходя в свое инобытие таким образом, что оно имеет свое бытие только в этой непрерывности с некоторым иным, оно не сущая, а становящаяся граница.”(1,1,302)
Причиной того, что определенность определенного количества уже положена как изменяющаяся, является отличие количественной бесконечности от качественной. Если в качественной - тождественной с бытием - определенности бытие непосредственно нуждалось, то смысл количественной определенности какраз и заключается в том, что она безразлична бытию. Сама определенность становится здесь текучей. Поэтомуона и определяется как то, что становится больше или меньше.
Теперь понятно, почему, говоря о количественном бесконечном прогрессе или дурной бесконечности в сфере количества, Гегель практически повторяет то, что прежде было сказано об определенном количестве. Количественный бесконечный прогресс есть лишь “выражение того противоречия, которое содержится в количественно конечном или, иными словами, в определенном количестве вообще”(1,1,304). Переход от конечного к бесконечному в сфере количества становится как бы более плавным, ведь само конечное уже положено здесь изменяющимся. Можно даже сказать, что само определенное количество положено как
количественный бесконечный прогресс, потому что “граница в самой себе выводит себя в свое потустороннее и продолжается в нем, и тем самым, наоборот, и количественно бесконечное положено имеющим в самом себе определенное количество, ибо в своем вовне-себя-бытии определенное количество есть в то же время оно само, его внешность принадлежит его определению”(1,1,304-305).
Истинное понимание количественной бесконечности также можно усмотреть уже в определенном количестве. Определенное количество бесконечно в двух отношениях: во-первых, как неограниченность, во-вторых, как возвращение в себя, для-себя-бытие, ибо “иное”, которым становится определенное количество, само есть прежде всего определенное количество. Второй момент и выражает истинно бесконечное в сфере количества. Истинно бесконечное есть поэтому определенное количество, “определенное в соответствии со своим понятием”, т.е. такое определенное количество, в котором снято оно само, “но снято также и его потустороннее, имеется, следовательно, и отрицание определенного количества, и отрицание этого отрицания”(1,1,319). Таким образом, определение конечности определенного количества, отличное от непосредственного определенного количества, или определение конечности в соответствии со своим понятием, есть, по-существу, в равной мере и определение бесконечного в сфере количества.
Завершая рассмотрение этого вопроса, приведем слова Гегеля о различии качественной и количественной бесконечности, резимирующие все наше изложение: “Качественное и количественное бесконечное отличаются тем друг от друга, что в первом противоположность между конечным и бесконечным качественна, и переход конечного в бесконечное, иначе говоря их соотношение, имеется лишь во “в-себе”, в их понятии. Качественная определенность дана как непосредственная и соотносится по своему существу с инобытием как другим для нее бытием; она не положена имеющей в себе свое отрицание, свое иное. Величина же как таковая есть снятая определенность; она положена так, чтобы быть неравной себе и безразличной к самой себе, следовательно, быть тем, что изменяется. Качественные
конечное и бесконечное поэтому абсолютно, т.е. абстрактно, противостоят друг другу; их единством служит лежащее в основе внутреннее соотношение ... Количественное конечное соотносится в самом себе со своим бесконечным, в котором оно имеет свою абсолютную определенность.”(1,1,304)
О двух ступенях бесконечного в сфере меры скажем лишь несколько слов. Бесконечный прогресс здесь существует в форме “узловой линии отношений меры”. Смена качественных и количественных изменений приводит к тому, что качество, ставшее еще раньше небезразличным к количеству, и количество, определенность которого сама есть теперь качество, не только составляют непосредственное единство, но и уничтожают друг друга. Бесконечная смена этих определенностей показывает, что эта их непосредственность есть только внешность, внешность чего-то другого, что само не является непосредственной определенностью. И в образе этого внутреннего единства качества и количества, в отличие от их непосредственного единства в узловой линии отношений меры, выступает “индифференция”, абсолютная неразличенность.
Эта категория, выступающая аналогом “истинной бесконечности” в сферах качества и количества, снимает, по-существу, все категории сферы бытия. В абсолютной неразличенности снимается и непосредственная, нерефлектированная определенность вообще, т.е. формируется новая сфера логического или задается новый уровень спекулятивной (логической) предметности. Это событие указывает и на границы непосредственной применимости того методологического механизма, который Гегель называет утвердительной (истинной) бесконечностью. Впрочем, более ясным это станет при рассмотрении специфики форм опосредования бытия и “иного” в “Сущности” и “Понятии” и тех методологических механизмов, которые Гегель строит для осуществления такого опосредования.
Сразу же обратим внимание на те моменты, которые прежде всего нужно будет иметь ввиду в дальнейшем изложении. Прежде всего, “бесконечность” у Гегеля конкретна, всякая непосредственность оказывается у него результатом завершенно-бесконечного движения опосредования. В отличие, например, от Спинозы (собственно, именно это отличие и
подчеркивает Гегель), для которого бесконечность вещи состоит в ее утверждении, для Гегеля она - в отрицании отрицания. Гегель говорит, что только таким образом можно обосновать перед лицом бесконечной субстанциальной мощи абсолютной рефлексии не-иллюзорность конечного существования, поскольку именно в конкретном бесконечном конечное не устраняется вообще, но лишь занимает свое место “внутри” бесконечного.
Это очень важный пункт, позволяющий нам заново посмотреть и на значение категории бесконечности в феноменологическом движении и, соответственно, в организации соотношения спекулятивной и реально-философской предметности. А именно, тот тип предметности, который строится сознанием по медели конечных определений рассудка, не уничтожается в спекулятивной предметности, но лишь “вбирается” в нее, теряет “само-бытность”, но при этом становится моментом более широкого контекста спекулятивной предметности.84
Далее, необходимо сказать, что “истинная бесконечность” как модель логического движения в сфере бытия, являясь самой простой “для нас”, оказывается в то же время самой трудной для “самого понятия”. Инаковость в сфере бытия есть равноправное сущее, в силу чего опосредование является здесь как бы медленным и даже “болезненным”. Можно сказать, что “скорость” логического движения определяется соотношением моментов в-себе-бытия и положенности. “Пока” преобладает момент в-себе-бытия, Гегель говорит даже, что “в сфере бытия самоопределение понятия есть лишь в себе”(1,1,48). Трудность опосредования в сфере бытия приводит и к утяжелению механизма движения спекулятивного метода. В “Сущности” мы уже не встретим столь детализированных разработок, чем отчасти объясняется и различие структур первой и второй частей Объективной логики, о чем мы еще будем говорить ниже. В сфере сущности движение самоопределения мысли - “рефлексия” - “убыстряется”. Соотношение в-себе-бытия и положенности выравнивается, благодаря чему в финале “Сущности” логическое движение достигает максимальной “скорости”, создавая “покой”, необходимый для разворачивания собственно Понятия.85 “Покой” “Понятия”
означает, что его разворачивание изначально свободно от всякого образа в-себе-бытия. Как “развитие” оно полностью находится в сфере положенности, или, как говорит Гегель, в Понятии полагается лишь то, что уже есть. Изложение в следующих двух параграфах будет посвящено описанию намеченного здесь процесса эволюции спекулятивного метода “Сущности” и “Понятия”.
2. Учение о сущности. Наше рассмотрение формы спекулятивного метода
“Сущности” будет состоять из двух частей. Сначала мы представим основные моменты рефлексии и рефлективных определений в их соотношении с моментами становления и процесса бесконечности, а затем мы попытаемся нарисовать более свободный и содержательный образ метода “Сущности”.
Вспомним прежде всего, что в “Бытии” процесс опосредования бытия и ничто выступал как становление, “движение непосредственного исчезновения одного в другом”(1,1,141). Применительно к определению специфики этого способа опосредования по сравнению с аналогичными движениями в “Сущности” и “Понятии” Гегель предпочитает говорить о “переходе”, который есть то же, что и “становление”, но в нем подчеркивается момент связи между бытием и ничто, которое выступает как их истина (см.:1,1,152-153). Являющееся результатом становления наличное бытие, представляя собой первое снятие противоречивости становления, есть “простое единство (Einssein) бытия и ничто”(1,1,170). Диалектика процесса бесконечности, описанная в предыдущем параграфе, исходила из этого единства, но возводилаего к конкретной форме, по отношению к которой переход или становление выступали лишь как абстракции. Реализацией этой конкретной формы единства бытия и ничто (истинной бесконечности) в качестве ступени самоопределениямысли является категория для-себя-бытия, выступающая, по-существу, в качестве идеала спекулятивной конкретности по отношению ко всей сфере бытия.
В “Сущности” моментами рефлексии, соответствующими бытию и ничто в становлении, являются сущность и видимость.
Рефлексия в целом есть полагание сущностью видимости внутри самой себя, оказываясь в сфере логического, видимо, ближайшим аналогом (логической схемой) феноменологического движения полагания предметности. По отношению к сущности как простому единству этот процесс предстает как собственная бесконечная отрицательность сущности. В “Сущности” иное есть, таким образом, не равноправное с бытием сущее, а лишь видимость, которую бытие (сущность) содержит внутри себя как собственное бесконечное внутреннее движение. “Сущность, - говорит Гегель, - это рефлексия, движение становления и перехода, остающееся внутри самого себя ...”(1,2,18). Как ясно, такая “инкорпорированность” иного в образе видимости в сущность возможна здесь постольку, поскольку в “Бытии” уже была построена конкретная бесконечность, включающая в себя свои противоположности - конечное и дурную бесконечность - как моменты своего движения.
Еще более значительное отличие рефлексии от становления заключается в том, что она вообще имеет своим основанием не бытие (или простое единство бытия и ничто, как становление), а “иное как отрицание в себе”, бытием же или непосредственностью86 рефлексия обладает лишь как снятая отрицательность. В этом важном месте послушаем самого философа: “Определенность становления бытия имеет основанием бытие, и она есть соотношение с иным. Напротив, рефлектирующее движение - это иное как отрицание в себе, обладающее бытием лишь как соотносящееся с собой отрицание.”(1,2,18) В соответствии с этим Гегель называет рефлектирующее движение сущности “движением от ничто к ничто и тем самым обратно к самой себе” (1,2,18-19). “Иное, которое становится в этом переходе, - поясняет Гегель приведенную формулу, - не есть небытие некоторого бытия, а ничто некоторого ничто, и это - то, что оно отрицание некоторого ничто, - и составляет бытие.”(1,2,19) Последующее детальное рассмотрение рефлексии Гегель представляет как движение ее моментов - полагающей, внешней и определяющей рефлексии. Напомним, что в “Бытии” это движение следует соотносить с рассмотрением характера единства бытия и ничто в становлении.
В качестве полагающей рефлексии сущность есть соотносящаяся с собой отрицательность или снятая отрицательность. Рефлексия полагает, таким образом, непосредственность, бытие, что и означает выражение “полагающая рефлексия”. Таков первый момент полагающей рефлексии. В конце нашего исследования мы обратим внимание на то, что именно неопределенность “непосредственности” окажется важным фактором, как бы подталкивавшим Гегеля к тому, чтобы, отождествляя “рефлексию”, “логическое” и “негативное”, искать в развитии темы “перехода” возможность преодоления мнимой отрицательности Логики как исходного начала, которое - как “результат” Феноменологии - исходным как раз и не является.
Далее, эта непосредственность есть результат снятия отрицательности и есть лишь “возвращение” из отрицательности, есть “непосредственность, сущая лишь как возвращение отрицательного в себя”(1,2,20). Отметим здесь сразу же отличие рефлексии от становления. В “Бытии” непосредственность была первым, тем, с чего начинали, в “Сущности” же непосредственность полагается как результат замкнутого движения отрицательности и есть лишь как “возвращение” из отрицательного. В этом различии проявляется, в частности, положение Сущности как антитезиса в движении логического - поэтому и является неоправданным отождествление логического с негативным аспектом рефлексии, лежащее как в основе истолкования философии Гегеля как лишь негативной философии, так и в основе собственных колебаний Гегеля в вопросе о “переходе” к “непосредственности”, - или как отрицательного момента в целом спекулятивной философии.
Наконец, третий момент полагающей рефлексии состоит в том, что, так как непосредственность есть лишь сливающаяся с собой отрицательность, то возвращение отрицательности в себя означает и снятие полагания или есть “пред-полагание”. Лишь через снятие своего полагания сущность остается внутри себя, в этом снятии рефлексия сливается с собой, поэтому Гегель говорит о нем как о “приходе сущности к себе”(1,2,21).
В конце фрагмента, в котором рассматривается полагающая рефлексия, Гегель характеризует движение
сущности как “абсолютное самооталкивание внутри самого себя”(1,2,21). “Движение как процесс, - говорит Гегель, - поворачивается непосредственно в самом себе, и лишь таким образом оно самодвижение ...”(1,2,21). Конечно, эти характеристики относятся к модели спекулятивного метода “Сущности” в целом, а не ограничиваются лишь моментом полагающей рефлексии, или, с другой стороны, позволяют, может быть, сделать вывод, что именно полагающая рефлексия является важнейшим элементом всего спекулятивного движения “Сущности”.
Снова выходя здесь за границы непосредственного содержания рассматриваемого гегелевского текста, обратим внимание на то, что структура движения энциклопедической системы - “идея - природа - дух” - соответствует именно структуре полагающей рефлексии. Правда, логическая характеристика рефлексии не предусматривает появления какого бы то ни было неразложимого мыслью “существования”, а именно это и должно совершаться в “переходе” от идеи к природе в энциклопедической системе, если она рассматривается вне контекста Феноменологии, т.е. как самодостаточная система. Непосредственность, или бытие, как граница рефлектирующего движения - это не природа (с “существованием” в центре), а непосредственность самой мысли, “бытие”, или целиком осмысленное, тождественное своему “смыслу”, Слово. Принятие “перехода” поэтому неизбежно должно означать, что бытие помысленного оказывается вне мысли, что и разрушает “слово”, помысленное бытие, саму возможность его понимания. - И именно эта “тонкость”, определяющая для всей трансцендентально-спекулятивной философии Гегеля, и “забывалась” им по мере отстранения от контекста “Феноменологии”, в результате чего в образе “системы философии” и была выставлена в конце концов энциклопедическая система.
Вторым моментом рефлексии является внешняя рефлексия. Поскольку непосредственность противостоит рефлексии, и рефлексия начинает с непосредственного как своего иного, она есть внешняя рефлексия. Гегель говорит, что внешняя рефлексия соответствует в сфере бытия бесконечному (см.:1,2,23). Строго говоря, это замечание Гегеля является
неточным. Непосредственный аналог бесконечному следовало бы искать среди рефлективных определений, причем не постольку, поскольку они фиксируют определенную ступень движения сущности, а постольку, поскольку они конструируют собственно модель достижения спекулятивной конкретности на уровне сущности. Внешней рефлексии же как моменту рефлексии соответствует определенный момент становления - прехождение. Но то, что Гегель этой “неточностью” хочет сказать, понятно: сравнением внешней рефлексии с бесконечностью он указывает на непосредственный характер отрицания, который присущ им обеим и который делает внешнюю рефлексию подобной логическому движению в “Бытии” в целом. Внешняя рефлексия вообще подобна движению перехода в сфере бытия. Являясь отрицательным моментом метода “Сущности”, она представляет в сфере сущности бытие и как бы имитирует способ логического движения бытия. Когда Гегель говорит, что внешняя рефлексия полагает “определения, внешние непосредственному”(1,2,23), то кажется даже, что мы вообще находимся в сфере бытия и вступаем в оппозиции непосредственных отрицаний.87
Определяющая рефлексия есть формально единство полагающей и внешней рефлексии, есть полагающая рефлексия, вернувшаяся к себе из внешней рефлексии. Поэтому для нее характерны все определения полагающей рефлексии. По существу же, однако, дело обстоит иначе. Гегель говорит, что “определяющая рефлексия есть рефлексия, перешедшая (обратим внимание на завершенный характер действия, - В.К.) вовне себя”(1,2,27), т.е. то, что есть определяющая рефлексия, говорят на самом деле не ее абстрактные моменты, а ее действительное наличное бытие, ее “реализация”, т.е. рефлективные определения, и к рассмотрению рефлективных определений мы и должны будем сейчас обратиться.
Впрочем, это обстоятельство не должно нас удивлять, ведь и в “Бытии” дело обстояло подобным образом: то, что есть становление как способ логического движения, говорили не возникновение и прехождение, а процесс бесконечности, развившийся из наличного бытия как результата становления. И так, как в “Бытии” модель достижения спекулятивной конкретности рождалась в наличном бытии, и по отношению к
ней способ логического движения вообще - становление - был лишь абстракцией, так и в “Сущности” мы вправе надеяться отыскать в сфере наличного бытия или положенности механизм достижения спекулятивной конкретности, по отношению к которому рефлексия вообще окажется лишь абстракцией. Кроме того, если рефлексия представляет собой новый уровень конкретности по сравнению со становлением, чем, по-существу, задается и новый уровень спекулятивной предметности (Сущность в ее отличии от Бытия), то, может быть, теперь и истинная бесконечность окажется лишь абстракцией модели построения спекулятивной конкретности в сфере сущности.
Стремясь найти в теории рефлексии “намеки”, приоткрывающие завесу над реальными основаниями эволюции (деградаци !) идеи системы у Гегеля, зададимся вопросом, можно ли сопоставить три представленных момента рефлексии с тремя “умозаключениями”, о которых Гегель говорит в последних параграфах “Энциклопедии”. Повторим, что логическая характеристика рефлексии не предусматривает появления какого бы то ни было “существования”, оказывающегося необходимым в структуре “Энциклопедии” (поскольку вся возможная определенность исчерпывающе представлена уже в Логике). Если же ограничиться лишь сравнением формально-структурных элементов этих рядов, то их близость представляется несомненной. В чем основание этой близости ? Думается, специальное исследование этой проблемы могло бы быть очень интересным как раз с тех методологических позиций, которые реализуются в нашей работе.
Обратимся теперь к рассмотрению рефлективных определений. Прежде всего постараемся точнее определить отличие рефлективных определений от непосредственных определений “Бытия”. Гегель говорит, что это определения другого рода, они являются не преходящими, как определения “Бытия”, а устойчивыми, т.е. имеют форму в-себе-и-для-себя-бытия. Если определения сферы бытия находятся в соотношении с иным, то рефлективные определения, хотя и предполагают друг друга, но их бытие есть прежде всего их соотношение с собой. Гегель характеризует их как
безразличные друг к другу, совершенно раздельные, свободные, абсолютные (см.:1,2,25).
Рефлективные определения в “Сущности” соответствуют наличному бытию в “Бытии”, они и есть наличное бытие сущности. Гегель говорит при этом, что в сфере сущности наличное бытие есть лишь положенность, т.е. лишь момент абсолютной отрицательности сущности - рефлексии. Если в “Бытии” наличное бытие было бытием с отрицанием или границей, то в “Сущности” наличное бытие есть ничто с отрицанием, или “приостановленное пульсирование” ничто (см.:1,2,26). (Очевидной аналогией этому положению является феноменологический тезис о труде как заторможенном удовольствии.)
Гегель утверждает, что такая “нигилистическая” основа наличного бытия в “Сущности” утверждает его как нечто более высокое в спекулятивном отношении по сравнению с самим наличным бытием, поскольку лежащая в основе рефлективных определений отрицательность делает их соотнесенными только с возвращением в себя, т.е. делает их самодостаточными целостностями, не нуждающимися в соотношении с иным (поскольку они уже содержат его в себе), свободными, спекулятивно достойными (см.:1,2,26).
Итак, и непосредственные определения “Бытия”, и рефлектированные определения “Сущности” предполагают соотношение с иным, но первые оказываются в этом соотношении преходящими, тогда как вторые обладают устойчивостью, самостоятельностью. Причина этого различия заключается в том, что для первых основанием и стихией, как говорит Гегель, является бытие, тогда как для вторых таким основанием является рефлектированность в себя. Так как бытие не равно отрицанию, то определенность бытия, которая и есть подвергнутое отрицанию бытие, является внутренне неравным и преходящим моментом, исчезающим в “ином”. Рефлексия же, подвергнутая отрицанию, сама есть равенство с собой или рефлексия в себя. (Поэтому рефлективные определения и выражают непосредственно, что есть рефлексия, тогда как определенности наличного бытия прежде всего противостояли становлению, и лишь развивавшийся из них процесс бесконечности снимал это противоречие, конструируя модель
спекулятивной конкретности или выражая то, чем становление было лишь во “в-себе”.) Определение в “Сущности” есть, поскольку оно есть равенство с собой, в “Бытии” же определение есть, поскольку есть бытие, которое, будучи подвергнуто отрицанию, есть в качестве определенного бытия. Одним словом, рефлексия в своем отрицании равна себе, бытие же, подвергнутое отрицанию, есть неравное себе (см.:1,2,27).
Поэтому, если сравнить сказанное с моментами достижения спекулятивной конкретности в “Бытии”, то можно будет сказать, что в “Бытии” определенность непосредственно выступает как конечность, и лишь долгий и трудный путь логического движения приводит к бесконечному, в “Сущности” же определенность изначально есть бесконечное, и все движение здесь уже с самого начала происходит “внутри” “бесконечности”, оно углубляет и конкретизирует построенную в первой части “Логики” модель спекулятивного синтеза. В этом контексте можно еще раз отметить и различие “феноменологической” и “логической” бесконечности, поскольку само начало логического движения, предшествующее построению “логической” бесконечности, само осуществляется уже “внутри” бесконечности - но только “феноменологической”.
В этом в конечном счете и следует видеть причину намеченного выше отличия рефлективных определений “Сущности” от непосредственных определений “Бытия”. При этом следует иметь ввиду, что важна здесь не устойчивость рефлективных определений как таковая, а достигаемая вследствие этого большая по сравнению с определениями “Бытия” конкретность. Гегель говорит, что в рефлективных определениях “определенность укрепилась и бесконечно фиксировалась через соотношение с собой. Именно, определенное подчинило себе свой переход и свою чистую положенность, иначе говоря, свою рефлексию в иное превратило (umgebogen hat) в рефлексию в себя.”(1,2,27)
Попробуем еще взглянуть на рефлективные определения с более общей точки зрения. Рефлективные определения, поскольку они являются наличным бытием сущности как рефлексии в самой себе (или сущности до полагания ею явления), отделены от бытия, и поэтому их соотношение с иным есть соотношение не с иным бытия, а просто с другой
определенностью. Различие бытия и иного остается поэтому всегда внутри рефлексии. “Определенность рефлексии есть соотношение со своим инобытием в самой себе”(1,2,28). Рефлективное определение “приняло свое инобытие обратно в себя”(1,2,28). Рефлективное определение “повертывает соотношение с иным внутрь себя”(1,2,28), а значит, оно есть различие внутри тождества. Поэтому рефлексия и есть “остающийся внутри себя процесс определения”(1,2,28). Заключая иное в себе или являясь посвоей природе соотношением со своим иным (рефлективные определенности, говорит Гегель, есть “такие определенности, которые в себе самих суть соотношения ...”(1,2,30)), рефлективные определенности не нуждаются для достраивания себя до целостности в движении и переходе, они изначально есть такие самодостаточные целостности. Эту простую мысль и повторяет на разные лады Гегель, говоря об устойчивости, свободе и абсолютности рефлективных определений.
В первом примечании рассматриваемой главы Гегель определяет свое отношение к преобразованию рефлективных определений в “законы мышления”, осуществляемому традиционной логикой. Для нас это рассуждение Гегеля интересно тем, что в нем он касается характера связи рефлективных определений друг с другом, т.е. того вопроса, который, являясь в “Сущности” аналогом разработанной в “Бытии” проблематики соотношения конечного и бесконечного, и занимает нас прежде всего в этой части нашего исследования.
В целом Гегель считает, что рефлективные определения имеют не большее право на то, чтобы высказываться в форме положений или законов мышления, чем всякие другие логические определения, например, непосредственные определения сферы бытия. Но преобразование и определений “Бытия” в “законы мышления” потребовало бы выдвижения и противоположных положений, поскольку сами определения бытия есть непосредственно переход в противрположное. Рефлективные же определения соотносятся прежде всего с собой, поэтому превращение их вположения или законы не связано (во всяком случае, непосредственно) с необходимостью выдвижения противоположных положений. Именно это обстоятельство и использует традиционная логика, отстаивая
универсальность так называемых законов мышления.88 Гегель обращает внимание на то, что рефлективные
определения являются в самих себе соотношениями (у нас уже говорилось об этом) или содержат форму предложения. “Ибо предложение отличается от суждения главным образом тем, что в нем содержание составляет само соотношение, иначе говоря, содержание есть определенное соотношение. Суждение же переносит содержание в предикат как общую определенность, которая имеется сама по себе и отлична от своего соотношения, от простой связки.”(1,2,30) Гегель хочет сказать, что когда рефлективное определение в качестве закона логики превращается в суждение, то содержащаяся в нем по самой его природе, как соотносящегося с собой, форма предложения разрывается, и определенное соотношение, которое составляло его содержание, превращается в предикат, связанный простой связкой с искусственным субъектом “все”, “всякое бытие”. Тем самым оказывается, что форма суждения является для рефлективных определений внешней, несобственной и неорганичной для них формой. Они же сами превращаются снова в “качества”, присущие независимому субъекту, или снова превращаются в непосредственные определения сущего.
Со всем, что сказал Гегель до сих пор, невозможно не согласиться. Но далее Гегель говорит, что сами рефлективные определения “определенные по отношению друг к другу; следовательно, они этой своей формой (несоотнесенности с иным как внешним себе и свободы от противоположения, - В.К.) не свободны от рефлексии (направленной на них и, якобы, приводящей их в движение, - В.К.), перехода и противоречия. Поэтому те несколько положений, которые устанавливаются как абсолютные законы мышления, если рассматривать их подробнее, противоположны друг другу; они противоречат друг другу и снимают одно другое.”(1,2,31)
О каком переходе говорит здесь Гегель ? О переходе рефлективных определений друг в друга или о переходе законов мышления ? Если речь идет о законах мышления, то с этим можно согласится постольку, поскольку в них, как уже ясно, рефлективные определения вследствие использования внешней для них формы суждения сводятся к качествам,
определенностям наличного бытия. Последние же, как было показано Гегелем в “Бытии”, действительно переходят друг в друга и снимаются друг в друге. Но, оказывается, Гегель не ограничивается этим, перенося отношения качественного отрицания и перехода и на сами рефлективные определения. Например, в конце рассматриваемого примечания Гегель говорит о необходимости принимать во внимание ту сторону рефлективных определений, которая противоположна их рефлектированности в себя, - их положенность и определенность. Последняя, говорит Гегель, “вовлекает их в переход и отрицание”(1,2,32).
Понятно, что на этих суждениях Гегеля сказалось его полемическое отношение к традиционной логике с ее неизменными законами. Эти законы - если их рассматривать в контексте гегелевской философии - действительно вступают в противоречие друг с другом и даже переходят друг в друга. Но сам же Гегель объясняет и то, что положение это обусловлено тем, что рефлективные определения, высказанные в качестве положений, т.е. через использование внешней для них формы суждения, превращаются снова в непосредственные определенности наличного бытия, противоречивые в себе и преходящие. Однако он - в споре с рассудочной логикой - переносит эти отношения качественного отрицания и перехода и на сами рефлективные определения, что, конечно, неверно с точки зрения его же собственного настойчивого различения бытия и рефлектированных в себя определений сущности. К сожалению, подобное смещение оценок встречается на протяжении “Сущности” не раз, запутывая читателя и вызывая у него ощущение, будто категории и здесь, как и в “Бытии”, переходят друг в друга (что, конечно, представить читателю легче и потому охотно им принимается), тогда как на самом деле речь здесь должна идти не о переходе, а лишь об “отражении” категорий друг в друге. Как было показано выше, в “Сущности” вообще нет никакого субстрата, аналогичного “бытию” “Бытия”, который мог бы “переходить”. То, что связывает определения “Сущности”, есть не какой-либо единый остов, субстрат, подлежащее, а форма рефлектированности в себя, первым образом которой является “тождество”. Одним словом, на протяжении всего
рассмотрения сферы сущности нужно помнить, что здесь все определенности относятся не ко всякому “нечто”, не к сущему вообще, а выступают как моменты рефлектирующего движения сущности. В этом качестве определения не могут переходить друг в друга, они могут лишь “светиться видимостью”, отражаться друг в друге, что в самом общем виде и выражает понятие рефлексии в отличие от понятия становления.89
Первым рефлективным определением, выражающим момент непосредственности рефлексии, является тождество. Хорошо известно, какую роль это понятие играло в немецкой философии на рубеже веков. Переосмысление именно этого понятия имело существенное значение для формирования гегелевской философии в ее самооталкивании от концепции Шеллинга. Однако здесь, в контексте “Логики”, оно рассматривается в значительно более узком значении. По-существу, понятие тождества реализует первый момент рефлексии - полагающую рефлексию. То, что полагающая рефлексия представляет как методологическое требование, понятие тождества высказывает как категориально реализованную целостность.
С избранной в нашей работе точки зрения интерес представляет прежде всего характер взаимоотношения тождества с другим рефлективным определением - различием. Отстаивание Гегелем позиции “конкретного тождества” приводит его к утверждению “внутреннего” характера соотношения тождества и различия. На пути от “тождества” к “различию” нас не ожидает ни “переход”, ни качественное отрицание, их отношения ближе и тоньше. Ведь тождество, которое переходило бы в различие, само было бы абстрактным тождеством, т.е., по-существу, было бы лишь наличным бытием, поскольку “бытие” и есть вообще самое абстрактное тождество в сфере логического.
Конкретное тождество несет различие в себе, поэтому “переход” к различию есть лишь рефлексия в себя. Послушаем рассуждение философа: “Все, что есть, - говорит Гегель, - в своем равенстве с собой неравно себе и противоречиво, а в своей разности, в своем противоречии тождественно с собой ... и в нем самом (выделено мной, - В.К.) совершается это движение перехода одного из этих определений в другое, и ...
именно потому, что каждое из них есть в самом себе противоположность самому себе”(1,2,23). Хотя Гегель снова говорит здесь “переход”, выделенный оборот указывает на его внутренний характер: “переход” есть здесь только вхождение в глубину рефлектированной определенности, в которой открывается, что она есть непосредственно лишь одна из противоположностей, но по существу своему она есть одновременно и другая противоположность, и именно усмотрение этого отождествления с “иным” и есть рефлексия. Вспомним, что и в теории рефлексии внешняя рефлексия - это та же полагающая рефлексия, но начинающая со своего предположения, непосредственного, и “внешней” она является лишь постольку, поскольку начинает с этого предположения как снятого.
В отличие от “бесконечности”, которая была процессом, и в которой одна противоположность опосредовалась другой и просто сменяла в этом процессе другую, здесь тождество противоположностей почти непосредственно, оно не включает в себя смену и прехождение, а есть лишь выявление и “само-выступление” противоположностей друг в друге.
Итак, смысл соотношения тождества и различия состоит в том, что они являются моментами друг друга, т.е. каждое одновременно и в той же мере есть и другое, - без перехода, отрицания и т.п.. Такая свобода отношения к иному есть следствие бесконечной рефлектированности в себя, поскольку именно рефлектированность в себя позволяет быть противоположностью себя, не переставая быть собой, напротив, противоположение себе и есть необходимый отрицательный момент самости. Как помним, в “Бытии” дело обстояло совершенно иначе: бытие и “иное” выступали как сущие, т.е. делили одно и то же бытие, и вследствие этого утверждение одной определенности означало исчезновение другой и наоборот. Связь определенностей или целое определенности достигалось лишь в переходе, в силу чего их опосредование приобретало характер процесса, обладало некоторой “длительностью”. И чтобы свести этот процесс к непосредственности, т.е. придать ему спекулятивную форму единства различенного, создавался такой мощный методологичкеский инструмент, как понятие утвердительной
бесконечности. В “Сущности” же противоположные стороны в самих себе составляют моменты друг друга, и особого механизма опосредования противоположностей не требуется, поскольку нет перехода тождества в различие и наоборот, или они в самих себе несут свое иное. А то движение выявления противоположностей, которое имеется в соотношении рефлективных определений и которое обусловлено их определенностью по отношению друг к другу (мы видели, что Гегель был склонен ее преувеличивать), обеспечивается теорией рефлексии, представленной Гегелем в первой главе “Учения о сущности”.
Второе рефлективное определение - различие. Интересующее нас отношение различия к инобытию “Бытия” Гегель характеризует очень ясно, поэтому я предлагаю послушать философа: “Это различие есть различие рефлексии, а не инобытие наличного бытия. Одно наличное бытие и другое наличное бытие положены как находящиеся друг вне друга (ausseinanderfallend); каждое наличное бытие, определенное по отношению к другому, имеет отдельное непосредственное бытие. Напротив, иное сущности есть иное в себе и для себя, а не иное как иное чего-то другого, находящегося вне его; простая определенность в себе. Также и в сфере наличного бытия небытие и определенность оказались той же природы, тождественной противоположностью; но это тождество обнаружилось лишь как переход одной определенности в другую. Здесь же, в сфере рефлексии, различие выступает как рефлектированное различие, положенное так, как оно есть в себе.”(1,2,38-39)
Как видим, и в этом фрагменте отличие Сущности от Бытия усматривается в отсутствии движения перехода. Рефлексия как бы сжимает путь от одной определенности к другой в точку, вследствие чего противоположности непосредственно совпадают. Стоит лишь помнить при этом,что непосредственность эта есть, конечно, снятое опосредование или “возвращение” из опосредования. Посмотрим еще раз, как характеризует Гегель понятие различия: “Различие как простое не есть различие; оно различие лишь в соотношении с тождеством, но вернее будет сказать, что оно как различие содержит и тождество, и само это соотношение. - Различие есть
целое и его собственный момент, так же как тождество есть целое и свой момент.”(1,2,39) Если сравнить эту характеристику с тем соотношением, которое имело место между конечным и бесконечным, то их различие сведется к тому, что в сфере непосредственной определенности это соотношение имело характер процесса, “длилось”, тогда как в сфере рефлектированной определенности совпадение противоположностей оказывается почти непосредственным (это “почти” отличает еще “Сущность” от “Понятия”). Это постоянно усматриваемое нами различие является главным с точки зрения метода как способа построения спекулятивной науки.
Интересно отметить, что в “Бытии” и “Сущности” непосредственное и опосредованное как бы меняются местами: в “Бытии” категории непосредственны, но при этом в образе утвердительной бесконечности создается мощный механизм их опосредования; в “Сущности” же сами категории рефлектированы в себя, как бы изначально структурированы, поэтому они в самих себе почти непосредственно совпадают со своим иным. То, что достигается этим преобразованием способа логического движения, есть конкретность категорий “Сущности”. Если в “Бытии” конкретным был механизм движения, или конкретность существовала как система переходов между категориями, то в “Сущности” эта развитая конкретность вбирается в каждую категорию, поскольку переход, который прежде был внешним, превращается во внутреннее движение моментов категории.
Впрочем, в ретроспективе “Феноменологии” становится очевидным, что основанием и источником конкретности механизма опосредования логического движения “Бытия” является деятельность сознания, полагающая “бесконечность” как структуру самодвижущейся предметности Логики, так что трансцендентальная установка философии Гегеля выявляется не только вакте “разоблачения” “существования”, но и посредством выведения всего содержания “науки” из изначально-конструирующей деятельности “я”. Рефлексия как один из образов метода Логики также представляет собой лишь проекцию этой деятельности на определенный уровень движения логической идеи - сферу сущности.
Кажется, это отличие метода “Сущности” от метода “Бытия” можно считать естественным резюме данного пункта изложения. Поэтому мы не будем следовать дальше за Гегелем в рассмотрении рефлективных определений. Способ движения различия к противоположности и противоречию соответствует взаимоопределению конечного и бесконечного и становлению “истинной бесконечности” (с учетом, естественно, специфики рефлексии как образа логического метода). С интересующей нас точки зрения это ничего нового уже не даст. Отметим лишь вызываемое измнением способа соотношения категорий изменение в структуре главы о наличном бытии в “Сущности” по сравнению с соответствующей главой “Бытия”.
В “Бытии” категории конечного, дурной бесконечности и истинной бесконечности формируют модель спекулятивного метода, сохраняющую значимость на всем протяжении “Бытия”. Они выполняют эту функцию, будучи практически освобождены от необходимости “предметного” выражения логического. В самом деле, “истинная бесконечность” выражает лишь движение наличного бытия к для-себя-бытию, занимая формально скромное промежуточное место в ряду категорий качества. Если присмотреться, то становится ясно, что различие “истинной бесконечности” и “для-себя-бытия” есть различие методологической и предметной функций, выполняемых, по-существу, одной категорией.
В “Сущности” “бесконечности” соответствует формально “противоречие”. Однако, ситуация здесь действительно была бы аналогичной лишь в том случае, если бы между “противоречием” и “основанием” имелась бы еще категория “разрешенного”, или (по аналогии с “Бытием”) “утвердительного” противоречия. Реально же в “Сущности” категория основания совмещает в себе функции, которые в “Бытии” выполнялись категориями истинной бесконечности и для-себя-бытия. “Основание” есть и снятие дурной бесконечности “противоречия”, и предметная реализация этого снятия, т.е. “основание” выполняет и методологическую, и предметную функции. Это возможно постольку, поскольку собственно методологическое значение “основания” минимально (вспомним, кстати, и о том, как иронично высказывается Гегель об этой категории в Малой логике),
моменты рефлексии уже обладают в самих себе внутренней структурностью и просто не нуждаются во внешнем механизме опосредования. Основание у Гегеля является, таким образом, и одним из рефлективных определений, и результатом снятия всех рефлективных определений.
Итак, рефлективные определения, в отличие от непосредственных определений “Бытия”, уже содержат свое иное в себе, не нуждаясь для отождествления себя с целым в переходе, самоотрицании. Они как бы лишь всматриваются в себя, в результате чего выявляется их соотношение с иным. Но это есть лишь внутреннее соотношение самой определенности, оно совершенно имманентно ее собственному движению. Поэтому рефлектированная определенность является особым образом пластичной, уготовляя в себе место для всякой отрицательности, котораявозникает в логическом движении. Эта пластичность, однако, не есть податливость внешнему, поскольку иное уже содержится в рефлективной определенности, и его выявление есть тот процесс, в результате которого достраивается до целого сама рефлексия.90 Движение рефлексии как образ спекулятивного метода в “Сущности” поэтому просто не нуждается в жесткой схеме снятия иного, чем, по-существу, была “истинная бесконечность”; методологическая модель разрешения противоречия не строится как самостоятельная конструкция, отрицательность сущности непосредственно разрешается в категорию основания.
Движение рефлективных определений в сфере сущности дает более высокий уровень конкретности, чем это достигалось при помощи механизма “истинной бесконечности” в сфере бытия, но конкретность эта реализуется в категориях, которые фиксируют новый уровень близости противоположностей, тогда как форма логического метода, напротив, становится проще и, в некотром смысле, абстрактней. Можно сказать, что в “Логике” процесс конкретизации мысли (смыслов, категорий) есть одновременно и процесс “утончения” метода как способа движения категорий, или вообще характера отношений между ними. В “Сущности” метод становится как бы прозрачным, а в “Понятии” и вовсе улетучивается. Причина этого преобразования метода “Сущности” в сравнении с методом
“Бытия” заключается в выявившемся неравноправии бытия и “иного” в сфере сущности. Иное, которое представляло в “Сущности” бытие, поскольку оно отлично от сущности, есть здесь лишь видимость. (В “Сущности” “сущность” есть действительное бытие, или то, чем стало “бытие”, т.е. его истина, а “видимость” - бытие как лишь бытие или “бытие” в его отличии от “сущности”.) В “Сущности” Гегель снимает с процесса противоречия, который аналогичен процессу бесконечности,91 методологическую функцию, оставляя за ним лишь функцию предметную, “подготовку” категории, фиксирующей новый уровень конкретности логической идеи. Рассмотрение же метода “Сущности” он переносит в изначально более “абстрактное место” - третью часть первой главы, “Рефлексию”. Это, по видимости, лишь формальное изменение обусловлено, таким образом принципиальным для “Логики” преобразованием соотношения между интенсивностью метода и конкретностью категорий.
Теперь, пройдя вместе с философом по ступеням рефлексии и рефлективных определений, попытаемся нарисовать более свободный образ метода “Сущности”. Как мы видели, сущность как первое отрицание бытия есть бытие, от которого непосредственная определенность только “отодвинута”, устранена. Но так как это установление сущности в качестве простого единства, противостоящего определенности бытия, является ее собственным движением самопорождения, то определенность остается сохраняющейся в сущности. Эта сохраняемая сущностью определенность есть в-себе-бытие простого единства сущности, и поэтому она противостоит той непосредственной определенности, которой лишила себя сущность, снимая в категории абсолютной неразличенности все определения бытия. Таким образом, определенность, которую должна сообщить себе теперь сущность, есть не просто другая по отношению к определенности бытия, принципиально иным должен быть сам механизм ее порождения “внутри” сущности, другой она должна быть, следовательно, и по своей структуре.
Гегель говорит, что в “Сущности” “процесс определения имеет другую природу, чем процесс определения в сфере бытия”(1,2,9). Послушаем, как в общих чертах характеризует
философ процесс определения в “Сущности”: сущность “различает определения, которые содержатся в ней в себе; так как она есть отталкивание себя от самой себя, иначе говоря, безразличие к себе, отрицательное соотношение с собой, то она тем самым противополагает себя самой себе и лишь постольку есть бесконечное для-себя-бытие, поскольку она единство с собой в этом своем отличии от себя”(1,2,9). Далее Гегель говорит, что “сущность - это абсолютное единство в-себе-бытия и для-себя-бытия; процесс ее определения остается поэтому внутри этого единства и не есть ни становление, ни переход, равно как и самые определения - это не нечто иное как иное и не соотношение с иным. Они самостоятельные, но тем самым лишь такие самостоятельные, которые находятся в единстве друг с другом.”(1,2,9)
В “Бытии”, где определенность выступала изначально тождественной с бытием, свести воедино несколько определений означало перейти от одного из них к другому, поскольку вместе с определениями “двигалось” и само бытие. Прежде всего этим определяется специфика диалектического движения в “Бытии”. Пройдя три круга определенностей, бытие устанавливает свою независимость от них. Финал “Бытия” в определенном аспекте чисто негативен: бытие есть, когда оно не есть нечто непосредственно определенное, когда оно вообще свободно от определенности (поскольку другой определенности оно еще не знает). Оно меняет определенности, оставаясь самим собой, а тем самым оно отстраняет их от себя, утверждая себя - как сущность - в противопоставлении к ним.
Позитивный аспект этого результата заключается, однако, в том, что, отказываясь отождествлять себя с какой бы то ни было точкой поля непосредственной определенности, бытие как сущность само перестает быть “точкой”, как бы растягиваясь в “сферу”, становясь объемным. Тем самым бытие (сущность) перестает нуждаться в движении для того, чтобы устанавливать свое бытие как определенное бытие, а сам процесс его самоопределения не оказывается более переходом или становлением, моменты же этого процесса не есть уже “иное” по отношению друг к другу. Все они уже находятся в сущности и тождественны с ней, и сущность, показывая себя в “Сущности”, лишь вглядывается в себя , находя в самой себе
то богатство определенности, которое в “Бытии” выступало как завоеванное, добытое извне. Теперь ясен тезис Гегеля о тождестве в-себе-бытия и для-себя-бытия в сущности, поскольку всякая определенность, которая может быть развита сущностью, изначально есть в ней.
Если продолжить намеченный выше образ, то можно представить, что в “Бытии” бытие есть некоторая бесцветная точка, блуждающая по серой, но потенциально всецветной плоскости определенностей (смыслов) и находящая себя в отождествлении с одним из цветов поля. В результате этого отождествления точка загорается различными цветами, но с возникновением нового цвета в ходе этого путешествия совпадает угасание прежнего. Сущность стремится пробежать как можно больше точек, но не может собрать их в единство, оставаясь всегда лишь одноцветно окрашенной. К тому же выявляется, что цвета повторяются, их количество конечно, а соединяющая их глубина по-прежнему остается серым мраком, поскольку для воспламенения оттенков, которые она хранит в себе, необходимо одновременное отождествление как минимум с двумя цветами.
Отчаявшаяся достичь своей цели точка останавливается, а тем самым и сбрасывает с себя все цвета, выпадая из плоскости непосредственных определенностей. Она становится простым светом, озаряющим одновременно все поле определенностей (смыслов). Однако бытие (сущность) не довольствуется добытым для-себя-бытием света, поскольку, просто противопоставленный абстракциям цветов, свет сам есть лишь бесцветность, т.е. абстракция как таковая, бытие, просто удаленное от различий, выступающее лишь как абсолютная неразличенность. Поэтому точка сущности, отвернувшись от многокрасочного поля, обращается сама на себя, отталкивает себя от самой себя и разрывает простоту света на составляющие его определенности, но берет их уже не как найденные, а как добытые собственным действием из самого себя. Поэтому сущность остается независимой от них, а значит, не нуждается и в их зависимости от себя. Поэтому определения сущности по отношению к определениям бытия выступают как свободные или уже содержащие в себе целое определенности.
В связи с тем, что определения сущности возникают как
результат ее обращения на себя, самооталкивания, они имеют принципиально иную структуру, чем определения бытия, а именно: каждая категория включает в себя два противоположных полюса, есть сама в себе “отношение”. Сущность как бы схватывает свой предмет с двух - противоположных - точек зрения. Для достижения единства различенного она не нуждается поэтому в переходе от одной определенности к другой. То, что в “Бытии” было становлением - взаимным переходом возникновения и прехождения - в “Сущности” есть рефлексия, моменты которой не переходят друг в друга, а тем самым и сохраняют себя в тотальности рефлексии.
Вернемся к нашему образу перехода бытия в сущность. Бытие, утверждая себя как сущность, делает себя “объемным”, как бы растягивает свою точечность. Поэтому поле определенностей, по которому путешествовала точка бытия, будучи лишь плоскостью, становится элементом возникшей сферы. Бытие как бы втягивается в точку-сущность, как только последняя обращает свой взор на себя. И в последующем всматривании сущности в себя она постоянно будет находить в себе следы уже пережитых ею состояний - определенности бытия.
Поэтому можно сказать, что бытие сохраняется в сущности не только “генетически” - поскольку движение, приведшее к становлению сущности, было движением бытия - но и структурно, поскольку одна крайняя точка линии, представляющей в сфере сущности каждую из ее определенностей, будет совпадать с соответствующей ей определенностью бытия. Например, тождество как простая рефлексия в себя есть бытие, а действительность -мера и т.п.. Если же указывать соотношения более подробно, то получим, например, что действительности как рефлексии в иное будет соответствовать узловая линия отношений меры, а как рефлексии в себя - безмерное. В целом бытие составляет как бы половину внешней поверхности сферы сущности. Это видимость сущности, то, чем непосредственно она видится. Бытие есть то, что непосредственно видимо в сущности. То, что мы видим, есть бытие, но когда мы видим, что оно - лишь фрагмент внешности сущности, оно - видимость. То, что
должно находиться здесь на переднем плане, - это рефлексия как движение полагания сущностью видимости, рефлексия как образ спекулятивного метода “Сущности”.
В описываемой сфере точкой пересечения всех определенностей сущности будет выступать Понятие. Это точка, в которую вновь будет со-впадать вся противо-поставленность сущности (из которой, следовательно, также можно будет видеть каждую из определенностей бытия-сущности). Залогом достижения этого результата движения сущности является то, что сама эта противопоставленность разворачивалась уже внутри простого единства точки-сущности, отвернувшейся от поля определенностей бытия.
В1 а а - полусфера бытия; С В1, В2, В3- рефлективные определения сущности; В2 С - Понятие В3
Сущность “противополагает себя самой себе и лишь
постольку есть бесконечное для-себя-бытие, поскольку она - единство с собой в этом отличии от себя”(1,2,9). Такая характеристика метода “Сущности” возможна потому, что понятие бесконечности - и именно логической бесконечности, - лежащее в его основе, уже было построено в “Бытии”. Там это было достижением, здесь же это лишь условие, то, с чего только и начинается движение. Принципиальное отличие метода “Сущности” от метода “Бытия” заключается в том, что в “Бытии” тождество актов полагания различия и снятия его достигалось в финале, и этим снималась определенность сферы бытия как непосредственная определенность, в которой бытие и иное выступали как равноправные сущие, прямо, без опосредования отрицавшие друг друга; в “Сущности” же это тождество составляет исходный пункт. Все последующие события будут происходить “внутри” него, или: всякая рефлексия в иное оказывается здесь рефлексией в себя. Тем самым иное снимается не как сущее, что имело место уже в “Бытии”, но и как лишь соотносящееся с сущностью, как видимость. Логическое движение в результате этого преобразования метода становится легче и “прозрачней”, как бы убыстряется, лишаясь препятствий, выступавших в различных образах инаковости. Граница движения сущности ляжет там, где это “ускоренее” еще будет отягащено видимостью как образом иного. Снятие же иного и как
видимости будет означать, что движение спекулятивного метода, становясь полностью свободным, достигло максимальной скорости, или покоя.92 Рефлексия как образ спекулятивного метода в “Сущности” находится между “становлением” “Бытия” с его равноправием возникновения и прехождения и “развитием” “Понятия”, в котором иное отсутствует в каком бы то ни было образе.
Сущность как самодвижение, как полагание видимости и ее снятие, есть рефлексия. Рефлексия разлагает целое на моменты, но - и это самое главное - лишь таким образом, что утверждает их бытие как снятых в целом, сущности. Тем самым рефлексия есть соотносящаяся с собой отрицательность. Отсюда подвижность рефлексии как образа спекулятивного метода. Для нее нет никакого внешнего отягощения, поскольку видимость как образ иного в “Сущности” сама есть момент рефлектирующего движения сущности.
Повторим сказанное еще раз, но теперь уже с точки зрения бытия. Если в “Бытии” бытие было тем непосредственным, с которого начинали и которое переходило в иное как сущий субстрат, в любом образе оставаясь основанием, субъектом изменяющихся определенностей, то в “Сущности” такого субъекта просто нет, поскольку в рефлектирующем движении сущности пребывающим и непосредственным моментом является не какой-либо субстрат, а само движение, завершенное отрицание или отрицание отрицания.
Этот результат понятен, если вспомнить, что для “Сущности” логическое понятие истинной бесконечности, расплавлявшей всякую сущую непосредственность в бесконечную самоотрицательность, для-себя-бытие, является тем полем, в котором и происходят все события. В “Сущности” бытие есть не некая непосредственность, подвергшаяся отрицанию и тем самым сформировавшая свою определенность, а лишь завершенное, т.е. соотносящееся только с собой, движение отрицания. Принципиально здесь то, что под этим отрицательным как началом сущности не следует искать никакого твердого основания, непосредственности, сущего, поскольку в истинной бесконечности движение отрицания было завершено уже и на логическом, а не только на
феноменологическом, как прежде, уровне, и то, что есть теперь как непосредственное, есть на деле лишь соотносящееся с собой бесконечно-отрицательное.
Теперь не кажется странной формула, согласно которой рефлектирующее движение сущности есть “движение от ничто к ничто и тем самым движение обратно к самой себе” (1,2,18-19). Послушаем очень ясное толкование этого тезиса, которое дает Гегель: “Переход или становление снимает себя в своем переходе; иное, которое становится в этом переходе, не есть небытие некоторого бытия, а ничто некоторого ничто, и это - то, что оно отрицание некоторого ничто, - и составляет бытие. - Бытие дано здесь лишь как движение ничто (des Nichts) к ничто; в таком случае оно сущность; сущность же не имеет этого движения внутри себя, а есть это движение как сама абсолютная видимость, чистая отрицательность, не имеющая вовне себя ничего такого, что она отрицала бы, а лишь отрицающая само свое отрицательное, сущее только в этом подвергании отрицанию.” (1,2,19) Обрратим внимание еще на одну очень простую переформулировку этой мысли: рефлексия есть “чередование отрицательного с самим собой” (1,2,19). Все дальнейшее изложение “Учения о сущности” является конкретной реализацией и уточнением этой фундаментальной характеристики спекулятивного метода.
Каким образом, однако, может осуществляться в “Сущности” логическое движение, процесс конкретизации ? Вспомним, что в “Бытии” определенность формировалась через о-пределивание, ограничение исходной непосредственности, почему первоначально и была связана с конечностью наличного бытия и лишь через истинную бесконечность возводилась к спекулятивной форме для-себя-бытия. В “Сущности” же не может быть конкретизации через ограничение непосредственного начала, поскольку нет самого непосредственного начала. Но как же в таком случае происходит движение различения, “структурирование”, сущности ? Что служит основанием процесса конкретизации в “Сущности” ?
Отсутствие в движении сущности иного как равноправного сущего, способного ограничивать исходное начало, компенсируется как бы постоянной сменой
направления движения, вследствие чего движение всегда предстает как “возвращение”. В “Сущности” это свойство рефлексии представлено как фундаментальная характеристика метода. Фундаментальность “возвращения” для “Сущности” определяется тем, что задающая эту тему полагающая рефлексия есть и принцип сущности вообще, определяющий ее как движение ничто. Именно связь с ничто придает теме возвращения в “Сущности” такую значимость, ведь сущность и есть отрицательность как принцип - в противоположность и бытию, и понятию.
Образ возвращения представляет собой указание на такое движение, в котором целью является само движущееся, пред-ставляющее сябя в качестве иного. Это пред-ставление, или предполагание, указывает на видимость как момент движения сущности. Что собой представляет видимость как иное в сфере сущности по отношению к сфере бытия, уже было сказано. Теперь следует сказать, что по отношению к сфере понятия видимость есть такое иное, которое снимается не само в себе, но лишь в завершающемся движении целого. В “Понятии” же отсутствие иного в каком бы то ни было образе обусловливается непосредственностью совпадения каждого момента движения с целым логического, о чем мы еще будем говорить в дальнейшем изложении. Все категории “Сущности” так или иначе воспроизводят сформулированный в первой главе мотив возвращения. Более того, влияние этого образа возвращения распространяется и на все логическое движение вообще, основанием чего в конечном счете является та роль, которую в Логике Гегеля играет принцип отрицательности, ведь, как ясно, тема возвращения является иносказанием преодоления отрицательности начала. В некотором смысле и вся Логика может быть представлена как единая “формула возвращения”. При этом нужно, конечно, видеть и существенные различия в реализации темы возвращения в различных частях “Логики”. В “Бытии”, например, Гегель также характеризует опосредование как “возвращение к себе через свое отрицание”(1,1,213). Однако, существенно то, что то иное, из которого осуществляется движение возвращения в “Сущности”, есть лишь пред-положенное иное, пред-ставленная сущностью видимость,
тогда как в “Бытии” речь идет о действительной инаковости, непосредственном отрицании бытия. Чистая структура этого акта еще не освободилась от своего носителя - бытия. В “Сущности” же бытие не является действительным субстратом логического движения, вследствие чего спекулятивная структура и принимает свою чистую, определяемую лишь характером спекуляции, форму. Отсюда - универсальное значение для Логики именно того образа возвращения, который открывается нам в сфере сущности, тогда как специфические особенности сферы бытия ограничивали возможности использования этого образа.93 Частным случаем этого движения рефлексии является и популярная у исследователей диалектика “начала” и “конца”. Можно просто сказать, что основная характеристика логического предусматривает абсолютную пластичность, т.е. способность разворачивать себя в многообразие моментов и снова сводить их к исходному единству. Метод Логики с этой точки зрения должен быть представлен как нахождение такого способа разложения единства, который допускал бы и даже делал бы неизбежным его последующее восстановление, как такой путь "вперед", который сохранял бы открытым путь "назад", или даже просто нахождение такого "вперед", который на деле и был бы "назад". Приведем лапидарную формулу самого философа: "движение как процесс поворачивается непосредственно в самом себе, и лишь таким образом оно самодвижение..." (1,2,21). Эта смена направленности в рефлектирующем движении приобретает облик самоотталкивания, поскольку сущность тождественна с собой в каждом фрагменте своего движения: "Рефлексия есть и она сама, и ее небытие, и она есть она сама, лишь поскольку она свое собственное отрицательное, ибо только таким образом снятие отрицательного есть в то же время слияние с собой".(1,2,22)
Обратимся теперь к рассмотрению конкретного способа реализации описанной теории рефлексии. Возьмем для примера определения развитой сущности - категории случайности, возможности и необходимости, сравнивая позицию спекулятивной философии Гегеля с анализом понятия необходимости в философии Канта. Как уже упоминалось в
начале нашего исследования, предмет познания и Кант, и Гегель рассматривают как результат деятельности самого сознания, как то, что возникает только в процессе познания и что имеет смысл только как сущее для сознания. Но результатом реконструкции предмета познания у Канта оказывается "опыт", а у Гегеля в конечном счете - спекулятивное мышление, созерцающая себя логическая идея, причем существенное различие этих результатов определяется именно различием подходов мыслителей к установлению характера функционирования в их системах категорий возможности, случайности (существования) и необходимости. В чем основание этого различия? - Развитие немецкой философии после Канта, упразднившее вместе с "вещью в себе" отстаивавшееся Кантом различие чувственности и рассудка, привело к отождествлению "познания" и "мышления" и, как следствие, к отождествлению действительного существования предмета, которое у Канта удостоверяется только опытом, с возможностью предмета, для чего, по Канту, достаточно лишь формальных условий возможности опыта. Следствием этого отождествления в конечном счете и является понятие необходимости, которое выступает в гегелевской философии как результат взаимопереходов случайности (непосредственного существования) и возможности (простой рефлексии в себя), как тотальность, в которой исчезают абстракции лишь возможного и лишь существующего.
Понятие необходимости, вообще говоря, может иметь место только в философской системе, конструирующей онтологически однородный универсум, или, во всяком случае, универсум, в котором все события хотя бы в принципе могли сводится к одному началу. Онтологическая однородность конструируемого мира делает модальные характеристики подвижными. Необходимость как логическая категория и означает непосредственно лишь подвижность модальных характеристик, возможность лишь формального разграничения непосредственного существования и рефлексии в себя. Канту же, сохраняя принципиальное различение познания и мышления и действительного и возможного миров как их онтологических коррелятов, так и не удалось обосновать понятие необходимости, которое по самой природе мысли
выражает единство возможного и существующего: необходимость - это достаточность для действительного существования одной лишь возможности. У Канта же переход возможности в действительность предполагает связь с материальными условиями возможности опыта (ощущениями), и, значит, связь с действительным согласно с общими условиями опыта, чего требует понятие необходимости, определена быть не может. Сам Кант пишет: “Явление будет обязательно только при условии существования опыта; но существование последнего никому не определить с необходимостью, ибо возможная эмпирическая действительность, т.е. возможный опыт, представляет собой что-то совершенно случайное.”(23)
При сохранении опыта в качестве единственного способа удостоверения существования объекта категория необходимости может быть обоснована только через допущение завершенности опыта. Г.Тевзадзе в своем исследовании о философии Канта пишет: “Если представить абсолютно осуществленный опыт, то в нем возможное, действительное и необходимое совпадут друг с другом: неосуществленное возможное будет здесь не возможностью, а невозможностью, действительное же, являющееся подобным опытом, - необходимым.”(39,246)
Обоснование категории необходимости означает, по-существу, снятие непосредственности существования в более широком бытийном контексте. В системе Канта это оказывается достижимым лишь с помощью “полной индукции”. В системе Гегеля этот путь, конечно, также не является закрытым. Излишне знаменитый гегелевский “конец истории” и указывает на такую методологическую позицию, для которой опыт завершен, а следовательно, появляется возможность ввести понятие необходимости и в описание не-спекулятивной предметности, представляя предшествующие состояния “мира” (в действительности - лишь “историческое”) в качестве необходимых ступеней становления сформировавшего себя целого (как “логическое”).
Однако, непосредственно для обоснования категории необходимости, в “Логике”, он, конечно, не используется. Снятие непосредственности (существования) оказывается
возможным у Гегеля уже в силу того, что в логической предметности, в соответствии с характером рефлектирующего движения, всякая непосредственность есть лишь как возвращение из опосредования, т.е. дана лишь как момент движения всеохватывающей рефлексии. По отношению к непосредственному “существованию” (модальная характеристика которого - случайность) возможность оказывается его простой рефлексией в себя или выражает момент его самотождественности. “Существование” (на уровне логической предметности: мыслимая непосредственность, достижение которой в финале “Логики” никак не может означть поэтому “перехода”) тем самым оказывается снятым не путем охвата “извне”, как это имело бы место в случае допущения завершенности опыта, а путем его схватывания рефлексией “изнутри”.
Но, конечно, такое “внутреннее” снятие существования возможно лишь на уровне спекулятивной предметности, в Логике, только в сфере спекулятивной предметности всевластна рефлексия, только на этом уровне гегелевский универсум онтологически однороден.94 Как мы видели выше, уже на уровне реально-философской предметности категориально постигаемая философом структура не может вместить в себя “факты”, “единичные события”, которые подлежат понятиям реальной философии и упорядочиваются законами науки. Одним словом, только в Логике имеет место специфическое “совпадение” возможности, случайности и необходимости, которое обусловлено универсальной теорией рефлексии.
Ясное понимание универсальности рефлексии черезвычайно важно для уразумения самого существа спекулятивной философии. Утверждение всякой непосредственности как лишь момента завершенного в себе рефлектирующего движения сущности делает бессмысленными все попытки критики философии Гегеля с позиции какой-либо непосредственности, возвышающейся, якобы, над все проникающим движением мысли, абсолютным методом. Приведем здесь суждение Х.-Г. Гадамера, верно характеризующего эту особенность рефлексивной философии. Для нас при этом безразлично, что он все же не принимает
систематических выводов рефлексии, пытаясь поставить под сомнение неизбежность спекулятивного финала пути феноменологического опыта. “Полемика против абсолютного мыслителя лишена собственной позиции. Архимедову точку опоры, которая позволила бы перевернуть гегелевскую философию, никогда не удастся найти в рефлексии. Формальная особенность рефлексивной философии и состоит как раз в том, что не может быть никакой позиции, которая не была бы включена в рефлексивное движение самосознания, приходящего к себе самому. Возня с непосредственностью - будь то непосредственность телесной природы, или непосредственность другого “Ты” с его притязаниями, или непосредственность непроницаемой фактичности исторического случая, или, наконец, реальность производственных отношений, - постоянно опровергает самое себя, поскольку она сама является не непосредственным отношением, но деянием рефлексии.”(15,406) Гегель в лапидарной форме выразил это сущностное определение мысли следующим образом: “Мысль и всеобщее есть именно то, что она есть она же сама и ее иное, что она захватывает затем и это последнее, и ничто не остается вне ее”(4,1,114).
Подведем итоги рассмотрения метода “Сущности”. В чем состоит принципиальное отличие подвижности определений “Бытия” от соотношения рефлективных определений в “Сущности” ? Гегель стремится показать, что для непосредственных определений сохраняется возможность мыслить некоторую определенность, не соотнося ее тем самым с ее иным, тогда как для рефлективных определений мышление определенности возможно лишь через соотнесение ее с противоположной определенностью, поскольку обе они являются полюсами одной и той же категориальной целостности. В “Бытии” определенности переходят друг в друга, в “Сущности” перехода от одной категории к другой нет, здесь “время”, в котором происходит логическое движение, как бы сжимается. Но полного совпадения противолежащих категорий еще не происходит, непосредственность - хотя бы в образе видимости - еще сохраняется в “Сущности” в качестве смысла, не вполне проработанного рефлексией, границы ее спонтанного движения. Гегель говорит о рефлективных
определениях, что они в своем понятии содержат свое иное (см.: 1,2,61); или: “каждое из них (рефлективных определений, - В.К.) в самом своем понятии содержит другое”(1,2,63).
В “Сущности” “часть” не нуждается в отождествлении с целым логического. В “Бытии” это отождествление достигалось в процессе движения от одной категории к другой, в результате чего “траектория” этого движения оказывалась замкнутой. В “Сущности” же “часть” уже содержит в своем понятии “целое”, а тем самым и ту действительность, которой она должна достичь. Здесь целое, действительность, имеет уже не образ пути, который должен быть преодолен, а, скорее, образ глубины, которая уже “есть”, но лишь должна быть увидена. Сущность посредством рефлексии, т.е. видения всебе самой, как бы стягивает в одну точку ту структуру, в которую развернуло себя бытие, и “каркасом” которой служило понятие бесконечности. Пока эта работа совершается, пока еще живет различенность, которую сливает во-едино обращенное на себя движение рефлексии, логическое есть сущность. Но “как только” это движение будет завершено, логическое выступит как понятие, или Понятие, если указывать на идеал всего логического движения.
Вернувшись к нашему образу шара, в котором бытие составляло половину внешней поверхности, а категории “Сущности” представляли собой заполняющие весь его “объем” линии, соединявшие точки полусферы бытия с противолежащими им точками “иного”, можно сказать, что Понятие выступит в качестве точки пересечения всех линий сущности, в качестве центра сферы. Но так как ввиду абсолютной “пластичности” метода “структурное” совпадает в логическом с “генетическим”, то сфера в ее отличии от центра должна и совпадать с ним. Движение этого совмещения противоположных состояний, “пульсирование” сферы, и есть движение сущности, устанавливающее различие Бытия и Понятия и снова сводящее его к тождеству.
Движение спекулятивного метода “Понятия” будет происходить в покое достигнутого состояния самотождественности бесконечно противоречивой в себе логической идеи. И это движение окажется максимально “быстрым”, поскольку сам “покой” логического означает
просто максимально возможную “скорость” движения опосредования, предельную степень конкретизации логической идеи.
3. Учение о понятии. Движение спекулятивного метода “Сущности” вывело на
первый план интуицию конкретного тождества. Положенность единства, целого в сфере понятия обусловлена тем, что в категории взаимодействия окончательно выявляется видимость инаковости, выявляется, что причина полагает только саму себя, и что действие есть лишь движение причины, и их различие есть лишь как исчезающее. Снятие видимости их инаковости по отношению друг к другу означает перевод движения конкретизации логической идеи на новый уровень, или достижение максимальной скорости спекулятивного движения. Теперь оно будет происходить лишь внутри тождества, или тождество понятия и его моментов будет положено как то предметное поле, которое теперь только и подлежит рассмотрению. Так осуществляется переход от “генетической экспозиции” Понятия к его собственному - пластичному, имманентному его природе - разворачиванию. Заметим, что категория взаимодействия играет в “Сущности” ту же роль, что и категория абсолютной неразличенности в “Бытии”: и там, и здесь завершенное диалектическое опосредование определяет себя как простое тождество, и это событие задает новый уровень спекулятивной конкретности, а тем самым и новое предметное поле.
Заметим здесь, что тем “новым” полем, которое будет положено завершением “Понятия”, окажется “бытие”, а вовсе не “природа”, “переход” к природе требовал бы и перехода на более “низкий” феноменологический уровень, а этот акт не может быть осуществлен лишь логическими средствами, поскольку Логика - как “мыслящее себя мышление” - содержит только формы-”чтойности”, указывает только на бытие-определен-ность, и никак не связана с материей, внешней мысли субстратностью, “существованием”.
Гегель называет понятие “возникшей из взаимодействия целокупностью”(1,3,14). Целокупность (тотальность) должна при этом пониматься как логическая идея на “финальном” участке своего движения самоопределения, когда “каждый из
моментов есть целое, представляя собой понятие, и положен как нераздельное с ним единство”(4,1,14).95 Именно к такому пониманию соотношения бытия и иного приводила категория взаимодействия, в которой каждая из взаимодействующих субстанций (моментов взаимодействия) “положена в своем ином лишь как всецело тождественная с собой”(1,3,15).
Следует точно представить отличие тождества в сфере понятия (всеобщности) от тождества сущности. Отношения бытия и иного, основанные на тождестве понятия, Гегель противопоставляет отношениям бытия и иного, основанным на тождестве сущности, как свободу и необходимость. Необходимость понимается как тождество субстанции, осуществляющееся через тождество ее моментов, удерживающих свою инаковость по отношению к ней, свобода же - как положенное тождество, в котором допускается максимальное разнообразие, поскольку оно уже не есть инаковость по отношению к тождеству, но непосредственно совпадает с ним.
По-существу, противопоставляя таким образом “логические” свободу и необходимость, Гегель в очередной раз отличает свое понимание конкретного тождества, или всеобщности, от рассудочного, абстрактного тождества, черты которого еще определенно сохраняются в абстрактно-всеобщих понятиях субстанции и необходимости. То, что особенно старается подчеркнуть Гегель, - это непосредственность совпадения понятия и его моментов. Обратим внимание на очень характерное для специфики спекулятивного метода “Понятия” выражение: “когда постигается и высказывается одно, при этом непосредственно (выделено мной, - В.К.) постигается и высказывается другое”(1,3,15).
Итак, в “Понятии” определенность есть всеобщность, или положено тождество всякого определения с другим определением и с целым логического. Повторим, что по отношению к “Бытию” и “Сущности” такой способ соотношения определений характеризуется Гегелем как свобода в противоположность необходимости. В соответствии с этим фундаментальным отличием сферы понятия от сфер сущности и бытия Гегель характеризует и непосредственно занимающий нас способ диалектического движения в
“Понятии”. Послушаем философа: “Поступательное движение понятия не есть более ни переход, ни видимость в другом, но есть развитие, так как различенное одновременно непосредственно положено как тождественное с другим и с целым, и определенность положена как свободное бытие свободного понятия.”(4,1,343) В прибавлении поясняется: “Переход в другое есть диалектический процесс в сфере бытия, а видимость в другом есть диалектический процесс в сфере сущности. Движение понятия есть, напротив, развитие, посредством которого полагается лишь то, что уже имеется в себе.”(4,1,343) Далее читаем: “Понятие в своем процессе остается у самого себя и ... через него потому не полагается ничего нового по содержанию, а происходит лишь изменение формы”(4,1,343). И наконец: “ движение понятия мы должны рассматривать лишь как игру: полагаемое этим движением другое на деле не есть другое”(4,1,343).
Теперь, в “Понятии”, когда стал окончательно ясен смысл спекулятивного метода, поскольку он предстал перед нами как завершенная эволюция своих форм, стал ясен и смысл терминов “абстрактное” и “конкретное”, являющихся как бы полюсами движения метода. Конкретное явило себя как бытие, непосредственно совпадающее с “иным” и с “целым”, как само целое, с-вернувшее бесконечно развитую определенность в одну точку, а абстрактное - как бытие, отделенное от своей противоположности и потому не совпадающее с целым, отстраненное от него (изначально оно пребывает лишь в нем) и нуждающееся в нем.
Понятие как всецело конкретное есть “спекулятивный идеал”, абсолютная идея, и в этом образе оно еще будет предметом нашего рассмотрения. Но с точки зрения движения метода, конкретное в сфере понятия есть уже “единичное”, являющееся здесь аналогом “становления” и “рефлексии”. Вспомним прежде всего об отличии отношения единичного к своим моментам - всеобщему и особенному - в сравнении с аналогичными соотношениями с участием становления и рефлексии: единичное непосредственно совпадает со своими моментами, поскольку всякое различие в сфере понятия изначально есть как снятое, как момент, сущий лишь в целом, конкретном тождестве. Поэтому всеобщее есть простое
тождество понятия, особенное - тождественная ему определенность. В силу завершенности этой определенности она соотносится лишь с собой или есть лишь само всеобщее. Вот это-то всеобщее как результат непосредственного совпадения всеобщего и особенного и есть единичное. Непосредственное совпадение в движении метода формы тождества и бесконечной определенности и есть конкретность, достигаемая спекулятивным методом в “Понятии”, - то, к чему стремится метод Логики в движении смены своих форм в “Бытии” и “Сущности”. Гегель говорит, что понятие есть “само себя обособляющее (специфици-рующее) и с незамутненной ясностью остающеся у самого себя в своем другом”(4,1,346).
Взглянем на отношение финала спекулятивного метода к его предшествующим формам. Мы видели, что конкретность означает слияние различенных моментов понятия во-едино. Ее становление прошло три стадии: в “Бытии” моменты логической идеи переходят друг в друга, и их единство подтверждается невозможностью удержать отдельный момент, поскольку он тут же переходит в другой, круг переходов замыкается, и целое предстает здесь как целое моментов, исчезающих во взаимных переходах; в “Сущности” моменты логической идеи отражаются друг в друге, их единство уже выходит здесь на первый план, поскольку каждый из моментов мыслим лишь как возвращение к целому рефлексии; в “Понятии” же конкретность достигает максимума, здесь инаковость исчезает и в качестве видимости, а моменты логической идеи - всеобщность, особенность и единичность - в принципе не могут быть отделены друг от друга.
Всеобщность как истинная, т.е. конкретная, всеобщность есть особенность, а тем самым - как совпадение всеобщности и особенности - и единичность. Можно сказать, что преодоление инаковости позволяет вместиться всей накопленной бесконечной определенности в одну точку спекулятивного пространства или, может быть, вобрать все это пространство в одну точку, что и означает с формальной точки зрения достижение идеала спекулятивной конкретности. “Конкретность” при этом оказывается невозможностью мыслить “часть”, не мысля “целое”, или таким мышлением “части”, чтобы оно непосредственно оказывалось и мышлением
“целого”. В “Сущности” мышление “части” было возможно как
мышление возвращения к “целому” или как мышление из “целого”. В “Понятии” же мышление “части” непосредственно и есть мышление “целого”. Послушаем философа: “... Моменты понятия не могут быть обособлены друг от друга. Рефлективные определения должны быть понимаемы и иметь значение каждое само по себе, обособленно от противоположных определений; но так как в понятии их тождество положено, то каждый из его моментов может быть понят непосредственно лишь из других и вместе с другими.”(4,1,348)
Вспомним об образе, в котором Понятие представлялось точкой пересечения линий, соединяющих противолежащие точки сферы. Выше говорилось, что так как движение логической идеи от “Бытия” к “Понятию” или то, что сам Гегель называл генетической экспозицией понятия, адекватно его “внутреннему строению”, раскрывающемуся в покое “развития” в самом “Понятии”, то сфера должна быть представлена “пульсирующей”. Точка-центр “взрывом” лучей-рефлективных определений полагает свое тождество с окружностью-бытием, как бы выбрасывает ее из себя и снова сводит ее к себе, утверждая себя как простое тождество. Но теперь следовало бы еще сказать, что для того, чтобы представить собственное разворачивание Понятия в “Понятии”, нужно было бы представить это “пульсирование” внутри самой точки, - таков завершающий момент движения метода “Логики”, в котором логическое становится “мистическим”, не переставая, конечно, быть и “рациональным”.
Обратим внимание на гегелевскую характеристику моментов спекулятивного метода “Понятия”. “Всеобщность, особенность и единичность, взятые абстрактно, суть то же самое, что тождество, различие и основание. Но всеобщее есть тождественное с собой исключительно в том смысле, что оно содержит в себе одновременно особенное и единичное. Особенное, далее, есть различенное или определенность, но оно таково в том смысле, что оно вообще в самом себе и есть как единичное. Точно так же единичное есть единичное в том смысле, что оно есть субъект, основа, содержащая в самом себе
род и вид, само есть субстанциальное. Ясность понятия есть положенная нераздельность моментов в их различии, ясность, которая не нарушается и не ограничивается никаким различием, но остается прозрачной ...” (4,1,348). Приведенное разъяснение Гегеля показывает, что движение метода уже завершено, и с интересующей нас точки зрения - точки зрения анализа эволюции форм метода Логики - понятие как абсолютная идея и понятие как таковое, т.е. как оно представлено уже в первой главе, тождественны. Наличное бытие, составляющее положенную различенность абстрактного начала, имело важнейшее значение в “Бытии”, оно еще представляло значимость в “Сущности”, но оно по самому существу не может внести ничего нового в понятие метода здесь, в “Понятии”. Поэтому для завершения характеристики метода “Понятия” нам остается сделать лишь несколько замечаний.
В литературе часто встречается противопоставление “Понятия” как Субъективной логики “Бытию” и “Сущности” как Объективной логике. Нам, однако, представляется, что за характеристикой “Понятия” как субъективной логики скрывается лишь очень простой смысл, частично уже представленный у нас выше, а именно: конкретность предполагает не только развитый характер определенности, но и сведение ее в одну точку, простое единство. И лишь в связи с положенностью здесь абсолютного единства бесконечной определенности Гегель и называет “Понятие” субъективной логикой, поскольку “... целиком конкретное есть субъект как таковой” (4,1,348).
Далее, рассмотрение Гегелем во второй главе суждений наличного бытия, рефлексии и необходимости вызовет, возможно, сомнение в обоснованности положения о завершении движения метода в первой главе “Понятия”, поскольку так или иначе, но в названных формах суждения восстанавливается содержание сфер бытия и сущности, нуждающееся в преодолении и преодолеваемое в движении суждения. К тому же Гегель говорит, например, что суждение есть понятие “как различающее отношения своих моментов, которые положены как для себя сущие и вместе с тем тождественные с собой, а не друг с другом” (4,1,350).
С точки зрения логической формы суждения выступление в нем пройденных сфер бытия и сущности проявляется прежде всего в том, что полагаемое суждением тождество субъекта и предиката охватывает только часть субъекта (по содержанию) и часть предиката (по объему): “только определенное содержание предиката ... составляет тождество субъекта и предиката” (4,1,354). В суждении наличного бытия, с которого начинается эволюция форм судждения, субъект и предикат соприкасаются лишь в одной точке.
Однако суждения наличного бытия, рефлексии и необходимости есть все же в большей мере моменты определения самого понятия, вследствие чего они представляют способы движения логической идеи в сферах бытия и сущности (становление и рефлексию) в простоте понятия, как развитие. Гегель говорит, что “по отношению к обеим предшествующим сферам - бытия и сущности - определенные понятия как суждения суть воспроизведения этих сфер, но воспроизведения, положенные в простом отношении понятия” (4,1,355). Определяемый особенностями представляемых сфер внешний характер отношения моментов суждения сам есть лишь внешность, завершенная негация которой составляет отрицательную сторону тотальности понятия.
Гегель в этой связи обращает внимание на спекулятивный смысл связки в суждении: “Связка “есть” вытекает из природы понятия, согласно которой оно в своем овнешнении (Entaeusserung) тождественно с собой; единичное и всеобщее как его моменты суть такие определенности, которые не могут быть изолированы. Предшествующие рефлективные определенности в своих отношениях (Verhaeltnissen) имеют также и соотношение друг с другом (die Beziehung aufeinander), но их связь есть лишь обладание (Haben), а не бытие (Sein), не есть тождество, положенное как таковое, или всеобщность.” (4,1,350-351) Первоначально этот спекулятивный смысл связки в суждении выступает лишь частично, субъект и предикат не покрывают друг друга полностью, и движение смены форм суждения предстает с этой точки зрения как “наполнение” связки (как бы расширение особенного, покрывающего в конце концов единичное и всеобщее): “В связке ... тождество
субъекта и предиката хотя и положено, но положено сначала как абстрактное “есть”. Согласно этому тождеству, субъект должен быть положен в определении предиката, благодаря чему предикат получает определения субъекта, и связка наполняется. Это - дальнейшее определение суждения, которое через посредство наполненной содержанием связки переходит в умозаключение.” (4,1,354)
Приведенное высказывание Гегеля подготовило нас к рассмотрению формальной стороны спекулятивного метода, чему будет посвящен следующий параграф главы. Завершая же рассмотрение вопроса о характере восстановления в движении форм суждения снятых сфер бытия и сущности, следует сказать, что здесь, как и в гегелевской философии вообще, низшие способы взаимодействия бытия и иного восстанавливаются в высших в другом, более широком и иначе структурированном, контексте, вследствие чего они теряют свои прежние черты и оказываются способными удовлетворять условиям, действующим на новом уровне конкретности. Здесь, например, Гегель говорит о восстановлении сфер бытия и сущности в “преобразованном сообразно понятию виде”: “Так как понятие есть идеальное единство бытия и сущности, то раскрытие его, получающееся в суждении, тоже должно сначала воспроизводить эти две ступени в преобразованном сообразно понятию виде, а само понятие оказывается тем, что определяет истинное суждение.” (4,1,355)
4. Формальные особенности спекулятивного метода и традиционная онтология.
Предпринятое рассмотрение характера функционирования спекулятивного метода в трех частях “Логики” оказывается все же недостаточным для понимания спекулятивного идеала гегелевской философии, поскольку в границах предметного поля “Науки логики” имеются темы, не охваченные непосредственно методологической рефлексией философа. Часть из них может быть прояснена - а тем самым и мышление спекулятивного идеала станет более выполнимым заданием, - если постараться точнее определить отношение Гегеля к традиционной, докантовской, онтологии. Думается, эта задача может быть решена, если посмотреть на логический процесс через призму гегелевского учения о суждении.96
Взглянем на эту проблему сначала с чисто внешней стороны. Разъясняя тезис о тождестве бытия и ничто, Гегель пишет: “Понятие в форме суждения непригодно для выражения спекулятивных истин. ... Суждение есть отношение тождества между субъектом и предикатом, при этом абстрагируются от того, что у субъекта есть еще и многие (другие) определенности, чем те, которыми обладает предикат, и от того, что предикат шире субъекта. Но если содержание спекулятивно, то и нетождественное в субъекте и предикате составляет существенный момент, однако в суждении это не выражено. (Парадоксальный свет, в котором не освоившимся со спекулятивным мышлением представляются многие положения новейшей философии, часто зависит от формы простого суждения, когда она применяется для выражения спекулятивных выводов.)” (1,1,149-150) Для устранения этого недостатка за предложением, утверждающим тождество субъекта и предиката, в философском изложении следует предложение, утверждающее различие между ними. Тем самым та внутренняя конкретность (слитность противоположных моментов), которая имеется в предмете спекулятивного мышления, превращается в последовательность самостоятельных и находящихся лишь в соотношении смыслов. “Тогда возникает еще другой недостаток, а именно: эти предложения не связаны между собой и, стало быть, излагают содержание лишь в антиномии, между тем как их
содержание касается одного и того же, и определения, выраженные в этих двух положениях, должны быть безусловно соединены, - получится соединение, которое может быть высказано лишь как некое беспокойство несовместимых друг с другом (определений), как некое движение.” (1,1,150)
Итак, невозможность выразить посредством формы суждения спекулятивную конкретность суждения приводит к разрушению этой формы, что проявляется в ее подвижности, имманентном ей движении отрицания. Так возникает метод как спекулятивное метасуждение, или совокупность суждений, находящихся между собой в определенных логических отношениях. Собственно метод, метод в его отличии от содерджания науки, есть это движение суждения, взятое со стороны чистой формы. Метод, таким образом, реально вмещает в себя то, что не могло вместить в себя суждение как таковое, то, что приводило его в движение, - бесконечно-конкретное спекулятивное содержание, завершением которого является спекулятивный идеал. Философское положение, способное выразить истинное как таковое, есть не некоторая логическая форма, но лишь целое спекулятивного метода.
Однако, подвижность суждения, выражающаяся в его достраивании до целого спекулятивного метода, остается внешней его логической структуре. Поэтому нам следует обратиться к тому, как осуществляется движение самой логической формы суждения. Так как переход к рассмотрению этого вопроса, по-существу, уже был совершен нами в предшествующем параграфе, то оказывается необходимым повторить и тот фрагмент, который открывает путь к интересующей нас теме: “В связке ... тождество субъекта и предиката хотя и положено, но положено сначала как абстрактное “есть”. Согласно этому тождеству, субъект должен быть положен в определении предиката, благодаря чему предикат получает определение субъекта, и связка наполняется. Это - дальнейшее определение суждения, которое через посредство наполненной содержанием связки переходит в умозаключение.” (4,1,354) Итак, сравним движение форм суждения, осуществляющееся посредством наполнения содержанием связки, с движением всей “Логики”. Как мы увидим, с помощью такого сравнения мы сможем точнее
определить место категории бытия в “Науке логики”. В научной литературе обоснованно высказывается взгляд,
согласно которому в философии Платона бытие выступает как предикат, точнее, первопредикат, основа и источник всякой предикации (см.: 16,148). Этой позиции противостоит позиция Аристотеля и Канта, в системах которых бытие играет роль субъекта (см.: 16,265-266). А можно ли по отношению к философии Гегеля поставить вопрос, чем является бытие - субъектом или предикатом ? Думается, что с точки зрения предложенного сопоставления Логики с процессом движения форм суждения этот вопрос звучит по отношению к Гегелю не менее корректно, чем по отношению к Платону, Аристотелю, Канту.
Из приведенных высказываний Гегеля со всей определенностью следует, что роль бытия в его системе не может быть уподоблена ни субъекту, ни предикату, но только связке суждения. Да, “бытие” у Гегеля есть именно связка. Но в процессе эволюции форм суждения связка не остается неизменной, - вспомним, что говорит Гегель о движении “наполнения” связки, - она оказывается в конце концов тождественной суждению как целому. - Так и “бытие” в “Логике” Гегеля меняет свое значение от бытия как первой категории (абстрактное “есть”) до истинного бытия, абсолютной идеи, “наполненной” связки, поглотившей субъект и предикат, - до спекулятивного идеала.
Итак, бытие-связка продолжает жить на протяжении всей Логики, но меняет свое содержание и значение в зависимости от специфики различных этапов движения логического. Но так как безотносительно к этой специфике, определяемой достигнутым уровнем движения, бытие-связка остается “спекулятивно-прозрачной”, то опосредуемые ею категории непосредственно “видят” в ней друг друга, отражаются друг в друге, они меняются в ней местами и наполняют ее этими накладывающимися друг на друга “сменами”, “поворотами”, “обращениями”,97 что и означает с формальной точки зрения процесс конкретизации в “Логике”. Можно сказать, что это “переворачивание”, осуществлляющееся в бытии-связке как своеобразном “логическом месте действия” на каждом этапе движения, и есть главная формальная особенность
спекулятивного метода. Теперь ясно, что “рефлексия”, “становление” и “развитие” являются специфическими (их специфика определяется степенью экспликации логического) образами этой фундаментальной черты спекулятивного метода, которая совершенно точно именуется “спекуляцией”. С другой стороны, ясно, почему поиск универсального способа отношения к миру в контексте классической философии всегда восходил к онтологическим построениям.
А.Л.Доброхотов пишет, что бытие в Логике есть сначала субъект, по отношению к которому остальные категории выступают как предикаты, и лишь в конце “Логики” выясняется, что все прежние категории были предикатами выявившегося действительного субъекта - абсолютной идеи, а бытие - ее первопредикатом (см.: 20,220-221), что наводит на мысль, будто Гегель в конечном счете следовал образцу Платона. Однако, из сказанного ясно, что это “переворачивание” отношения субъект-предикат происходит в каждой категории, а вовсе не только лишь в абсолютной идее. Этот процесс накладывающихся друг на друга “переворачиваний”, “обращений” можно представить также как передачу “эстафеты субъектности”, а мименно: каждая категория определяется сначала как предикат (предшествующей категории), затем - как субъект (когда взгляд читателя направлен непосредственно на нее), а затем - снова как предикат (последующей категории, в которой осуществляется ее снятие). “Форма субъектности” тем самым как бы продвигается вперед, накапливая за собой снятые предикаты, что и означает то самое “наполнение” связки, о котором говорит Гегель.
Бытие как категория, или бытие-связка, оказывается при этом не только “категориальной прозрачностью”, в которой только и возможно движение конкретизации логической идеи (“прозрачность” необходима для “видения”, “рефлексии”, “спекуляции”), но и своеобразным “резервуаром”, в котором накапливаются определения логической идеи, ее предикаты. Поскольку мы рассматриваем лишь сам “резервуар” в его отличии от “наполнения”, или рассматриваем бытие лишь как категорию, оно действительно есть “полная неопределенность, крайняя степень абстракции, совершенная лишенность
определений. (Лишь древнее понятие материи может сравниться в этом отношении с гегелевским бытием.)” (20,221)98 Однако такое - абстрактное - бытие не является истинным бытием в системе Гегеля.99 Как помним, связка “наполняется”, и не так, что ее содержание остается внешним ей самой, как было бы, если бы речь шла о действительном резервуаре, который ведь всегда отличен от своего наполнения. Нет, в спекулятивной простоте “есть” расплавляются все накопленные предикаты, и истинное бытие оказывается в конечном счете тем, чем оно становится в ходе логического движения, - абсолютной идеей, спекулятивным идеалом.
И если в начале “Логики” имеет место видимость, будто Гегель следует за Платоном, полагая бытие смысла первым условием его понимания, то в конце “Логики”, когда произошло последнее “оборачивание”, выявляется подобие гегелевского бытия бытию Аристотеля и Канта, ведь теперь, совпадая с абсолютной идеей, бытие оказывается действительным субъектом всех определений. Однако, и это выявившееся подобие есть лишь видимость. Дело в том, что понятие как суждение, или его разделение на субъект и предикат, пребывает лишь в процессе движения суждения и сопоставленной здесь с ним логической идеи. В крайних же точках - “бытии” и “абсолютной идее” - логическая идея (или понятие, как чаще говорит Гегель в подобных случаях) вообще не может рассматриваться как суждение, а потому невозможным оказывается и говорить о бытии как субъекте или предикате. В этих крайних точках имеет место полное совпадение моментов понятия, и попытка их изолированного рассмотрения означала бы лишь разрыв понятия.
“Бытие” как первая целокупность была результатом движения феноменологических формообразований сознания, “абсолютная идея” как вторая и последняя целокупность в системе философии Гегеля формирует себя как завершение движения логических категорий. Возведение абсолютной идеи на трон истинного бытия означает утверждение ее не только истиной второго, но и истиной первого, феноменологического, становления. Разумеется, подобный вывод не может означать отказа от Феноменологии как основания, первой и важнейшей части системы философии, он указывает лишь на структурную
изоморфность “я”, самосознания, категории бытия, задающей пространство движению спекулятивного метода, и абсолютной идеи. Самой общей логической схемой этой структурры является “истинная бесконечность”, а в полном объеме раскрывается она в абсолютной идее как действительном завершении философии Гегеля, ее спекулятивном идеале.
5. Спекулятивный идеал. Рассмотрение движения метода “Логики” привело нас к
вершине гегелевской философии - спекулятивному идеалу. Выше мы попытались представить метод “Логики” как процесс реализации логической идеи, как движение структуры соотношения (опосредования) категорий (смыслов), которое осущестивляется своеобразно в каждой из трех частей “Логики”. Как простая структура опосредования “метод” прямо соотносится с “предметом” “Логики”, который, как мы пытались показать, также может быть определен через описание его структуры, формальной определенности. Можно сказать, что движение форм метода конкретизирует, совершенствует структуру спекулятивной предметности. Поскольку этот процесс конкретизации рассматривается как завершенный, речь может идти о спекулятивном идеале. Спекулятивный идеал, т.е. спекулятивная предметность, прошедшая весь путь эволюции метода, также представляет собой трансцендентальную структуру опосредования категорий (смыслов), свободную от потребности “существовать” вне феноменолого-логического движения. (Из этого пункта, в котором очевидной становится трансцендентальная природа и спекулятивного идеала, мы могли бы оценить широко распространенное понимание Идеи как философской метафоры Бога, но это уже выходит за границы темы нашего исследования, поскольку требует рассмотрения образов традиционного религиозного сознания.)
Действительный вопрос, однако, состоит в том, может ли “идеал” быть и описан в качестве структуры, может ли он, подобно “предмету” и “методу”, быть представлен дискурсивными средствами. Я думаю, что подобное описание на самом деле уже состоялось как описание форм эволюции метода (и менее существенное, а потому и оставшееся за
пределами нашего внимания, описание эволюции непосредственного логического содержания, или выражающих предметные смыслы категорий). Состоявшееся описание и есть максимально возможное приближение к структуре спекулятивного идеала, которое может быть осуществлено дискурсивными средствами. То, что осталось нам теперь в качестве последней задачи постижения философии Гегеля, - это созерцание ставшей совершенно простой, хотя при этом и бесконечно конкретной, непосредственности, интеллектуальное созерцание абсолютной идеи, спекулятивное видение, в котором всякая помысленная прежде категория и всякая форма метода сливается со всеми другими категориями и формами и с целым логического.
Косвенным подтверждением того, что о спекулятивном идеале нельзя сказать ничего, что не было бы уже сказано в предшествующем изложении, является то обстоятельство, что ничего подобного не говорит сам Гегель. В самом деле, глава, посвященная описанию абсолютной идеи, есть лишь последовательность замечаний рефлектирующего рассудка, и достоинства этого фрагмента определяются лишь силой и лаконичностью выражения гегелевской мысли. Откровенно обобщающий характер последней главы “Логики” может означать лишь то, что спекулятивный идеал есть чистая (по форме) непосредственность, эйдос, вобравший в себя всю бесконечно-богатую определенность сомкнувшихся в органическую систему логосов и сплавивший их в простое единство, в “конкретное-спекулятивное”.100
Конкретное-спекулятивное, рассмотренное субъективно, как принадлежность достигшего его читателя “Логики”, есть непосредственное знание, интеллектуальное созерцание, интуиция. Вопрос об отношении Гегеля к непосредственному знанию прост и одновременно очень запутан. Читателя, самостоятельно достигшего последней главы “Науки логики”, уже невозможно, конечно, переубедить в том, что истинное философское, “научное” (в гегелевском смысле) знание есть знание непосредственное. Другой вопрос, что это за непосредственность. Известная гегелевская критика теорий непосредственного знания с методологической точки зрения однородна: Гегель протестует против выдвижения какой-либо
формы непосредственности в качестве того, что, якобы, принципиально неподвластно рассудочному анализу, недоступно движению рефлексии, неразложимо мыслью.
Но конкретное-спекулятивное представляет собой непосредственность совершенно иного рода. Послушаем, как его характеризует И.А.Ильин. Он говорит, что конкретное-спекулятивное есть “многообразие, сросшееся в единство, и притом, именно многообразие спекулятивно-мысленных определений” (21,1,147). “Спекулятивная тотальность отличается от простого эмпирического целого не только своим исчерпывающим объемом, но и внутренней связью частей ее между собой и частей с целым. Эта внутренняя связь определяет собой самую глубокую природу спекулятивной конкретности и заставляет признать ее органический характер.” (21,1,161) “Все существенные противоположности оказываются исчерпанными и доведенными посредством ассимиляции до непосредственной простоты и ясного покоя. Конкретное, - на своей последней ступени, - есть некая простейшая глубина мысли, творящей себя через самосозерцание. Это сам реальный разум или интуитивный интеллект, достигший в самоопределении высшего смыслового богатства и высшего завершенного единства.” (21,1,170)101 Гегель не признает непосредственности, находящейся вне движения рефлексии, анализа диалектического разума, но истиной “анализа” является “синтез”, возвращающий разум к непосредственности.
Итак, абсолютная идея как завершение движения диалектического опосредования, будучи представлена (субъективно) в качестве предмета знания, есть непосредственное знание в прямом смысле, интеллектуальное созерцание, интуиция.102 Необходимость решительного утверждения непосредственного характера финала логического движения вытекает из того, что снятие в абсолютной идее всего пути диалектического опосредования является кульминацией всей спекулятивной “истории”, представленной в “Науке логики”, поскольку в этом акте истинная бесконечность в дополнение к своему экстенсивному выражению получает еще и завершенное интенсивное выражение.103
В целом верно оценил отношение Гегеля к проблеме
непосредственного знания В.Ф.Асмус. Послушаем его очень ясные суждения об этом. “Гегель, стремясь подчеркнуть и углубить то, что отделяло его от Шеллинга, отверг понятие “интеллектуального созерцания” (“интеллектуальной интуиции”). Но, отвергая его, он не заметил, насколько сам был близок к этому понятию. В самом деле, диалектика Гегеля обнаруживает в познании определенный ритм, состоящий в том, что, пройдя путь опосредования и обогатившись им, знание на каждой новой ступени снова достигает непосредственности. На каждой высшей ступени оно возвращается к непосредственному созерцанию, в котором удерживается весь пройденный путь развития ...” (8,97). “Гегель запутал действительную суть различия между ним и Шеллингом. Различие это вовсе не в том, что Шеллинг признает интеллектуальное созерцание, а Гегель его отрицает. На деле (но не на словах) Гегель признает его ничуть не меньше, чем Шеллинг. Действительное отличие Шеллинга от Гегеля в том, что, признавая, как и Шеллинг, интеллектуальное созерцание (но не называя его этим именем), Гегель гораздо сильнее, чем Шеллинг, подчерркнул в учении о единстве непосредственности и опосредования диалектику самого опосредствования, генезис опосредствованного знания.” (8,97-98)
Итак, Шеллинг утверждает “непосредственную непосредственность” созерцания, созерцание как простоту, чуждую рефлексии и диалектического опосредствования, тогда как гегелевская непосредственность синтетична и конкретна, у Гегеля простое соотношение с собой устанавливается лишь как результат завершенного движения опосредствования, в котором нераздельно господствует негативность, форма “для-себя-бытия” и есть предел и истина абсолютной негативности. “Наука логики” может быть представлена даже как попытка “научить” интеллектуальной интуиции всякое сознание, пришедшее в “Феноменологии духа” с помощью рассудка к понятию спекулятивного знания, - в противоположность Шеллингу, настаивавшему на гениальной природе интуиции.
Завершение логического движения снова - и теперь уже окончательно - раскрывает перед нами вырастающую на почве трансцендентального истолкования предметности идею
тождества бытия и мышления. Эта идея была завоеванием Феноменологии, с ее разворачивания начиналось логическое движение, теперь она открывает нам свой последний смысл. Это тождество по форме своей представляет не совпадение “двух” сущностей, а - ввиду отсутствия какого-либо неподдающегося разложению субстрата (“существования”) - есть единая и единственная сущность, которая, оглядываясь на путь своего само-порождения в Феноменологии, утверждает себя как самосознание, разум, дух, абсолютное знание, “я” в трансцендентальном смысле, а, смотря на предстоящий путь, - как логическую идею, т.е. первоначально - “бытие”, а в финале - спекулятивный идеал, абсолютную идею. Когда мы говорим “мышление”, мы берем (субъективно) это единство структуры “бесконечности” со стороны субъекта; когда мы говорим “бытие”,, то берем это единство (опять же субъективно) со стороны объекта.
Наше понимание единства структуры “я” и логической идеи оказывается близким тезису И.А.Ильина о совпадении в спекулятивном мышлении “мышления” и “смысла”. Вся сущность спекулятивной мысли, говорит И.А.Ильин, состоит в “исповедании неразличимого единства мышления и смысла” (21,1,55). “Мышление и смысл, слившись во-едино, образуют живой, движущийся смысл, понятие, меняющееся в содержании своем.” (21,1,57) Более того, Ильин говорит даже, пусть и не вполне определенно, и о роли понятия бесконечности в этом единстве мышления и смысла: “Все “истинное и действительное есть именно ... кружащее в себе движение”. Движение мысли исходит из нее самой и из себя создает конкретность определений. Вот почему бесконечность составляет “истинный характер мышления” и образует “последний источник всякой деятельности, жизни и сознания”. Бесконечность есть “свет мысли”, сама всеобщность и свобода; это - само “абсолютное понятие”, поддерживающее себя и слагающее из самого себя - свою форму. В этом и состоит его вечность: его бытие есть “абсолютное присутствие”, - самодеятельная и потому бессмертная, “рефлектированная в себя длительность”, оно всегда конкретно в себе и творчески возводит себя к абсолютной конкретности.” (21,1,169-170)104
Действительный экзамен принцип совпадения мышления
и бытия держит как раз в абсолютной идее. Если нам удастся свести все многообразие логического в единый взгляд, в единое видение бесконечно конкретной логической идеи, возвращающее нас к началу движения и тем самым непосредственно - и к любой его точке, то его принятие можно будет считать оправданным. Вряд ли следует сетовать на то, что эта проверка оказывается лишь “субъективной”, ведь для того, чтобы от подобной “субъективности” освободиться, нужно было бы отказаться от “я” как действительного основания трансцендентальной философии, - нетрудно понять, что именно по этому пути шла эволюция гегелевских “системных построений”, приведшая в конечном счете к катастрофе “перехода”.
Задержим еще внимание на том, что созерцание абсолютной идеи возвращает нас к началу логического движения, “бытию”. Может возникнуть вопрос: если завершение движения просто совпадает с началом, в чем тогда смысл движения, почему не достаточно было одного начала ? - Но ведь совпадение это как раз и не “просто”, спекулятивное начало есть как раз такое начало, которое может совпасть с собой только в результате преодоления завершенно-бесконечного опосредования инаковостью. Таким образом, достижение чистой непосредственности в конце логического движения значимо прежде всего как доказательство того, что опосредование завершено. (Правда, “доказательство” это обитает лишь “внутри” созерцающего трансцендентальную предметность “я”, но “я” ведь вовсе не обязательно должно являться источником “субъективизации” достигнутой истины, оно - и первое условие всякого понимания.) А завершенное диалектическое опосредование и есть конкрретность как таковая. Но если достигнутое спекулятивное конкретно, истинно, то доказано и то, что начало логического движения, “абстрактное-спекулятивное”, также было истинным началом. А именно оно и представляет собой тождество бытия и мышления в собственном, изначальном смысле, тождество, достигнутое в Феноменологии.105 Заметим еще, что распространение этой диалектики “начала” и “завершения” на энциклопедическую систему, характерное для традиционных интерпретаций философии Гегеля, вряд ли может быть
признано правомерным как раз потому, что в реальной философии, которая описывает предметность, находящуюся в структуре феноменологического “круга” ниже логической идеи, присутствует неснимаемый “субстрат”, принципиально разрывающий “начало” и “завершение” энциклопедической последовательности.
Итак, начало логического движения таково, что оно может возвратиться к себе лишь через бесконечное опосредование, бесконечную отрицательность, - потому что в Феноменологии оно само было построено тем же путем. Логическое движение опосредования в целом есть метод Логики, эволюцию форм которого мы пытались подробно представить. Теперь, может быть, следовало бы повторить то, что выше говорилось о главной особенности (задаче, предназначении) спекулятивного метода, а именно, то, что он должен быть настолько само-отрицателен, чтобы логическая идея ... совпала сама с собой. Только в этом случае может быть эксплицирована вся ее конкретность, спекулятивное содержание (представленные у нас опять-таки не предметно-категориально, а лишь со стороны формы категорий, определямой характером метода). Поскольку это совпадение свершилось, начало и завершение Логики есть одно и то же. Но лишь путь движения начала к самому себе, взятый в интуитивном акте как целое, показывает, что есть начало.106 Ясно, что это “что” есть бесконечная определенность метода, собранная в одну точку. А.Л.Доброхотов точно отмечает, что онтология Гегеля “имеет дело с тождеством бытия и мышления в начале и в конце системы. Для того, чтобы утвердить тезис о тождестве, необходимо пройти путь конкретизации, на каждом из шагов которого бытие и мышление полностью не совпадают.” (20,221) Действительно, в начале Логики мышление есть “только” бытие, а в конце - бытие есть “уже” мышление.
Можно ли, однако, повторить наш вопрос: обладает ли достигнутая непосредственность собственной структурой, - не методом, который снимается в достигнутой непосредственности, а внутренней имманентной структурой, не исчезающей и в простоте непосредственности ? Если на этот вопрос можно ответить утвердительно, то такой неотторжимой от конкретного-спекулятивного структурой должно быть
признано “развитие”. Развитие как последний образ метода Логики может быть представлено как внутренняя структура спекулятивного идеала, как та простая различенность, которая есть непосредственно лишь как снятая, как тот способ завершения бесконечного опосредования, который может сохранить это опосредование в форме чистой непосредственности. Развитие есть как бы ответ на “как ?” спекулятивного идеала. Собственно, это утверждение развития в качестве внутренней структуры логической идеи и было целью всего логического движения. Если это движение должно чем-то резюмироваться, то оно резюмируется в этой непосредственно не сказываемой - или сказываемой на пределе возможностей языка - внутренней форме логической идеи.107
Завершение логического движения, возвращающее его к своему началу, представляется чисто гегелевским ходом мысли. Однако, в нем воскрешается и проблематика традиционной онтологии. В самом деле, что бы ни говорил Гегель о бытии как первой категории “Логики”, но в конце концов бытие и совершенство, идеал спекулятивной конкретности, совпадают. Действительно, как относится гегелевское утверждение абсолютной идеи в качестве истинного бытия и совпадение абсолютной идеи и бытия как первой категории к традиции европейской онтологии ?
С.С. Аверинцев пишет: “Бытие и предельное совершенство стоят между собой в интимном сродстве и потому должны где-то совпасть - таков ход мысли, имевший силу не только для Псевдо-Ареопагита и Ансельма, но - вспомним это - также для Декарта и Гегеля.” (6,38) Допустимо ли столь прямое сопоставление ? Да, действительно, “то, больше чего нельзя помыслить”, “совокупность всех совершенств” становится у Гегеля спекулятивным идеалом. Но имеются и важные различия. Во-первых, “совершенства” у Гегеля не суммируются, а сплетаются в движении метода, и существенно именно их соотношение друг с другом, поскольку в соотношениях этих и вызревает кокретность абсолютной идеи. Спекулятивный идеал разворачивает методическое движение определений и снова сводит их в простое единство. В этой “пульсации” крайними точками являются бытие и абсолютная идея, лишь понятие спекулятивной конкретности и
понятие, положившее себя как тотальность своих определений. Во-вторых, традиционная европейская онтология делала акцент на нижней границе, бытии. Гегель же делает акцент на высшей точке, идее. Поэтому, кстати, отвергая кантовскую критику онтологического аргумента, Гегель говорит в то же время, что “сам вопрос о бытии бога, бесконечно конкретного в себе, малоинтересен” (4,1,226). В-третьих, отношения бытия и идеала есть у Гегеля именно пульсирование. Это означает, что совпадение, т.е. непосредственное тождество, возможно лишь как завершение бесконечного опосредования, предел бесконечной отрицательности; это снова простое соотношение с собой как снятие рефлексии в иное, знакомое нам по предшествующему рассмотрению. Следствием выступления всех этих отличий является то, что Гегель традиционно воспринимается прежде всего как методолог, и только внимательное продумывание гегелевской системы открывает те ее основания, которые оказываются вполне соотносимыми с классической европейской онтологией.
Начало Логики (или завершение Феноменологии) и завершение Логики и совпадают друг с другом, поскольку в основе их лежит общая структура бесконечности, и отталкиваются друг от друга, поскольку первое выступает как лишь абстракция по отношению ко второму. Единство спекулятивной структуры обусловливает то обстоятельство, что лишь через категорию бытия как самый простой образ логической идеи абсолютная идея может представить все свое содержание как собственное необходимое движение. Поэтому несмотря на противоположность бытия и идеи как абстрактного и конкретного полюсов логического движения, они соответствуют друг другу именно как моменты движения единой сущности. Можно сказать, что бытие - единственная не-случайная точка зрения на идею, поскольку только в первом и через первое возможно движение ко второму.
Категориальная система “Науки логики” - это не единый образ логического, а как бы последовательность картин, каждая из которых представляет определенный этап этого движения. Это история познания конечным духом, вставшим с помощью “Феноменологии” на точку зрения абсолютного знания, абсолютной идеи, а не некая мистическая вневременная
история самого конкретного-спекулятивного. Видимость же последнего необходима и проистекает из имманентности понятия как лишь формы спекулятивного (“бытия”) действительному понятию (“абсолютной идее”), поскольку, повторим, первое есть не случайная точка зрения на идею, но, напротив, только с этой точки зрения идея, конкретное-спекулятивное, и может быть сформулирована в “науке”. Более того, такое поэтапное (в движении метода), дискурсивное постижение идеи само оказывается единственно адекватным своему предмету, поскольку именно точка зрения “понятия”, возникающая через диалектическое движение рассудочных определений, оказалась в “Феноменологии” тем единством, в которое со-впали и в котором разрешились все способы отношения знания и предмета. А потому и различие взглядов на Логику как изображение истории абсолютного и изображение истории познания абсолютного в конце концов снимается.
Итак, уяснение структурного единства понятия абсолютного и абсолютного, реализованного как тотальность логических определений, показывает несущественность различения “бытийного” и “познавательного” аспектов Логики, поскольку теперь, в конце разворачивания “системы”, реализованное понятие, абсолютная идея выступает как первичное и по бытию, и по познанию. Интересно, что бытийная ценность предмета удостоверяется знанием: существует только то, что может быть нами познано, или есть то, что есть для сознания, а познавательная ценность - бытийно: истинное знание есть знание конкретного, т.е. истинно сущего. Это движение мысли свидетельствует не о наличии круга в обосновании, а о том, что построенная в “Феноменологии” структура - “бесконечность” - в равной мере описывает и самосознание, “я”, и логическую идею, “бытие”, это одна, единая и единственная сущность, которая, являясь субъектом собственных определений и потому избавляясь от необходимости соотношения с “существованием” как субстратом бытия-определенности, служит основанием всей последовательно-трансцендентальной философии Гегеля.
В “Феноменологии духа” трансцендентальная установка гегелевской философии ясно выступает по завершении каждого
“круга”, как мы увидим это в следующей главе. А в “Логике”, например, читаем: “Я есть само чистое понятие, которое как понятие достигло чистого бытия” (1,3,16). Бесконечность - это, повторим, одна и та же сущность, которая по отношению к формообразованиям сознания выступает как “я”, самосознание, а по отношению к спекулятивному, тотальности абсолютной идеи - как “бытие”, логическое вообще.
Не торопясь расставаться с этой интереснейшей темой, попытаемся теперь ближе уяснить смысл непосредственности спекулятивного идеала исходя из его “гносеологического” значения. Зададимся “простым” вопросом: что означает, по Гегелю, “познать” нечто ? Опыт “Феноменологии” показывает, что “познать” нечто значит: сопоставить предмет с “я”, самосознанием, - просто потому что всякая предметность конституируется в результате “обращения” (Umkehrung) “самого сознания” на себя же (см.: 2,4,49), “предмет” - это структура “самого сознания”, вынесенная им вовне и созерцаемая как, якобы, независимое бытие. Если в результате этого сопоставления имеет место полное тождество, совпадение самосознания и предмета, то совершенными признаются оба полюса соотношения - и “я”, и бытие.
Из такого “гносеологического” истолкования спекулятивного идеала мы можем сделать два вывода: во-первых, спекулятивный идеал есть наконец-то исчерпывающий ответ на вопрос о предмете Логики, но тем самым - также и снятие самого вопроса, поскольку совпадение с самосознанием выявляет не-предметность найденного предмета; а, во-вторых, лишь выступление в качестве предмета знания самообосновывающегося самосознания завершает весь тот путь трансцендентальной философии, начало которому положила “Феноменология духа”, поскольку только теперь самосознание знает себя именно как самопочинно возникающее для самого себя и абсолютно конкретное по своей структуре самосознание. В этом смысле “Наука логики” может рассматриваться даже как “последняя глава” “Феноменологии духа”. “Феноменология” и “Логика” реализуют установку трансцендентального идеализма - представить чистое самосознание как завершенное целое знания, а целокупность знания - как развернутое самосознание.
Спекулятивный идеал, завершающий логическое движение и сводящий его в простоту самосозерцания, является и той точкой зрения, с которой возможно дать оценку всеобщих форм логического движения, или “времени”, в котором происходит движение Логики. Исследователи обычно негативно оценивают тот факт, что эта проблема не была в “Логике” явным образом поставлена. Г.Тевзадзе пишет: “Логическое развитие с точки зрения объективного течениявремени (до и после), не происходит во времени, но там, где имеется развитие, необходимо возникновение чего-то, чего раньше не было (во всяком случае подобным образом). Если это так, то какое-то время, хотя бы логическое, Гегелю необходимо. Отсутствие постановки этого вопроса в его логике является еще одним подтверждением, что у Гегеля нет подлинного развития, а есть необходимая застывшая структура его.” (39,106)
Попытаемся разобраться в этом непростом рассуждении. Во-первых, следует согласиться с тем, что “логическое развитие с точки зрения объективного течения времени (до и после), не происходит во времени”. Это положение, кстати, не является общепризнанным среди исследователей философии Гегеля, настроенных материалистически. К.С.Бакрадзе, например, пишет: “Диалектическое развитие - это не формально-логическое выведение следствий из посылок, а объективное развитие действительности, которое не может происходить вне времени.” (9,337) Во-вторых, следует сказать, что термин “развитие” Г.Тевзадзе использует в повседневном смысле, понимая под ним движение, в ходе которого возникает что-то, “чего ранее не было”. Гегелевское, философское, понимание этого термина прямо противоположно обыденному: в ходе развития полагается лишь то, что уже есть. Таким образом, по отношению к “Понятию”, где функционирует “развитие”, проблема времени не стоит или стоит в существенно ином смысле. Но ведь в “Бытии” и “Сущности” и в самом деле представлено то “развитие”, о котором говорит Г.Тевзадзе, т.е. в этих сферах возникает нечто, чего ранее не было. И вот это “ранее” нам и следует разъяснить, если мы намерены действительно решить эту проблему. Поэтому, в-третьих, следует согласиться с Г.Тевзадзе в том, что “какое-то
время, хотя бы логическое, Гегелю необходимо”, но ограничить это требование преимущественно первыми двумя частями “Логики”.
Думается, Гегель и сам это понимал, в связи с чем на самом деле и ввел два типа логического времени: становление и рефлексию. (Можно, конечно, сказать, что и три, ведь и развитие в некотором смысле является “временем”, но только это время “сверхвременное”, как бы логическое время-вечность.) - В самом деле, что же такое время, как не опосредствование миром как целым его отдельных событий, состояний, превращающее их в моменты этого целого, как не движение их снятия и идеализации в “тотальности-вечности” мира ? Что такое время, как не чистое опосредование вообще, как не масштаб для всех “частных” видов опосредования - например, жизни, творчества или труда ? И разве становление и рефлексия не есть просто универсальное движение опосредования в своих предметных сферах ? А, с другой стороны, разве описанные выше виды опосредования и спекуляция как их всеобщая форма не узнаются сознанием в “обычном”, “мировом” времени ?
Итак, проблема времени в “Логике” поставлена, дается и вполне определенное ее решение. Правда, Гегель не называет свое логическое время собственно “временем”, более того, использует термин “время” в обычном смысле, например, когда говорит в начале “Учения о сущности”, что сущность есть прошедшее, но “вневременно прошедшее бытие” (zeitlos vergangenes Sein) (см.: 1,2,7).
Теперь, наконец, о последней части рассуждения Г.Тевзадзе, в которой утверждается, что в Логике “нет подлинного развития, а есть необходимая застывшая структура его”. Что касается того понятия развития, которое Г.Тевзадзе называет подлинным, то мы разъяснили, что к двум первым частям “Логики” оно в некотором смысле применимо, к третьей же части оно неприменимо никак. Но зато там живет философское понятие развития. Ясно, далее, что система категорий есть, по Гегелю, структура, т.е., бытие, которое не нуждается в субстрате, но только, конечно, не “застывшая”: как мы видели, она “пульсирует”, поскольку понятие утверждает свое отличие от бытия и сущности и снова сводит их в простое
единство с собой. Итак, теперь, пройдя весь путь эволюции форм
логического опосредования, мы видим, что опосредование вообще и есть то, что мы обычно называем временем. В “Феноменологии духа” Гегель называет время “формой чистой свободы по отношению к иному” (2,4,364). Кажется упущением автора “Науки логики”, что он не представил подобного сопоставления становления, рефлексии и развития с представлением о “мирском” времени и не разъяснил сам этот вопрос. Хотя, разумеется, и под пером Гегеля подобное разъяснение осталось бы плодом внешней рефлексии (ведь “мир” не является предметом “Логики”), но, может быть, оно предостерегло бы его от тех чудовищных заявлений о “переходе” логической идеи в природу, которые он делает на последних страницах “Логики”.108
Кажется, Гегель чувствует весь кошмар натурализма, в который он ввергает этими заявлениями свои гениальные “Феноменологию” и “Логику”, но, несомненно, ясно отделить Логику от других своих лекционных курсов (которые ведь вовсе не обязательно должны воспроизводить последовательность “системы” !) не может, почему и оказывается неспособным остановиться на каком-либо однозначном и “точном” выражении своей “мысли” о “переходе”. К.С.Бакрадзе почему-то говорит, что каждая из формул Гегеля здесь сама по себе понятна, но они противоречат друг другу, из чего он делает вывод о противоречивости всей системы (см.: 9,382). Может быть, нам еще рано выносить здесь окончательное суждение о противоречиврости либо непротиворечивости системы в целом, но, кажется, непосредственно из этой “неопределенности” (как будто бы могла быть и “определенность” !) следует сделать вывод лишь о неестественности самой этой темы для гегелевского мышления. 109
После спекулятивного апофеоза “Понятия” трудно представить падение более тяжкое и обидное. Вряд ли следует оправдывать или, напротив, хулить философа, тем более бессмысленно подправлять его в частностях, пытаясь истолковать в свою пользу детали его “заверений” о “переходе”. Нет, настоящему ценителю гегелевской философии
следует однозначно и мужественно признать ошибку великого философа. Может быть, в субъективном плане она частично была обусловлена тем, что Гегель совмещал научную разработку Логики с ее преподаванием в учебных заведениях в качестве одной из частей философии, в которой к этому времени прочно утвердилась и философия природы. Нет, оправдать это падение спекуляции под пером ее гениального выразителя не может ничто. Но позволительно попытаться показать, что эта ошибка не была неизбежной, - и тем самым возразить столь многочисленным охотникам констатировать изначальную порочность гегелевской философии. А для этого нужно снова вернуться к “истоку” гегелевской философии и решиться снова взяться за разгадывание ее “тайны”.
6. Выводы относительно структуры системы философии Гегеля до исследования структуры “Феноменологии духа”.
Наше исследование структуры системы философии Гегеля достигло того пункта, в котором мы уже можем суммировать результаты анализа глав I-III “Феноменологии духа” и анализа форм эволюции метода “Науки логики” для решения центральной проблемы системы философии Гегеля - проблемы соотношения Логики и реальной философии в рамках энциклопедической системы.
Напомним, что традиционное понимание этого соотношения заключается в том, что Логика, Философия природы и Философия духа выступают как части философской системы, изображающие абсолютное на трех ступенях его становления: Логика изображает абсолютное в его “домировом” бытии, а Философия природы и Философия духа изображают абсолютное как реализованное в истории природы и духа, или Логика мыслится как изображение “чистой” логической идеи, а Философия природы и Философия духа - как изображение идеи в ее природном инобытии и ее возвращении к себе в становлении духа.
Длящиеся десятилетиями споры историков философии убедительно свидетельствуют о том, что такое понимание соотношения Логики и “конкретных” философских наук является противоречивым в себе и не ведет ни к какому конструктивному пониманию гегелевской системы философии. Напротив, единственно возможным выводом всякого исследования системы Гегеля, основанного на таком понимании соотношения Логики и реальной философии, является вывод о принципиальной противоречивости гегелевской философии и даже о невозможности ее целостной реконструкции.
Внимательное продумывание этого положения приводит к выводу, что такой взгляд на философию Гегеля каким-то образом связан с традиционным пониманием места “Феноменологии духа” в целом гегелевской системы. А именно, утверждается, что “Феноменология” не имеет самостоятельного систематического значения и в “снятом” виде входит в энциклопедическую систему в качестве
фрагмента “Философии духа”. Целый ряд предпосылок такой интерпретации роли
“Феноменологии” в системе философии Гегеля представляется никак не обоснованным. Неубедителен прежде всего тезис о тождестве “Феноменологии духа” с энциклопедической “Фено-менологией”.110 Не имеет достаточных оснований и утверждение о “разрыве” в системном мышлении философа, имевшем, якобы, место в период между созданием “Феноменологии” и началом работы над “Логикой”.
В противоположность такой оценке места “Феномено-логии” в системе Гегеля предлагаемое исследование представляет собой попытку рассмотрения проблемы соотношения Логики и реальной философии через призму “Феноменологии духа”.
Что же, однако, дает учет опыта “Феноменологии” в рассмотрении проблемы структуры системы философии Гегеля ? Прежде всего, корректируется вопрос о предмете Логики и предмете реальной философии, и дальнейшее движение показывает, что именно этот пункт в продумывании гегелевской мысли является самым важным. Изучение “Феноменологии духа” показывает, что вопрос о предмете Логики и предмете реальной философии - это не вопрос об “объективной”, независимой от деятельности сознания реальности, а вопрос о различных формообразованиях сознания, полагающих в качестве своего предмета (в трансцендентальной философии - в качестве “негативного сознания”, “не-я” внутри “я”) различные типы бытия-определенности, утверждающих различные способы отношения знания и предметности в сознании.
Такое - трансцендентальное - понимание природы предметности в гегелевской философии позволяет выделить среди феноменологических формообразований две группы: первая группа конституирует предмет реальной философии и “эмпирической” науки,111 вторая - предмет Логики, логическую идею. Анализ III главы “Феноменологии” показывает, что граница между двумя типами предметности пролегает там, где диалектический процесс бесконечности получает свое разрешение в истинной (утвердительной) бесконечности. “Как только” это разрешение свершается,
происходит “скачок” от одного уровня предметности к другому. Так как в самой “Феноменологии” переход к “бесконечности” выступает непосредственно и как переход от предметного сознания к самосознанию, то можно сказать, что предмет Логики, логическая идея есть чистое самосознание, положенное как предметность. Этот результат позволяет установить, что внутренней формой или структурой спекулятивной предметности является понятие бесконечности и приступить с этой точки зрения к анализу “Науки логики”.
Рассмотрение “Логики” как адекватного выражения (реализации) спекулятивной предметности проходит три этапа. В “Учении о бытии” понятие истинной бесконечности конструируется (трижды) как категория, являющаяся “каркасом” логического движения, причем от раздела к разделу опосредование становится все более “быстрым” и “легким”, а сама категориальная структура - все более “прозрачной”. В “Учении о сущности” аналогом процесса бесконечности является “рефлексия”, а в “Учении о понятии” движение логических определений выступает как “развитие”. Эволюция форм метода завершается достижением чистой непосредственности - спекулятивного идеала, абсолютной идеи. Спекулятивный идеал - спекулятивная предметность, полностью раскрывшаяся в движении метода, - является смысловым завершением системы философии Гегеля.
Поскольку рассмотрение феноменологического движения разделило предметы Логики и реальной философии как находящиеся на разных уровнях движения опосредования “бытия” и “иного”, расположило их на разных “онтологических” уровнях, переход к реальной философии не предстает как переход логической идеи в природу, что всегда создавало непреодилимые трудности для реконструкции гегелевской философии. Предмет реальной философии и “эмпирической” науки, как и предмет чувственной достоверности и восприятия, выступают как совокупность вне-”научных” образов логической идеи, которые, не обладая внутренним единством, находят свое основание - как ступени предметополагающей деятельности сознания, двигающегося к спекулятивному понятию - в логической идее. Но так как предмет Логики и реальной философии - лишь “части”
соответствующих им “целостностей”, феноменологических формообразований, то связь их - не “генетическая”, но лишь “структурная”: в основе образов предметности, составляющих “мир”, лежат логические определения, которые, будучи развиты в своей чистой форме, сливаются в единство Понятия.
На пройденный нами до сих пор путь можно посмотреть с нескольких точек зрения, но главными, видимо, являются две: во-первых, он может быть представлен как попытка взглянуть на так называемую зрелую (энциклопедическую) систему Гегеля через призму “Феноменологии духа”; во-вторых, он может быть представлен как опыт изучения гегелевского понятия бесконечности.
Что касается второй точки зрения, то, действительно, одной из главных задач нашего исследования является привлечение внимания к роли понятия бесконечности в философии Гегеля. На мой взгляд, понятие истинной бесконечности болжно быть поставлено в центр изучения гегелевской философии. Во-первых, понимание гегелевской философии требует уяснения отношений между Логикой и реальной философией, для чего необходимо выяснить как специфику спекулятивной предметности, так и той предметности, которая подлежит реальной философии. Как я пытался показать, в основе различения этих двух видов предметности лежит чисто структурное (не связанное со спецификой “субстрата”) различие истинной и дурной бесконечности.
Во-вторых, изучение проблематики, смысловым центром которой является понятие бесконечности, проясняет отношения спекулятивного мышления к “чувственно-рассудочному” миру. С точки зрения трансцендентальной постановки вопроса, этот мир представляет собой совокупность образований, построенных сознанием по модели конечных и отрицательно-бесконечных определений. Снятие, идеализация сферы конечного означает, по Гегелю, идеализм, всякий идеализм, идеализм как философская позиция вообще. Такое же отношение к предметности, подлежащей реальной философии, означает, по Гегелю, преодоление дурного, субъективного идеализма и возвышение философского мышления до абсолютного идеализма.
Таким образом, абсолютный идеализм как философская позиция означает непосредственно лишь мышление по методологической модели истинной бесконечности. Тем самым, в-третьих, утверждение понятия истинной бесконечности в центр изучения философии Гегеля способно прояснить специфику абсолютного идеализма и уточнить его отношение к предшествовавшим философским системам. В-четвертых, изучение истинной бесконечности, раскрывающей внутреннюю форму логической предметности, позволяет по-новому подойти к изучению метода “Логики”. В соответствии с этим я пытался подробно описать эволюцию форм метода “Логики” как процесс углубления и конкретизации понятия бесконечности.
И,наконец, в-пятых, понятие бесконечности в качестве основного методологического принципа способно помочь разобраться в первом философском труде Гегеля, который, следует признать, в значительной степени все еще остается для нас “тайной”. Думается, “Феноменология” может раскрыть свою структуру, если на ее путь посмотреть с точки зрения “бесконечности”, что мы и попытаемся систематически осуществить в следующей главе. Таковы основные моменты пройденного пути исследования, открывающиеся через рассмотрение понятия бесконечности.
Что же касается первой точки зрения на исследование, то можно сказать, что я пытался показать самостоятельное систематическое значение “Феноменологии духа”, поскольку я пытался соотнести предметы Логики и реальной философии с различными уровнями предметополагающей деятельности сознания, как бы расположить их на разных “этажах” “Феноменологии”. Думается, что выполненная часть исследования уже показывает возможность непротиворечивого воспроизведения энциклопедической системы, поскольку исключает возникновение таких псевдопроблем, как вопрос о “переходе” логической идеи в природу. Может быть, этот вывод о самостоятельном систематическом значении “Феноме-нологии” окажется и главным выводом нашего исследования в целом.
Однако, если смотреть на исследование с этой точки зрения, то оно еще не является законченным. Дело в том, что
само существо соотношения Логики и Феноменологии в структуре системы философии Гегеля требует проделать исследование того же предмета и в обратном направлении, а именно: требуется изучить структуру “Феноменологии духа”, исходя из критериев, задаваемых понятием бесконечности, в перспективе соотношения предметов Логики, реальной философии и “естественного” сознания. Это та самая проблема, решение которой было отделено от изучения становления понятия бесконечности в главах I-III “Феноменологии духа” для того, чтобы сконцентрироваться на исследовании соотношения Логики и реальной философии, которое этим понятием определяется, но теперь нам следует вернуться в “Феноменологию” с тем, чтобы исследовать ее структуру и, по-возможности, постараться понять, что, “подталкивало”, может быть, Гегеля к “дополнению” Логики как адекватного систематического результата Феноменологии реальной философией как его эрзацем и связанному с этим вытеснению Феноменологии из системы философии, как она была декларирована в “Энциклопедии”, забвению первого - и важнейшего - этапа становления действительной системы философии Гегеля.
Глава третья
СТРУКТУРА “ФЕНОМЕНОЛОГИИ ДУХА”
Мир есть всеобщий троп духа, символический образ его.
НОВАЛИС
Анализ структуры “Феноменологии духа” - труднейшая и
интереснейшая задача для всякого, кто занят изучением философии Гегеля. Однако, необходимость решения этой задачи в работе, посвященной исследованию структуры системы философии Гегеля, очевидной не является. Но, во-первых, предлагаемое в нашей работе понимание системы философии Гегеля непосредственно исходит из оригинального истолкования “Феноменологии духа”, а, во-вторых, уже полученные выводы относительно системы философии Гегеля делались нами на основании рассмотрения лишь части этого произведения, глав I-III, или “первого круга” “Феноменологии”. Действительно, соотношение основных частей энциклопедической системы - Логики и реальной философии - было выявлено нами на основе учета предметополагающей функции Феноменологии и в связи с отношением структур их предметов к понятию бесконечности, которое впервые формулируется Гегелем именно в “Феноменологии духа”, к тому же, до сих пор мы лишь предполагали, что результат “первого круга” “Феноменологии” с точки зрения структуры конституируемой предметности тождествен результату “Феноменологии” как целого, и это предположение нуждается, конечно, в проверке.
Может возникнуть вопрос, почему мы прервали анализ “Феноменологии” на III главе и перешли к рассмотрению “Логики”, тогда как более естественно, казалось бы, было довести анализ “Феноменологии” до конца и лишь затем обратиться к рассмотрению “Логики”. - Понимание структуры энциклопедической системы зависит, однако, преимущественно от внутренней структуры “круга”, поскольку на каждом этапе становления этой структуры
полагается специфически структурированная предметность, но никак не зависит - или, во всяком случае, зависит в неизмеримо меньшей степени - от соотношения “кругов”, т.е. от структуры “Феноменологии” как целого; структура “Феноменологии духа” определяется на основе чисто феноменологической проблемы соотношения “нашего сознания” и “самого сознания”, - проблемы, которая с систематическим строением философии Гегеля непосредственно не связана. Таким образом, проблема структуры “Феноменологии духа” - проблема внешняя для того, кто занят исследованием структуры системы философии Гегеля, но решить ее все же необходимо - хотя бы просто для того, чтобы доказать правомерность решения непосредственно занимающей нас проблемы структуры философской системы Гегеля на основании интерпретации лишь части “Феноменологии”, одного ее “круга”. Впрочем, в процессе конкретного анализа текста мы увидим, насколько существенно обогатится и наше понимание “системы” в результате детального рассмотрения “Феноменологии” как ее действительного основания.
Думается, эти замечания достаточны для ясного понимания связи исследования проблемы структуры “Феноменологии” и структуры системы философии Гегеля, и они послужат оправданием тому, что рассмотрение “Феноменологии” было разделено нами на два этапа. Последнее обстоятельство, досадное ввиду возникающих в этой связи трудностей понимания “Феноменологии”, оказывается неизбежным в контексте специфики постановки проблемы в нашей работе и, кроме того, обусловлено опытом долгих поисков органичного для замысла работы плана изложения материала.
1. “Первый большой круг” и “первый малый круг”
“Феноменологии”. Выявив логическое содержание являющегося целью
феноменологического движения понятия бесконечности, мы возвращаемся к рассмотрению содержания “Феноменологии духа”. В конце III главы мы достигли понятия бесконечности вместе с “нашим сознанием”, т.е. прошли “первый круг” “Феноменологии”. Теперь мы должны проследить, как
структура “бесконечности” становится предметом “самого сознания”, а само оно, соответственно, - самосознанием. В финале “первого круга”, как помним, “само сознание” в целом уже соответствовало этой структуре, но оно еще не могло удерживать свой предмет как “бесконечность”. И вот это движение “самого сознания” от точки, где оно само - “бесконечность”, до точки, в которой “бесконечность” - его предмет, и есть “второй круг” феноменологического движения, и его границы мы должны будем установить теперь в тексте “Феноменологии духа”.
Однако, наша задача осложняется тем обстоятельством, о котором мы уже упоминали в I главе исследования: движение “самого сознания” к самосознанию есть некоторым образом и движение “нашего сознания”, и перед феноменологом возникает проблема, должно ли это движение в философском повествовании сливаться с движением “самого сознания”, или оно формируется в подлежащее отдельному описанию феноменологическое движение. - Я постараюсь показать, что Гегель предпочел второй вариант решения этой проблемы, а именно: IV глава “Феноменологии” изображает развитие отношения “нашего сознания” к “самому сознанию”, развитие отношения “самосознания” к “жизни”. И только начиная с V главы Гегель делает непосредственным предметом рассмотрения отношение “самого сознания” к “предмету”.112
Поясняя термины, используемые здесь в специальном, феноменологическом, значении, можно сказать, что “как только” “наше сознание” становится самосознанием, так “сразу же” его предмет становится “жизнью”. “Жизнь” - это результат рефлексии самосознания по поводу предмета, бытия, некая “тень”, которую самосознание отбрасывает на свой предмет, вернее, на те моменты, из которых оно возникло, поскольку предмет его теперь двойствен: это, во-первых, оно само и, во-вторых, те формообразования, из которых возникло самосознание. В IV главе в качестве “предметного модуса” выступает опыт самосознания относительно второго предмета, и восприятие именно этого предмета и есть “жизнь”.
Здесь нет еще начала движения по “второму кругу”, сознание лишь “вспоминает” пройденные им в “первом круге” моменты, но уже не как моменты знания о “формальном”
бытии, а как моменты знания о “жизни”, поскольку теперь выяснилось, что бытие как предмет сознания должно инкорпорировать в себя структуру “бесконечности”, стать “жизнью”.
Это “воспоминание” самосознания о “жизни”, которая прежде была для него лишь “бытием”, имеет феноменологические, а не логические основания, поэтому я счел возможным остановиться в первой главе нашего исследования на границе “самосознания”. Феноменологическая значимость этого повторного движения состоит в том, что усмотрение в “бытии” “жизни” изгоняет из него непосредственность, заставляет соотносить предмет с сознанием, выявляя тем самым его трансцендентальную природу, поскольку “жизнь”, будучи созданием самосознания, его рефлексией по поводу “бытия”, может быть “опознана” и конституирована лишь самосознанием.
Хотя описываемое Гегелем в IV главе движение все еще является движением “нашего сознания”, т.е. относится к “первому кругу”, оно не может интерпретироваться как простое продолжение прежнего движения, которое в самосознании замкнулось, оно есть его повторение. Поэтому естественно назвать его “первым малым кругом” в отличие от “первого большого круга”, глав I-III. В конечном счете, различие Большого и Малого “кругов” в “Феноменологии” основывается просто на том, что, как замечает Гегель во Введении, “сознание есть, с одной стороны, осознание предмета, а с другой стороны, осознание самого себя: сознание того, что для него есть истинное (предмет, - В.К.), и сознание своего знания об этом” (2,4,48). Именно, Малый круг и есть как бы отдельное наблюдение и описание второго из указанных модусов, сознания своего знания об опыте предмета, возводящего его к “бесконечности”.
Еще в конце III главы Гегель делает замечание, значимое для нас в контексте рассмотрения особенностей феноменологического движения IV главы: “сознание в том виде, в котором оно непосредственно обладает понятием (структурой “бесконечности”, - В.К.), снова выступает как собственная форма или новое формообразование сознания, не узнающее в предшествующем своей сущности, а принимающее
ее за нечто совершенно другое” (2,4,91). Сознание, соотносящееся со своим предметом по модели “бесконечности”, первоначально видит себя также в качестве особенного, специфического формообразования наряду с другими формообразованиями, понимает самосознание лишь как один из образов сознания. Оно не видит себя в качестве сущности предшествующих формообразований, находит себя лишь в форме определенного формообразования.
Выступление самосознания как отдельного формообразования сознания, существующего наряду с другими формообразованиями, есть как бы результат “недооценки” им самого себя. Оно не видит, что оно есть истина всех предшествующих форм, и выступает поэтому как лишь специфический образ сознания. “Самосознание возникло сначала для себя, а еще не как единство с сознанием вообще.” (2,4,91) - Если бы оно сразу возникло в качестве подобного единства, то оно не выступало бы как отдельное и особенное формообразование. Реально же самосознание, не зная себя пока в качестве истины сознания вообще, “замыкается в себя” в отдельное формообразование, есть лишь для себя.
В соответствии с этим положением следует понимать, видимо, и название IV главы - “Истина достоверности себя самого”, - которое означает, что “само сознание” должно будет проследить, какое место среди формообразований сознания на деле занимает самосознание (взятое лишь для себя - “достоверность себя самого”), действительно ли оно является лишь особенным формообразованием наряду с другими, также особенными, формообразованиями.
“Наше сознание”, правда, уже видит то, чего не видит “само сознание”: “Не только сознание о вещи возможно лишь для самосознания, но ... только это последнее есть истина этих форм. Но эта истина имеется только для нас, а еще не для сознания.” (2,4,91) Поэтому моменты предметного сознания в некотором смысле сохраняются в самосознании (см.: 2,4,94). С переходом к самосознанию предмет лишается только видимости самостоятельного существования, но сохраняется в качестве определенности сознания. - Именно поэтому я и решаюсь утверждать, что отношение “самого сознания” к предмету в IV главе Гегелем не рассматривается, предмет
прямо утверждается в качестве лишь определенности сознания: “утерян ... только самый главный момент, т.е. простое самостоятельное существование (предмета, - В.К.) для сознания” (2,4,94).
Посмотрим теперь, как завязывается сюжет повествования в этой части “Феноменологии”. Представленное выше общее понимание места IV главы в “Феноменологии” опирается прежде всего на этот ключевой фрагмент главы и даже является его интерпретацией. Самосознание, “Я есть Я”, различает себя от себя самого, но как инобытие различие оказывается и непосредственно снятым. Поэтому, во-первых, для самосознания “сохранен весь простор чувственного мира” (2,4,94), но, во-вторых, сохранен он в то же время - “лишь в соотнесении со вторым моментом - с единством самосознания с самим собою; и это единство есть для самосознания вместе с тем некоторая устойчивость, которая, однако, есть только явление или различие, не имеющее в себе бытия” (2,4,94).
Единство самосознания есть для него лишь явление из-за того, что различие не имеет формы бытия: вспомним, что и предмет стал здесь для сознания лишь чистой определенностью. “Бесконечность” изгнала и “существование” предмета, и устойчивую различенность сторон самосознания как догматические предпосылки, оставив только движение явления сознания самому себе. И самосознание должно завоевать бытие, которое оно прежде некритически и “безвольно” отдавало предмету, и тогда начнется “второй круг” феноменологического движения.
Такое стремление самосознания к бытию Гегель называет вожделением. Это понятие “Феноменологии”, как и вообще IV глава, трактовались в литературе всегда крайне антропологически. На самом же деле, как мы видим, становление этого феноменологического образа является следствием движения сюжета “Феноменологии” как единого целого. “Сознание как самосознание имеет отныне двойной предмет: один - непосредственный, предмет чувственной достоверности и воспринимания, который, однако, для самосознания отличается характером негативного, и второй - именно само себя, который есть истинная сущность и прежде всего (в IV главе, - В.К.) имеется налицо только лишь в
противоположности первому. Самосознание выступает здесь как движение, в котором эта противоположность снимается и становится для него равенством его самого с собой.” (2,4,94)
Предмет, который “само сознание” видит как лишь негативное сущее, “нашему сознанию”, усматривающему момент его в-себе-бытия, а тем самым и “набрасывающему” на него “бесконечность” своей собственной природы, предстоит как “жизнь”, нечто живое.113 Поэтому и сущность жизни Гегель характеризует с помощью образа “бесконечности”. Непосредственно выступающая или сущая “бесконечность” - это жизнь.
Единство жизни как рода, простой субстанции, и такой индивидуальности, которая включена в движение жизни, существует, однако, пока не для себя, а для чего-то иного; выявившееся единство не есть для себя, а есть для чего-то иного, указывает на иное, для которого только оно и выступает. Это иное - сознание. (См.: 2,4,97) Думается, ситуация допускает и такое описание: жизнь как таковая не обладает видением себя; это видение есть результат взгляда сознания на жизнь, в результате чего и выявляется, что сама жизнь есть лишь движение этого взгляда; а это движение как “колебание” между двумя крайними точками - сознанием и жизнью - возможно постольку, поскольку “бесконечность” является для них единой структурой, - с той, однако, разницей, что жизнь утверждает “бесконечность” как бытие, поскольку не может еще отделить ее от себя, не может сделать своим предметом, тождественна “бесконечности”, тогда как сознание полагает себя как определенность, для которой “бесконечность” - уже и его предмет, а не только выражает его природу; как соотносящееся с “бесконечностью”, сознание, научившееся различать себя как не нуждающуюся в бытии - свободную - структуру и себя как сущее, т.е. жизнь, оно есть самосознание; на рассматриваемом этапе феноменологического движения оно отождествляет себя исключительно с первым моментом, - и только потому, что не видит еще своего структурного совпадения и со вторым.
Опыт усмотрения этого единства нам предстоит теперь пройти. Уже сейчас ясно, что оно окажется единством “нашего сознания”, которое уже теперь - самосознание, и “самого
сознания”, которое выступает пока как жизнь; достижение их единства будет означать и перенесение структуры “бесконечности” на предмет “самого сознания”, начало движения “Феноменологии” по “второму кругу”.114
Способ, посредством которого самосознание намеревается установить это единство, состоит в уничтожении самостоятельного существования его предмета, жизни (см.:2,4,97). Гегель, повторим, называет его вожделением. Однако, в удовлетворении вожделения выступает и момент самостоятельности предмета (см.: 2,4,97-98). Выявившаяся самостоятельность предмета делает невозможным его снятие самосознанием в результате непосредственного осуществления акта вожделения, хотя именно к этому стремилось самосознание. Следовательно, самосознание может быть удовлетворено, только если сам предмет снимет себя, а это, в свою очередь, возможно постольку, поскольку предмет есть негативное, - ведь в качестве жизни он есть реализация “бесконечности”, которая и есть абсолютная, завершенная негативность. Но “бесконечность”, снимающая “бесконечность”, есть самосознание. Следовательно, предмет как жизнь возвышается до самосознания, поскольку именно в самосознании (занимающем место “самого сознания”) может найти удовлетворение самосознание (см.: 2,4,98).
Думается, изложенный фрагмент “Феноменологии” не следует понимать таким образом, что, якобы, “само сознание”, жизнь, в силу своей завершенно-отрицательной природы само, без помощи “нашего сознания”, возвышает себя до уровня самосознания. Причиной этого возвышения является в конечном счете “вожделение” “нашего сознания”, которое не может найти удовлетворения ни в чем, кроме другого самосознания, в связи с чем оно и наделяет свой предмет - феноменологически увиденный как предмет “вожделения” - статусом самосознания. Для себя на ступени “достоверности” этого опыта “само сознание” есть только жизнь, но как предмет “нашего сознания” оно наделяется этим статусом, - именно наделяется им, но не создает его. И только в финале опыта, на ступени “истины”, оно - теперь уже само, через страх, труд и борьбу - осознает себя в качестве самосознания, становится для себя тем, чем прежде оно было только в себе, или для нас,
становится действительным самосознанием. Итак, “наше сознание”, вожделея, оказывается нуждающимся в другом самосознании и потому превращает свой предмет в равного себе соперника, происходит так называемое “удвоение самосознания”.115
В акте удвоения самосознания следует выделить, на мой взгляд, три момента. Во-первых, всякое единичное самосознание созерцает другое и созерцается другим, так что феноменологическая ситуация является той стихией, в которой рождается дух, в связи с чем, кстати, “провинциальное” представление Феноменологии в качестве лишь этапа становления субъективного духа оказывается несоответствующим всему контексту философии Гегеля. Во-вторых, не выглядит надуманным предположение, согласно которому “одно из” самосознаний в “удвоенном самосознании” - это “наше сознание”, тогда как другое - “само сознание”, ведь предмет вожделения “нашего сознания” также становится “нашим сознанием”, когда выступает в качестве “субъекта признавания”, так что рождение духа будет означать “смыкание” бесконечного ряда “оборачиваний” полюсов “я” и “ты” в “мы”, т.е. речь здесь идет о феноменологическом корреляте того спекулятивно-“мистического” действа, которое рассматривалось нами во второй главе исследования, и о котором - под именем Umkehrung, “обращение” - упоминает Гегель во Введении. В-третьих, благодаря этим “оборачиваниям” “само сознание” в конце “первого малого круга” сможет оказаться на месте “самого сознания”, что даст начало “второму кругу” “Феноменологии”.
Анализ движения “удвоенного самосознания” - движения “признавания” - открывается знаменитым фрагментом “Самостоятельность и несамостоятельность самосознания; господство и рабство”. Цель движения - в утверждении своего бытия через признание его другим сознанием. Сознание тем самым освобождается от последней “некритической” установки о существовании в качестве “этого” самосознания, и бытие самосознания устанавливается в качестве “знания о себе” другого самосознания: “я” есть, поскольку мое бытие признано “другим я”. Важно при этом, конечно, не само “другое” самосознание (иначе пришлось бы признать, что самосознание
должно стремиться к признанию его как можно большим числом “других сознаний”, т.е. на трансцендентальной основе воспроизводился бы парадокс “третьего человека”, - не в этом ли в конечном счете “секрет” феномена политической власти ?), а то, что для другого, в глазах другого, сущее самосознание становится чистой определенностью, знанием о самосознании, т.е. снимается принимавшееся в начале феноменологического движения “существование” “нашего сознания” как единственно возможный его исходный пункт, дававший действительный “жизненный импульс” всему движению: “Сознание есть в себе и для себя потому и благодаря тому, что оно есть в себе и для себя для некоторого другого (самосознания), т.е. оно есть только как нечто признанное.” (2,4,99)
Предвосхищая предстоящее реальное движение опыта признавания, Гегель указывает на некоторые формальные особенности этого опыта, прежде всего на его диалектичность, поскольку другое сознание является “его” другим, и всякое действие по отношению к другому сознанию оказывается таким же действием по отношению к себе (см.: 2,4,99). Поэтому Гегель говорит здесь также о двусмысленности действования признавания (об этом очень важном для понимания “Феноменологии” замечании мы должны будем вспомнить в следующем параграфе). Завершением этой двусмысленности является формирование представления о единстве действий обоих сознаний, о том, что, по-существу, их действия есть единое действование (см.: 2,4,100). Структурно предстоящий опыт аналогичен опыту “игры сил”, эти два эпизода по-шпенглеровски “одновременны” в “первом большом” и “первом малом” “кругах”.
Единство действования, о котором идет речь, выявляется лишь после завершения опыта признавания, когда целое оказывается уже завершенным. Но в процессе его движения самосознания находятся в непримиримом конфликте: другое самосознание есть для каждого лишь несущественный и чисто негативный момент, все предназначение которого состоит лишь в том, чтобы через его снятие утвердить собственное для-себя-бытие, и притом именно - для-себя-бытие, т.е. завершенно-бесконечное движение диалектического самоопосредования инаковостью. Достичь для-себя-бытия
означает в этом контексте: освободиться от непосредственности “существования”, снять предпосылку о существовании “нашего сознания”, утвердить его бытие как бытие-определенность, одним словом, окончательно завершить обоснование трансцендентальной точки зрения на природу предметности. Но, поскольку речь идет о “нашем сознании”, это означает и: завершить процесс возвышения единичного “я” до “я” трансцендентального (см.: 2,4,101).
Каждое из самосознаний, вступающих в борьбу, стремится “показать себя чистой негацией своего предметного модуса, или показать себя не связанным с общей единичностью наличного бытия вообще, не связанным с жизнью” (2,4,101). Но решиться на негацию предметного модуса, если предмет - живое единичное самосознание, значит: решиться на смерть другого; но само оно - предмет этого другого сознания, следовательно, оно решается и на риск собственной жизнью.116
Итак, каждое из двух самосознаний стремится утвердить себя как для-себя-бытие. Но Гегель пытается показать, что и момент непосредственности бытия, жизни, столь же существен для самосознания.117 Почему ? Почему жизнь оказывается для сознания столь же важной, как и самосознание ? Ответ Гегеля (см.: 2,4,102-103) сложен по форме, но, думается, может быть переформулирован и очень просто: жизнь есть почва, основание сознания, то, по отношению к чему только и может иметь значение завершенная негативность для-себя-бытия, жизнь есть как бы отрицательный полюс сознания, без которого оно не было бы действительной целостностью. Абсолютная негация должна охватывать, конечно, и это основание, т.е. должна ставить жизнь перед лицом смерти, рисковать жизнью, но: только рисковать - или: сознание должно предстать перед лицом смерти, но оно не должно утверждать смерть, которая сама есть только отрицание; сознание утверждает жизнь, соотнесенную с абсолютной негативностью, но не смерть, которая есть “негация без самостоятельности, негация, которая, следовательно, остается без требуемого значения признавания” (2,4,102).
Утверждение ценности жизни и для-себя-бытия распределяется между двумя сознаниями: одно предстает как чистое самосознание, другое - как “сознание, которое есть не
просто для себя, а для другого (сознания), т.е. оно есть в качестве сущего сознания или сознания в виде вещности” (2,4,103). “Оба момента существенны; так как они на первых порах неравны и противоположны, и их рефлексия в единство еще не последовала, то они составляют два противоположных вида сознания: одно - сознание самостоятельное, для которого для-себя-бытие есть сущность, другое - несамостоятельное, для которого жизнь или бытие для некоторого другого есть сущность; первое - господин, второе - раб.” (2,4,103)
Если бы “сознания” обладали каким-то специфическим содержанием или определенностью до того, как стать господским или рабским, то распределение моментов жизни и для-себя-бытия между ними нельзя было бы не признать результатом случайности. Но оба вида сознания на самом деле только и выводятся в акте этого распределения, поэтому вопрос, почему именно “это” сознание - господин, а “это” - раб, бессмыслен, ведь “этого” до самого распределения как раз и не существовало (вспомним остроумные рассуждения Августина о “справедливости” распределения ролей в мировой драме).
Относительно заслуженно знаменитой диалектики господского и рабского сознания (см.: 2,4,103-106) сделаем лишь одно замечание. Гегель пишет: “Господин есть сознание, сущее для себя, но уже не одно лишь понятие сознания, а сущее для себя сознание, которое опосредствовано с собой другим сознанием, а именно таким, к сущности которого относится то, что оно синтезировано с самостоятельным бытием или с вещностью вообще.” (2,4,103) - Господское сознание, если бы оно не было связано с рабским сознанием или было лишь реализацией момента абсолютной негативности, было бы лишь для-себя-бытием как понятием сознания. Но как соотносящееся с сознанием, реализующим момент жизни, непосредственности, оно выступает как сущее для себя сознание. О рабском же сознании говорится, что оно синтезировано с самостоятельным бытием, это значит, что оно установило свое бытие в качестве своей сущности (цели), отказавшись взамен этого от собственной определенности или став бытием-для-другого. Вся последующая диалектика уже задается этим “распределением сил” между сознаниями. Разъединенность и, одновременно, необходимая
соотнесенность бытия (жизни) и определенности (для-себя-бытия, абсолютной негативности) предопределяет необходимость их объединения в единое целое.
Каков же результат этой диалектики, обещавшей свести воедино непосредственность жизни и отрицательность для-себя-бытия ? Гегель отвечает на этот вопрос вполне определенно: перед нами выступает новая форма сознания - “сознание, которое есть для себя сущность в бесконечности или в чистом движении сознания, сознание, которое мыслит или есть свободное самосознание” (2,4,107). В-себе-бытие этого формообразования не есть больше вещность, непосредственное, не входящее в опыт сознания бытие, некоторый немыслимый субстрат, остов, которому противостояло бы некоторое абстрактное “я”, но само “я”, понимаемое, однако, конкретно, т.е. как сознание, “субстратом” которого является его собственное “чистое движение”, “бесконечность”, а не некая инаковость. Это формообразование Гегель характеризует как мыслящее и свободное. “Мыслящее” значит: содержание сознания не есть нечто отличное от сознания вообще (см.: 2,4,107), “свободное” значит: сознание, охватывая предмет, не выходит за пределы себя самого, не знает инаковости помимо “своей” инаковости (см.: 2,4,107).
Гегель описывает сложившееся положение таким образом, что трудно понять, почему бы этому формообразованию, выступающему в качестве результата диалектики господства и рабства, не стать вообще завершением “круга”, ведь предметом сознания становится “бесконечность”, и “мышление”, “свобода”, как их описывает Гегель, есть не что иное, как метафоры деятельности, имеющей структуру “бесконечности”. И все же это далеко еще не завершение “круга”. Несмотря на все завоевания рассматриваемого формообразования Гегель продолжает считать его лишь мысленным сознанием вообще, в предмете его видит лишь непосредственное единство в-себе-бытия и для-себя-бытия, это сознание само для себя есть в-себе-бытие или субстрат, основание, но лишь в качестве общей сущности, а не как конкретное единство, одним словом, он продолжает считать эту форму сознания абстрактной (см.: 2,4,107).
Сопоставляя описываемое сознание со стоицизмом, Гегель все же не дает здесь повода упрекнуть его в смешении феноменологической структуры, формообразования сознания, с реальным явлением истории духа: “Эта свобода самосознания, когда она выступила (выделено мной,- В.К.) в истории духа как сознающее себя явление, была названа, как известно, стоицизмом” (2,4,107). Кроме того, трудно заметить какие-либо прямые заимствования из “реальной” истории идеологии, т.е. формообразование представлено Гегелем вполне “чисто”. Главное в стоицизме - возведение всякой находящейся в сознании определенности в форму мысли, установление лишь мысленных, т.е. неотличимых от самого сознания, различий, возвращение из всякого наличного бытия в “простую существенность мысли”, “чистую всеобщность мысли”.
Но достигается возведение определенности в мысль за счет того, что, как указывалось выше, собственно предметный аспект или отношение “самого сознания” к “предмету” здесь не рассматривается. Хотя для стоического самосознания сущность есть уже не “чистая абстракция “я””, как для самосознания в самом его выступлении, тем не менее оно не знает еще собственно инаковости, предметности, даже действительного содержания (почему и падет так легко жертвой скептицизма), его предметность тождественна самому сознанию, - потому что целое феноменологического предмета было разделено надвое, и теперь рассматривается лишь “верхняя” его часть, отношение “нашего сознания” к “самому сознанию”.
Констатация разделения и воспринимание того, что только одна различенная часть, без соотношения с другой частью, есть неизбежно абстрактная сущность, означает и начало преодоления этого разделения. Движение этого формообразования Гегель - также по аналогии с историческим феноменом - называет скептицизмом. Скептицизм - опыт стоицизма, “опыт” - феноменологическое раскрытие в-себе-бытия, того, что Гегель часто называет “лишь понятием” (см.: 2,4,109-110).
В скептицизме изменяется отношение сознания к негативному движению или той диалектике, которая разлагала каждое определенное формообразование сознания, приводила его в движение и снимала в другом формообразовании. Став
“скептическим”, сознание перестает воспринимать негативное движение как внешнее себе, оно осознает его как свой собственный момент, иное - как непосредственный результат своего образа действия. Но тем самым начинается и возвращение к предмету как действительной инаковости, к тому, от чего сознание отказалось, перейдя к движению по “первому малому кругу”.
Сознательно разрушая всякую выступающую перед ним определенность, самосознание скептицизма “узнает на опыте свою собственную свободу, им самим себе сообщенную и им самим сохраненную; оно есть для себя эта атараксия мышления о самом себе, неизменная и подлинная достоверность себя самого” (2,4,110-111). Но действительный опыт скептицизма показывает, что для него в равной мере существенно как это сознание равенства самому себе, так и растворение себя в бесконечном опровержении случайного и ничтожного сущего (см.: 2,4,111). “Это сознание, вместо того, чтобы быть равным себе самому сознанием, ... на деле есть лишь просто случайный хаос, головокружительное движение беспрестанно себя порождающего беспорядка.” (2,4,111) Однако, с другой стороны, будучи потерянным в борьбе с единичностью, и, значит, единичным и случайным самосознанием, “оно превращает себя ... опять-таки во всеобщее себе самому равное (сознание); ибо оно есть негативность всякой единичности и всякого различия” (2,4,111). Скептическое сознание “не согласует эти две мысли о себе самом: то оно признает свою свободу как возвышение над всяким хаосом и всякой случайностью наличного бытия, то оно точно так же сознается в том, что снова впадает в несущественность и блуждает в ней” (2,4,111). Итак, скептицизм имеет “двойственное, противоречивое сознание - сознание неизменности и равенства (с одной стороны), и полной случайности и неравенства себе (-с другой)” (2,4,111), и особенность скептицизма заключается как раз в том, что он удерживает себя от того, чтобы примирить это противоречие.
Сознание, не только в полной мере знающее себя как противоречивое сознание, но и объединяющее противоположные моменты, есть уже не скептицизм, а некоторое новое формообразование. Гегель называет его
“несчастное сознание”. Мы видели, как плавно осуществлялся переход стоицизма в скептицизм, а скептицизма - в несчастное сознание, и при этом оказывается, что все три момента реализуют по-существу единый опыт свободы самосознания, и теперь нам предстоит познакомиться с этим его завершением.
В себе, говорит Гегель, несчастное сознание по-существу соответствует понятию духа, поскольку в одном сознании оно имеет и другое (см.: 2,4,112), и здесь еще не ясно, сколь долгим будет это движение от “в себе” к “для себя” духа. Структура формообразования определилась таким образом: одно сознание - простое неизменное, второе - сложное переменчивое; первое - сущность, второе - несущественное; рассматриваемое формообразование есть сознание противоречия этих двух сознаний, отождествляющее себя (поскольку оно есть непосредственное их единство) со вторым, несущественным. “Но как сознание неизменности или простой сущности оно должно в то же время стремиться освободить себя от несущественного, т.е. от себя самого” (2,4,113), чем и задается общее направление эволюции этого формообразования.
Первоначально несчастное сознание стремится только возвыситься, перейти к неизменному, не подозревая, что само оно имеет значимости не меньше, чем его противоположность. В опыте несчастного сознания сложное переменчивое сознание (в качестве единичного) и простое неизменное (в качестве всеобщего) находят опосредование в некоторой “единичности вообще” (см.: 2,4,113), поскольку и единичность есть “форма неизменного” (см.: 2,4,114), и всеобщее, которое открывается несчастному сознанию, есть “форма единичности” (см.:2,4,114), его собственная форма. Такое выражение примирения единичности со всеобщим принадлежит, однако, только “нам”, является предвосхищением “нашего сознания”. Действительный же опыт сознания проходит через приобретение неизменным формы единичности (см.: 2,4,114), установление сознанием отношения с этим приобретшим внешний облик единичным (см.: 2,4,115), и сознание стремится сменить лишь отношение к новому неизменному слиянием с ним, установлением бытия с ним как “одного”. Это становление “одним” возможно лишь потому, что от сознания скрыто, что то, к чему оно стремится, - это оно само. Ведь оно
стремится к единству единичности с мышлением, но само оно и есть это единство (см.: 2,4,116). Будучи само этим единством, оно еще не имеет его своим предметом, что и означает, что оно скрыто от него, или что оно скрыто само от себя как желанное единство потустороннего неизменного всеобщего и посюстороннего неизменного единичного.
Традиционное восприятие этого фрагмента “Феноменологии” разоблачает сам “метод” “гегелеведения”, которое стремится увидеть в “Феноменологии” “осмысленную” “реальную историю”. В отечественном издании “Феноменологии духа” он увенчивается (заимствованной у Лассона ?) “разгадкой”: “крестовые походы”.
Что же мы на деле видим в этом фрагменте ? По-существу, это описание должно представлять структуру сознания, в которой оба “полюса” - “чистые мыслящие сущие”, как выражается Гегель, но субъект еще не решается признать имманентность своего предмета той сфере, в которой сам действует, - мышлению, и поэтому выносит его - как “действительное единичное” - вовне. - Ясно, что это непростое описание является одной из метафор “неузнавания себя”, т.е. того определяемого трансцендентальным отношением этапа движения всякой феноменологической структуры, в котором завязывается сюжет этого движения, точки, из которой оно исходит. Именно в описании логико-феноменологической структуры неузнавания - фундаментальной для Феноменологии,118 готовящей неизбежные “узнавания”, т.е. усмотрение в предметности, инаковости самого себя, и “признания”, т.е. установление структурного тождества с “другим” сознанием, дающее сознанию право на завершенно-бесконечное опосредование инаковости, - и заключаются действительные содержание и смысл этого фрагмента.
Следует ли, однако, отрицать, что когда Гегель писал эти строки, перед взором его проходили образы известных этапов эволюции религиозного сознания ? Нет, не следует. Гегель, как видим, и не пытается скрывать этого. Более того, можно ли отрицать, что “реальная” история религии и культуры “осуществила” эту логико-феноменологическую структуру и тем самым предоставила мыслителю реально-исторический
повод для ее реконструкции в Феноменологии? Конечно, нет. Но разве отсюда следует, что предметом Феноменологии является “реальная” история духа? Разве не очевидно, что вся “история” есть лишь пример - телесно-пространственно-временной - той феноменологической сущности, которая, будучи трансцендентальной структурой и не нуждаясь поэтому ни в каком “существовании”, познается в Феноменологии сама по себе ? Что же мы в конце концов хотим видеть - последовательность субъективных ассоциаций Гегеля и степень их соответствия самим сущностям, феноменологическим структурам, или все же сами чистые структуры соотношения “я” и предметности и чистые логические (категориальные) формы этих феноменологических сущностей?
Вернемся, однако, к рассмотрению феноменологического движения. Разрешается драма безуспешных поисков несчастным сознанием самого себя вовне себя возвращением в себя - через вожделение и труд, который “путем снятия чужой сущности и пользования ею, а именно в форме самостоятельных вещей (мы помним, что мнимо самостоятельная вещь в IV главе - это лишь образ отношения к другому сознанию), подтверждает сознанию внутреннюю достигнутую им (“самим сознанием”, - В.К.) для нас (мы находимся еще в “первом круге”, - В.К.) достоверность его самого” (2,4,117).
На каком-то пределе диалектической виртуозности Гегель показывает раздвоение предмета “самого сознания”. Так как достигнутая в труде достоверность сознания есть лишь наша достоверность, достоверность, открывшаяся “нашему сознанию”, а “само сознание” “находит себя только вожделеющим и работающим, для него еще не очевидно, что в основе того, что оно находит себя таковым, лежит внутрення достоверность его” (2,4,117), то это полученное подтверждение достоверности отвергается “самим сознанием” - сфера вожделения и труда выступает для него как низменное и ничтожное (см.: 2,4,118). Но так как для “нашего сознания” уже ясна вся значимость достигнутой достоверности,119 то и “самому сознанию” должна открыться двойственность достигнутой им предметности (см.: 2,4,118).
Спросим себя здесь еще раз, должны ли мы видеть и в этом фрагменте затуманенное абстрактной лексикой описание амбивалентности религиозного сознания, для которого мир есть одновременно и творение божие, и лишь презренная чувственно-телесная оболочка духовной сущности, или же мы должны видеть в нем проясненную - с помощью той же абстрактной лексики - логико-феноменологическую структуру, являющуюся моментом разворачивания понятия сознания как предмета Феноменологии и, следовательно, принадлежащую к сущности и всякого единичного сознания, откуда следует и принципиально возможное соотнесение с “реальной” историей, в частности, с историей религиозного сознания ? Если мы идем первым путем, то наверняка встретим на нем много занимательного, но только собственно Феноменология нам при этом совсем не потребуется. Эволюцию религиозного сознания могут описывать - и притом без всякого метафизического затуманивания - история культуры и другие научные дисциплины; Феноменология и вырастающая из нее Логика оказываются при этом совершенно ненужными. Но если мы уж решили обратиться к “Феноменологии”, то целью нашей должны стать сами феноменологические структуры и их движение, а вовсе не “угаданные” “за” ними реально-исторические корреляты, для познания которых - вспомним историю платонизма, по-существу, лишь онтологизировавшего структуры сознания, - они в конечном счете окажутся просто бесполезными. Кроме того, следует иметь ввиду и те трудности, которые всегда требуется преодолевать историку культуры, если он выходит за границы “идеографического” метода.
Продолжим наше рассмотрение эволюции “несчастного сознания”. Будучи образом “неизменного”, непосредственно подлежащая деятельности сознания действительность не может быть просто уничтожена, “употреблена” сознанием с целью достижения осознания своей самостоятельности. Но так как в труде и потреблении она все же уничтожается, то деяние это сознание склонно приписывать некой абсолютной мощи, которая не принадлежит ему, но лишь по благодати, т.е. случайно, в нем пребывает. Как бы стремясь избежать “учетверения терминов”, сознание отождествляет момент
абсолютной мощи в-себе-бытия, прежде уже вынесенный им вовне, с “неизменным” как сущностью действительности. В результате движения полученного заключения абсолютная мощь “неизменного” разлагается на субъективную деятельность сознания и его таинственную основу - с одной стороны, и на внешность действительности и собственно неизменную сущность - с другой, и через указанное объединение “субъективного” и “объективного” моментов в-себе-бытия вновь снимает это разделение (см.: 2,4,118-119). Завершается это движение становлением единства сознания с “неизменным”.120 И хотя это все еще промежуточный этап на пути движения сознания по “первому малому кругу”, поскольку в этом единстве опять выступают противоположности (см.: 2,4,119), все же именно это движение оказывается решающим событием сюжета IV главы.
Описывая вновь выступившую в достигнутом единстве противоположность всеобщего и единичного, Гегель утверждает, что, собственно, более значимой в движении заключения оказывается деятельность единичного сознания.121 Если смотреть на эту оценку Гегелем роли единичного сознания с точки зрения истории культуры, то ее можно считать выражением “протестантских предпочтений” Гегеля (“варлаамитской ереси”, как сказал бы А.Ф.Лосев).122 Если смотреть на нее строго историко-философски, то эту оценку можно принять в качестве одного из способов обоснования трансцендентальной точки зрения в философии в рамках “Феноменологии”, ведь предметность с содержательной стороны, со стороны определенности, полагается в этом движении сюжета трансцендентальным компонентом единичного сознания, а на стороне объективности остается лишь “существование”. Но если смотреть на этот сюжет и его гегелевскую интерпретацию лишь имманентно-феноменологически, то следует просто сказать, что этот “субъективистский” мотив в изложении Гегеля есть лишь выражение того, что речь здесь идет все еще о движении “нашего сознания”, именно оно есть главное действующее лицо, тогда как “само сознание” (“неизменное”, всеобщее сознание, действительность как таковая) продолжает оставаться предметом его деятельности. - Подобным образом и
различия в интерпретациях “Феноменологии” как целого могут быть поняты не как “содержательные” различия, а как различия в точках зрения, подходах, определенных автором задачах исследования, и, следовательно, продуктивному “диалогу” между интерпретаторами должно предшествовать согласование этих изначально избираемых “формальных” условий работы с текстом.
Непосредственный облик несчастного сознания не может показаться новоевропейскому человеку привлекательным (см.: 2,4,120). Но это, конечно, никак не влияет на его “феноменологические достоинства”: структура его деятельности (“действование, исходящее от “ничто” (Tun von Nichts)”) как раз и соответствует логической структуре абсолютной рефлексии. Эта структура деятельности сознания является основанием становления его единства с “неизменным” (несмотря на живо представленную Гегелем негативную психологическую характеристику) (см.:2,4,121). Достижением этого единства и будет знаменоваться начало движения по “второму кругу” “Феноменологии”.
Дело в том, что и оба крайних термина - единичное сознание и неизменное само по себе (всеобщее сознание) - и средний термин есть сознание. Различаются, обладают бытием как “три”, они лишь как “существующие”, как субстраты-носители определенности. Но сущностно, структурно, это - одно и то же сознание. И именно это, сводя все точки феноменологической предметности в единство, показывает своей деятельностью средний термин: его деятельность направлена на сознание как таковое, единую структуру, живущую во всех его образах, тогда как “уничтожающий” характер этой деятельности затрагивает лишь единичность, определенный (случайный) характер связи этой структуры с полагаемым до поры субстратом.
Тем самым выполняются обе задачи, которые были поставлены сознанию сюжетом “первого малого круга”: “во-первых, самосознание должно стремиться снять другую самостоятельную сущность, дабы этим удостовериться в себе как в сущности” (2,4,99) (эта задача решалась во фрагменте А.); “во-вторых, оно тем самым стремится снять себя само, ибо это другое есть оно само” (2,4,99) (эта задача решалась во
фрагменте В.). Сам Гегель склонен говорить здесь о переходе сознания
от единичности ко всеобщности. Определеннее можно сказать, что “наше сознание” как то, что предполагалось сущим субстратом-носителем определенности, по своей логико-феноменологической структуре оказалось тождественным чистому понятию сознания, “совпало” с “самим сознанием”. Единичность и всеобщность как определенные формы связи существенности с субстратом являются здесь, может быть, уже и не самыми удачными, адекватными характеристиками феноменологической ситуации, в которой на первый план снова - как и в финале “первого большого круга” - выступила сама структура опосредования феноменологических образов бытия и иного, “я” и предмета, - “бесконечность” . С другой стороны, можно сказать, что понятие сознания, слившись в движении феноменологического опыта с живым “нашим сознанием”, из предмета феноменологического движения превратилось в его субъект, само стало действующим, живым и сущим сознанием. Все это, конечно, и говорит о том, что “первый круг” “Феноменологии” закончен, и мы, теперь уже в облике “самого сознания”, вступаем в движение по “второму кругу” “Феноменологии”.123
2. Опыт “самого сознания” (“второй большой круг”
“Феноменологии”). Движение абсолютного опосредования, выявившее
единство единичного сознания и его в-себе-бытия, обитавшего для “несчастного сознания” лишь в трансценденции, привело к становлению формообразования, для которого предмет во всей его инаковости выступает как порожденный им самим и принимается им как его предмет, и даже поскольку сознание вообще и есть тождество субъекта и предмета, - как оно само. Это формообразование - разум.
Для “нашего сознания” идеал структурной конкретности, глубины опосредования инаковости достигнут. Оно, если бы в рамках Феноменологии можно было говорить о нем отдельно (реально ведь оно есть лишь часть структуры предмета
Феноменологии), уже достигло этой истины разума. Но для “самого сознания”, хотя оно в качестве предмета “нашего сознания” и шествовало вместе с ним по ступеням конкретизации структуры сознания, эта истина выступила пока лишь как достоверность: “Сознание, которое есть эта истина, прошло этот путь и забыло о нем, выступая непосредственно как разум, или (иначе говоря) этот непосредственно выступающий разум выступает лишь как достоверность указанной истины. Разум, т.о., заверяет только, что он - вся реальность, но сам этого не понимает, ибо названный забытый путь есть понимание этого непосредственно выраженного утверждения.” (2,4,125) И “само сознание”, конечно, должно обрести эту истину, “вспомнить” забытый путь не только в качестве предмета “нашего сознания”, но и заново построить эту структуру для себя.
Следует, видимо, повторить, что ни этот фрагмент, ни предварительные замечания в V главе вообще, в которых завязывается ее сюжет, невозможно понять, если не учитывать принципиальное различие роли “нашего сознания” и “самого сознания” в структуре феноменологической предметности. Пока только “нашему сознанию” открыт путь к структуре абсолютного опосредования инаковости, “самому сознанию” же дан лишь абстрактный, непосредственный результат, лишь “представление” о разуме, возвещая которое, оно и преподносит свои “заверения”.
Именно различие двух модусов предметности и является основанием тех по видимости противоречивых оценок, которые Гегель дает здесь разуму как формообразованию и идеализму как точке зрения в философии, которое в этом формообразовании выражается. В самом деле, с одной стороны, вследствие того, что сознание в качестве разума получает возможность опосредовать инобытие, “его доселе негативное отношение к инобытию обращается в положительное отношение” (2,4,124); “Мир лишь теперь возник для него” (2,4,125); “Оно открывает мир как свой новый действительный мир, в постоянстве которого оно заинтересовано” (2,4,125). Но, с другой стороны, пройдя путь становления разума, “само сознание” “забывает” его (ведь это был не его путь, оно было не субъектом, но лишь частью
феноменологического предмета, этот путь был пройден им, но пройден все же не для него).124 Отсюда - непосредственный характер выступления разума, характер достоверности, отсюда - и “заверяющий” характер того идеализма, о котором говорит здесь Гегель. “Разум есть достоверность того, что он есть вся реальность. Но это “в себе” или эта реальность есть еще нечто безусловно всеобщее, чистая абстракция реальности.” (2,4,126)
Пройти путь от “достоверности” к “истине” означает для разума необходимость снова пройти путь его становления, но теперь уже - для “самого сознания”. Основание этого движения - в завершенно-диалектическом, спекулятивном, характере предметности, того единства самосознания и бытия, которое Гегель (в перспективе “Логики” - знаменательно) называет категорией: “Эта категория или простое единство самосознания и бытия имеет в себе различие, ибо ее сущность состоит именно в том, что в инобытии или абсолютным различии она непосредственно равна себе самой. Поэтому различие есть, но есть совершенно прозрачно, и как различие, которое в то же время не есть различие.” (2,4,126-127)
Эта абсолютно противоречивая и вследствие абсолютности своей противоречивости спокойная (Гегель говорит: прозрачная) предметность нам уже хорошо знакома. Это - то же самое, что и самосознание со структурой “бесконечности” в конце III - начале IV главы, это - то же самое, что и понятие логической предметности или категория бытия в начале “Логики”. Да, все это - одна и та же предметность, т.е. одинаковым образом структурированная предметность, просто одна и та же структура, выступающая лишь в различных логико-феноменологических контекстах. Именно спекулятивная предметность, “бесконечность”, указывая точно на границы “кругов” “Феноменологии”, дает нам и принципиальную возможность разобраться в структуре этого сложнейшего произведения, а ясное понимание трансцендентального характера спекулятивной предметности, вытекающее из самой природы феноменологического движения, предохранит нас от объективистски-натуралистического истолкования соотношения Логики и реальной философии и, следовательно, от возможности воспроизводить в качестве системы философии Гегеля
энциклопедическую систему. - Как ясно, именно обусловленная “бесконечностью” связь “Феноменологии” и “Логики” и является основой для их понимания.
Теперь - как, впрочем, и вообще на “стыках” феноменологических “кругов” - мы видим, что трансцендентализм как точка зрения в философии есть выражение уверенности сознания в его абсолютной мощи, т.е. способности порождать и принимать обратно в себя - “опосредовать” - любую инаковость, и именно достижение сознанием в ходе феноменологического движения структуры “бесконечности” свидетельствует об этой мощи. Ничто не может перед ней устоять, всякое единство разлагается и поглощается ее абсолютной рефлексией, и, с другой стороны, невозможно представить никакое “существование”, которое могло бы оправдаться перед рефлексией как самостоятельное, поскольку всякий субстрат оказывается на деле лишь мнимым, подразумеваемым бытием, может приниматься как бытие лишь до тех пор, пока он не опосредован рефлексией трансцендентальной субъективности. Поэтому именно теперь, когда построена структура абсолютного опосредования, мы и встречаем у Гегеля самые яркие манифестации трансцендентализма: “Оно удостоверилось в самом себе как в реальности, или в том, что вся действительность есть не что иное, как оно; его мышление непосредственно само есть действительность ...” (2,4,124); “То, что есть, или то, что в себе, есть лишь постольку, поскольку оно есть для сознания, и ... то, что есть для него, есть также в себе” (2,4,125); “Самосознание и бытие есть одна и та же сущность, та же не в сравнении, а сама по себе” (2,4,126).
В философии Гегеля завершилось движение выявления структурной гомогенности самосознания и бытия, которое проявлялось у Парменида, Платона, Аристотеля, рационалистов 17 века, Фихте и Шеллинга, - так мог бы быть сформулирован главный онтологический итог “Феноменологии духа”. Именно структурное совпадение самосознания и бытия, или, что то же, адекватность понятия бытия рефлексивной структуре самосознания, имеется у нас прежде всего ввиду, когда говорится о принадлежности гегелевской философии традиции трансцендентализма, о завершении Гегелем этой
традиции. В основе этого единства самосознания и бытия лежит
одна и та же структура, в соответствии с которой оба они являют себя как простые соотношения с собой, сущие как снятие бесконечного движения, бесконечной самоотрицательности; “Я” и “бытие” мыслимы как завершение бесконечного “диалога”: “бытие-небытие” и “я-не-я”. Позиция трансцендентализма в философии оказывается просто самоосознанием рефлексии как абсолютной пластичности метода.
Так же, как спекулятивная предметность в ее непосредственном выступлении есть лишь чистое, абстрактное бытие, так и “его (разума, - В.К.) первое провозглашение есть лишь абстрактная пустая фраза гласящая, что все принадлежит ему (sein ist)” (2,4,128). “Этот первый познающий себя в предмете разум (т.е. его первое формообразование, - В.К.) находит свое выражение в пустом идеализме, который видит разум только таким, как тот есть для себя на первых порах, и который воображает, что, показывая во всяком бытии это чистое “мое” (in allem Sein dies reine Mein) сознания и объявляя вещи ощущениями или представлениями, он показал это “мое” (сознание) как завершенную реальность.” (2,4,128)125
Первоначальный образ разума, установленный как абсолютная точка зрения в философии, порождает “пустой идеализм”. Но - аналогично понятию бытия в “Логике” - как лишь первый этап его движения, снимаемый в его развитии, он есть необходимое основание всего последующего феноменологического движения. В этой форме он есть, по выражению Гегеля, “наблюдающий разум”.
Прежде чем продолжить феноменологическое движение, следует хотя бы в общем виде указать на структуру этого движения. Сам Гегель говорит, что фрагмент V.A повторяет движение глав I-III, т.е. в этом фрагменте описывается движение по “второму большому кругу” (“само сознание” проходит этапы чувственной достоверности, восприятия и рассудка), тогда как фрагменты V.B и V.C, очевидно, уже относятся Гегелем к тому этапу движения, который можно было бы назвать “вторым малым кругом” (см.: 2,4,187).
Итак, наблюдающий разум, повторяя с точки зрения
“самого сознания” путь предметного сознания в “первом круге”, снова обращается к инобытию, хотя, как мы знаем, как раз его отношение к инобытию стало другим, оно теперь - его инобытие. 126 Стремление сознания найти инаковость и открыть в ней себя, стремление наблюдать мир как свой мир - это некая простейшая, экстенсивная форма удостоверения сознанием в собственной мощи, нацеленная в конечном счете на постижение своей завершенно-диалектической, спекулятивной природы.
Общее направление движения феноменологического опыта задается тем, что “само сознание” пытается познавать свой предмет как действительную и самостоятельную сущность, именно в нем найти многообразное, различенное, конкретное бытие (вспомним “чувственную достоверность”). Но убедившись в полной абстрактности, бессодержательности предмета самого по себе, “само сознание” - так же, как в “первом круге” “наше сознание” - принимает на себя движение предмета (ниже мы будем говорить об этом движении подробно). “Если бы разум перерыл все внутренности вещей и вскрыл им все жилы, чтобы хлынуть оттуда себе навстречу, он не достиг бы этого счастья, а должен был бы сначала в себе самом найти свое завершение, чтобы потом иметь возможность узнать на опыте свою завершенность” (2, 4, 130), - говорит Гегель. Сознание сначала само конституирует свою предметность, и лишь затем предметность наполняет его своей определенностью (принять которую он не был бы способен, если бы не создал ее сам), возводя тем самым достоверность разума к его истине.127
Обратимся теперь к рассмотрению пути сознания во “втором круге”, но оговоримся сразу, что будем обращать внимание в ходе этого рассмотрения только на те моменты, которые существенно дополняют смысл того краткого, но очень ясного и “интенсивного” описания, которое Гегель дает в начале V главы (см.: 2,4,129-131, и прим.127). Гегель приступает к рассмотрению “второго круга” феноменологического движения с указания на некоторое “наивное лукавство” сознания, которое декларирует чувственные восприятия и слагающийся из них опыт единственным источником истинного знания. “Оно забывает
сказать, что на деле оно в такой же мере уже определило для себя по существу предмет этого ощущения, и это определение имеет для него по меньшей мере такое же значение, как и указанные ощущения.” (2,4,131) А определение предмета может быть только общим. “Воспринимаемое должно иметь, по меньшей мере, значение чего-то всеобщего, а не чувственного “этого”.” (2,4,131)
Разум, т.е. “само сознание”, воспроизводящее позицию “чувственной достоверности”, тем самым сразу переходит на точку зрения “восприятия”. Как осуществляется этот переход ? Предмет сам по себе неподвижен. (Правда, с последовательно трансцендентальной точки зрения, сам по себе он и не существует, о чем эта неподвижность только и свидетельствует.) Как и в “первом круге”, движение соотношения сознания и предмета инициируется только сознанием. Там это было “наше сознание”, здесь - слившееся с ним и потому ставшее столь же “живым” “само сознание”. Там это достигалось посредством вопрошания, здесь - с помощью памяти. (Нельзя не вспомнить в этой связи о взгляде Аристотеля на роль памяти в формировании представления об общем.) “Это всеобщее, таким образом, есть вначале лишь то, что остается равным себе; его движение есть только однообразное повторение одних и тех же действий. Сознание, поскольку оно находит в предмете только всеобщность или абстрактное “мое”, должно принять на себя подлинное движение предмета (выделено мной, - В.К.) и, не будучи еще рассудочным его пониманием, должно быть по крайней мере памятью о нем, которая выражает всеобщим образом то, что в действительности наличествует только как единичное. То поверхностное извлечение из единичности и столь же поверхностная форма всеобщности, где чувственное только принимается, не становясь в себе самом всеобщим, - это описание вещей еще не имеет движения в самом предмете; движение это, напротив, только в самом описании.” (2,4,131)
Это второе в ходе феноменологического движения прямое указание Гегеля на трансцендентальный характер порождаемой в этом движении предметности однозначно показывает невозможность приписывания логической идее и другим конституируемым в Феноменологии типам предметности
какого бы то ни было непосредственного “существования”, вообще доказывает абсолютную бессмысленность объективистского и натуралистического понимания гегелевской философии. Обратим внимание еще на то, что подобная процедура отсутствует в “первом малом круге”, V главе. Думается, это обстоятельство может рассматриваться как подтверждение того, что в “первом малом круге” не выделяется собственно предметный модус, описывается лишь движение соотношения “нашего сознания” и “самого сознания”. Именно поэтому и нет необходимости инициировать движение предметной определенности. В начале V главы, резюмируя предшествующее движение, Гегель пишет, что “сущность или истинное обладало (в IV главе, - В.К.) определенностью бытия только для сознания” (2,4,125).128 Следующий шаг в опыте наблюдающего разума - это различение существенного и несущественного. Различение это служит целям познания и, следовательно, также исходит из субъекта (см.: 2,4,132). Этому пункту во “втором круге” соответствует становление “эмпирического” уровня научного знания. Гегель показывает, что “само сознание” в сфере восприятия (что непосредственно и означает “воспринимающий разум”), стремясь только к существенности, всеобщности, в конце концов запутывается в своих “признаках” и “убеждается, следовательно, на своем предмете в путанности своего принципа, потому что то, что определено, по природе своей должно потерять себя в противоположном себе” (2,4,134). Тем самым феноменологическое движение переходит во “втором круге” границы “восприятия” и вступает в сферу “рассудка”.
Стремясь постичь определенность “в соотношении ее с тем, что ей противоположно” или как “исчезающий момент движения, принимающего себя обратно в себя”, сознание приходит к понятию закона (см.: 2,4,134). Закон, однако, это не только “в-себе-” сознания, не только понятие закона. Разум как достоверность сознания собственной реальности находит его и в явлении, и действительное бытие закона для сознания, опыт закона, есть именно соотношение обоих этих моментов. Ставя понятие закона в соотношение с различными условиями его проявления, т.е. экспериментируя, сознание находит “чистые условия закона” (см.: 2,4,136). То, что соответствует
полученному в опыте понятию закона (в отличие от понятия закона как лишь его в-себе-бытия, в противоположность явлению), есть материя. Материя “не есть сущая вещь, а есть бытие как всеобщее бытие или (бытие) в модусе понятия” (2,4,137).
Мы подошли к самому важному и интересному пункту “второго большого круга”, и этот момент феноменологического движения требует подробного комментария. Вот этот фрагмент: “В качестве истины экспериментирующего сознания мы видим чистый закон, который освобождается от чувственного бытия, мы видим его как понятие, которое, будучи налицо в чувственном бытии, но двигаясь в нем самостоятельно и независимо, погружено в него свободно от него и есть простое понятие. То, что поистине есть результат и сущность, само выступает теперь для этого сознания, но выступает как предмет, и притом ... как особый вид предмета ...” (2,4,137). “- Такой предмет, в котором процесс происходит в простоте понятия, есть органическое. Оно есть та абсолютная текучесть, в которой растворена определенность, благодаря которой оно было бы только для другого. (Т.е. если бы не абсолютная текучесть - замкнутое на себя движение структуры “истинной бесконечности”, - то определенность не замыкалась бы в для-себя-бытие. - В.К.) Если неорганическая вещь (предмет сознания в “первом круге”, - В.К.) имеет своей сущностью определенность и в силу этого только вместе с некоторой другой вещью составляет полноту моментов понятия (т.е. структура бесконечности в “первом круге” может формироваться только “экстенсивно”, через “переход”, - В.К.) и потому пропадает, вступая в движение, - то, напротив, в органической сущности все определенности, благодаря которым она открыта для другого, подчинены органическому простому единству; ни одна определенность не выступает как существенная определенность, которая свободно относилась бы к другому, и поэтому органическое сохраняет себя в самом своем отношении.” (2,4,137)
Выделим важнейшие моменты этих гегелевских положений:
1. Структурой органического является “истинная бесконечность”. Это со всей очевидностью следует из
представленного гегелевского фрагмента. Кроме того, если сравнить оба “круга”, то мы увидим, что и в “первом круге” “бесконечность” выступала как результат эволюции рассудочных определений. Поэтому следует признать обоснованной точку зрения, согласно которой диалектика имеет у Гегеля “рассудочное” - а не “мистическое”, например, - происхождение.
2. Если структура “истинной бесконечности” уже выступила перед “самим сознанием” в облике органического, то с чисто логической точки зрения можно было бы сказать, что “второй большой круг” “Феноменологии” завершен, все последующее изложение имеет только феноменологические, но не логические основания.
3. Теперь следует ответить на самый интересный вопрос: почему органическое не выступило в качестве особой предметности в “первом круге” ? (Вспомним, что в III главе переход к “бесконечности” осуществлялся непосредственно из рассмотрения фрагмента о “мире наизнанку”, т.е. на фоне чисто “гносеологической” проблематики, без указания на какой-то особый тип предметности.) С точки зрения принятых в нашем исследовании оснований анализа “Феноменологии духа” ответ на этот вопрос на самом деле является очень простым. В конце “первого круга” “бесконечность” была достигнута “нашим сознанием”, предмет которого - опять-таки “сознание”, именно - “само сознание”, поэтому “бесконечность” здесь - чистая структура, характеризующая отношения “двух сознаний”, у нее просто не может быть особого материального, чувственно-воспринимаемого субстрата. А вот в конце “второго большого круга”, когда “бесконечность” достигается “самим сознанием”, предмет которого - “предмет”, именно предметность как простое сущее, а не соотношение “я” и предмета, “бесконечность” выступает как предмет в пластически-чувственном образе органического: под “пластичностью” чувственности здесь понимается то, что чувственный характер выражения не мешает движению чистой структуры бесконечности, не сковывает ее. Гегель говорит, что понятие (здесь - просто метафора структуры бесконечности) двигается в чувственном бытии самостоятельно и независимо, погружено от него свободно от него. Таким образом, органическое как
предметность не могло появиться в “первом круге” именно потому, что “бесконечность” там описывала только структуру сознания, отношения “я” и предмета (опять-таки лишь “сознания”), но не предметность, не “предмет” сам по себе.
4. Теперь нам следует сделать и важнейшие замечания относительно координации “первого большого круга”, “первого малого круга” и “второго круга”, которые необходимы для понимания интерпретации представленного фрагмента “Феноменологии”. В начале IV главы Гегель говорит, что предмет самосознания есть жизнь, бесконечно рефлектированное в себя бытие. Но мы видели, что в контексте “первого малого круга” именно предметный модус не рассматривается, он как бы выносится на время за скобки. Так как самосознание есть для самосознания (только так оно находит себя в инобытии), то оно фиксирует это отношение самосознаний и рассматривает его само по себе.
Вспомним в этой связи об одном из фрагментов начала IV главы, который выше мы обещали прокомментировать: “Предмет, который для самосознания есть негативное, с своей стороны для нас или в себе точно так же ушел обратно в себя, как и сознание, с другой стороны. Благодаря этой рефлексии в себя он стал жизнью. То, что самосознание различает от себя как сущее, содержит в себе также, поскольку оно установлено как сущее, не только способ чувственной достоверности и восприятия, но оно есть рефлектированное в себя бытие, и предмет непосредственного вожделения есть нечто живое.” (2,4,94-95)
- Если бы “мы”, “наше сознание”, продолжали здесь целостное рассмотрение феноменологической структуры, то органическое выступило бы для нас как предмет нашего предмета - предмет “самого сознания” (поэтому оно и остается пока “в себе”), но самосознание, стремясь найти себя в инобытии, пока “не замечает” его, оставляет его пока без внимания. Однако, увлеченное собой самосознание попадает в ловушку: так как самосознание не есть предмет (оно непосредственно “непредметно”, идеально), то предмет для него уже как бы по своему понятию всецело негативен, а, следовательно, то самосознание, которое оно, удваиваясь (чтобы быть признанным=быть), отличает от себя, также
оказывается “жизнью” - сущим рефлектированным в себя единством, непосредственно сущей “бесконечностью”, т.е. предметом, который одновременно обладает совершенной структурой, но которому отказывается в бытии для себя (т.е. в праве быть самосознанием), которому разрешается выступать в качестве “бесконечности” только для самосознания, быть предметом вожделения (а не бесстрастного, не заинтересованного в его жизни наблюдения, как это будет иметь место в ситуации с органическим), - и начинается борьба самосознаний, знаменитая диалектика господского и рабского сознания.
“Жизнь” в IV главе - это не рефлектированный в себя предмет “самого сознания”, эта “жизнь” - в качестве предмета спокойного наблюдения под именем органического - пока забыта и выступит в качестве предмета “самого сознания” только во “втором круге”, тогда как в “первом малом круге” она остается еще “в себе”. “Жизнь” IV главы - это самосознание, сущее не для себя, а для другого самосознания, это не предмет, “возвышенный” до слияния со спекулятивной структурой, а спекулятивная структура, представленная в образе предметного бытия, в качестве лишь объекта вожделения. - Следует понять и неизбежность некоторой двусмысленности, которая во всех этих объяснениях содержится. Думается, исчерпывающим “извинением” за эту “двусмысленность” являются слова Гегеля о сущности самосознания как признанного самосознания.129
Итак, “само сознание” в рассматриваемом пункте достигает того уровня, на котором “наше сознание” находилось в конце III главы. Тогда “наше сознание”, став самосознанием,
а). осуществило рефлексию в себя, углубилось в себя (только этот процесс и описывает IV глава, “первый малый круг”);
б). и рефлектированному в себя предмету “самого сознания”, который уже тогда мог бы в качестве органического стать предметом наблюдения “нашего сознания”, пришлось ждать, пока “само сознание” заново пройдет весь “большой круг” и увидит уже свой предмет как органическое;
в). а в это время (феноменологическое “время”, т.е. на протяжении развития сюжета IV главы) самосознание видит в
качестве “жизни”, в качестве лишь сущего самосознания своего двойника-соперника - то самосознание, которое оно, реализуя свое понятие (быть=быть для (другого) самосознания), отличает от себя (удвоение самосознания), и признания которого оно должно добиваться;
г). отсутствие предметного модуса в IV главе выражается в том, что эта “жизнь” выступает не как предмет наблюдения, не в качестве органического, а как предмет вожделения, который непосредственно “вбирается” сознанием, потребляется им без остатка;
д). и, наконец, вследствие этого мы должны воздерживаться от смешения этих двух образов “жизни” - лишь сущего самосознания IV главы и ставшего субстратом “бесконечности” предмета “самого сознания” V главы. Совпадая друг с другом по спекулятивной структуре, они принципиально отличаются друг от друга по своему происхождению и феноменологическому статусу. Смешение этих образов “Феноменологии” служит одним из поводов к появлению “натуралистических” ее интерпретаций.
5. Теперь, наконец, мы должны специально прокомментировать и то предложение рассматриваемого фрагмента, в котором выше намеренно оставили пропуск, вот оно: “То, что поистине есть результат и сущность (т.е. понятие, спекулятивная структура бесконечности, - В.К.), само выступает теперь для этого сознания (“самого сознания”, - В.К.), но выступает как предмет (а не в качестве сознания, или соотношения “я” и предмета, как это имело место в “первом круге”, - В.К.), и притом (так как он именно для этого сознания не есть результат и не стоит ни в каком соотношении с предшествующим движением) (выделено мной, - В.К.) как особый вид предмета ...” (2,4,137). Как можно было бы понять смысл этого выделенного замечания, очень странного на первый взгляд ?
“Результат и сущность” феноменологического движения, как говорит здесь Гегель, т.е. “бесконечность”, впервые была построена “нашим сознанием” в конце “первого круга”. Все последующие “круги” “Феноменологии” лишь повторяют этот путь и этот результат, они лишь вспоминают о том, пройденном “нашим сознанием”, пути. Здесь, в повторении, -
копия, там - оригинал. Мы помним, что в начале IV главы Гегель говорит уже о предмете “самого сознания” как о бесконечно рефлектированном в себя единстве, “жизни”. “Жизнь” эта, повторим, была оставлена “нашим сознанием” для спокойного взгляда “самого сознания”, она “ждала”, пока “наше сознание” пройдет “первый малый круг”, а “само сознание” - “второй круг”, но ведь реально она была построена уже тогда, в движении “нашего сознания” по “первому кругу”. Именно поэтому Гегель и говорит, что для “самого сознания” она не есть результат и не стоит ни в каком соотношении с предшествующим движением.
Может быть, стремясь показать своеобразие нового предмета “самого сознания”, Гегель излишне категоричен, когда говорит: “ни в каком соотношении”. Связь эта, видимо, является столь же близкой, как, например, и связь душевного волнения или радости, которые мы испытываем при чтении книги, с самой книгой, хотя при этом мы и понимаем, конечно, что действительным источником наших чувств является не книга, а та, как говорил В.В. Розанов, музыка, которая когда-то звучала в душе ее автора, тогда как “книга” - посредством использования определенных “приемов” - стремится лишь повторить, воспроизвести на другом предметном материале - душевном опыте читателя - те изначальные “результат и сущность” (гегелевская “музыка” - недвижный трепет “бесконечности”), жившие в душе ее творца.
В дальнейшем движении “второго большого круга” мы имеем дело с развитием понятия органического. Сюжет снова завязывается чисто “феноменологически” - с помощью различения моментов “в себе” (или “для нас”) и “для самого сознания”, т.е. движение снова исходит из некоторого “неузнавания себя”, обусловленного структурой предмета Феноменологии или самой феноменологической ситуацией. Именно, “наше сознание” здесь уже видит, что предмет сам в себе, органическое, представляет собой пластично выраженную спекулятивную структуру. Органическое есть цель, чистое понятие, в бесконечном движении которого его моменты сливаются и есть как целое. И “наше сознание” видит, что органическое действительно является таковым, но “само сознание”, которое Гегель называет здесь “инстинктом разума”
(см.: 2,4,139), сводит рассмотрение замкнутого в себе органического как понятия, целого и цели, к рассмотрению “телеологического отношения” (см.: 2,4,138) - внешнего органическому и распадающегося отношения его к среде, которая, как это здесь уже видим “мы”, полностью включена в его движение. Тем самым наблюдающий разум, “само сознание”, здесь и ищет инстинктивно себя - спекулятивную структуру, и, более того, в облике органического находит себя, но еще не узнает себя в полной мере, как якобы предметное оно отличает себя (“предмет”, органическое) от себя же (“самого сознания”). И только многоопытное “наше сознание” видит их полное структурное тождество. Выявление этого структурного тождества и будет означать действительное завершение “второго большого круга”, хотя уже с появлением в сфере рассмотрения органического “второй большой круг” оказался завершенным для “нас” (“в себе”), “наше сознание” уже увидело, что построен предмет, в котором в конце концов “узнает” себя и “само сознание”.
Гегелевское описание предметного модуса органического, хотя этот момент и не является значимым для нашего исследования, также представляется очень любопытным. Например, Гегель интересно обосновывает неприменимость “математических методов” в постижении органического (“книга органической природы”, видимо, написана не “языком математики”) (см.: 2,4,157). Напротив, широко известное гегелевское положение, гласящее, что у органической природы нет истории,130 имеет уже структурно-феноменологические основания, а не является просто моментом описания предметности самой по себе, а потому оно и для нас представляет интерес.
Это положение, однако, вытекает не из сравнения первого и второго “кругов”, а из сравнения второго и третьего “кругов”, поскольку здесь, по-существу, “второй большой круг” уже оказывается исчерпанным. (Мы знаем о многих событиях прошлого, почему бы нам не знать и хотя бы о некоторых событиях будущего ? - эта предпосылка “проверяется” во многих рассказах Борхеса.) Понять это положение можно в перспективе феноменологического движения, а именно: “есть история”, по Гегелю, лишь у духа как предметности “третьего
круга”, и есть она у него потому, что моменты всеобщего и единичного в умозаключении духа имеют пластичное опосредование, средний термин в лице феноменологического движения как целого (здесь, видимо, можно говорить и об “исторической”, и даже “космологической”, роли Феноменологии у Гегеля); в формальном умозаключении органического же такой опосредствующей “середины” нет; Гегель отказывается признать в качестве таковой вид, поскольку не верит в спекулятивно-органичную взаимосвязь видов; движение видов, эволюция видов как целое наподобие феноменологического движения относительно “третьего круга” - не может, по Гегелю, занять место “середины”; более того, насколько можно понять здесь Гегеля, скорее “земля”, неорганическое основание, выполняет подобную роль, но на деле она скорее разрывает всеобщее и единичное, а не связывает их в спекулятивное движение; органическое, в отличие от духа, просто выпадает из всеобщего в сферу единичных существований; поэтому и нет у него истории.131
В контексте исследования структуры “Феноменологии духа” этот фрагмент, по-существу, т.е. вне формально-систематических разграничений самого Гегеля, должен был бы уже означать переход к “третьему кругу”. Тезис об отсутствии у органического истории как раз и отделяет органическое как феноменологическую предметность от духа как предметности, а выступление духа, которое, правда, сам Гегель констатирует значительно позднее, означает начало “третьего круга”. (Мы не обсуждаем пока вопрос о том, может ли дух быть собственно предметом, составлять лишь предметную сторону формообразования.) Во всяком случае, установление “спекулятивной неполноценности” органического как феноменологической предметности в сравнении с духом как особым видом предметности знаменует завершение “второго круга”. Согласимся, впрочем, с тем, что представить вполне надежную интерпретацию рассматриваемого фрагмента нелегко, но, думается, общее понимание органического как предметности, с одной стороны, несущей в себе структуру бесконечности, а, с другой стороны, не обеспечивающей спекулятивного соотношения всеобщего и единичного, т.е. должной глубины опосредования, выражено у Гегеля вполне
ясно. В начале фрагмента “в. Наблюдающее самосознание в его
чистоте и в его отношении к внешней действительности; логические и психологические законы” мы находим как обзор всего движения сознания по “второму кругу”, так и указание на тот шаг, свершение которого будет означать, по мысли Гегеля, действительное завершение “второго большого круга”. Неудовлетворенное характеров опосредования моментов органического, сознание конституирует в качестве нового типа предметности чистую идеальность самосознания. Наблюдаемое самосознание по своему предметному статусу - как чистая идеальность - уже принадлежит, конечно, сфере духа. Одним словом, представленная в пунктах (А.в) и (А.с) (см.: 2,4,160-187) экспликация понятия наблюдаемого самосознания является уже переходом к предстоящему развертыванию духа как феноменологического формообразования.
В самом деле, что представляет собой предметность, именуемая “законами мышления” ? Гегель говорит о них как о моментах движения самосознания, причем содержанием их является мысленное бытие, определенность, а не чувственное бытие (см.: 2,4,161). Как же тогда можно их “наблюдать” и при этом не находиться еще в сфере знающей себя идеальности, духа ? Правда, Гегель и сам говорит, что самосознание не может наблюдаться в том смысле, как наблюдалась жизнь, органическое, прямо говорит о том, что вопрос этот может рассматриваться только в Логике как адекватной экспликации понятия духа, в спекулятивной философии, как он здесь выражается (см.: 2,4,261). Таким образом, речь здесь идет у Гегеля скорее о неудачном опыте сознания, которое пыталось воспринимать определенность самосознания по аналогии с чувственно выраженным бытием. Как именно опыт, это наблюдение было необходимо сознанию, этот негативный опыт показывает, что чистое самосознание есть совершенно иная предметность, так что от метода наблюдения следует отказаться. И феноменолог должен пройти и через этот опыт.
Столь же пустым оказывается и “наблюдение самосознания в его отношении к внешней действительности”. Самосознание не раскрывается в таком наблюдении (см.: 2,4,163). Казалось бы, уже имеющегося негативного опыта
“наблюдения” самосознания достаточно, чтобы отказаться от самого его метода. Гегель, однако, позволяет сознанию идти до конца, и вслед за “наблюдением самосознания в его чистоте и в его отношении к внешней действительности” перед нами выступает и “наблюдение самосознания в его отношении к своей непосредственной действительности”, причем под непосредственной действительностью самосознания понимается телесная определенность индивида, в частности, предмет интереса физиогномики и френологии.
Любопытно, что это продолжение уже представлено Гегелем как некий акт отчаяния сознания, а именно: сознанию посредством наблюдения оказывается недоступной не только сфера чистой идеальности, но даже и отношение самосознания к миру, и оно решается на то, чтобы судить об индивидуальном самосознании по его телесному субстрату (см.: 2,4,165).
Гегель все же находит некоторые реальные основания физиогномики, френологии и других подобных видов деятельности в том, что тело, являясь, конечно, некоторым первоначальным условием индивидуальности, есть само, с другой стороны, и результат ее собственной деятельности, а потому в некоторой мере и выражает индивидуальность. Эта связь внутреннего индивидуальности и ее внешне-телесного выражения является, конечно, смутной, неопределенной, и Гегель старательно показывает, как она и вовсе тает, когда мы переходим от органов, которые действуют, а потому и выражают формирующую себя личность, каковы, например, руки или уста, к тем частям тела, которые представляют собой лишь покоящееся наличное бытие. На примерах из френологии Гегель завершает это рассмотрение. Здесь речь должна идти уже не о внешнем, соотносящимся с внутренним, а о некоторой лишь абстракции внешности, которая целиком превратилась в вещь. “Но тем самым, по-видимому, и наблюдающий разум достиг своей вершины, где он вынужден покинуть себя самого и перевернуться (выделено мной, - В.К.); ибо лишь совершенно дурное содержит в себе непосредственную необходимость превратиться в противоположное.” (2,4,183) “Эта последняя ступень наблюдающего разума есть наихудшая его ступень, а потому его превращение в противоположность необходимо.” (2,4,183) Эти “переворачивание” и “превращение
в противоположность” означают: сознание и во “втором круге” завершило этап поисков себя в предмете (“большой круг”) и должно перейти к созиданию себя (“малый круг”); “Сознание более не хочет непосредственно находить себя, а хочет порождать себя само своей деятельностью. Оно само есть в себе цель своего действования, как в наблюдении для него важны были только вещи.” (2,4,185)
3. Продолжение опыта “самого сознания” (“второй
малый круг” “Феноменологии”). Та ступень феноменологического движения, на которой
мы сейчас находимся, можно назвать, по-видимому, “достовер-ностью духа”.132 После указания на общее структурное соответствие “первого круга” и “второго круга” (у нас этот фрагмент был процитирован в начале предшествующего параграфа) Гегель указывает в общих чертах и этапы движения во “втором малом круге”.133 Провозгласив дух субстанцией, основой, действительным субъектом всего феноменологического движения, Гегель понимает его прежде всего (на первом этапе его движения) как нравственность.134
В исходном моменте первого опыта (а).Удовольствие и необходимость) самосознание стремится найти себя в другом самосознании, но при этом не утратить формы единичности. Стихийная всеобщность самосознания (науки, нравов и т.п.) при этом отвергается, и самосознание в своих поисках себя страстно держится своей единичности.
Однако, в отличие от “вожделения” “первого малого круга”, негативность сознания направлена здесь только на форму представленности самосознания, “живое наличное бытие”, а так как именно это наличное бытие и есть та стихия, в которой два эти “единичные” самосознания разделены, то ее негация имеет своим результатом выступление единства самосознаний, самосознания как такового. С точки зрения формальной структуры опыта, здесь имеется, конечно, точное повторение опыта чувственной достоверности, т.е. осуществляется переход от простой, абстрактной единичности к такой же абстрактной всеобщности: самосознание
“составляет о себе понятие как об “этой” единичной для-себя-сущей сущности, но само осуществление этой цели есть снятие ее; ибо оно не становится для себя предметом в качестве “этого единичного” (выделено мной, - В.К.), а, напротив, в качестве единства себя самого и другого самосознания, следовательно, как снятое единичное или как всеобщее” (2,4,194).
Снятие единичности оказывается, конечно, снятием единичности не только другого самосознания, но и своей собственной. И это снятие единичного со стороны всеобщего как его действительной, хотя и не развитой пока сущности, есть то, что называется необходимостью или судьбой. Необходимость есть выражение понятия, но это еще понятие в себе, поскольку необходимость есть лишь абстрактное соотношение моментов единичности и всеобщности, у нее нет никакого определенного содержания кроме негации живой налично данной единичности, произведение судьбы есть “лишь “ничто” единичности” (2,4,194).135
Второй момент рассматриваемого опыта (в).Закон сердца и безумие самомнения) начинается с того, что самосознание принимает всеобщее, или всеобщее переходит на сторону субъекта, но самосознание устанавливает его как “свое” всеобщее, отождествляя с ним свою не преодоленную реально единичность. Этому всеобщему, “закону сердца”, противостоит некая действительность, которая, якобы, нуждается в преобразовании в соответствии с этим законом.136
Для нас ясно, что самосознание здесь остается по своему содержанию единичным, и в форме всеобщности оно лишь пытается навязать миру свою волю.137 Об этом свидетельствует и скрываемое самосознанием от самого себя понимание деятельности на благо человечества как “приуготовления его единичного удовольствия” (2,4,197). Действительность, между тем, оказывается не так чужда всеобщего и закона, как считает это самосознание. Она, конечно, отвергает посягательства единичных самосознаний на то, чтобы преобразовать ее в соответствии с их планами, но она, с другой стороны, и вбирает в себя всю деятельность индивидуальностей. “Действие индивида должно быть действием его единичного сердца” (2,4,198), действие индивида
всегда на деле таким и является вне зависимости от того, что он сам об этом думает (что, например, заботится лишь о всеобщем). Поэтому действительность оказывается одухотворенной сознанием и деятельностью всех, и она оказывается - органически, а не суммативно - реальным всеобщим, неким “законом всех сердец”.
Именно как реальное всеобщее мир и отвергает все субъективные посягательства на свою судьбу. Но для самого возомнившего себя непосредственно-всеобщим самосознания это отвержение его “благородных” стремлений есть свидетельство косности и тупости общества. И оно перерождается в “безумное самомнение”.138
На следующем этапе опыта сознание решается пожертвовать собой, всякой индивидуальностью ради всеобщего. Эта жертва сознания - добродетель. Этому образу сознания противоречит “общий ход вещей” (см.: 2,4,201), которому теперь, в силу решительности предпринимаемых самосознанием действий, грозит, кажется, поражение.
В заключительной части опыта (с).Добродетель и общий ход вещей) выясняется, однако, что угроза эта не так опасна, как могло казаться. Дело в том, что всеобщее, которое несет здесь сознание, есть “не действительная еще, а абстрактная всеобщность; самому этому сознанию оно присуще как цель ... “ (2,4,204). С другой стороны, в “общем ходе вещей” “единичная индивидуальность, которая ищет своего удовольствия и наслаждения, ... находит в них свою гибель и тем самым удовлетворяет всеобщее” (2,4,203), поэтому в “общем ходе вещей” всеобщее присутствует как “внутреннее” (см.: 2,4,205-206).
Сознание добродетели и индивидуальность, действующая в “общем ходе вещей”, оказываются в конечном счете одним и тем же. Если добродетель преодолевает различение в-себе-бытия (должного) и бытия, на котором оно основывается, если она наполняется хотя бы каким-то реальным содержанием, то она вовлекается в “общий ход вещей”, субстанцией которого является живая индивидуальность или, что то же, действительное всеобщее, поскольку “движение индивидуальности есть реальность всеобщего” (2,4,208).
Завершение опыта “второго малого круга”
(С.Индивидуальность, которая видит себя реальной в себе самой и для себя самой) раскрывает понятие этой живой индивидуальности. Его существо состоит в том, что единичное и всеобщее более не противостоят друг другу, мир или действительность не выступают для него более как лишь негативность (если угодно, речь идет о феноменологических основаниях “примирения с действительностью”), но тем самым и оно есть теперь сознание, которое, как выражается Гегель, овладело своим понятием (продолжая тему: “кто разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно”).
Этот завершающий главу о разуме фрагмент начинается словами: “Самосознание овладело теперь понятием о себе , которое до тех пор было лишь нашим понятием о нем, а именно (понятием о ..., - В.К.) достоверности того, что оно само есть вся реальность” (2,4,209). Мы можем констатировать, т.о., что “второй малый круг” завершен, и раскрытие понятия индивидуальности, которое нам здесь еще предстоит, следует скорее стремиться понять в перспективе учения о духе, как переход к учению о духе. “Сознание, т.о., отвергло всякую противоположность и всякую обусловленность своего действования; оно со свежими силами исходит из себя и направляется не на “иное”, а на себя само.” (2,4,210) Эта констатация, являясь, как это часто бывает у Гегеля, и резюме раздела о разуме, и планом дальнейшего изложения, может рассматриваться как исходный пункт учения о духе.
Индивидуальность, о которой идет здесь речь, занимает в контексте феноменологического движения то же место, что и “единичное”, или понятие развития, - в контексте логического движения. Индивидуальность полностью выражает в деятельности свою сущность, и в ее деятельности и состоит вся ее цель, т.е. возможность, действительность и “энтелехия” сливаются, или бесконечное опосредование в деятельности субъекта свершается как бы “мгновенно”. “Что бы ни сделал индивид, и что бы с ним ни случилось, - это его действование и это он сам; у него может быть только сознание чистого перевода себя самого из мрака возможности на дневной свет настоящего, перехода из абстрактного “в себе” - в значение действительного бытия, и он может обладать достоверностью того, что то, что с ним случается в этом действительном бытии,
есть не что иное, как то, что дремало в возможности.” (2,4,215) И указанные моменты деятельности индивида полностью исчерпывают его самость.
Целое как замыкающее себя движение указанных моментов деятельности, правда, распадается, когда мы рассматриваем то, что Гегель называет произведением индивидуальности, т.е. результат ее деятельности, поскольку как лишь момент движения целого он имеет и сторону случайности и преходящности. Сторона эта, однако, относясь к предметности, внешним условиям деятельности индивида (например, материалу, из которого создано вечное и абсолютное произведение искусства), лишь указывает сознанию (в нашем примере - в истории эстетики) на несущественность предметности для него как абсолютного источника деятельности. Но здесь же мы видим и то, как рождается субстрат духа - то, что Гегель называет “самой сутью дела”.139
Это происходит так же, как и выступление органического во “втором большом круге”, и мы могли бы повторить здесь применительно к рождению духа все то, что там было сказано об органическом. И органическое, и дух (в отличие от соответствующих им в “первом круге” самосознания и разума) есть именно предметные сущности, и они являются таковыми потому, что выступают во “втором круге” и, следовательно, за “самим сознанием” нет больше “еще одного” сознания, на которое “само сознание” могло бы спроецировать структуры своей деятельности, в связи с чем они и отливаются в предметность, особые образы предметности - органическое и дух. (Органическое благодаря связи с субстратом, материей как инобытием, в котором оно, впрочем, движется свободно и независимо от него - и “существование”, дух же как чистая идеальность не есть “существование”, но и дух предметен в том смысле, что он - особый лик бытия, и именно - само бытие.) Там, где “само сознание” обращено непосредственно на предмет, оно в конце концов видит его как органическое, жизнь; там, где оно обращено на себя, на свою деятельность, оно в качестве своего предмета и одновременно себя самого (отсюда и появление в обоих “кругах” темы “удвоения самосознания” и “признания”) видит дух.
“Сама суть дела”, однако, как “только что возникшее и потому непосредственное” (2,4,219) сознание духовной субстанции не тождественна самому духу, это именно субстрат духа.140 Переход же к “конкретной сути дела” связывает воедино все те спекулятивные структуры, которые прежде выступали перед нами - и в процессе рассмотрения “Феноменологии”, и в процессе рассмотрения “Логики” - отдельно друг от друга, это - общий феноменологический прообраз спекулятивных структур, знакомых нам по более развитым формам Феноменологии и Логики.
Прежде всего, этот переход есть снятие “дурной бесконечности” “взаимных обманов” самосознаний и переход к “истинной бесконечности”. Далее, как мы уже много раз видели, достижение последней конкретности в развитии процесса означает с формальной стороны “переворачивание” субъектно-предикатных отношений: здесь, в частности, “сама суть дела” выступает как неделимый субъект всех своих моментов, родом и предикатом которых в процессе их взаимного перехода она выступала прежде. Кроме того, этот переход аналогичен переходу от “Бытия” к “Сущности” и от нее - к “Понятию”: движение смены противолежащих определенностей замыкается уходом от них в принципиально иначе структурированную предметность, в которой уже нет ни противолежания, ни смены. И, наконец, это событие означает акт взаимного признания самосознаний и указание на феноменологические основания возможности “органичного” общества.
Эта видимая многоаспектность есть на деле изначальное единство: здесь, в момент рождения духа, как единое целое выступает весь - ранее и позднее в процессе разворачивания системы “угаданный” и повторенный спекулятивный арсенал. Если мы хотим понять рождение духа как “исток и тайну” гегелевского философствования, как “секрет” Гегеля, то мы должны постараться не разлагать эти уже знакомые нам по более простым - развернутым - контекстам структуры, а попытаться мыслить их в единстве.
Рассмотрение понятия самой сути дела составляет основное содержание “второго малого круга”, почти исчерпывающее значимость завершающего фрагмента этой
части “Феноменологии”. В самом деле, хотя за пунктом, в котором оно излагается (а.Духовное животное царство и обман или сама суть дела), следуют еще два пункта (в.Разум, предписывающий законы; и с.Разум, проверяющий законы), из конкретного изложения Гегеля легко понять, что общая конструкция фрагмента V.С преследует, скорее, лишь формально-систематические цели.
Разум, основывающийся на “самой сути дела” как лишь субстанции духа, как простой всеобщности, пытаясь предписывать законы, вынужден ограничиться лишь формальной, бессодержательной всеобщностью, чистой формой всеобщности, тавтологией. Обладая, таким образом, теперь не сущей субстанцией, справедливым в-себе- и для-себя- , а лишь формой знания, разум уже не предписывает законы, а лишь проверяет их; он сравнивает содержание законов с самим собою и устанавливает, имеется ли в них равенство, формальная всеобщность. “Но по этой причине такая проверка достигает немного: как раз потому, что критерий есть тавтология и он равнодушен к содержанию, он воспринимает в себя в такой же мере данное содержание, как и противоположное.” (2,4,228) “Мерило закона, присущее самому разуму, подходит ... одинаково хорошо ко всему, а тем самым оно фактически не есть мерило.” (2,4,229)
Рассмотренные формы сознания не есть, однако, просто некое проявление внешней рефлексии в сфере нравственности. Благодаря им нравственные законы как живая, единая субстанция духа получает самосознание, т.е. содержание духа получает соответствующую ему форму (см.: 2,4,230). Непосредственность и простота законов нравственности принимается сознанием, прошедшим все формы опосредованного отношения к ним, также непосредственно и просто. Это не означает некритического принятия наличного бытия, в чем Гегеля слишком часто (правда, по большей части на другом материале) обвиняли. Адекватной формой нравственной субстанции оказывается сознание, испробовавшее в границах этого “круга” все формы критики и переустройства мира. Мир выдержал эти атаки сознания, потому что в себе он разумен, он сам есть результат деятельности сознания,141 и все дело заключалось лишь в том,
что сознание само должно было увидеть это. Таким образом, движение “самой сути дела” - субстанции духа - достигает самосознания как его формы, и мы оказываемся в сфере нового формообразования и вступаем в движение по новому - и последнему - “кругу” “Феноменологии духа”.
4. Феноменологическое учение о духе (“третий круг”
“Феноменологии”). а. Образы духа в философии Гегеля. Как мы видели в
предшествующем изложении, “сама суть дела”, ставшая самосознанием, есть новое формообразование - дух (см.: 2,4,233). Дух есть истина разума, результат его опыта, но “результат” - лишь как результат процесса феноменологического становления. По существу же - и по своей определенности, и, как следствие (для “трансцендентального” философа), бытийно - дух есть первое, действительный субъект и источник феноменологических формообразований, как мы это уже видели в момент выступления “самой сути дела”. Первое для нас (феноменологически) - разум, первое само по себе (логически и “онтологически”) - дух.
С представленным в нашем исследовании пониманием духа связана принципиальная проблема, которая является неразрешимой с точки зрения традиционной, “энциклопедической”, интерпретации системы философии Гегеля. Именно, так как дух - формообразование, в котором одно и то же “лицо” выступает и как предмет, и как субъект, то представить его в качестве лишь предметности, без “полюса субъекта”, т.е. иначе, чем в качестве бытия-для-сознания, невозможно. Рассмотрение духа может быть феноменологическим - тогда в качестве того, “кто” видит, выступает сам дух, и логическим - тогда субъект и предмет сливаются в единство, целостность, бесконечно- конкретная (а потому - простая) структура которой и передается посредством диалектического движения категорий. Но как дух может быть предметом реальной философии, в которой он отсутствует и в качестве “полюса субъекта”, как в Феноменологии, и в качестве
такого субъекта, который был бы тождественным самому предмету, как в Логике ?
Тот же вопрос может быть переформулирован и с точки зрения постановки проблемы предмета Логики, и в таком случае мы возвращаемся к самому началу нашего исследования, а именно: если адекватным отражением предметности, именуемой духом, является Философия духа как часть реальной философии, то что есть предмет Логики ? Если же сущность, т.е. определенность, чистая структура духа описывается уже Логикой, то что способна добавить к такому описанию Философия духа ?
В настоящем исследовании обосновывается взгляд, согласно которому естественными, органичными своему предмету формами постижения духа являются Феноменология и Логика, и именно поэтому “система философии” в прямом смысле и состоит только из этих двух частей. Феноменология показывает становление духа “для нас”, Логика раскрывает его внутреннюю структуру через тождество “наблюдателя”, достигшего точки зрения “абсолютного знания”, с самим предметом. Точка зрения Логики на дух “генетически” обусловлена феноменологическим становлением, но содержательно - по степени экспликации определенности - она первее. Путь Феноменологии создает исходную точку логического движения - спекулятивную предметность, тождественную по своей структуре со своим “внутренним субъектом” - духом, прояснившим себя до “абсолютного знания”.
Реальной философии остается говорить лишь о “бессубъектном”, “мертвом” духе, или о духе, постигаемом неадекватными самому предмету способами, теми способами, которые работают в области познания не-спекулятивной предметности, в которой не завершается движение опосредования бытия и “иного”, в которой у определенности всегда остается еще некий субстрат, “существование”, как мы видели это в начале нашего исследования. Таким образом, Феноменология подтверждает обоснованность сомнений в адекватности метода “Философии духа” тому содержанию, которое она номинально охватывает. В первой главе нашего исследования мы сформулировали это положение на материале
анализа структуры “первого круга”, теперь же мы видим, что дух как таковой на самом деле вообще не может быть предметом реально-философского рассмотрения. С другой стороны, теперь стало совершенно ясно, как дух соотносится с двумя его философскими “ликами” - “генетическим” и “структурным”, Феноменологией и Логикой.
Отметим еще одно важное обстоятельство, уточняющее смысл того представления о структуре феноменологической предметности, которое было сформулировано в начале работы. На достигнутом нами этапе дух - это “предмет” как предмет “самого сознания”, и в то же время - “само сознание”, и в то же время - “наше сознание”. В этом удивительном обстоятельстве мы видим, с одной стороны, секрет того определяемого трансцендентальным отношением оттенка двусмысленности, в большей или меньшей степени характерного для всего феноменологического повествования, оттенка двусмысленности, о котором Гегель говорит в начале IV главы, а, с другой стороны, разгадку тайны того “очищения” феноменологического субъекта, автора и читателя “Феноменологии духа”, и его возвышения до спекулятивной точки зрения, которое сделает возможным восприятие “Логики”. Если бы не это совпадение всех уровней феноменологической предметности в “точке” Духа, то создать “Логику” и прочитать ее было бы невозможно.
- Но это совпадение, в свою очередь, само оказывается возможным в “Феноменологии” только вследствие того, что достигнута глубина духа, выявлена сердцевина феноменологической предметности, вследствие того, что “бесконечность” как структура спекулятивного опосредования бытия (“я”) и “иного” (предмета), пройдя четыре “круга”, стала единой для всех уровней феноменологической предметности. Повторим еще раз, что дух и как “предмет” феноменологической структуры, и как структура в целом, и притом в единстве, есть сущность и цель всего феноменологического движения, по отношению к которому только и могут выступать все прежние - казавшиеся первичными по отношению к нему - формообразования. Свершается, таким образом, изначальное спекулятивное “обращение”, с отражениями которого мы уже неоднократно
встречались. Чисто понятийно представленным отражением этого спекулятивного акта является рассмотренное во второй главе исследования самоосознание тотальности абсолютной идеи. Этот изначальный спекулятивный акт “обращения”, заключающийся в нахождении духом самого себя и установлении себя в качестве единственного источника бытия и определенности, и есть, конечно, тот “секрет Гегеля”, который более или менее ясно чувствовали и более или менее адекватно выражали все интерпретаторы и читатели Гегеля.
Это гегелевское учение о духе как первом бытии и последней спекулятивной конкретности принимается и в нашем исследовании как изначальное условие всякого рассуждения о философии Гегеля. Что, однако, отличает его от большинства работ о гегелевской философии, а, с другой стороны, может быть, и обеспечивает ему право на место в спектре воззрений на философию Гегеля, - это реализуемый в исследовании подход, согласно которому адекватным, сущностным выражением спекулятивного учения о духе является не реально-философское его описание, и даже не феноменологическое исследование его генезиса в рамках системы философии, в котором он выступает как определенное формообразование сознания со всеми его “феноменолого-историческими случайностями”, а лишь то структурно-спекулятивное выражение его сущности, которое мы находим в “Логике”.
Логика - наука не о какой-то “мистической” идее, которая, если она есть нечто отделенное от природы и духа и, следовательно, рядоположенное с ними, требует и своего “существования”, но наука о духе, - о духе, однако, не в его феноменологической, тем более, антропологически-исторической, реально-философской, явленности, а о сущности духа, его спекулятивном содержании, т.е. не о “существовании” с некоторыми (пусть и исключительными) “свойствами”, но о трансцендентальной структуре, для которой вследствие абсолютности ее содержательного богатства “бытие” - лишь первая определенность.
Это содержание духа для трансцендентальной философии не есть нечто помимо “моего” духа, здесь и сейчас о нем размышляющего, так что оно мертвой вечностью должно было
бы обнимать все “исторически-реальные” сознания, пребывая “до” них в качестве “домировой” логической идеи и ничуть не меняясь и после того, как оказалось познанным ими (что, главным образом, и вызывало всегда подозрения по отношению к схеме “Энциклопедии” !); это содержание вообще не есть “существование”, а есть лишь чистая трансцендентальная структура, “существованием” которой - если бы она в нем нуждалась, ведь “бытие не есть реальный предикат”, и “существование” ничего не может добавить к трансцендентально-спекулятивной определенности - является всякая личность. Поэтому, кстати, полную экспликацию структурной определенности духа, на что и претендует Логика, следовало бы рассматривать и в качестве философской теории абсолютной личности.
Если учесть контекст предварительных замечаний Введения, то и выражение, дающее, якобы, определение предмета Логики (“изображение бога, каков он ...”), на мой взгляд, также не противоречит предложенному истолкованию. Стоит обратить внимание на то, что Гегель говорит именно о конечном духе, поскольку бесконечный дух (философ, достигший “абсолютного знания” как формы истины и “абсолютной идеи” как ее спекулятивного содержания) и бог, изображением которого называется здесь Логика, - это, конечно, одна и та же субстанция, одно и то же “лицо”. “Бог” этот у Гегеля, однако, не нуждается в “существовании” по тем же причинам, по которым у Аристотеля Ум не нуждался в материи-возможности как субстрате формы-действительности, а именно: субстратом (субъектом) определенности, или формы, - а именно эту роль играет материя у Аристотеля и “существование” в трансцендентальной философии - оказывается у Ума и бесконечного духа Гегеля завершенно-бесконечное, спекулятивное движение самой определенности, формы, “мыслящее себя мышление”, - и в открытии этой истины и состоит “обращение” как акт рождения Духа и акт самоосознания Философа.
б. Преобразование феноменологического метода в “третьем круге”. Воссозданный в главах I-V процесс выявления трансцендентальной определенности сознания завершается выступлением духа как действительного основания этого процесса, его субстанции и самости.142 Процесс выявления структуры духа оказывается у Гегеля, однако, лишь одним из его феноменологических “ликов”, другой же его феноменологический “лик” формируется бытием духа как целого - как субстанции и самости - во времени, т.е. его историей. “Третий круг” как описание “предмета”, последнего, глубинного уровня феноменологической предметности рассматривает дух именно со стороны его действительного исторического бытия.
Историчность духа, по Гегелю, вовсе не противоречит его бытийной изначальности, напротив, дух свободно и смело пускается в опосредование временем как “потенциальной бесконечностью”, поскольку сам он изначально представляет собой “актуальную бесконечность”, абсолютную форму опосредования всякой инаковости и тотальность всех определений. Как некая “спекулятивная вечность” - но вечность трансцендентальная, сущая лишь в качестве структуры “живой” личности - дух изначально содержит в себе весь потенциально-бесконечный временной ряд, и поэтому разворачивание времени лишь актуализирует содержание его самости или просто разворачивает “субстанцию” как “субъект”. Этой свободой по отношению к инаковости, времени, опосредованию не обладали прежние формообразования, поскольку они не были целокупностями, ведь в действительности они обладают бытием лишь в целом духа.
Почему достижение духом полноты определенности означает не только открытие его бытийной изначальности, но и вступление на путь исторического существования ? Потому, что история “уже” состоялась ? Гегель непосредственно затрагивает этот интереснейший вопрос в начале глав VI и VII, и мы должны прочитать эти важнейшие фрагменты. В VI главе читаем: “В качестве субстанции дух есть непоколебимое справедливое равенство самому себе; но в качестве для-себя-бытия (завершенно-бесконечной отрицательности, - В.К.) эта субстанция есть растворенная, приносящая себя в жертву
милостивая сущность, в которой каждый осуществляет свое собственное произведение, разрывает всеобщее бытие и берет от него свою долю себе. Это растворение и разъединение сущности есть именно момент действования и самости всех; в этом - движение и душа субстанции и приведенная в действие всеобщая сущность. Именно тем, что она есть бытие, растворенное в самости, она не есть мертвая сущность, а действительна и полна жизни.” (2,4,234) - В качестве абсолютной конкретности дух есть и абсолютная отрицательность, и отрицательность “разрывает” непосредственность, “всеобщее бытие”, превращая его в действие и жизнь, временное существование и историческое бытие. Непосредственность, синтезированная из абстрактных моментов, превращается в “существование” и падает в пропасть времени. (Этот вывод мы должны будем вспомнить в последнем пункте настоящего параграфа в контексте обсуждения темы “перехода”.)
“Дух, таким образом, есть сама себя поддерживающая абсолютная реальная сущность. Все рассмотренные до сих пор формы существования сознания суть абстракции его (т.е. существуют лишь в нем, не имеют самостоятельного - “исторического” - существования, бытия во времени, благодаря чему их и можно было рассматривать чисто феноменологически, вне их реального исторического контекста, - В.К.); они состоят в том, что дух (в Феноменологии, - В.К.) анализирует себя, разлагает свои моменты (формообразования сознания, - В.К.) и останавливается на каждом. Это изолирование (не историческое вычленение, а именно логико-феноменологическая реконструкция, - В.К.) таких моментов имеет его самого предпосылкой и опорой (поэтому феноменологическая реконструкция духа возможна лишь тогда, когда реально дух уже существует в качестве знающего себя, поэтому “Наполеон” первее “Гегеля”, он - и предпосылка, и подтверждение правомерности притязания на создание абсолютной философии, - В.К.), иначе говоря, оно (феноменологическое “изолирование”, - В.К.) существует лишь в нем, который есть существование. Когда они (в “Феноменологии духа”, - В.К.) так изолированы, кажется,
будто они существуют как таковые (и у читателя “Феноменологии духа” возникает стремление подыскивать исторические аналоги движения феноменологических структур, - В.К.); но в какой мере они только моменты или исчезающие величины, показало их обратное движение (“обратное” потому, что в “Феноменологии” они выделяются из духа и в него же обратно - в процессе феноменологического изложения - погружаются, - В.К.) и возвращение в их основу и сущность; и именно эта сущность (дух, - В.К.) и есть это движение (феноменологическое движение, - В.К.) и растворение этих моментов. Здесь (в данном пункте “Феноменологии”, - В.К.), где дух, или рефлексия этих моментов (в дух как целое, - В.К.), выявлен в себе самом (дух выступил как истина всего феноменологического движения, - В.К.), наша рефлексия может с этой стороны вкратце напомнить о них: они были сознанием, самосознанием и разумом (мы видели, однако, и сам Гегель прямо формулирует это положение, что в “Разуме” дух проходит два “круга”, соответствующие предметному сознанию и самосознанию, - В.К.).” (2,4,234)
Мы опускаем фрагмент, в котором Гегель пишет о сознании, самосознании и разуме как этапах феноменологической реконструкции духа, после чего замечает: “Дух есть сознание, из рассмотрения которого мы сейчас (в опущенном нами фрагменте и проделанном феноменологическом изложении, главах I-V, - В.К.) именно и исходили. Если, наконец (т.е. с того места “Феноменологии”, в котором дух уже сформировался из своих абстрактных моментов, с главы VI, - В.К.), разум, которым обладает дух, созерцается как таковой последним (т.е. если субъектом всего накопленного в ходе феноменологического движения содержания сознания уже стал дух, его действительный источник и основание, - В.К.), то разум есть (т.е. из абстракции духа он стал его содержанием, - В.К.) или если это разум, который в нем (духе, - В.К.) действительно есть и который составляет его мир, то дух - в своей истине (он видит себя в качестве источника “существования” и определенности, т.е. как субстанцию и самость, - В.К.); он есть дух (т.е. существующий, действительный дух, а не абстракция его, как прежние
формообразования, - В.К.), он есть действительная нравственная сущность.” (2,4,235)
Эволюция духа как собственно “предмета” феноменологической структуры определяется необходимостью самоосознания, возведения себя к чистой идеальности знания: “Дух, поскольку он есть непосредственная истина, есть нравственная жизнь народа; он - индивид, который есть некоторый мир. Он необходимо должен перейти к сознанию того, что он непосредственно есть, снять прекрасную нравственную жизнь и, пройдя ряд формообразований, достигнуть знания себя самого. Но эти формообразования (глав VI-VIII, - В.К.) отличаются от прежних тем, что они суть реальные духи, действительности в собственном смысле, формообразования некоторого мира, а не формообразования одного лишь сознания (т.е. не только лишь теоретические конструкции, - В.К.).” (2,4,235)
Продолжим наше чтение Гегеля и обратим теперь внимание на один из фрагментов VII главы (о колебаниях Гегеля в вопросе о соотношении VI и VII глав мы упомянем ниже). “Лишь дух в целом есть во времени, и формы, которые суть формы духа в целом как такового (т.е. моменты движения духа, рассматриваемые в главах VI-VIII, - В.К.), проявляются во (временной) последовательности; ибо лишь целое имеет действительность в собственном смысле и потому - ту форму чистой свободы по отношению к иному, которая выражается как время. Моменты же целого (феноменологические этапы его становления, - В.К.), сознание, самосознание, разум и дух, так как они - моменты, не имеют разного друг с другом наличного бытия.” (2,4,364) (О том, что в “Разуме” на самом деле заключены два “момента”, мы уже упоминали, здесь заметим еще, что под “духом” в последнем случае у Гегеля понимается, конечно, не дух как таковой, а также лишь отдельное образование. Комментарий более широкого контекста, в который входит этот фрагмент, мы дадим ниже.)
Приведенные фрагменты определенно указывают на то, что выступление духа как истины предшествующих формообразований является решающим событием “Феноменологии” не только по существу, но и с точки зрения формы, а именно: феноменологическое движение не может
быть больше чистым конструированием опыта сознания, оно должно как-то принимать во внимание реальное, временное, историческое существование духа. До сих пор речь шла об абстрактных моментах духа, теперь она должна вестись о действительно существующем духе; до сих пор имел место, собственно говоря, мысленный эксперимент: дух пытался “восстановить” себя из своих чистых (абстрактных) моментов; достигнув этой цели, он созерцает себя как реально существующий, наличный и конкретный дух. С этим связано и фундаментальное преобразование метода “Феноменологии” в “третьем круге”.
Собственно Феноменология духа, на мой взгляд, на этом этапе должна была бы уже быть признана завершенной, дух сконструировал себя теоретически и узнал себя в этой реконструкции. “Третий круг”, рассматривающий временное бытие духа, есть уже особая - феноменологически препарированная - история, некая Феноменология истории. От известного лекционного курса Философии истории она принципиально отличается тем, что в качестве субстанциального содержания истории в ней выступают не логические категории, чистые определенности мысли, в связи с чем Гегель и называл Философию истории мыслящим рассмотрением истории (см.:2,8,9), а формообразования сознания, те абстрактные моменты, из которых дух теоретически синтезировал себя, и упорядоченную в соответствии со структурой феноменологической предметности систему которых он будет теперь стремиться найти в своей реальной истории, в себе как существующем, а не только как теоретически воспроизводящем себя духе.
В главах VI-VIII нас ожидает, таким образом, рассмотрение истории в ретроспективе последовательности формообразований сознания как целого, это не мыслящее рассмотрение истории, а как бы феноменологически созерцающее ее рассмотрение. В конце этого процесса, в главе VIII, мы увидим ту же, уже знакомую нам, структуру духа (впрочем, с логической стороны, как “бесконечность”, она известна нам и по опыту “первого круга”), но не как сконструированную теоретически, а как феноменологически увиденную - таково, во всяком случае, гегелевское
самоистолкование - в реальной истории духа, исторически и “биографически” - как замысел ... самой “Феноменологии”, - Дон Кихот обречен рассказывать историю о Дон Кихоте !
Смог ли Гегель отрефлектировать это фундаментальное преобразование метода “Феноменологии”, явившееся результатом выступления в ходе феноменологического движения духа как его субстанции ? Можно ли предположить, что замеченный Гегелем “беспорядок последних глав” (см.: 41,55) является именно указанием на незавершенность этого процесса саморефлексии метода исследования ? Смог ли Гегель вместо феноменологического опыта как пути конструирования предметности (который ведь целиком укладывался и в замысел “Науки опыта сознания” !) освоить метод, который был бы близким шпенглеровскому усмотрению морфологических единств ?
Мы в нашем исследовании, конечно, не сможем ответить на эти вопросы, для этого требовалось бы провести отдельное и в высшей степени специальное исследование, в котором, к тому же, нельзя было бы ограничиться только рассмотрением “Феноменологии”, но требовалось бы вобрать в единый - структурирующий реальную историю с точки зрения Феноменологии - взгляд феноменолога саму эту реальную историю, только в таком случае “Феноменологию” можно было бы представить как действительную параллель “палеонтологии” и “эмбриологии” духа.
В контексте нашего исследования, думается, было бы логичным отказаться от целостного комментария VI и VII глав.143 С логической точки зрения этот комментарий нам ничего нового уже не даст, а феноменологическую специфику этой части текста в исследовании, посвященном реконструкции системы философии Гегеля как единого образования, отразить просто невозможно. Может быть, новые исследования “Феноменологии духа” не оставят без внимания предложенное нами понимание общих задач и метода последних глав “Феноменологии”. Мы же, в свою очередь, должны отозвать с этого момента большую часть критики традиции “исторического” прочтения “Феноменологии”. Может быть, именно для глав VI-VII этот метод и в самом деле способен оказаться той дескриптивной основой, с помощью которой историк философии сможет оценить движение “Феноменологии” в завершающем ее “третьем круге”.
Установление определенности формы непосредственного выступления духа побуждает нас вспомнить и о “юношеских” рукописях Гегеля. “Феноменология духа”, несомненно, завершает “юношеский” период творчества Гегеля и связывает его со “зрелыми” построениями. В самом деле, в главах I-V посредством феноменологического опыта теоретически реконструируется тот предмет, который занимал Гегеля в “молодые годы” - дух, нравственная жизнь народа, а главы VI-VIII по своему замыслу, очевидно, должны были стать систематизированием тех изысканий в области исторического постижения духа, которые составляют содержание ранних работ. В отличие от случайных по выбору темы и переменчивых по ориентации рукописей, не обработанных единым методом, в последних главах “Феноменологии” мы имеем дело с попыткой дать единый - структурирующий историю - взгляд на эволюцию реального, существующего во времени духа. Это как бы феноменологическая критика истории духа или даже, как сказано выше, Феноменология истории.
Таким образом, предложенное в нашем исследовании понимание структуры “Феноменологии духа” и, особенно, понимание отличия “третьего круга” от первых двух “кругов” значимо не только для формирования представления о систематическом строении гегелевской философии, но и указывает на теоретическое значение непосредственно не входящих в “систему” ранних работ, так что вся теоретическая жизнь Гегеля оказывается единым путем постижения духа, без надуманных “разрывов в системном мышлении”, “поиска новых оснований системы”, ложной альтернативы “феноменологической” и “логической” моделей системы и т.п..
В ранних работах Гегель сущностно-исторически описывает свой предмет, в “Феноменологии” строит теоретическую модель метода (главы I-V) и с его помощью систематизирует историю духа (главы VI-VII), но субстанциальным содержанием этой истории, обработанной феноменологическим методом, оказываются определенности чистого мышления, жившие в “Феноменологии” в форме единой логической структуры каждого из “кругов” и систематически эксплицированные в “Науке логики”. Вторичным - полуфилософским - повторением этого пути является реальная философия, структура предметности которой
вследствие незавершенности процесса опосредования инаковости включает в себя “существование”, остающийся незатронутым движением рефлексии субстрат, формальный - лишь складывающий в “сумму”, но не опосредующий противоположности - носитель духа.
Вспомним, что обращаясь к анализу структуры “Феноменологии духа”, мы предполагали возможность обнаружения в ней оснований, которые как бы подталкивали Гегеля к созданию реально-философского эквивалента Логики. Может быть, одним из таких оснований и является наличие в “Феноменологии” двух различным образом относящихся к исторической явленности духа, “существованию”, частей: первых двух “кругов” - с одной стороны, и “третьего круга” - с другой. Такая “двусоставность” “Феноменологии” могла ориентировать философа на то, чтобы дополнить и Логику, соотносящуюся лишь с трансцендентальной предметностью, реальной философией, являющейся, по-существу, обобщением опыта познания “позитивностей”. Конечно, между “двусоставностью” “Феноменологии” и действительной предметно-методологи-ческой двойственностью энциклопедической системы можно увидеть, максимум, только, говоря языком формальной логики, “аналогию отношений”, но никак не “аналогию свойств”. Но можем ли мы отрицать, что эта “двусоставность”, выступив уже при разработке первой части “системы”, оказалась значимой для Гегеля, стимулируя и в дальнейшем работу не только над трансцендентальной философией (Логикой), но и над теми элементами системы философии, в которых “существование” остается неснимаемым пределом “структуры”, бытия-определенности ? Это, несомненно, одна из интереснейших проблем, которую, к сожалению, мы также вынуждены оставить в нашем исследовании без специального рассмотрения, стремясь сохранить необходимое единство предметного поля исследования, и без того уже весьма обширного.
В границах “третьего круга” “Религия” выступает по отношению к “Духу” как самосознание по отношению к сознанию, как некий аналог “малого круга” по отношению к “большому кругу”. Конечно, эта аналогия весьма условна, поскольку в “третьем круге” основание различения Большого и Малого “кругов”, согласно общей логике феноменологического
движения, вообще отсутствует. И все же эта аналогия существенна, так как различение Большого и Малого “кругов” имеет место в тех первых двух “кругах”, из которых дух как предмет “третьего круга” себя в “Феноменологии” восстанавливает. Как и атрибуты спинозовской субстанции, совпадающие в ней, но посредством своей структуры - “порядка и связи вещей и идей” - несущие знание о сущности субстанции, гегелевские Большой и Малый “круги” не имеют различенного, действительного бытия в самом духе, в связи с чем, повторим, исторические ассоциации по их поводу и оказываются бессмысленными, но это различение Большого и Малого “кругов” в абстракциях духа - первых двух “кругах” - выражает и существенное отношение духа к самому себе, а именно: дух познает себя, устанавливая и снимая предметность, и, следовательно, различаясь как отношение к предмету (сознание) от отношения к самому себе (самосознание), - различие это, однако, исчезает, когда выявляется, что основанием выступления всех структур предметности в феноменологическом опыте был сам дух.
в. Общая сводка исследования структуры “Феноме-нологии духа”. Теперь мы попытаемся дать полный комментарий фрагмента начала VII главы, в котором Гегель указывает на различное отношение духа и предшествующих образований ко времени. При этом мы должны обратить внимание не только на отношение духа к ступеням своего феноменологического формирования, но и на его отношение к различным моментам этих ступеней, на связь духа с внутренней структурой “круга”. Тем самым для нас в полной мере должно выявиться, что есть дух, и притом - что он есть и в ретроспективе феноменологического движения, и в перспективе движения логического.
“Ввиду того, что прежде всего различаются самосознание и собственно сознание, религия и дух в мире духа или наличное бытие духа (т.е. дух как особое формообразование, предшествующее религии, - В.К.), последнее состоит в цельности духа, поскольку его моменты проявляются (в феноменологическом движении, - В.К.) в их расхождении и каждый для себя. Но эти моменты суть сознание, самосознание и разум (в “Разуме”, однако, как уже отмечалось, выделяются два “круга”,- В.К.) и дух, - дух именно как непосредственный дух, который еще не есть сознание духа. Их совокупная целостность составляет дух в его мирском наличном бытии вообще; дух как таковой содержит рассмотренные до сих пор формообразования во всеобщих определениях, в только что названных моментах (т.е. сознании, ... - В.К.). Религия (как самосознание духа, - В.К.) предполагает полное их прохождение (в феноменологическом движении, - В.К.) и есть простая целостность или абсолютная самость их. - Это прохождение их, впрочем, по отношению к религии не следует представлять во времени (но только в “феноменоло-гическом времени”, - В.К.). Лишь дух в целом (а не его абстрактные моменты, формообразования, - В.К.) есть во времени, и формы, которые суть формы духа в целом как такового (т.е. ступени эволюции “Духа” и “Религии”, - В.К.), проявляются во временной последовательности (из чего мы и делаем вывод, что главы VI-VII нельзя комментировать так же, как и главы I-V, - В.К.); ибо лишь целое (т.е. лишь существование, имеющее структуру “бесконечности”, или замещающая его мнимо-цельный “субстрат” “бесконечностью”, - В.К.) имеет действительность в собственном смысле и потому - ту форму чистой свободы по отношению к иному, которая выражается как время (т.е. как бы не страшится опосредования
бесконечным временем, потому что само - “бесконечность”; только завершенно-бесконечное по своей определенности бытие, отдавшись времени, не исчезает в нем, - в отличие от конечной, связанной с “субстратом”, определенности, - В.К.). Моменты же целого, сознание, самосознание, разум и дух, так как они - моменты, не имеют разного друг с другом наличного бытия (они есть лишь в целом духа, - В.К.). Так же как дух был отличен от своих моментов, так еще, в-третьих, следует отличать от самих этих моментов определение каждого из них в отдельности. А именно, каждый такой момент, как мы видели, в свою очередь, в самом себе принимает в собственном последовательном течении различные и разнообразные формы, как, например, в сознании различались чувственная достоверность и восприятие. Эти последние стороны расходятся во времени и принадлежат некоторому особенному целому (т.е. каждый из “кругов” - абстракций духа - выделяет некоторые логические структуры духа, и соответствующие моменты этих структур составляют в совокупности моменты эволюции самого духа, а потому и различаются во времени, - В.К.) через определение (“круг”, - В.К.). Определение или средний термин есть сознание, самосознание и т.д.. Но единичность составляют формы этих моментов. Последние представляют дух в его единичности или действительности и различаются во времени, однако так, что в последующем удерживаются предыдущие.” (2,4,364-365)
Внутреннее строение духа, выявившееся в умозаключении: дух - “круг” - момент “круга”, теперь уже совершенно ясно для нас, так что мы можем представить его схематически. Понятно, что отражение феноменологической структуры духа окажется одновременно и общей схемой структуры “Феноменологии духа”.144
На данной схеме: а (=О1-а) - предмет Феноменологии (“наше сознание”-
”само сознание”-”предмет”); О1 - “первый большой круг” (О - особенное); О2 - “первый малый круг”; О3 - “второй большой круг”; О4 - “второй малый круг”; В - “третий круг”, “Дух” (В - всеобщее); В' - “третий круг”, “Религия”; О1, О2, О3, О4 - абстракции от В и потому не
координируются друг с другом во времени, или: они одновременны в реальном времени, а последовательность их прохождения образует “феноменологическое время”;
Е1, Е2, Е3 и т.д. - моменты движения феноменологического опыта в каждом из “кругов”, напр., О1-Е1 - чувственная достоверность, О1-Е2 - восприятие (или, например, в другом масштабе рассмотрения - опыт предмета и опыт субъекта чувственной достоверности, и т.п.) (Е - единичное).
Так как В1, В2 и т.д., а также, соответственно, В'1, В'2 и т.д. составляют временную последовательность, то их абстракции О1-Е1, О1-E2 и т.д. также расходятся между собой во времени. Гегель говорит, что они принадлежат некоторому особенному целому, например, О1-E1, О2-E1, О3-E1, О4-E1 принадлежат В1 (В'1). Проницательный Г.Г.Шпет обращает внимание на стремление Гегеля сохранить в этих “горизонтальных” рядах единство терминологии, называя его, правда, формализмом. Сомневаюсь, что Гегель мог бы отвлекаться на “формализм” в той спешке, в которой писалась книга, особенно, ее заключительные главы. Если единство терминологического выражения в “одновременных” фрагментах различных “кругов” и можно назвать формализмом, то свидетельствует он, несомненно, о том сущностно-логическом их единстве, которое определяется “достоверностью” снизу (в начале “круга”, а) и “истиной” сверху (в конце “круга”, z), понятием сознания и той логической структурой опосредования предметности, которую мы могли бы обозначить как “эксплицированная бесконечность”.
Ряд а(=О1-а), О2-а, О3-а, О4-а, В-а, В'-а, В''-а - это ряд,
который можно назвать “уровнем достоверности” (как бы “бесконечность в себе”), а ряд О1-z, О2-z, О3-z, О4-z, В-z, В'-z, В''-z - это ряд, который можно назвать “уровнем истины” (“бесконечность” выступает для сознания). В''-а тождественно В''-z, это - абсолютное знание.
Так как логические структуры элементов ряда а и, соответственно, элементов ряда z совпадают, то оба ряда как бы сжимаются в точки, становясь “полюсами” некой “феноменологической сферы”, даже “феноменологического глобуса”. При этом а и В''-а (или В''-z), совпадая друг с другом, оказываются центром этой сферы (который, впрочем, “всюду”).
Таким образом, феноменологическая структура духа может быть представлена в преобразованном виде так:
а'=а=В''-а=В''-z
Так как Феноменология открывает, что а (или В''-а)
тождественно В''-z, то, следовательно, и оба “полюса” по свершении феноменологического движения должны совпасть с “центром”, так что в конце концов мы оказываемся именно перед замкнутой последовательностью “кругов” (сомкнувшихся “меридианов” феноменологического “глобуса”), совпадающих в одной точке. Непосредственно эта точка - лишь предмет Феноменологии, но вследствие свершения феноменологического опыта - и “бесконечность”, предмет Логики, плацдарм (в перспективе движения системы)
On -z
.a O1 O2 O3 O4 B B'
On - a
для спекулятивного действа “Науки логики”. Заметим, что в границах “Феноменологии”
“бесконечность” всегда остается “точкой”, не имеющей “объема”, а в “Логике” она сначала (в “Бытии”) предстает как поверхность полусферы, далее (в “Сущности”) - как заполняющая всю сферу последовательность линий-”диаметров”, связывающих в единстве рефлексии непосредственно противоположные определенности, и наконец (в “Понятии”) - как отождествление и (в том же предельно-мыслимом спекулятивном акте) различение бесконечной сферы и ее центра, как “пульсация” точки-сферы. Именно потому, что только в “Логике” “бесконечность” получает объем, или рассматривается не только как формальная предметность, но и как раскрывающий ее содержание метод, Гегель и считает именно Логику собственно спекулятивной философией, “наукой”, тогда как Феноменология в этом отношении (но только в этом !) может рассматриваться как пропедевтика, как часть системы, которая только устанавливает для сознания философскую предметность, но не приступает еще к раскрытию ее конкретного содержания, Феноменология сохраняет в себе “бесконечность” как лишь “точку-возможность”.
Продолжим, однако, наш комментарий исходной схемы. Так как О1-z тождественно О2-а, О2-z тождественно О3-а и т.д., то весь путь феноменологического движения оказывается следующим: О1-а О1-z О2 -аО2-z О3-а О3-z О4-а
О4-z В-а В-z В'-а В'-z=В''-а=В''-z. Некий реально-исторический эквивалент, однако, имеется для этого пути лишь начиная с момента В-а (“Дух”) или даже лишь с момента В'-а (“Религия”), как об этом говорилось выше. О1, О2, О3, О4 вообще не скоординированы во времени, а E1, E2 и т.д. обладают индивидуальным феноменологическим “существованием” не сами по себе, но лишь в В1, В2 и т.д..
Ряды О1, О2, О3, О4 - это некие длящиеся в “феноменологическом времени” изображения реально-исторических рядов В и В', сделанные с четырех феноменологически различимых в В-а и В'-а точек зрения (О1-а, О2-а, О3-а, О4-а), а Е1, Е2 и т.д. в каждом из “кругов” - это “моментальные снимки” с четырех точек зрения, или как бы в
четырех ракурсах, “реальных” моментов В1, В2 и т.д.. Замеченные Г.Г.Шпетом ряды О1-Е1 - О2-Е1 - и т.д. состоят из моментов, которые одновременны в реальном времени, но различаются структурно-феноменологически. Для Еn переход от О1 к В1 - путь феноменологической конкретизации, условным временем которого является длительность феноменологического опыта. Однако, являясь различными этапами феноменологической реконструкции духа, моменты каждого из этих горизонтальных рядов тождественны логически. В этом смысле, например, О1-Е1 тождественно О2-Е1 и т.д..
Это положение принципиально важно для построения нашей работы. Мы перешли от анализа лишь одного “круга” “Феноменологии” к анализу “Логики”, считая, что логически, с точки зрения чистой формы опосредования “я” и предмета, они тождественны. Но О1-z, О2-z, О3-z, О4-z, В-z В'-z тождественны в В''-z только потому, что а (или О1-а) тождественно В-а, потому, что “наше сознание” в пункте В-а устанавливает себя как дух. Это - “реально-историческое” событие, вслед за которым только и может начаться феноменологическая реконструкция духа (в ходе которой естественное сознание ведь лишь возводится к тому, что уже “есть”), реально-исторические основание и предпосылка возникновения спекулятивной философии. Чисто биографический аспект этого события зафиксировал сам Гегель, описывая - осознавая - “эту” живую личность в качестве всеобщего, “мирового” духа, управляющего из “этой” точки всем миром.
И последнее замечание, вытекающее из представленной феноменологической структуры духа. Феноменологическая реконструкция духа (О1, О2, О3, О4) и его феноменолого-историческая экспликация (В,В') постигают дух в его историческом возникновении и самоосознании, схваченных с определенных позиций сознания, т.е. Феноменология рисует нам лишь “специфический” образ духа, отражением же духа самого по себе, отражением его сущностной определенности (структуры), его отражением вне исторического контекста, без которого он, правда, не существует, но от которого не зависит его сущность, является не Феноменология, а Логика. Логика изображает дух, но не дух в его историчности, а чистую
сущность духа, дух сам по себе (который не зависит от своей исторической явленности и его метафизической тени - “существования”). - И вот именно этот адекватно постигающий себя дух и оказывается тем, что мы называем в нашем исследовании спекулятивной предметностью.
Продолжим рассмотрение гегелевского текста, являющегося комментарием представленного “феноменологического заключения” “Если ... религия есть завершение духа, в которое отдельные моменты его - сознание, самосознание, разум и дух - возвращаются и вернулись как в свою основу, то в совокупности (вместе с религией, - В.К.) они составляют налично сущую действительность духа в целом, который только и есть как различающее и возвращающееся в себя движение этих сторон. Становление религии вообще содержится в движении всеобщих моментов (“кругов” “Феноменологии”, - В.К.). Но так как каждый из этих атрибутов (“кругов”, - В.К.) был представлен так, как он не только определяется в общем (духе, - В.К.), но как он есть в себе и для себя, т.е. как он для самого себя протекает внутри себя как целое (не существуя вне духа, каждый “круг” по своей логической структуре тем не менее оказывается тождественным духу, поскольку завершается “бесконечностью”, в связи с чем он и оказывается представимым в качестве замкнутого целого, - В.К.), то тем самым произошло не только становление религии вообще, но и указанные процессы полного прохождения отдельных сторон (т.е. моменты пройденных “кругов”, - В.К.) содержат в то же время определенности самой религии. (На схеме это можно было бы представить как “суммирование по горизонтальным линиям”, например, В'1 = (О1-Е1)+(О2-Е1)+(О3-Е1)+(О4-Е1)+В1. - В.К.) Дух в целом, дух религии есть, в свою очередь, движение, состоящее в том, что, исходя из своей непосредственности, он приходит к знанию того, что есть он в себе или непосредственно, и достигает того, что формообразование, в котором он выступает перед своим сознанием, совершенно тождественно его сущности, и он созерцает себя таким, как он есть. (Имеет место аналогия между положением религии в целом духа и положением Малого круга в “круге”, - В.К.) - В этом становлении (религии в
движении “кругов” “Феноменологии”, - В.К.), следовательно, дух сам существует в определенных формообразованиях, которые составляют различия этого движения (очень тонкий момент, способный, пожалуй, убедить в правильности нашей интерпретации: так как логически О1-Е1, О2-Е1 и т.д. тождественны, то никакого становления моментов духа - В1 и В'1 - не происходило бы, если бы не различный “феноменологический статус” “кругов”, не различное их положение в духе как целом ! - В.К.); в то же время в силу этого определенная религия имеет точно так же некоторый определенный действительный дух (занимает строго определенное место в духе как целом, - В.К.). Если, стало быть, знающему себя духу (религии, - В.К.) вообще принадлежит сознание, самосознание, разум и дух, то к определенным формообразованиям знающего себя духа (т.е. определенным этапам эволюции религии, - В.К.) принадлежат определенные формы, которые внутри сознания, самосознания, разума и духа развивались в каждом из них в отдельности (т.е. соответствующие структурные моменты каждого “круга”, - В.К.). Для своего действительного духа определенная форма религии извлекает из форм каждого его момента (“круга”, - В.К.) те, которые соответствуют ей. Одна определенность религии проникает все стороны ее действительного наличного бытия и накладывает на них эту общую печать.” (2,4,365)
Итак, до сих пор Гегель пояснял, каким образом происходит “синтезирование” определенных моментов духа из аналитически - и вне связи с “существованием” - представленных в первых “кругах” моментов. Теперь речь пойдет о том, как следует понимать вытекающее отсюда координирование “кругов”. “Именно так формообразования, выступавшие доселе, организуются теперь иначе, чем они выступали в своей последовательности, о чем предварительно выскажем вкратце еще несколько необходимых замечаний. - В рассмотренной (до “Духа” или до “Религии”, как об этом говорилось выше, - В.К.) последовательности каждый момент, углубляясь в себя, складывается в некоторое целое (“круг”, - В.К.) по свойственному ему принципу (мы видели, однако, что развитие всякого принципа выявляло лежащую в основе трансцендентальной структуры сознания “бесконечность”, а
тем самым и построенные по “частным” принципам “круги” выстраивались в определенную структурой предмета Феноменологии систему, - В.К.); и познавание было той глубиной или тем духом, в котором эти моменты, для себя не имевшие устойчивого существования, получили свою субстанцию. Но теперь эта субстанция выступила; она есть глубина духа, достоверно знающая себя самого, глубина, которая не позволяет отдельному принципу изолироваться и (через возведение к лежащей в его основе “бесконечности”, - В.К.) сделаться целым внутри себя самого (сделаться отдельным - феноменологическим, “теоретическим” - “кругом”, - В.К.), а собирая и удерживая вместе внутри себя все эти моменты (стороны единого духа, прежде распадавшиеся на различные линии изложения, “круги”, - В.К.), она продвигается в этом совокупном богатстве своего действительного духа, и все отдельные моменты сообща принимают и получают одинаковую определенность целого внутри себя. - Этот дух, достоверно знающий себя самого, и его поступательное движение есть их (прежних “кругов”, - В.К.) подлинная действительность и в-себе- и для-себя-бытие, которое достается каждому в отдельности. - Следовательно, если прежний один ряд в своем продвижении обозначал узлами возвратные ходы внутри себя (речь идет о границах “кругов”, где сознание на основе структурного тождества моментов, например, О1-z и О2-а, совершает поворот, обращение от “истины” одного “круга” к “достоверности” другого, поэтому - если уж это движение от “истины” к “достоверности” - Гегель и говорит возвратные ходы, - В.К.), но, выходя из них (на нашей схеме: двигаясь снова по восходящим линиям, - В.К.), снова продолжал движение вдоль (т.е. по основному феноменологическому “направлению” - от “достоверности” к “истине”, - В.К.), то теперь (в “Духе” и “Религии”, - В.К.) он (ряд следующих друг за другом “кругов”, - В.К.) как бы разорван в своих узлах, всеобщих моментах (всеобщий характер этих моментов обуславливается единой для всех структурой “бесконечности”, - В.К.), и распадается на много линий, которые, будучи собраны в один пучок, в то же время симметрически соединяются, так что одинаковые (т.е. структурно тождественные, - В.К.) различия, в которые сформировалась
каждая отдельная линия внутри себя, совпадают.” (2,4,365-366) Можно сказать, таким образом, что феноменологическое
постижение единого конкретного духа оказывается возможным для сознания потому, что имеет место полное структурное совпадение всех прежних “кругов” друг с другом и с самим духом (или самосознанием духа - религией). Удалось ли Гегелю на деле показать это совпадение ? Имеет ли место реальное проведение единой феноменологической структуры через все этапы формирования духа ? Можно ли в конце концов говорить об этом как о чем-то более значительном, чем “формализм” единой феноменологической терминологии ? Гегель констатирует свое намерение, и мы можем на ряде примеров показать, каким образом он это намерение осуществляет. Но осуществляет ли он его в целом, оказывается ли реализованной вся концепция Феноменологии ?
Обоснованный ответ на эти вопросы мог бы быть получен только после специального и в высшей степени тщательного исследования. Именно, следовало бы точно проследить, имеет ли место реальное - и полное ! - соответствие моментов духа и религии моментам предшествующих формообразований. Думается, однако, что даже тот общий взгляд на “Феноменологию”, который представлен в нашем исследовании, дает достаточно оснований сомневаться в том, что Гегелю удалось реально выполнить свое намерение. Обратим внимание хотя бы просто на то, что описание “третьего круга” занимает более половины всего объема “Феноменологии”; если принять во внимание, что изложение в этой части носит в основном не структурно-феноменологический, а описательно-исторический характер,145 то неизбежным оказывается вывод, что предносившийся мысленному взору Гегеля исторический образ духа ему никак не удавалось разложить на феноменологические составляющие, и он вынужден был добавлять к синтезированному феноменологическому “остову” духа все новые и новые сведения исторического характера, чтобы наконец узнать в реконструированном образе духа изначальную свою интуицию его.
Следует ли предположить, что дух вообще “не делится на феноменологическую структуру без остатка”, или, скорее,
просто внешние и случайные обстоятельства мешали Гегелю показать, что возможны полностью гармоничные отношения между Историей и Феноменологией ? Разумеется, мы в нашем исследовании системы философии Гегеля не можем подходить к исследованию текста “Феноменологии” с той степенью внимательности и скурпулезности, которые могли бы быть достаточными для решения этой проблемы, хотя, с другой стороны, именно предлагаемое исследование исходит из стремления точно различать в “Феноменологии” “историческое” и “структурно-феноменологическое”, вследствие чего его понимание, конечно, оказывается зависящим от точного знания, где кончается в “Феноменологии” “структура” и выступает феноменологически увиденный в ретроспективе “структуры” “исторический факт”.
Завершим, однако, изложение фрагмента VII главы, в котором Гегель формулирует авторское понимание структуры “Феноменологии”. “Из всего изложения явствует само собою, каким образом следует понимать эту представленную здесь координацию общих направлений (т.е. “кругов”, - В.К.), а потому излишне отмечать, что эти различия между ними (“кругами”, - В.К.) по существу надо понимать лишь как моменты становления (“духа”, - В.К.), а не как части; в действительном духе они суть атрибуты его субстанции (т.е. движение каждого “круга” лишь выявляет определенную сторону духа, - В.К.); в религии же (как сознании, имеющем эту субстанцию своим предметом, как самосознании субстанции, - В.К.), напротив, - лишь предикаты субъекта (атрибут, становясь предметом сознания, выступает как предикат; но тем самым и различие между “кругами” в целом духа истончается до формальности, в связи с чем Гегель и говорит: “лишь” и “напротив”, - В.К.). - Точно так же (как в соотношении субстанции и самосознания, - В.К.) в себе или для нас, конечно, все формы вообще содержатся в духе (как атрибуты в субстанции, - В.К.); что же касается его действительности вообще, то (так как для духа действительность есть единство самосознания и сознания, - В.К.) все дело лишь в том, какова для него в его сознании та определенность, в которой он выразил свою самость (на схеме это соответствует значению n для Вn, - В.К.), или в какой форме он знает свою сущность.”
(2,4,366) Представленная здесь Гегелем и выделенная нами в виде
схемы структура движения “Феноменологии” оказывается легко сводимой к структуре предмета Феноменологии - ведь структура текста и есть лишь развернутая структура его предмета ! Для того, чтобы увидеть это, было бы достаточно подставить в исходную схему предметные значения “достоверности” (сознание, самосознание и т.д.) и “истины” (самосознание, разум и т.д.) и объединить Большой и Малый “круги” как на уровне “нашего сознания” (которое предстанет как соотношение “сознания” и “разума”), так и на уровне “самого сознания” (которое предстанет как соотношение “разума” и “духа”): выявится, что “предметом” неизбежно должно оказаться являющееся сущностью всех участников “феноменологического диалога” “абсолютное знание”.
г. Абсолютное знание. И в духе вообще, и в религии как самосознании духа моменты самосознания и предметности - здесь это значит: стороны самосознания и сознания - есть сам дух, и “благодаря этому содержанию исчезает низведение предмета до чистой предметности, до формы негативности самосознания” (2,4,367), но в качестве предметности или субстанции это все еще по-прежнему лишь достоверность духа, или все еще отсутствует то, что можно было бы назвать спекулятивным синтезом сознания и самосознания.
О религии откровения как высшей форме наличной действительности духа Гегель пишет: “Хотя в ней дух достигает своего истинного формообразования, тем не менее именно само формообразование (т.е. устойчивое различение сторон сознания и предмета, - В.К.) и представление (т.е. оценка сознанием своего предмета как внешнего себе, - В.К.) есть еще сторона неопределенная, от которой он должен перейти в понятие, чтобы совершенно растворить в нем форму предметности, - в нем, в понятии, которое точно так же заключает в себе эту свою противоположность (но уже как снятую, идеализованно, - В.К.). Только тогда дух постигнет понятие самого себя так, как пока лишь постигаем его мы (“наше сознание” в процессе становления духа, - В.К.), и его формообразование или стихия его наличного бытия, будучи понятием (в “абсолютном знании”, - В.К.), есть сам дух.” (2,4,367)
Итак, религия как самосознание духа, как знание “самим сознанием” себя в качестве духа, не доходит до той формы постижения духа, которая одна только ему в полной мере и соответствует. В религии “формообразование еще не имеет формы понятия, т.е. формы всеобщей самости, самости, которая в своей непосредственной действительности есть точно так же снятое, мышление, всеобщность, в которой оно не теряет своей действительности.” (2,4,406)
Свойственная религии “форма процесса представления” “не есть еще самосознание духа, достигшее своего понятия как понятия; опосредование (моментов самосознания и сознания в духе, - В.К.) еще не завершено. В этой связи бытия и мышления, стало быть, имеется тот недостаток, что духовная сущность еще обременена непримиренным раздвоением на
потустороннее и посюстороннее. Содержание есть истинное содержание, но все его моменты, будучи выявлены в стихии процесса представления, обладают тем характерным признаком, что они не постигнуты в понятии, а являются совершенно самостоятельными сторонами, соотносящимися друг с другом внешне. Для того, чтобы истинное содержание получило для сознания также свою истинную форму, необходимо более высокое формообразование сознания, а именно, чтобы оно возводило свое содержание абсолютной субстанции (духа как субстанции, - В.К.) в понятие и уравновешивало для самого себя свое сознание со своим самосознанием, как это происходило (в процессе становления духа, - В.К.) для нас или в себе.” (2,4,407-408)
Чем же окажется это понятийное постижение субстанции, духа ? В качестве формообразования сознания, которое постигает, - абсолютным знанием; в качестве акта или процесса постижения - Логикой. Можно ли из этого - ставшего благодаря Предисловию общеизвестным - требования облечь постижение абсолютного в форму понятия не сделать вывода о том, что Логика имеет своим предметом дух и, в отличие от Феноменологии, именно благодаря адекватности своей формы постижения она и постигает саму его сущность ? Провоцирующее интерпретаторов на натуралистические предположения “Изо-бражение бога, каков он ...” - это, конечно, более или менее удачное иносказание, относящееся к постигнутой самосознанием сущности духа. Гегелевское требование найти адекватную абсолютному, т.е. духу как субстанции, форму постижения - форму понятия - почему-то не связывается интерпретаторами с вопросом о предмете Логики, который на самом деле именно в результате исполнения этого требования и формируется.
Последняя глава “Феноменологии”, представляющая это формообразование, занимает в “Феноменологии” то же место, что и “Абсолютная идея” - в “Логике”.: и там, и здесь речь идет о точке, завершающей все прежнее движение, о пределе процесса, и это именно “точка”, т.е. она не имеет никакого “объема”, никакого собственного - не выраженного уже в пройденном движении - строения.
Применительно к абсолютному знанию как пределу
феноменологического процесса мы можем сказать, что это формообразование не имеет собственного “опыта”, или опыт этот - уже за пределами Феноменологии, этим сверх-феноменоло-гическим опытом станет для него вся Логика. Понятно, конечно, что “опыт” в последнем случае понимается не в собственном смысле, ведь в абсолютном знании предмет уже не отличается от сознания, и видение сознанием себя, в котором теряет смысл различение “субъективного” и “объективного” (к чему, однако, Гегель пришел совсем иным, чем Шеллинг, путем), и есть абсолютное знание. Вся Логика - последовательное разворачивание этого формообразования, она, повторим, может быть представлена поэтому даже как “последняя глава” “Феномено-логии”.
“Точечность” “абсолютного знания” в “пространстве” феноменологического повествования позволяет нам понять, почему Гегель - в сравнении с прежними формообразованиями - так мало нам о нем “сообщает”. В самом деле, разворачивание этого формообразования в целостный опыт в границах “Феноменологии” дано быть не может, и все, что только может представить здесь Гегель, - это некоторый “моментальный снимок” его структуры (см.: 2,4,422; 427-434) и указания на отношения этого формообразования к прежним этапам “Феноменологии” (см.: 2,4,423-427).
Гегелевское описание в этой части “Феноменологии” отличается от основного текста и по стилистике, оно является, можно сказать, формально-всеобщим; Гегель говорит лишь о том, “как действует” здесь сознание, но не описывает самого действия; оно напоминает по стилю Введение или даже Предисловие: во всех этих фрагментах Гегель указывает на формальные условия опыта сознания, но отсутствует само движение опыта.
Остановимся хотя бы на самых интересных формулах заключительной главы. Начнем с самых общих характеристик абсолютного знания: “Это последнее формообразование духа, дух, который своему полному и истинному содержанию (известному “нашему сознанию” уже по предшествующим формообразованиям, - В.К.) придает в то же время форму самости (знает предмет как “я”, - В.К.), ... есть абсолютное знание” (2,4,427-428); “Стихией наличного бытия или формой
предметности для сознания стало то, что есть сама сущность, а именно понятие. Дух, являющийся сознанию в этой стихии, или, что здесь одно и то же, порожденный сознанием в этой стихии, есть наука.” (2,4,428) “Наука”=Логика есть некий сверх-феноменологический опыт духа, в котором он постигает себя именно как дух, т.е. постигает себя в понятии. “Наука” возникает тогда, когда сам сущий дух созерцает себя как источник бесконечной определенности, последней “окраиной” которой видится “существование”.
Абсолютное знание есть “чистое для-себя-бытие самосознания” (2,4,428): самосознание имеет себя своим предметом, но это отношение “я” к предмету - не абстрактно-непосредственное, а завершенно-бесконечно-опосредованное, и только вследствие этого - также и непосредственное отношение. Как для-себя-бытие самосознание есть и простое “одно”, и бесконечное опосредование инаковости (предметности), и притом - одновременно и в одном акте. Возможно ли “реально”, т.е. “субъективно-созерцательно”, а не методологически-декларативно, принять такое формообразование и помыслить такую предметность ? - “Оно (абсолютное знание, - В.К.) есть “я”, это и никакое иное “я”, и оно столь же непосредственно опосредовано или есть снятое вообще “я”.” (2,4,428) Гегель утверждает, что всякое непосредственное единичное сознание, старательно прошедшее по ступеням “Феноменологии”, созерцает (=порождает) спекулятивную предметность, абсолютное, становится “духом”. Ниже, однако, мы увидим, насколько трудно философу справиться с непосредственностью абсолютного, и как это повлияло в конце концов на систематические построения Гегеля.
Обратим внимание теперь на более сложный для понимания фрагмент. “В себе и для себя сущий дух, различенный в своих моментах (речь идет о “кругах” “Феноменологии”, - В.К.), есть для-себя-сущее знание, постигание в понятии вообще, которое как таковое еще не достигло субстанции или не есть в себе самом абсолютное знание.” (2,4,428) Как это: не есть ? Что это значит ? В построенном “совершенном” феноменологическом формообразовании имеется пока только возможность или
способность постижения феноменологической предметности, сама же бесконечная определенность спекулятивной предметности (“субстанция”) еще не выступила для духа, поэтому Гегель и говорит, что в себе дух еще не есть абсолютное знание. Можно сказать, что до того, как в Логике эта бесконечная определенность субстанции (самосознания как трансцендентального предмета) будет постигнута, дух будет оставаться лишь потенциально или формально абсолютным знанием, - действительным же абсолютным знанием он становится лишь тогда, когда постигает “субстанцию”, свою чистую сущность, логическую идею, абсолютную идею, когда весь путь самопостижения оказывается представленным для него и в “научной” форме - форме чисто мысленных определений, логических категорий. Вопрос о “реальности” “декларируемого” Феноменологией порождения спекулятивной предметности решается, таким образом, не в Феноменологии, а только в Логике.
“В действительности же знающая субстанция налично имеется прежде своей формы или оформления ее в понятии.” (2,4,428) - Начало феноменологического движения, т.е. движения “оформления субстанции в понятии”, означает, что субстанция эта уже имеется налично, дух уже возник, но еще не “для себя”, еще не реконструировал себя, не воспроизвел себя теоретически как результат феноменологического и следующего за ним логического движения. Наличное существование духа в образе “нашего сознания” является исторической предпосылкой реконструкции его в феноменологическом предмете, лишь “часть” которого - этот предпосланный “дух в себе”, существующий реально лишь в контексте целого - составляющего действительный дух единства “нашего сознания”, “самого сознания” и “предмета”.
Обратимся теперь к тому обоснованию этого тезиса, которое дает сам Гегель. Сначала оно выглядит тяжеловесным, но затем, может быть, именно вследствие своей “тяжеловесности”, погружается в интереснейшие подробности. “Ибо субстанция есть еще неразвитое “в себе” или основа и понятие в его еще неподвижной простоте, следовательно, (только, - В.К.) внутренняя суть духа или его самость, которая еще налично не имеется (а только выступит в результате
феноменологического движения, - В.К.). То, что есть налично (в начале феноменологического движения, - В.К.), есть в качестве еще неразвитой простоты и непосредственности или в качестве предмета представляющего сознания вообще. (Вспомним первое предложение основного текста “Феноменологии”, устанавливающее предмет феноменологического рассмотрения. - В.К.) Познавание, так как оно есть духовное сознание, для которого то, что есть в себе, есть лишь постольку, поскольку оно есть бытие для самости и бытие самости или понятие (это “понятие”, собственно, и выражает трансцендентальную точку зрения философии Гегеля, - В.К.), - познавание в силу этого обладает сначала только некоторым бедным предметом (“существованием”, - В.К.), по сравнению с которым субстанция и ее сознание богаче. Откровение, которое она имеет в последнем, на деле есть сокрытость; ибо она есть лишенное еще самости бытие (т.е. сущее не для себя, а для сознания, - В.К.), а дана себе как откровение лишь достоверность себя самого (самосознание, - В.К.). Поэтому на первых порах (до выступления духа, - В.К.) от субстанции самосознанию принадлежат только абстрактные моменты (имеются ввиду первые два “круга”, - В.К.); но так как эти последние как чистые движения сами влекут себя дальше, то самосознание обогащается, пока оно не отнимет у сознания (отношения его к предмету, - В.К.) всей субстанции (определенности, - В.К.), пока не вовлекло в себя всего строения ее существенностей и (так как это негативное отношение к предметности в такой же мере и положительно, т.е. представляет собой полагание) пока оно (самосознание, “наше сознание”, - В.К.) не породило ее (предметность, субстанцию, - В.К.) из себя и в то же время не восстановило ее тем самым для сознания (“самого сознания”, также, впрочем, “порожденного” вместе с предметностью, почему Гегель и говорит: пока оно не восстановило, - В.К.). В понятии, которое знает себя как понятие (т.е. в познании, в феноменологическом опыте, - В.К.), моменты (абстрактные “круги”, - В.К.), следовательно, выступают раньше, чем осуществленное целое (дух, - В.К.), становление которого (не “реальное”, а в Феноменологии, - В.К.) есть движение указанных моментов. В
сознании (сущем “нашем сознании”, - В.К.), напротив того, целое, но не постигнутое в понятии, раньше моментов.” (2,4,428-429) “Наше сознание” в себе уже есть дух и до того, как оно познает свои моменты (“круги”, составляющие его абстрактные стороны), хотя знающим себя, постигнутым в понятии духом оно становится лишь тогда, когда проходит через испытания Феноменологии и Логики.
В VIII главе мы снова встречаемся и с уже знакомой нам темой связи духа и времени: “Время есть само понятие (оно, как и понятие, есть бесконечное опосредование инаковости, - В.К.), которое налично есть и представляется сознанию как пустое созерцание; в силу этого дух (как свободное по отношению к инаковости бытие, - В.К.) необходимо является во времени, пока не постигает свое чистое понятие, т.е. пока не уничтожает время.” (2,4,429) Не следует, однако, понимать подобные утверждения Гегеля слишком непосредственно, так, будто завершение познания духом своей сущности кладет конец всякому временному бытию. Если дух в лице “вот этого” “нашего сознания”, прошедшего путь Феноменологии, не нуждается более для самопознания во времени, то это, конечно, не означает “конца” существования мира, речь в таком случае может идти лишь о завершении процесса становления “этой” индивидуальности “всеобщей” индивидуальностью, - вспомним гегелевское самоосознание в форме созерцания Наполеона в Йене. Чувственно воспринимаемый мир и после выступления истины самопознания духа - “безопасный” для нее - продолжает свое существование, истина самопознания духа может быть лишь истиной самопознания “этого” духа, а мир остается в качестве коррелята других - не прошедших еще своего пути к истине - самосознаний.146
Продолжим наше рассмотрение темы времени в VIII главе. “Время есть внешняя, созерцаемая чистая самость (завершенно-бесконечное самоопосредование, - В.К.), не постигнутая самостью (не ставшая еще собственно актуально-бесконечной, или такое самоопосредование, которое не замкнуто в для-себя-бытие, почему время и длится, - В.К.), (т.е.) лишь созерцаемое понятие; когда последнее постигнет само себя (т.е. когда дух постигнет себя в Логике, - В.К.), оно снимает свою внутреннюю форму (бесконечно длящаяся линия
самопознания духа замыкается в окружность, тождественную в своей простоте точке, что и означает уничтожение времени, - В.К.), постигает созерцание в понятии и есть созерцание, постигнутое (“нашим сознанием”, - В.К.) и постигающее (дух как таковой, целое феноменологической предметности, - В.К.) в понятии. - Время поэтому выступает как судьба и необходимость духа, который не завершен в себе, как необходимость обогатить долю, которую самосознание имеет в сознании, привести (через опосредование во времени, - В.К.) в движение непосредственность того, что в себе (понятие сознания или духа, - В.К.), - форму, в которой субстанция (т.е. дух в себе, - В.К.) имеется в сознании (имеется ввиду сущее “наше сознание”, - В.К.), - или, наоборот, если то, что в себе, понимается как “внутреннее”, реализовать и сделать предметом откровения то, что есть лишь внутреннее, т.е. присвоить его (“внутреннее”, субстанцию духа, - В.К.) для достоверности себя самого.” (2,4,429)
Речь здесь идет, таким образом, о том, что время как форма опосредования, аналогичная по своей континуальной природе спекулятивному движению духа (в чистом виде - логической идеи), необходима для духа, чтобы выявить в самом непосредственном сознании свою субстанцию и слиться с ней, осуществив тем самым задачу и внутреннее предназначение духа, которое состоит в том, что дух должен познать себя, - только в этом и благодаря этому он есть дух. Феноменология реконструирует этот путь, представляя то, что Гегель называет субстанцией, сознанию, благодаря чему оно может видеть в этой модели свое отражение и познать себя как дух. Когда, повторим, эта цель достигается, время исчезает, - но лишь для “этого” сознания, сознания, познавшего себя как дух.
“На этом основании следует сказать, что не познается ничего, чего нет в опыте (что не представлено в качестве достоверности сознания, - В.К.).” (2,4,429) Как бы присоединяясь к традиции эмпиризма, Гегель дает ей свою - феноменологическую - интерпретацию: познается то, что предстоит для сознания, выступает как достоверность, и, с другой стороны, только имеющееся для сознания, выступающее в сознании, может быть установлено им в
качестве бытия. Этот последний момент выявляет трансцендентальную
составляющую феноменологического метода, которая оказывается особенно важной, если мы рассматриваем предметность как относительно независимую от сознания. Опыт сознания - не только источник познания, он не только открывает определенность бытия, но и основание конституирования самого бытия. Послушаем философа: “Познается только то, что имеется налицо как прочувствованная истина, как вечное, внутренне данное в откровении, как составляющее предмет веры священное, или какие бы еще выражения мы ни употребляли. Ибо опыт в том и состоит, что содержание - а оно есть дух - есть в себе, есть субстанция и, следовательно, предмет сознания. Но эта субстанция, которая есть дух, есть становление его тем, что он есть в себе; и лишь как это рефлектирующее в себя становление дух в себе поистине есть дух. Он есть в себе движение, которое есть познавание (и именно это движение дух и устанавливает как свою чистую предметность - логическую идею, - В.К.), превращение указанного в-себе-(бытия) в для-себя-(бытие), субстанции - в субъект, предмета сознания - в предмет самосознания, т.е. в предмет в такой же мере снятый (в завершенно-бесконечное движение опосредования предметности, - В.К.), или в понятие. Это движение есть возвращающийся в себя круг (как раз этот фрагмент и подсказал мне сделать “круг” техническим термином при анализе структуры “Феноменологии духа”, - В.К.), который свое начало (в качестве достоверности, - В.К.) предполагает и только в конце (в качестве “истины”, - В.К.) его достигает. - Поскольку, следовательно, дух необходимо есть это различение внутри себя (“достоверности” и “истины”, или созерцания “достоверности” в качестве предмета, - В.К.), его целое, будучи созерцаемо, противостоит своему простому самосознанию; и так как, следовательно, целое есть то, что различено, то в нем различают его созерцаемое чистое понятие, время (которое, таким образом, оказывается некоторой стихией, в которой рождается дух, - В.К.), а также содержание или в-себе-(бытие); субстанция как субъект заключает в себе лишь внутреннюю (обусловленную структурой духа, - В.К.)
необходимость проявить себя в самой себе (т.е. для сознания, - В.К.) как то, что она есть в себе, т.е. как дух. Лишь завершенное предметное проявление (перевод “достоверности” в “истину”, завершаемый в каждом “круге” “бесконечностью”, - В.К.) есть в то же время (посредством этой “экспликации трансцендентальной субъективности”, - В.К.) рефлексия субстанции или превращение ее в самость. (На эту - “предметополагающую” - функцию феноменологического движения мы обращали специальное внимание в первой главе, поскольку различие Логики и реальной философии выступило прежде всего как различие структурной организации двух последних (в каждом из “кругов”) образов предметности. - В.К.)
- Поэтому, пока дух не завершится в себе как мировой дух (пока в реальном времени не сформируется способное раскрыть свою субстанцию “наше сознание” - завершающий “христианско-германскую” эпоху “Наполеон” (Большой круг, сознание), - В.К.), он не может достигнуть своего завершения как дух, обладающий самосознанием (не может в “феноменологическом времени” реконструировать свой путь становления и в “логическом времени” - познать свою сущность, не может выступить как “Гегель” (Малый круг, самосознание), - В.К.). Поэтому во времени содержание религии раньше, чем наука, высказывает, что такое дух; но только наука есть истинное знание духа о себе самом (так как логическая (понятийная) форма науки адекватна логической природе духа, идее как сущности духа, - В.К.).” (2,4,429-430) И “движение, направленное к тому, чтобы раскрылась форма знания духа о себе, есть работа, которую он осуществляет как действительную историю” (2,4,430)
Дальнейшее изложение (2,4,430-431), яркое и эффектное, порождает, однако, множество вопросов. Его нельзя представить как резюме феноменологического движения - ни в полном его объеме, ни как резюме “третьего круга”, который имеет коррелят в виде реальной истории. Нельзя установить и какого-либо соответствия этого изложения разработанному позднее курсу философии истории - ни предметно-содержательного, ни структурно-логического. Одним словом, вопрос об общем смысле и значении этого любопытного опыта изложения последовательности основных этапов
действительной истории как движения смены форм самосознания духа мы должны оставить здесь без ответа. Скажем только, что с точки зрения формы самосознания в этом изложении выделяются две части: в первой речь идет о сознании религиозной общины (как субстанциальном содержании “христианско-германского мира” ?) (см.: 2,4,430), во второй - о новоевропейской философии от Декарта до Фихте и Шеллинга (как об опыте самоосознания этого содержания ?) (см.: 2,4,430-431).
Что касается последнего, то, видимо, Гегель понимает “Феноменологию” как синтез по существу правильных, но на деле не отрицающих, а взаимосвязанных и поддерживающих друг друга позиций Фихте и Шеллинга: “Как обнаружилось для нас (в “Феноменологии”, - В.К.), дух не есть только отступление самосознания в его чистую внутреннюю суть (Фихте ?),147 и не есть простое погружение самосознания и небытие его различия (философия тождества, - В.К.), а есть это (изображенное в “Феноменологии”, - В.К.) движение самости (духа, - В.К.), которая отрешается от себя и погружается в свою субстанцию, а равным образом в качестве субъекта ушло из нее в себя и делает ее предметом и содержанием, когда снимает это различие между предметностью и содержанием.” (2,4,431) “”Я” не должно удерживаться в форме самосознания против формы субстанциальности и предметности, словно бы оно испытывало страх перед своим отрешением; сила духа, напротив, состоит в том, что он в своем отрешении остается равным себе самому и, будучи в-себе- и для-себя-сущим, устанавливает для-себя-бытие только в качестве момента - точно так же, как и в-себе-бытие (а не в качестве истины в-себе-бытия, - В.К.). “Я” не есть также и нечто третье (по отношению к субъекту и субстанции, - В.К.), которое отбрасывает различие (между ними, - В.К.) в бездну абсолютного и провозглашает их равенство в нем; знание состоит, скорее, в той кажущейся бездеятельности, которая только рассматривает, как различенное (на моменты “я” и предметности, - В.К.) сознание движется в себе самом и как оно возвращается в свое единство (речь идет о феноменологическом опыте как целом, - В.К.).” (2,4,432)
д). Открытия и загадки последних страниц. Последние
четыре фрагмента “Феноменологии”, несомненно, принадлежат к числу лучших страниц европейской философской литературы. Мы приведем их здесь полностью и постараемся дать возможно полный их комментарий. Предельно ясные положения чередуются в этих фрагментах с положениями не вполне понятными и даже загадочными. На мой взгляд, мы имеем здесь дело с наброском, в котором переплелись сразу несколько концепций построения системы философии. Та “трансценден-тально-феноменологическая” концепция, реконструкцией которой мы занимались на протяжении всего нашего исследования, составляет, несомненно, доминирующую часть этой страстной философско-поэтической смеси, но, конечно, множество идей этих фрагментов в предложенную нашим исследованием концепцию системы философии Гегеля не укладывается, и мы должны будем хотя бы указать на возможные источники этих идей.
Читаем первый фрагмент: “В знании (абсолютном знании, - В.К.) дух замкнул движение своего формирования, поскольку последнее обременено непреодоленным различием сознания (между “я” и предметом, - В.К.). Дух достиг чистой стихии своего наличного бытия - понятия. Содержание, со стороны свободы его бытия, есть отрешающаяся от себя самость или непосредственное единство знания самого себя.” (2,4,432) - Отрешение имеет место тогда, когда единство берется как непосредственное единство. Эта связь “непосредственности” и “отрешения” знакома нам по переходу от “Логики” к “Философии природы”: абсолютная идея как чистая непосредственность и есть природа. Обратим внимание на то, “кем” в каждом из двух случаев единство берется как непосредственное: здесь, при переходе от “Феноменологии” к “Логике” - самим духом, в котором совпали “наше сознание” и “само сознание”, так что сам свободный дух, пускаясь в “четвертый круг”, в качестве непосредственного единства и становится предметностью, логической идеей, “бытием”; а “кто” берет абсолютную идею как непосредственное единство при переходе от “Логики” к “Философии природы” ? - Только читатель, который берет в руки “следующую” книгу ! И “переход” этот, следовательно, не может восприниматься как органичный, даже просто естественный для самого содержания
“Логики”. С точки зрения самого логического движения нет никаких оснований брать абсолютную идею лишь как нечто непосредственное, но с точки зрения читателя, “субъекта”, конечно, оказывается возможным и “забыть” о синтетическом происхождении непосредственности абсолютной идеи.
Воспринимал ли Гегель единство “непосредственности” и “отрешения” как “свойственное самой природе мысли” требование “перехода”, общее для соотношений ““Феноменология” - “Логика”” и ““Логика” - “Философия природы”” ? - Субъективно-психологически, видимо, да; реально же эти два перехода различны, потому что при переходе к “Логике” мы не переходим к новому типу предметности, мы лишь рассматриваем имманентное движение той предметности, которая была конституирована последним формообразованием “Феномено-логии”.
Опаснее всего было бы просто не видеть различия этих двух соотношений и утверждать, что если кем-то что-то берется как непосредственное единство, то тем самым, следовательно, уже имеет место “отрешение”, “переход” и т.п. Сейчас мы увидим, как Гегель выводит необходимость негативного, диалектического момента в движении логической идеи из ее содержательности, конкретности: “Чистое движение этого отрешения, если его рассматривать со стороны содержания, составляет необходимость этого содержания. Разное содержание, будучи определенным содержанием, находится в отношении, не есть в себе, и его не-покой состоит в снятии себя самого, или есть негативность; следовательно, необходимость (снятия категорий друг в друге, - В.К.) или разнообразие (категорий, - В.К.) есть как свободное бытие, так и самость; и в этой самостной форме, в которой наличное бытие непосредственно есть мысль, содержанием является понятие (мыслящий себя дух, - В.К.). Когда, следовательно, дух достиг понятия, он развертывает наличное бытие (логическую предметность, - В.К.) и движение в этом эфире своей жизни и является наукой.”
Но можно ли ставить знак равенства между внутренней отрицательностью, диалектичностью спекулятивного содержания и “переходом” ? Зафиксируем следующее: во-первых, под наличным бытием понимается здесь мысленное
наличное бытие, логические категории; ни к какому отрешению в чувственное наличное бытие как принципиально иначе организованную предметность эта непосредственность смысла подтолкнуть не может; во-вторых, жизнь духа отождествляется с логическим движением, а не с распределением по рубрикам “субъективный дух”, “объективный дух”, “абсолютный дух”; и, наконец, в-третьих, “наука” отождествляется с Логикой, хотя, как мы видели, в системе, конструируемой на основе Феноменологии, и предусматривалась возможность “реальных философских наук”, но здесь, в решающий момент, об этом ничего не говорится; последнее обстоятельство оказывается понятным именно в контексте предложенной нами интерпретации: рассмотрение феноменологического движения в каждом из его “кругов” убеждает в том, что предметом реальной философии является уже “не вполне философская” реальность - предметность, оставляющая в себе неснимаемый субстрат, “существование”.
Продолжим чтение первого из четырех фрагментов: “Моменты его движения (движения духа, а не какого-то отдельного - “таинственного” - типа предметности, - В.К.) представляются в науке уже не как определенные формообразования сознания, а, поскольку различие его (между “я” и предметом, - В.К.) ушло обратно в самость, как определенные понятия и как их органическое внутри себя самого обоснованное движение. Если в феноменологии духа каждый момент (формообразование, - В.К.) есть различие между знанием и истиной и есть движение, в котором это различие снимается, то наука, наоборот, не содержит этого различия и его снятие, а поскольку момент (логическая категория, - В.К.) обладает формой понятия, то он соединяет в непосредственном единстве предметную форму истины и знающей самости. Момент (категория, - В.К.) выступает не как движение перехода - из сознания или представления в самосознание и обратно, а его чистая форма, освобожденная от его явления в сознании, чистое понятие и дальнейшее движение последнего зависят единственно от его чистой (логической, - В.К.) определенности.” (2,4,432-433)
Дух проявляется в сознании; непосредственное сознание и
его история - самая близкая духу стихия, но дух не тождествен сознанию. Сознание, осознавая себя в качестве духа, выходит за границы своего непосредственного бытия, выходит за границы времени и истории, снимает себя как собственно сознание - снимает различие “я” и предметности - и становится замкнутым на себя движением спекулятивной, чисто логической, предметности. Понятие - адекватная форма самосознания духа, а “наука” - адекватное его отображение и, в то же время, стихия его жизни, - вместо прежней его стихии, сознания.
“Наоборот, каждому абстрактному (здесь: чисто мысленному, - В.К.) моменту науки соответствует формообразование являющегося духа вообще.” (2,4,433) - “наоборот”: дух тождествен не сознанию как таковому, наоборот, каждому формообразованию сознания в своем истинном, понятийном образе дух соответствует в качестве определенной категории; логические категории - действительные моменты самодвижения духа, а вовсе не его проявления в стихии сознания; эти проявления, “феномены”, ведут к открытию духом самого себя в логическом, если рассматриваются - в Феноменологии - целостно, систематически, но они не есть дух в их непосредственном бытии.
Да, ясно, что субстанциями феноменологических формообразований являются в конечном счете категории Логики, однако, не вполне понятно, как конкретно соотносятся ряды сущностей и их явления в стихии сознания. Например, следует ли соотносить логический ряд со всем феноменологическим движением или отдельно с каждым “кругом” ? Исходя из концепции, принятой в нашем исследовании, т.е. из положения о логическом тождестве всех “кругов”, предпочтительнее выглядел бы второй вариант, однако, без детального сравнительного анализа логического и феноменологического рядов и он может рассматриваться лишь в качестве предположения. Сам же Гегель не может говорить об этом в “Феноменологии” просто потому, что “Логика” здесь еще представляется ему в виде проекта, а когда, наконец, она будет создана, то, в свою очередь, актуальность в его глазах потеряет “Феноменология”, в связи с чем вопрос о детальном
соотношении этих двух творений гегелевской мысли и окажется переданным на суд читателей.
Завершаем чтение первого фрагмента: “Подобно тому, как налично сущий дух не богаче науки, он и не беднее ее в своем содержании.” (2,4,433) - Так как в “явлении” есть только то, что есть в “сущности” и притом - все, что в ней есть, то “содержательно” они тождественны, и речь идет лишь о том, как уже сущему в духе содержанию придать его адекватную форму. “Познавание понятий науки в этой форме образований сознания составляет тот аспект их реальности, в котором их сущность, понятие, установленное в ней в своем простом опосредствовании в качестве мышления, раскрывает моменты этого опосредствования и проявляется, следуя внутренней противоположности (диалектической структуре, - В.К.).” (2,4,433) - Итак, в этом первом из прокомментированных нами фрагментов дается характеристика завершения феноменологического движения как в ретроспективе Феноменологии, так и в перспективе Логики. Впрочем, этот самый интересный для нас аспект философ, к сожалению, не разъясняет вполне обстоятельно.
Следующий фрагмент по своему общему смыслу уже не столь ясен. Речь в нем снова идет об отрешении от формы чистого понятия и переходе к чувственному сознанию. Так как Гегель называет последнее “началом, из которого мы исходили”, то непосредственно имеется ввиду некое кружение Феноменологии внутри самой себя, которое не снимается и возникновением “науки” как “исторического” феномена. Далее, контекст позволяет сделать и предположение, что имеется ввиду не переход от Феноменологии к своему собственному началу, а тот самый “переход” от Логики к Философии природы. Если имеется ввиду будущая наука, Логика, то имеем ли мы здесь действительно дело с предвосхищением уже грозящего гегелевским системным посторениям “перехода” идеи в природу ? Если же имеется ввиду только Феноменология, то в мысли о переходе к непосредственному сознанию мы должны видеть альтернативную воплотившимся и известным нам построениям Гегеля идею. Самое парадоксальное - но, конечно, не самое невероятное - предположение заключается в том, что Гегель вообще
колебался в том, нуждается ли “Феноменология” в каком бы то ни было продолжении. В самом деле, если движение логической предметности осуществляется в границах последнего феноменологического формообразования, то имеет ли смысл эксплицировать эти предметные структуры, ведь в конце концов они будут лишь более подробно повторять уже выявившиеся на пути к абсолютному знанию трансцендентальные структуры ?
Вот этот фрагмент: “Наука (понимается под “наукой” будущая Логика или “абсолютное знание” ? - В.К.) в себе самой содержит эту необходимость отрешения от формы чистого понятия и переход понятия в сознание (но: в “чувственную достоверность” или в природу с последующим возрождением в образе реально-философского духа ? - В.К.). Ибо знающий себя самого дух (так Гегель мог обозначить и “абсолютное знание”, и Логику, - В.К.) именно потому, что он постигает свое понятие, есть то непосредственное равенство себе самому, которое в своем различии есть достоверность непосредственного или чувственное сознание, - начало, из которого мы исходили; это освобождение себя от формы своей самости есть высшая свобода и надежность своего знания о себе (каковы “биографические” предпосылки этого “пафоса освобождающего страдания” ? - В.К.).” (2,4,433)
Снова, как видим, достигнутая через завершенно-бесконечное диалектическое опосредствование непосредственность оказывается основанием “отрешения”. В сознании Гегеля, видимо, непосредственность как последний этап диалектического движения и есть уже само отрешение. Гегель, однако, не оговаривает, “кто” совершает этот шаг, и, самое главное, создается ли в результате новая предметная сфера, или движение просто возвращается к своему началу. В последнем предположении нет никакого противоречия или странности, хотя его принятие требовало бы от Гегеля продвижения в направлении поиска той стихии, в которой осуществляется это непрестанное “кружение”, к поиску “жизни” как “почвы” “смысла”.
Следующий, предпоследний фрагмент “Феноменологии” выглядит еще более странным. В качестве результата отрешения (речь уже не ведется о том, следует ли понимать его
как отрешение от Феноменологии или отрешение от Логики) может выступить и то протекающее в реальном времени историческое движение, которое является коррелятом “третьего круга”, и, в то же время, природа. Последние строки фрагмента дают основание предположить, что Гегель - по инерции ? - продолжает мыслить “систему” по-шеллинговски, т.е. как дополняющие и поддерживающие друг друга взаимопереходы субъекта и объекта. Тогда вслед за Феноменологией, которая занимала бы место Трансцендентального идеализма, должна была бы следовать Философия природы и ее продолжение (о котором речь впереди) - Философия истории. Следует признать, что такое решение философа, если бы оно состоялось в качестве развернутой концепции, также выглядело бы весьма основательным и по-своему оригинальным. Правда, мы вынуждены были бы считать Гегеля принципиальным сторонником философии Шеллинга, но ведь и сам Гегель в это время все еще искренне надеялся на философский союз с ним.
Вот этот загадочный фрагмент: “Все же это (феноменологическое - ? - В.К.) отрешение еще не совершенно; оно выражает соотношение достоверности себя самого с предметом, который именно потому, что он находится в соотношении (с “я” “абсолютного знания”, - В.К.), не достиг своей полной свободы.” (2,4,433) Видимо, под “совершенным” отрешением Гегель все же понимает уже замысленный “переход” абсолютной идеи в природу. Следует, таким образом, признать, что уже в этот период “переход” был задуман хотя бы в качестве одного из вариантов развития системы. Но в чем же основание этой гибельной для философии Гегеля близости завершающегося непосредственностью диалектико-спекулятивного движения и “свободного отрешения” ? Нельзя ли увидеть в “переходе” аналогию с требованием Шеллинга развивать наряду с “негативной” философией (гегелевской Логикой, например) и “позитивную” философию ? Если да, то шеллинговское разоблачение “перехода” - лишь полемика внутри в принципе единой концепции, требующей (в соответствии с запросами современности, если вспомнить оценку этой эпохи, например, у Мишеля Фуко) дополнять описание трансцендентальных или
логических структур некими “позитивными”, например, реально-философскими, построениями. В пункте “ж.” настоящего параграфа мы снова вернемся к этим вопросам.
“Знание знает не только себя, но и негативное себя самого, т.е. свой предел. (Однако, как мы видели, “предел” здесь это, по-существу, - не внешняя предметность, а достигаемая сознанием непосредственность самоотождествления. - В.К.) Знать свой предел - значит уметь собою жертвовать. (Откуда это ? Это же какая-то странная мифология ! И это у “панлогиста” Гегеля ? ! - В.К.) Это жертвование есть отрешение, в котором дух проявляет свое становление духом в форме свободного случайного (исторического) события, созерцая свою чистую самость как время вовне себя, а свое бытие - как пространство. (Дух как бы возвращается в начало “третьего круга”, чтобы стать “задним планом” своего движения, историческим контекстом, в круговращении или жизни которого он вызревает для самопознания. - В.К.) Это последнее становление духа, природа, есть его живое непосредственное становление; она, отраженный дух (дух, а не идея, что снова заставляет вспомнить о двухчастном, шеллинговском, проекте “системы”, - В.К.) в своем наличном бытии есть не что иное, как это вечное отрешение (“жизнь” как “почва” “смысла” - В.К.) от своего устойчивого существования и движение, восстанавливающее субъект (это явно шеллингианская формула, - В.К.).” (2,4,433)
- Гегель, видимо, настолько быстро создал свой сложнейший труд, что по его окончании не смог ясно сформулировать перспективы тех систематических построений, которые должны были из него вырастать. Обоснование Логики посредством конструирования формообразования, полагающего тождественную “я” - и потому спонтанно движущуюся - предметность, представляет собой, безусловно, цетральную системосозидающую интуицию, возникшую из реализации замысла “Феноменологии”. Именно она - хотя, к сожалению, и не только она одна - была воплощена в дальнейшем. Здесь же, в последних фрагментах “Феноменологии”, мы видим сразу целый спектр систематических проектов, причем сам Гегель не может ясно
установить, где кончается один и начинается совсем другой. Может показаться странным, но эта неопределенность не
раздражает сегодня читателя. Она не мешает видеть центральный систематический смысл “Феноменологии”, который, если опыт сознанием действительно пережит, невозможно скрыть никакими оговорками, она показывает только принципиальное многообразие возможностей интерпретации “Феноменологии”, обусловленное ее содержательным богатством. И тема последнего фрагмента книги - феноменологическое постижение исторического явления духа - снова сводит это содержательное многообразие к изначальному единству - опыту сознания, конституирующему различные типы предметности, снятие которых ведет к самопознанию - становлению духа.
“Другая же (наряду с природой, - В.К.) сторона его становления, история, есть знающее, опосредствующее себя становление - дух, отрешенный во времени; но это отрешение есть точно так же отрешение от себя самого; негативное есть негативное себя самого. Это (историческое, - В.К.) становление воспроизводит некоторое медлительное движение (т.е. феноменологическое движение; “медлительное” - повторяющееся в нескольких “кругах”, воспроизводящее в них одну и ту же структуру, вследствие чего только и формируется определенный феноменологический статус предмета, - В.К.) и последовательный ряд духов, некоторую галерею образов, из коих каждый, будучи наделен полным богатством духа (т.е. достигая “бесконечности”, - В.К.), именно потому движется так медлительно, что самость должна пробиться сквозь все это богатство своей субстанции и переварить его. Так как завершение духа состоит в том, чтобы в совершенстве знать то, что он есть, свою субстанцию, то это знание есть его уход внутрь себя, в котором он покидает свое наличное бытие и передает свое формообразование воспоминанию (которое вновь воскрешает его в Феноменологии, - В.К.). В своем уходе в себя он погружен в ночной мрак своего самосознания, но его исчезнувшее наличное бытие сохранено в этом мраке; и это снятое наличное бытие - прежнее, но вновь рожденное из знания - есть новое наличное бытие, некоторый новый мир и духовное формообразование. В нем дух должен столь же
непредвзято начинать сызнова, придерживаясь его непосредственности, и заново вырастить себя из него, и словно он ничему не научился из опыта предыдущих духов. (Именно эти замкнутые движения мы и называем в нашем исследовании “кругами” “Феноменологии”, считая их основными элементами структуры произведения. Выше, говоря об исчезновении наличного бытия в самосознании и его возрождении из знания, Гегель, по-существу, выделяет внутри “круга” как целого Большой круг и Малый круг. - В.К.) Но воспоминание (die Erinnerung) сохранило этот опыт и есть внутреннее (das Innere) и фактически более высокая форма субстанции. Если, таким образом, этот дух сызнова начинает свое образование, как будто исходит только из себя, то все же начинает он на ступени более высокой. (Мы пытались показать, что координация “кругов” осуществляется в “Феноменологии” в соответствии со структурой предмета Феноменологии, в котором выделяются “наше сознание”, “само сознание” и “предмет”, достигающие - каждое в свою очередь - “бесконечности”, так что в конце концов структура “Феноменологии духа” оказывается проекцией структуры предмета Феноменологии на логический процесс построения “бесконечности”. Замечанием, которое мы процитировали, однако, Гегель указывает на “линейную” (в отличие от “циклической”) связь “кругов”, - эту, собственно феноменологическую, сторону движения мы в нашем исследовании, стремящемся прежде всего к постижению структуры системы Гегеля, почти не затрагивали. - В.К.) Царство духов, образовавшееся таким образом в наличном бытии, составляет последовательный ряд, в котором один дух сменяется другим и каждый перенимал царство мира от предыдущего. Цель последовательного ряда - откровение глубины, а последнее есть абсолютное понятие; это откровение есть, следовательно, снятие глубины понятия или его протяжение, негативность этого внутри себя сущего “я” (которая заключается в моменте его непосредственного единства, - В.К.), которая есть его отрешение или субстанция, - и его время, что это отрешение в самом себе есть отрешения от себя и есть для самости как в своем протяжении, так и в своей глубине (замечание о времени здесь нельзя признать вполне ясным, - В.К.). Цель, абсолютное знание, или дух, знающий
себя в качестве духа, должен пройти путь воспоминания о духах, как они существуют в нем самом и как они осуществляют организацию своего царства. (Эту организацию царства духов мы и вскрываем посредством анализа структуры “Феноменологии духа”. - В.К.) Сохранение их (в памяти), если рассматривать их со стороны их свободного наличного бытия, являющегося в форме случайности, есть история, со стороны же их организации, постигнутой в понятии, - наука о являющемся знании; обе стороны вместе - история, постигнутая в понятии, - и составляют воспоминание абсолютного духа и его Голгофу, действительность, истину и достоверность его престола, без которого он был бы безжизненным и одиноким; лишь -
Из чаши этого царства духов Пенится для него его бесконечность.” (2,4,433-434) Последние слова “Феноменологии” - нечто большее, чем
просто поэтическая метафора, ведь “бесконечность” - структура предметности, тождественная самому познавшему себя духу. Важно видеть в “бесконечности” именно связующее звено между “Феноменологией” и “Логикой”. Для “Феноменологии” “бесконечность” - цель движения в каждом ее “круге” и тем самым принцип анализа ее структуры. Для “Логики” “бесконечность” - исходная структура ее предметности, углубляющееся в себя движение которой она и описывает.
е). Замечания об отношении Феноменологии к другим элементам системы. Из полного выявления взаимосвязи “Феноменологии” и “Логики” следует и “необычное” понимание предмета Логики: ее предмет есть дух. Не некое “домировое бытие” - вот пустая и запутывающая читателя метафора ! - из которого, якобы, через опосредование природой только и вырастает дух, а именно сам дух, дух как он есть в себе и - изначально (по самой своей структуре) - для себя. Выше мы, по-существу, уже представили доказательство истинности этого тезиса, сформулируем его теперь определеннее.
Хотя все феноменологические “круги” являются логически тождественными, так что структурно-логически уже результат “первого большого круга” есть (как мы и установили в первой главе исследования) не что иное, как структура спекулятивной предметности, однако, все “круги”, пройденные в “Феноменологии” до выступления духа, есть лишь феноменологически выделенные абстракции духа, ракурсы его рассмотрения “нашим сознанием” и “самим сознанием” в различном их соотношении. Единственным “существованием”, тождественным “бесконечности”, является сам дух. - Дух есть как бы свет, являющийся своим собственным источником, если пытаться понять в нем соотношение определенности и “существования”. Только он в прямом смысле и есть адекватным себе образом, понятийно, помысленный предмет Логики. Если мы рассматриваем его только в логическом контексте, только как определенность, то он - логическая идея, непосредственно - “бытие”. Если мы говорим о феноменологическом формообразовании, которое конституирует тождественную своей структуре спекулятивную предметность, то это - “абсолютное знание”, “существование” которого растворяется в движении бесконечной определенности, не нуждаясь вследствие этого в “носителе”, с помощью которого оно приобщалось бы к бытию.
Собственно дух - бесконечную определенность, тождественную вследствие бесконечности своего опосредования инаковости простоте “существования” (дух подобен в этом смысле, повторим, Уму Аристотеля), - следует отличать от “носителей” духа, субстратов его определенности,
для которых (так же как и для аристотелевской принимающей форму материи) “существование” оказывается доступным лишь в “суждении”, т.е. через связывание с определенностью духа (“чтойностью”) как предикатом. На этом, реально-философском, уровне различаются - по характеру связи субстрата и определенности духа как, соответственно, субъекта и предиката суждения - субъективный, объективный и абсолютный дух. Дух же как таковой не нуждается в этих внешних для него различениях и есть одна - реконструируемая Феноменологией и адекватно, а согласно замыслу, и исчерпывающе, постигаемая Логикой - завершенно-бесконечная определенность, тождественная простоте “бытия” и задающая все поле возможных существований для всех других - внешне, формально, в движении суждения связанных с определенностью духа - субъектов.
На протяжении всего нашего исследования мы пытались прежде всего выяснить, как соотносятся “Феноменология” и “Логика”, и некоторые замечания об этом мы еще сделаем. Хотя “Философия духа” и не составляет непосредственного предмета нашего интереса, мы предприняли попытку определить соотношение Логики и реальной философии с помощью анализа структуры “первого круга” “Феноменологии”, пытались взглянуть на соотношение Логики и реальной философии через призму Феноменологии. При этом “Философия духа” не выделялась из целого реальной философии, речь у нас шла только о структуре предметности реальной философии. Теперь, однако, следует обратить внимание и на содержательную близость “Феноменологии” и “Философии духа” и вкратце охарактеризовать соотношение этих элементов системы философии Гегеля. Напомним прежде всего, что в традиционном понимании гегелевской системы именно “Философия духа” рассматривается как ее вершина, как завершение всей системы философии, и мы вправе были бы ожидать поэтому, что именно в ней мы сможем увидеть “истину” гегелевской философии.
К сожалению, уже первое знакомство с этим произведением лишает читателя надежды повстречаться с открытиями. Как ясно, это обстоятельство, досадное само по себе, легко объясняется полуфилософским характером той
предметности, которая находит в “Философии духа” свое выражение. Кроме того, следует учитывать, что “Философия духа” (как часть “Энциклопедии”) была написана как учебное пособие для студентов. (В четвертое, первое посмертное, издание учебника ученики включили и сформированные из сохранившихся лекционных материалов “Прибавления”.) “Философия духа” не задумывалась в качестве научного трактата, который содержал бы в себе оригинальные построения автора, естественно, это обстоятельство не могло не наложить отпечатка на работу. Рассудочная систематизация материала в “Философии духа” подавляет и вытесняет творческий поиск, так что стремление достичь предельной ясности в конце концов приводит к противоположному результату: изложение становится настолько формальным, что временами кажется, будто оно теряет всякую связь со своим предметом. Знакомство с фрагментами, рассматривающими формально те же предметы, что и “Феноменология”, не оставляет сомнений в том, что хотя бы сколько-нибудь искреннее отношение к философии Гегеля несовместимо с признанием “Философии духа” вершиной гегелевской философии.
Чем, например, абсолютный дух на ступени “Философия” достойнее - выше по своему статусу и сложней по структуре, - чем “абсолютное знание” ? Разве сознание на этой ступени как-то иначе организовано ? Разве это “другое” сознание ? Наконец, разве “Логика конца” (т.е. абсолютный дух “Философии”) будет другой - не более совершенной, но хотя бы просто другой, - чем “Логика начала”, конструируемая сознанием, вставшим на точку зрения “абсолютного знания” ?
Конечно, феноменологически реконструированный дух на ступени “абсолютного знания” и абсолютный дух “Философии” - это один и тот же предмет, он имеет одинаковую структуру, и это можно было бы очень легко показать с помощью конкретного анализа соответствующих текстов. Другое дело, что философ разными путями ведет сознание к постижению этих объектов. В первом случае имеет место естественный для сознания и содержательно органичный феноменологический опыт, в другом случае дух оказывается полуфилософским аналогом методически развитого результата
феноменологического опыта, т.е. логической идеи, предмета Логики. Все, что против этого можно было бы возразить, - это привести заверения Гегеля из 574 параграфа “Энциклопедии”. Но можно ли увидеть в них какой-то другой смысл, помимо дидактического ?
Вернемся, однако, к рассмотрению интересующего нас здесь прежде всего вопроса о соотношении “Феноменологии” и “Логики”. “Зрелый” Гегель, кажется, склонен был считать, что “Феноменология” и “Логика” также подчиняются правилу “спекулятивного обращения” - той с разных сторон описанной у Гегеля процедуры, по свершении которой результат представляется не только целью, но и началом, источником всего движения и субъектом действия. Понятно, как велик был для спекулятивного философа соблазн замкнуть всю систему в этой единой спекулятивной структуре. Историческая неудача этой попытки, однако, показывает, насколько внимательным должен быть философ к тому чуждому непомерных притязаний смыслу “философии”, который, согласно легенде, зафиксировал этим словом Пифагор. Философия - это, конечно, стремление обладать истиной актуально, но философ не должен забывать и о своем пути к ней. Изложение истины не может начинаться с того, что она провозглашается как исходный пункт, основа самой себя.
В этой связи полезно вспомнить об идущем от Аристотеля различении “первого для нас” и “первого самого по себе”. Движение от первого для нас, непосредственного сознания, к первому самому по себе, духу, - основание системы, в качестве которого у Гегеля выступает Феноменология; а достигнутое в результате этого движения первое само по себе - обоснование системы, которым оказывается Логика, представляющая абсолютную идею как завершенное самопознание духа. Основание и обоснование системы не могут совпадать, обоснование не может выполнять еще и роль основания, последнее снимается в первом только содержательно, но вовсе не в качестве ступени реального движения системы.
Феноменология как действительное основание системы не только не может быть устранена из нее с открытием ее “трансцендентально-онтологического” обоснования, но и должна сохранять свою независимость во всем вытекающем из
нее систематическом построении. Включение отдельных сюжетов “Феноменологии” в элементы системы философии, которая сама на “Феноменологию” опирается, неизбежно должно было привести к деградации системы.
Устранение Гегелем Феноменологии из системы через отождествление ее с энциклопедической системой - решающий шаг “прижизненной” деградации философской системы Гегеля. Его следствием оказывается амбивалентность отношений Логики к своим “соседям” по системе. С одной стороны, Логика зависит от Феноменологии, которая готовит для нее предметность (отсюда феноменологический “след” в Малой логике в виде фрагмента о трех отношениях мысли к объективности), но, с другой стороны, Логика абсолютностью формы постижения предмета (духа) неизбежно воспроизводит иллюзию самообоснования и тем самым отталкивается от Феноменологии. Далее, с одной стороны, Логика требует лапидарного комментария в виде реальной философии, а, с другой стороны, переход к реальной философии означает и необходимость конституирования другого типа предметности, что за пределами Феноменологии произойти уже не может, следствием чего, в свою очередь, оказывается бессмысленная драма “перехода”. (В “Феноменологии духа” же, напомним, этот вид предметности был не только построен, но и снят, так что реальная философия, как и Логика, мыслима и обоснованна, но только в том случае, если в системе им предшествует Феноменология.) И вот это неуклюжее и сбивчивое поведение Гегеля при переходе от “Логики” к реальной философии и явилось очевидным следствием противоречивости системы.
На деле же это частное противоречие вырастало у Гегеля из неотрефлектированности отношения Логики к Феноменологии. Кант в контексте критики традиционной метафизики предупреждал: “Я никогда не могу завершить нисхождения к условиям существующего, не допуская необходимой сущности, но я никогда не могу начать с необходимой сущности” (23,371). Гегель, начиная энциклопедическую систему непосредственно с Логики, нарушает этот запрет проницательного Канта. В истории немецкой философии в целом это событие означало еще и
отстранение от кантовских принципов критицизма и трансцендентализма. И Фихте, и Шеллинг, идя параллельно с “поздним” Гегелем по пути реставрации метафизики, подтвердили, что принципиальный разрыв Гегеля с кантовскими принципами реформирования философии не был лишь субъективной ошибкой Гегеля. К счастью, этому грустному эпилогу немецкой классической философии предшествует ее самая яркая, богатая по содержанию и экспрессивная по форме страница - “Феноменология духа”.
ж). Мысль, слово, бытие. Истолкование Гегелем
непосредственности абсолютного знания и абсолютной идеи как свидетельства достижения философией самого бытия указывает, по-видимому, на общее для Шеллинга и Гегеля понимание соотношения философии и бытия. Именно, так как, по Гегелю, непосредственностью или бытием рефлексия обладает лишь как снятая отрицательность, а завершающееся непосредственностью движение “Феноменологии” и “Логики” “переливается” в бытие (или природу), то философия - хотя бы подсознательно - мыслится лишь как “отрицательная” философия, как философия, которая, снимая с бытия определенность, лишь подводит к бытию, но сама по себе (т.е. до “перехода”, “отрешения” и т.п.) не достигает еще бытия как такового.148 Бытие - последняя цель философии, но для достижения этой цели философия должна сделать еще один шаг - “отрешение” и т.п., однако, этот последний шаг, поскольку он должен быть шагом через непосредственность, рефлексия совершить как раз и не может, и бытие, “превышающее” определенность на один, пусть и не “реальный” предикат, остается для философии недоступным. Возможно, это общее для Шеллинга и Гегеля понимание природы философии в существенной степени способствовало забвению Гегелем “Феноменологии”, возникновению темы “перехода” и формированию энциклопедической системы.
Насколько органичным, однако, является такое понимание философии для самого Гегеля ? Нуждался ли в нем “феноменологический” Гегель ? Или оно - параллельно с
Шеллингом - определенно формулируется Гегелем лишь в “энциклопедическую” эпоху ? Не выявит ли детальный анализ этой проблемы, что “переход”, “энциклопедическая система” и т.д. - лишь гигантский след тех влияний культуры своего времени, которые Гегель должен был пережить вместе со всеми своими современниками, некий вызванный сопротивлением культурной атмосферы “хвост”, заставивший заметить “комету” “Гегель”, но и - скрывший ее действительный облик ?
Но это отождествление “непосредственности” и “бытия” у Гегеля представляет собой, по-видимому, не только следствие принятого под давлением времени “кантовского” смысла “бытия”; основанием, которое сделало это отождествление для него возможным, несомненно, является - как это ни покажется странным - сама трансцендентальная точка зрения гегелевской философии, для которой бытие предстает лишь в качестве “заторможенной рефлексии” абсолютного субъекта. “Переход” оказывается необходимым продолжением трансцендентальной философии, последним рубежом, к которому трансцендентализм не может не подойти, но который он все же не может легально преодолеть. Сознательно ограничиваясь рассмотрением лишь определенности бытия, трансцендентализм - пусть и неосознанно, но тем более неизбежно - должен соотносить добытое рефлексией знание о структурах бытия с самим бытием - бытием, лежащим в основе этих структур, а потому и недоступным для него.
Правда, подобные размышления, основывающиеся на интуиции, что к бытию нужно будет возвращаться, с чего бы размышление ни начинали, имеет над Гегелем “феноменологической” эпохи меньшую власть, чем над каким бы то ни было другим философом-трансценденталистом, поскольку именно “Феноменология”, завершая традицию трансцендентализма, формулирует его установку на познание лишь бытия-определенности в самом чистом виде. Гегель меньше всех других философов нуждался в возвращении к непосредственности, и все же Гегель к ней возвращается. Мог ли Гегель избежать этого замешательства, смятения и стыда от столкновения лицом к лицу с “позитивностью”, от которой он - “философ по преимуществу” - казалось, уже освободился ? - Думаю, да. Но для этого нужно было смириться с тем, что
философия не всесильна, что она постигает не само бытие, а лишь его мыслимую поверхность, смириться с тем, что она является лишь частью культуры, для которой как для действительного целого лишь и выступает само бытие (безотносительно к тому, насколько это целое рационализировано мыслью), смириться, наконец, с тем, что новоевропейская философия, исходившая из точки зрения мыслящего субъекта как абсолютной точки зрения на бытие, с которой это последнее может быть объято и исчерпывающе познано, завершена и не может продолжать свое существование в форме особого, исторического, феномена культуры. Гегель решается сохранить рациональную философию как эквивалент всей культуры, но в уплату за это современная ему культура заставляет его дать согласие на немыслимый “переход” и признание самостоятельных “позитивностей”.
Задержимся еще на возможности чистой, но, как следствие, ограничивающейся лишь определенностью бытия, философии, идеальным воплощением которой представляется нам гегелевская “Феноменология”. “Предмет” в ней полагается не как “существование”, а как “образ”, наполнение которого абсолютной определенностью автоматически означает и его снятие, как “зеркало”, которое само и без остатка растворяется в “я”, если отражает его деятельность абсолютно полно. - Вспомним дворец китайского императора у Борхеса, исчезнувший после того, как прозвучало стихотворение, которое вобрало его в себя “вплоть до последней мелочи”: “В мире не может быть двух одинаковых созданий и как только ... поэт окончил читать, дворец исчез, словно стертый и испепеленный последним звуком” (10,2,184); или вспомним игру трех отражающихся друг в друге снов лермонтовского “Сна”, которая создает общее поле понимания субъектов безотносительно к их бытийному статусу.
С точки зрения “реальности”, вся философия, аппелирующая только к мысли и трансцендентализм как ее завершение - лишь иллюзионизм. С точки зрения не принимающей компромиссов философии, эта “реальность” немыслима, или бессмысленна. С ней можно мириться, как “поздний” Гегель, в нее можно самоотверженно бросаться, как
Ницше, но ее нельзя мыслить, о чем еще раз напомнила судьба феноменологической концепции Гуссерля уже в нашем веке. - Избежать этих в равной мере неприемлемых альтернатив можно было бы лишь в том случае, если бы удалось выяснить, как в культуре представляется бытие, не исчерпывающееся определенностью, - но последнее, как ясно, представляет собой задачу жизни, а не “науки”.
За всеми поисками, сомнениями и колебаниями Гегеля открывается последняя иллюзия новоевропейской философии, которую и мы должны пережить, если хотим действительно понять Гегеля, а не уложить его в рубрики “гегелеведения”. Будучи самым последовательным трансценденталистом и, значит, ставя себя в положение, в котором необходимо выбирать между позицией отказывающейся от своих претензий на постижение самого бытия философии и позицией, пытающейся примирить философию с “позитивностью”, Гегель спасается от признания открывшегося Шеллингу “негативного” характера всякой рациональной философии верой в то, что достигаемая спекулятивной мыслью непосредственность и есть само бытие как простое “существование”.
Сегодня, изведав на протяжении почти двух столетий все тупики этой иллюзии классической философии, мы открываем, что достигаемая мыслью непосредственность - это не простота универсального субстрата, “существования”, а изначальная простота слова, языка, речи, которые - в качестве “позитивностей” - могут, конечно, разлагаться мыслью, но которые в качестве изначального условия жизни культуры представляют собой единство бытия и смысла, выражения и мысли, “существования” и определенности. “За” Словом - сверхмыслимое (но не оскорбляющее этим мысль и не провоцирующее ее тем самым на безрассудную гордыню !) Бытие, “внутри” Слова - анализируемые мыслью “позитивности”, тогда как Само Слово - последний доступный мысли лик Бытия.
Постигнутая глубина мысли оказывается простотой сказываемого и непосредственно воспринимаемого слова - того “пустого” для “существования” места обитания смысла, которое “стягивает” все “существования” и хотя бы формально сохраняет еще единство мира. С чем современная культура
отождествляет эту “точку” ? С человеком - как последние полтора века - или с еще неведомым ... чем ? Может быть, для того, чтобы оказаться способным услышать это, нужно было бы научиться прислушиваться и к “интонации” - интонация сегодня также является “формой мысли”, наряду с логическими формами суждения или умозаключения.
Всем известно, каким притягательным предметом оказался для мыслителей 20 века язык, хотя, может быть, действительные потребности культуры меньше всего толкали мысль к тому, чтобы делать его “предметом”, и значительно хуже исследователи понимают, что именно Гегель ближе всех подошел к разоблачению претензии философии на обладание бытием, - потому что искреннее всех в нее верил, - и, следовательно, подошел и к открытию того, что только со “словом”, “языком”, “выражением” отныне и будет связана судьба мысли.
Мог ли и сам Гегель актуально осознать это ? - (Ведь в конце концов и “мы знаем, собственно, лишь то, что само себя знает”, в связи с чем познание и оказывается одновременно и возвышением предмета - всякого предмета, и “Гегеля” в том числе, - и его безжалостным уничтожением !) - Мог ли и он увидеть эту потребность до-бытийной мысли раствориться в единственно сущем - но и: предельно мыслимом - предмете, слове ? Приводимые у нас в качестве эпиграфов фрагменты Новалиса (не намекающие, однако, на какие-либо “специальные” отношения Гегеля с романтизмом), думается, могут рассматриваться как свидетельства готовности языка гегелевской эпохи свести в простоту случайно оброненного слова двухтысячелетнюю философскую рефлексию и вместить в него последнюю мысль философии - мысль Гегеля. “Язык” уже был готов - оставалось только сказать.
*** “Феноменология духа” в значительной мере является
гениальным экспромтом философа. Гегелю не удалось (с помощью известных жизненных обстоятельств) методически продумать “Феноменологию”. По-существу, он и сам в неявной форме признает это, не торопясь перерабатывать текст для второго издания. Гегель в течение многих лет с удручающей подробностью выписывал следствия “Феноменологии” -_“Логику” и реальную философию, которые, оставленные в “Энциклопедии” без Феноменологии, и были вынуждены “объединиться” пресловутым “переходом”.
Сегодня читатель “Феноменологии духа” должен признать, что значительная часть текста труднопонятна именно из-за его “экспромтности”, так что мы должны расстаться с надеждой вполне ясного и совершенно достоверного понимания “Феноменологии”, как прощаются с надеждой на расшифровать памятник забытого языка, когда угаданный, кажется, смысл знаков полностью опровергается новым - и неожиданным - их сочетанием.
Впрочем, предложенная в нашем исследовании интерпретация “Феноменологии духа” и вытекающая из нее интерпретация системы философии Гегеля не содержит принципиальных логических трудностей, они хорошо согласуются с непосредственным содержанием гегелевских текстов и, прежде всего, тех из них, которые были задуманы и выполнены как философские трактаты, содержащие оригинальные построения, - “Феноменологией духа” и “Наукой логики”. Но даже если бы в дополнение к этому с помощью предложенной интерпретации удалось бы преодолеть и те трудности понимания “Феноменологии”, о которых говорилось выше, то все же даже и тогда ее следовало бы считать не достоверной, а всего лишь вероятной или даже лишь одной из множества вероятных, поскольку такая бесконечная книга, как “Феноменология духа”, по-видимому, вообще не может раствориться ни в какой - сколь угодно сложной - интерпретации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ а). Этапы становления исследования и его результаты.
Исследование, реконструирующее систему философии Гегеля, возникло из нескольких частных исследований по гегелевской философии, которые оказались внутренне связанными между собой, так что в конце концов сформировалось целостное воззрение на философскую систему Гегеля, совершенно по-новому ставящее и решающее основные проблемы интерпретации философии Гегеля. Видимо, лучшему пониманию результатов исследования будут способствовать краткие пояснения относительно его происхождения. При этом будут перечислены основные положения, развитие которых и привело к становлению целостного взгляда на философию Гегеля, а также намечены связывающие их отношения.
Первой проблемой, решение которой инициировало поиски в области исследования структуры системы философии Гегеля, была проблема соотношения логической идеи и мира в философии Гегеля. В ходе решения этой проблемы было установлено, что идея единой системы философии Гегеля может быть сохранена только в том случае, если мы, во-первых, откажемся от отождествления “системы Гегеля” с системой “Энциклопедии философских наук”, а, во-вторых, предпримем рассмотрение соотношения Логики и реальной философии в энциклопедической системе через призму “Феноменологии духа”, для чего, в свою очередь, необходимо отказаться, конечно, от представления о “Феноменологии духа” как о раннем произведении Гегеля, в “снятом” виде входящем, якобы, в “зрелую” систему в качестве фрагмента “Философии духа” и потому самостоятельного систематического значения не имеющем. Если не принять этих выводов, то нас, как и самого “зрелого” Гегеля, будет ожидать появление очевидно демонстрирующей несостоятельность всего построения псевдопроблемы “перехода” логической идеи в природу.
Но, как выяснилось, принять эти выводы означает также принять и необходимость восстановления применительно к Гегелю заложенного Кантом и Фихте трансцендентального истолкования бытия, конкретно говоря, - необходимость понимания предмета Логики (логической идеи) и предмета
реальной философии как трансцендентальных предметов, как бытия для сознания или бытия-определенности. Предмет Логики и предмет реальной философии, если в качестве основания Логики и реальной философии принять Феноменологию, - это не “объективная”, независимая от сознания реальность, не примеры простого, неразложимого сознанием “существования”, которые в качестве предметов рассмотрения просто преднаходились бы читателем “Энциклопедии”,149 а реальность, полагаемая, конституируемая сознанием по определенным формальным схемам, трансцендентальная реальность в образе феноменологических структур (формообразований), все содержание которых сводится к установлению определенного способа отношения сознания (“я”) к своему предмету. Феноменология раскрывает эвентуально присутствующую во всяком непосредственном сознании полную (законченную) последовательность таких структур.
Далее, в ходе конкретного исследования “Феноменологии духа” было выяснено, что границей, отделяющей формообразования, конституирующие предмет Логики, от формообразований, конституирующих предмет реальной философии, является достижение сознанием такой структуры опосредования “я” и предмета (феноменологических “бытия” и “иного”), которую Гегель называет “бесконечностью”.
Достижение в ходе феноменологического движения “бесконечности” означает полагание спекулятивной предметности, логической идеи, “бесконечность” есть внутренняя форма или структура этой предметности. Таким образом, рассмотрение соотношения логической идеи и мира с точки зрения представленной в “Феноменологии духа” предметополагающей деятельности сознания разделило предметы Логики и реальной философии как находящиеся на разных уровнях феноменологического движения опосредования “я” и предмета, расположило их на разных “онтологических” уровнях, вследствие чего переход к реальной философии не предстает уже как “переход” логической идеи в природу, что всегда создавало непреодолимые трудности для реконструкции гегелевской философии.
Предмет реальной философии, как и предмет чувственной
достоверности и восприятия, предстает с этой точки зрения как совокупность вне-”научных”, т.е. вне-понятийных, образов логической идеи, которые, будучи всего лишь “частью” формообразований сознания, не обладают внутренним единством и достраиваются до целого в спекулятивном понятии, предстающем в Логике как логическая идея, “бытие”, а в Феноменологии - как завершенное трансцендентальное самосознание, дух, нашедший адекватную форму самопостижения - “абсолютное знание”. Связь логической идеи и мира поэтому - не “генетическая”, т.к. сами они - не “существования”, а трансцендентальные предметы, формы бытия-определенности, а лишь “структурная”: в основе образов предметности, составляющих “мир”, лежат определения, которые, ,будучи развиты в своей чистой форме, сливаются в единство спекулятивного понятия.
Исследование проблемы соотношения логической идеи и мира первоначально велось лишь на основании результатов анализа фрагмента “Феноменологии духа” - глав I-III, составляющих, согласно нашему исходному предположению, “первый круг” “Феноменологии духа”. Мы исходили из того, что с точки зрения структуры конституируемой предметности результат “первого круга” и результат “Феноменологии” в целом тождественны. Но так ли это на самом деле ? И какое место в “Феноменологии духа” как целом занимают первый три главы, анализ которых дал нам возможность провести точное различие между Логикой и реальной философией ? Ответы на эти вопросы могло дать только исследование структуры “Феноменологии духа”, ставшее, таким образом, вторым частным исследованием, из которого возникла настоящая работа.
Значимыми для построения работы были поиски последовательности изложения материала. Казалось бы, более естественно исследование выглядело бы в том случае, если бы сначала был дан полный анализ “Феноменологии”, и только после этого мы перешли бы к рассмотрению “Логики”. Однако попытки дать такое - соответствующее “содержательной хронологии” - изложение материала оказывались неудачными. Дело в том, что несмотря на значимость понимания “Феноменологии” как целого для интерпретации системы
философии Гегеля, проблема анализа структуры “Феноменологии духа” является все же проблемой специальной в том смысле, что в процессе анализа “Феноменологии духа” невозможно постоянно сохранять внимание к системе в целом, эта главная тема исследования, конечно, постоянно присутствует в изложении, но уходит все же на задний план. Поэтому было решено, что после рассмотрения проблемы соотношения логической идеи и мира и анализа первых глав “Феноменологии”, в которых осуществляется первое в ходе феноменологического движения становление структуры спекулятивной предметности, следует рассмотреть имманентное движение самой спекулятивной предметности, т.е. обратиться к анализу “Логики”, что составило еще один, уже третий, относительно самостоятельный этап изучения системы философии Гегеля.
В ходе анализа “Науки логики” мы попытались эксплицировать конкретное содержание понятия бесконечности, перейти от анализа “бесконечности” как предмета “Логики” к анализу “бесконечности” как основы эволюции метода “Логики”. И только после рассмотрения “бесконечности” в качестве структуры спекулятивной предметности в ходе ее органического самодвижения мы возвращаемся к анализу “Феноменологии духа”. Конечно, такой способ организации материала не очень удобен с точки зрения рассмотрения “Феноменологии духа” как целостного построения, однако в контексте рассмотрения структуры системы философии Гегеля именно он является оптимальным. В самом деле, сначала мы выясняем, как влияет логическое строение одного “круга” “Феноменологии” на понимание структуры системы философии, и только после этого приступаем к анализу “Феноменологии духа” как целого, в котором должно выявиться, как “круги” связаны между собой.
Исследование устанавливает, что структура “Феномено-логии духа” обусловлена структурой предмета “Феномено-логии”. Повторим, что предмет феноменологического движения включает в себя три уровня: “наше сознание”, “само сознание”, “предмет”. В соответствии с этим и “Феноменология” составляется из трех основных частей или “кругов”. Финал каждого “круга” - “бесконечность”, единая
структура самосознания и логической идеи. Сознание несет в себе структуру “бесконечности”, и это выявляется для него, когда оно в процессе полагания предметности выносит “бесконечность” вовне и созерцает как свой предмет.
Главный смысл этого исследования структуры “Феноменологии духа” в контексте изучения структуры системы философии Гегеля заключается в том, что различие “кругов” между собой оказывается не спекулятивно-содержательным, не структурным, а чисто феноменологическим, т.е. обусловленным положением строящего “бесконечность” сознания в структуре феноменологической предметности. Далее, исследование показывает, что в первом и втором “кругах” помимо “полных” “кругов”, в которых рассматривается движение феноменологического предмета как целого (я назвал их Большими кругами), выделяются еще и “круги”, в которых рассматривается только соотношение “нашего сознания” и “самого сознания” (я назвал их Малыми кругами). В “третьем круге” указанное различие отсутствует, хотя некоторые признаки, характерные для Малого круга, в главах VII и VIII также просматриваются.
№ “круга” Большой круг Малый круг 1 гл. I, II, III гл. IV 1 гл.V.A гл.V.B,C 111 гл. VI гл. VII, VIII Может быть, если бы предметом нашего исследования
была именно “Феноменология духа”, правильнее было бы говорить не о структурном (логическом) тождестве феноменологических “кругов”, а лишь о их морфологическом сходстве, поскольку реально можно выделить, конечно, лишь некую весьма схематичную изоморфность “кругов”, тогда как конкретные отношения между “действующими лицами” Феноменологии - “нашим сознанием”, “самим сознанием” и “предметом” - оказываются в них, несомненно, весьма различными. Но в данном исследовании я счел возможным выражаться о единстве “кругов” более определенно, потому
что самое главное для нас заключается здесь в том, что “формальным” результатом во всех “кругах” оказывается “бесконечность”. Ступени феноменологического движения к “бесконечности” оказываются формами, структурами полагаемых типов предметности и устанавливают границы постигающих их наук (например, реальной философии и Логики). С другой стороны, конечно, точка зрения “бесконечности” является и той точкой зрения, с которой можно рассматривать “Феноменологию” как единое целое. Не только отношения частей “Энциклопедии” нельзя понять без учета опыта “Феноменологии духа”, но и сама “Феноменология” обречена на непонимание, если ее не рассматривать в перспективе реализующей понятие “бесконечности” “Логики”. Поэтому и с точки зрения рассмотрения “Феноменологии” является оправданным внимание к анализу эволюции “бесконечности”, и уместным оказывается именно срединное положение этого фрагмента в структуре нашего исследования: “бесконечность”, эволюцию которой рассматривает “Логика”, оказывается связующим звеном между структурой “Феноменологии” и структурой системы философии Гегеля.
Совершив краткий обзор становления исследования, представим теперь его общие результаты:
1. “Феноменология духа” конституирует множество типов предметности - столько, сколько формообразований сознания она разворачивает, потому что “предметность” в трансцендентальной философии - определенность в качестве бытия - и есть лишь негативное сознания. Среди них находятся и образы предметности реальной философии и Логики, это - предметность двух завершающих этапов каждого из “кругов” “Феноменологии”.
2. Осуществляющеся в “бесконечности” завершение феноменологического “круга” проводит границу, разделяющую два формообразования. Одно из них конституирует предмет реальной философии, другое - предмет Логики (логическую идею). Логическая идея конституируется формообразованием, в котором отношения между “я” и предметом воплощают структуру “истинной бесконечности”. Предмет реальной философии и частных наук конституируется
формообразованиями, не достигающими конкретности “бесконечности”, формообразованиями, в которых остается неснимаемая граница, разделяющая “я” и “не-я” (“иное”, материя, вещество и т.п.).
3. Так как логическая идея и природа (дух) есть лишь типы предметности, т.е. лишь “части” целостных феноменологических образований, то никакого “перехода” логической идеи в природу, равно как и обратного “перехода” природы и духа в идею, согласно задаваемой “Феноменологией” логике “системы” быть не может.150 Логика и реальная философия описывают движения неодинаково структурированных предметных сфер, их предметы расположены как бы на различных “онтологических” уровнях.
4. Логическая идея и природа (дух) связаны не непосредственно - например, в движении “перехода”, - а в качестве элементов феноменологических формообразований, или реальным, мыслимым оказывается переход от формообразований сознания, конституирующих предмет реальной философии, к формообразованиям, конституирующим предмет Логики.
5. “Феноменология” делает возможной и энциклопедическую систему, но не в качестве самостоятельной системы философии, а в качестве ее части. Эту функцию “Феноменология” выполняет, поскольку она:
а). конституирует предмет реальной философии; б). конституирует предмет Логики;151 в). определяет структурное соотношение предметов
Логики и реальной философии как отношение “бесконечности” к совокупности ее незавершенных моментов.
6. Границы системы философии Гегеля определяются в результате следующим образом. Собственно система философии состоит из двух частей - Феноменологии и Логики. Однако поскольку в более широком культурном контексте философия не только пребывает “в себе”, но и может непосредственно выполнять научно- и культурно-систематические функции, система философии Гегеля может рассматриваться и как трехчастная структура, состоящая из Феноменологии, Логики и реальной философии. При этом,
конечно, следует помнить, что это не последовательность, поскольку Логика и реальная философия описывают различные уровни конституируемой Феноменологией предметности.
7. Сравнение так понимаемой системы философии Гегеля с традиционным ее понимаем, отождествляющем “систему философии” с “Энциклопедией”, показывает, что главное различие этих интерпретаций заключается в истолковании понятия предметности. Мы утверждаем, что в процессе реконструкции системы философии Гегеля следует твердо держаться трансцендентального способа рассмотрения, для которого в качестве предметности выступает лишь бытие-определенность, или определенность в качестве бытия. Думается, в “Феноменологии” имеется достаточно оснований для такого истолкования основного принципа философии Гегеля. Впрочем, еще более убедительным свидетельством его плодотворности в процессе реконструкции философии Гегеля является то обстоятельство, что оно позволяет представить философию Гегеля как действительно единую непротиворечивую систему философии.
б). Философия Гегеля: феномен непонимания. Как и всякий творческий человек, Гегель был одинок. Посмотрим его переписку, много ли упоминаний найдем мы в ней о содержании “Феноменологии” и “Логики”, т. е. о том, над чем действительно думал философ ? Непонимание со стороны современников и исследователей более позднего времени с учетом этого обстоятельства кажется психологически очень естественным. Скорее следует удивляться множеству верных и остроумных суждений о философии Гегеля, которые мы находим у его последователей или критиков, ведь высказаны они были как раз в атмосфере непонимания общего смысла философии Гегеля. Достаточно вспомнить хотя бы о шеллинговской критике “перехода” или об истолковании “конкретного понятия” как подлинного “секрета” философии Гегеля.
Но что по-настоящему шокирует, когда начинаешь обстоятельно разбираться в гегелевской философии, так это прогрессировавшее со временем непонимание ее со стороны самого ее автора. Ясно, что никакого “научного” объяснения этого чудовищного феномена авторского непонимания
предложить невозможно. Может быть, однако, помимо способствовавших этому изменений в культуре начала 19 века, о которых мы упомянем ниже, имеет смысл взглянуть и на обстоятельства, которые могут привести нас сегодня к какому-то “психологическому” принятию этого непонимания. Думается, мы должны обратить внимание прежде всего на судьбу “Феноменологии духа” - “истока и тайны” гегелевской философии, которую мы попытались понять и представить в нашем исследовани и как ключ к ней. Напомним о некоторых обстоятельствах написания и прочтения “Феноменологии”, которые могут оказаться значимыми в этом контексте.
1. “Феноменология духа” была написана сравнительно быстро, что, на наш взгляд, во-первых, свидетельствует о наличии оригинального замысла, служившего импульсом в работе,152 а, во-вторых, отчасти может объяснить возможные погрешности в его исполнении.
2. “Феноменология духа” не была известна большинству учеников Гегеля (кроме, может быть, Дауба, Габлера и Хинрихса). А если до 1831 года не вставал вопрос о ее переиздании, то как не сказать, что она просто пропала среди более поверхностных и весьма многочисленных философских произведений своего времени ?
3. Феноменология не читалась Гегелем в качестве лекционного курса (за исключением, видимо, зимнего семестра 1806 года), у Гегеля не было внешних поводов вспоминать о ней и имелось достаточно психологических оснований, которые побуждали его к тому, чтобы постараться о ней забыть. Эрзац “Феноменологии” в энциклопедической системе - фрагмент о трех отношениях мысли к объективности - заслонил ее в сознании самого философа, и он ... забыл “Феноменологию”. В этом фантастическом факте забвения следует искать и разгадку известного замечания из документа 1831 года: “Своеобразное раннее произведение ... и т. д.” (см.: 5,588).153 Только ли смерть помешала Гегелю подготовить второе издание ? Способен ли был Гегель в 1831 году вернуться к тем мыслям, которые периживал в 1805-1806 годах ?
4. Так как “система философии Гегеля” в течение полутора столетий отождествлялась с “энциклопедической
системой”, в которой для Феноменологии места не нашлось, то она рассматривалась как отдельное (!) произведение, вследствие чего у исследователей отсутствовал контекст для его прочтения в качестве именно “системосозидающего основания”.
5. Действительная же система философии Гегеля без Феноменологии реконструирована быть не может из-за неразрешимости в границах энциклопедической системы проблемы соотношения Логики и реальной философии. Чтобы подойти к решению этой проблемы, следует вспомнить, что и Логика, и реальная философия описывают движение образов предметности, конституированных в Феноменологии.
6. Образовавшийся круг - без “Феноменологии” невозможно реконструировать непротиворечивую “систему”, а вне “системы” отсутствует контекст для интерпретации “Феноменологии” - должен быть разорван, т.е. следует отказаться от представления о тождестве “системы” и “Энциклопедии” и объединить изучение структуры системы философии и изучение “Феноменологии” в единую исследовательскую задачу.
Забвение “Феноменологии” - важнейшая, но не единственная причина, обусловившая сведение системы философии Гегеля к энциклопедической системе. Как мы видели, Гегель не распознал в достигаемой “Феноменологией” и “Логикой” непосредственности постижения бытия-определенности уготованное грядущей культуре веками философской мысли “Слово” как непосредственное единство выражения и осмысленности. Гегель, создавший “Феноменологию” и “Логику” и тем самым исчерпавший возможности исходившей лишь из мыслящего субъекта философии Нового времени, должен был признать, что философия (в своем завершении - трансцендентальная философия) постигает только отлившуюся в Слово определенность бытия, но не само бытие, следовательно, она должна осознать себя лишь “частью”, одним из образов, культуры, в противном случае она рискует оказаться просто ненужной ей. Гегель, напротив, готов признать в достигаемой непосредственности само бытие, забывая, что бытие как “одно” всегда больше - пусть и бесконечной ! - совокупности “что”, но
так как реально-то мысль постигает лишь определенность, то Гегель и оказывается вынужденным требовать от нее “еще одного” - но уже немыслимого, т.е. не вытекающего из ее природы - шага, “перехода”.154
Как видим, трансцендентальное истолкование предметности, заложенное “Феноменологией духа”, дает нам возможность представить философию Гегеля как непротиворечивую систему, но сам “зрелый” Гегель, отстраняясь от “Феноменологии” и претендуя на всевластие мысли над бытием, не реализует эту возможность.
Господствующее в течение почти двух столетий авторско-читательское непонимание существа гегелевской философии, философской системы как целого или структуры системы философии Гегеля, в последние десятилетия оказалось закрепленным тем “научным” методом, который принят в современном “гегелеведении” (вот чудесная рубрика для непонимания !) - “эволюционно-историческим” (entwicklungsgeschichtliche) методом. Этот метод расчленяет гегелевскую философию на множество фрагментов - хронологических и тематических - и она просто перестает существовать как их изначальное и неповторимое единство.155
Впрочем, заклание гегелевской философии на алтаре “научности” никаких формальных возражений вызвать не может, поскольку частным “свидетельствам” не противоречит, а к целому философии Гегеля никакого отношения, пожалуй, уже не имеет. Но можно ли ограничиваться рассмотрением “свидетельств” и не пытаться познать мысль Гегеля как нечто целостное ? Не пора ли прекратить терзать дух Гегеля в этом псевдонаучном кабинете “гегелеведения” ? Не скрою, именно господство “эволюционно-исторического” метода в зарубежной, прежде всего немецкоязычной, литературе о Гегеле, а также и в значительной части отечественных публикаций последних лет, было одним из побудительных мотивов к написанию работы, в которой речь шла бы о целом гегелевской философии, следовательно - о ее существе.
в). Утрата и обретение “системы Гегеля”. Изучение структуры “Феноменологии духа”, если эта задача ставится исследователем не как самостоятельная цель, а в контексте изучения структуры системы философии Гегеля, неизбежно
возвращает нас к верно определенному еще в прошлом веке “секрету Гегеля” - конкретному понятию, структуре спекулятивной мысли, “бесконечности”.
“Система философии Гегеля” должна пониматься именно как раскрытие, методически разработанная экспликация этого “секрета”, изначальная интуиция которого, вырастающая из постижения органических единств, впервые возникла у Гегеля, видимо, во франкфуртский период. Непосредственное сознание методически возводится к созерцанию этого “секрета” как особого вида предметности в “Феноменологии”, а раскрывается он в “Логике”, которая дает возможность разложить бесконечно конкретный и в то же время абсолютно простой “эйдос” Понятия в замкнутую последовательность дискурсивно-рассудочно постигаемых “логосов”, благодаря чему и раскрывает перед всяким читателем смысл исходной интуиции философа. Поэтому систему философии Гегеля и составляют в прямом смысле только Феноменология и Логика, - только они оказываются необходимыми для постижения конкретного понятия, спекулятивного идеала.
“Фактическим” подтверждением этого тезиса может служить то обстоятельство, что только эти два произведения Гегель создал в форме теоретических трактатов, лишь они могут рассматриваться в качестве выражения его оригинальной философской позиции. Все остальное, что вышло из под пера философа, инициировалось какими-либо внешними творческому процессу потребностями.156
Следует твердо установить, что забвение “системы философии Гегеля” начинается с самого Гегеля. Выступление якобы самодостаточной энциклопедической системы знаменует начало этого “процесса забвения”, а признание “Феноменологии духа” “своеобразным ранним произведением” - его завершение. В гегелевской школе эрзац действительной системы философии Гегеля с легкостью формировался не только из учебников, написанных Гегелем, но и из слушательских записей его лекций. В этом море слов, к которым был причастен философ, разглядеть “систему” помимо той, на которую непосредственно указывал своей “Энциклопедией” Гегель, было уже невозможно, хотя некоторые из учеников и были знакомы с “Феноменологией”.
История гегелизма и гегелеведения, интересная в своих приложениях - религиозно-политической, экзистенциально-антропологической или даже методологической сферах, - очень однообразна и скучна, если попытаться вычленить именно теоретическую сердцевину “системы”. Отождествление “системы философии” и “энциклопедической системы” является для гегелеведения просто нормативным. Пожалуй, только одно обстоятельство мешало исследователям окончательно успокоиться: невозможно было не видеть принципиального разрыва между Логикой и реальной философией. А ведь это именно тот пункт, в котором Гегель пытался стыковать элементы принципиально различных концепций системы - Логику, вырастающую из Феноменологии, и ее теоретически сниженный эквивалент в виде Философии природы и Философии духа, которые на самом деле ближе к позднейшему, например, позитивистскому, пониманию места и роли философии в культуре. Любопытно, что большинство читателей Гегеля - как религиозно ориентированных (Шеллинг или Ильин), так и атеистов (общий образец - Энгельс) - согласны видеть в “переходе” логической идеи в природу философскую, “рациональную”, метафору неизъяснимого акта божественного творения, хотя Гегель, как “трансцендентальный” философ, и не упоминает об этой модели.
Всецело негативный опыт гегелеведения в рассмотрении (или отказе от рассмотрения) этой проблемы - говорю это, не боясь выглядеть тривиальным нигилистом, история гегелеведения и в самом деле позволяет выражаться столь определенно - не дает возможности предположить, что все дело здесь заключается только в отсутствии проницательности или научной добросовестности у историков философии. Будь это так, результат не был бы столь всеобщим. “Чистота” этого “опыта забвения” мысли Гегеля, начавшаяся, к тому же, с него самого, заставляет признать строго объективные причины этого драматического разворачивания событий.
Главную причину, видимо, следует видеть в том, что в начале прошлого века в результате интенсивных изменений в европейской культуре был потерян единый предмет философского рассмотрения. Немецкая классическая
философия, а с ней и вся европейская классическая философия, прекратила свое существование.157 Событие это не только разделило культурные эпохи и поколения людей, оно начало изнутри организовывать по-новому и судьбы отдельных личностей. Известный пример “раннего” и “позднего” Шеллинга - лишь частный случай.
Установить содержательное отличие постклассической философии от классической, сказав, например, что “прежде” в качестве верховной инстанции в философии выступал разум, а “теперь” - какой-либо внерациональный принцип, видимо, невозможно; подтверждений всякого подобного тезиса всегда можно будет найти столько же, сколько и опровержений. Дело в том, что сама постклассическая философия не есть нечто единое. И вот это и есть единственный - хотя и чисто формальный - принцип различения классической и постклассической философии: классическая европейская философия, несмотря на все различия напрвлений, течений, школ, частных позиций была все же единым движением, она говорила в конечном счете об одном и том же, о некоем едином предмете, утрата которого (может быть, вследствие его постижения ?) разделило прежнее философское сообщество на непонимающие друг друга философские группы.158 В контексте колассической философии философы спорят и ссорятся друг с другом, в постклассическую эпоху различные философские сообщества могут не замечать друг друга.
Следует ли видеть в этом - надеюсь, принципиально удачном - опыте возвращения к мышлению системы философии Гегеля также некое свидетельство изменений в культуре ?159 Может быть, классическая философия наконец - почти через два века после своего завершения - перестала восприниматься нами как традиция, из которой исходит наш собственный опыт мышления, следовательно, ввиду близости родства, - и как актуальный оппонент, и мы наконец-то можем ориентироваться в ней как в чужой памяти - именно чужой, а не своей, всегда пристрастно сортируемой, - может быть, следовательно, достигаемая посредством этой свободы отдаления пластичность понимания классической философии делает возможным и новый стиль разговора о ней, в котором, чуждые тщеславия, но, в то же время, уверенные в
адекватности “конгениального” понимания и потому свободные от условностей научного аппарата, мы могли бы без кавычек повторить какую-нибудь известную строчку, например: сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек.
ПРИМЕЧАНИЯ ВВЕДЕНИЕ 1. В более узком смысле, выражающем предельную ее
заостренность, это так называемая проблема перехода логической идеи в природу.
2. Следует признать, что сегодня новые основания анализа философии Гегеля еще не выработаны ни в отечественной, ни в зарубежной историко-философской науке. В том образе системы философии Гегеля, который представлен в литературе последних десятилетий, продолжает воспроизводиться представление о тождестве “системы философии” и “энциклопедической системы”, вследствие чего, кстати говоря, и не вполне уместно было бы называть эту литературу “современной”.
Вытекающие из этого принципиально ошибочного отождествления недоразумения воспроизводятся и в труде Витторио Хесле “Система Гегеля”(57), являющемся как бы суммой гегелеведческих усилий последних десятилетий по изучению систематического строения гегелевской философии. Хотя Хесле и признает, что “внутренняя структура гегелевской системы - центральная для объективного идеализма взаимосвязь Логики и реальной философии - остается до сегодняшнего дня малоисследованной” (57,1,3-4), но, стремясь к прояснению этой проблемы, не решается все же отказаться от старых гегелеведческих мифов.
Именно, он воспроизводит представление о сугубо пропедевтической роли “Феноменологии” в “системе” (см.: 57,1,58-59), мнение, будто понятие науки возникает только в самой Логике (см.: 57,1,66) (критику ошибочного истолкования замечания Гегеля, которое дает непосредственный повод для возникновения этого недоразумения см. в параграфе 4 первой гл. нашего исследования), пытается обосновать положение о более конкретном характере категорий реальной философии по сравнению с категориями Логики (см.: 57,1,108), чисто рассудочно сопоставляет три части “Логики” с тремя частями “Энциклопедии”, а также и три части третьей части “Логики” с тремя частями “Энциклопедии” (см.: 57,1,111-112) и т.д., что свидетельствует о невнимании к предметной специфике реальной философии и Логики, - невнимании, впрочем, вполне “естественном” для всей “гегелеведческой” литературы.
Всем - начиная, может быть, с Шеллинга - прекрасно известный “разрыв” между Логикой и реальной философией бессильно принимается Хесле в качестве определяющей черты гегелевской системы (имеет ли смысл в таком случае все еще говорить о “системе” ?), обусловленной “пограничным” положением Гегеля в культуре 19 века: Логика Гегеля, утверждает Хесле, завершает традицию
европейской “философии субъективности”, тогда как реальная философия оказывается началом современной философии, обращенной преимущественно на “интерсубъективные процессы” (см.: 57,1,9) (наше истолкование “пограничности” Гегеля дается в конце третьей гл. и в заключении исследования). Логика, по мнению Хесле, является методологическим основанием лишь для Субъективного духа, но не может выполнить эту функцию по отношению к Объективному и Абсолютному духу (см.: 57,1,118-123). Интересно, что с точки зрения различения “субъективного” и “интерсубъективного” удел “Феноменологии” оказывается таким же печальным, как и удел “системы”, и лишь V глава, в которой “субъективное” достигает “объективности”, несколько сглаживает этот разрыв в “Феноменологии” (см.: 57,1,120).
Ясно, что акценты у Хесле смещены: значимо на деле различение “трансцендентального” и “объективистски-натуралистического” способов рассмотрения предметности, а вовсе не различение субъективного и интерсубъективного как форм бытия духа, которые, независимо от этого, могут восприниматься и как “определенность”, и как “существование”.
Более ранние работы о системе философии Гегеля (см., напр., работу Пунтеля (59), в которой Логика сопоставляется со второй и третьей частью Субъективного духа - Феноменологией и Психологией) с точки зрения нашего исследования достойны внимания еще в меньшей мере, чем работа Хесле, который, следует признать, все же стремится рассматривать философию Гегеля в контексте объединяющей нас истории культуры, т.е. в конечном счете стремится понять мысль Гегеля через то, что одно лишь нас по-настоящему и интересует, - через нашу современность, самих себя.
Правда, и этот труд не вызывает стремления подражать или даже просто продолжать изучение Гегеля в том же направлении. Знакомство даже с лучшими гегелеведческими работами убеждает в том, что изучение гегелевской мысли не есть более задача “гегелеведения”. Если это так, то не будем жалеть о нем, вспомним, что “лишь совершенно дурное содержит в себе непосредственную необходимость превратиться в противоположное” (2,4,183).
Для способа восприятия отечественного читателя метод “современного гегелеведения” и основные его установки были адаптированы в работе Н.В.Мотрошиловой (32); к рассмотрению некоторых положений этой работы мы обратимся в параграфе 4 первой гл. О сегодняшнем состоянии изучения нашей проблемы в отечественной литературе можно судить по публикациям М.Ф.Быковой (11,12) и А.В.Кричевского (12).
М.Ф.Быкова высказывает вполне определенное представление о системе философии Гегеля. Именно, она сохраняет нетронутой последовательность: Идея-Природа-Дух, но, видимо, понимая, что
реально Логика выражает неизмеримо большую степень спекулятивной конкретности, чем “Философия духа”, отдает, по-существу, предпочтение именно ей: “нередко оно (соотношение Логики и реальной философии, - В.К.) трактуется таким образом, что сфера природы и духа или, по крайней мере, философия духа мыслится как истина логики. Однако это искажает суть замысла самого Гегеля. Для Гегеля логика всегда являлась истиной природы и духа. Последние выступали лишь как своеобразные “явления”, или акциденции логики. И потому они были лишены абсолютной самостоятельности. Будучи “производными” от логики, они объявлялись лишь сферами реализации логики в ее всеобщей определенности.” (12,101) “Логика, “стихия чистой мысли” с самого начала (да нет же, лишь после “Феноменологии” ! - В.К.) предстает как идеал, как цель, к которой абсолютная идея не может не стремиться; однако это конец длительного пути, итог, результат, который дается и в качестве его начала.” (12,113)
Примечательно, что о конкретном содержании Философии природы в этой работе не говорится ничего, а о Философии духа - лишь то, что в Абсолютном духе Абсолютная идея достигает подлинного для-себя-бытия, совершенным образом познает себя. Это “невнимание” к действительному содержанию реальной философии обусловлено, конечно, тем, что по степени своей спекулятивной значимости оно не идет ни в какое сравнение с содержанием Логики. На мой взгляд, работа М.Ф.Быковой на деле показывает, что сохранение “триады”: Идея-Природа-Дух, даже если спекулятивное превосходство Логики вполне осознается, а пиитет по отношению к Философии духа только формально декларируется, все равно ведет к разрушительным последствиям: Логика необоснованно отрывается от Феноменологии (в параграфе 4 первой гл. мы будем разбирать это положение именно на примере работы М.Ф.Быковой), Логика остается “безосновной”, а, оказываясь в движении “перехода” в неестественных для себя отношениях к реально-философским наукам, - и просто становится недоступной для понимания. В конечном счете, следует не оправдывать всякий шаг философа, который ведь может оказаться и просто ошибочным (как оправдывает, например, М.Ф.Быкова гегелевские заявления о “переходе”, не упоминая даже о том, что многие более проницательные исследователи прошлого считали его проблематичным или даже просто невозможным), а пытаться понять, мыслим ли, возможен ли в контексте всей системы мысли философа тот или иной шаг, допустим ли он в тех условиях, которые задаются принципами самой философской системы.
Обратим внимание на примере этой работы еще на одно обстоятельство, характерное для всего “гегелеведения”: несмотря на столь ценимое “гегелеведами” пристрастие к “научности” рассмотрения, “текстологической обоснованности” и т.д., общее непонимание мысли философа, отсутствие абсолютно необходиомой в таких случаях
способности угадывать его стиль, заставляет искажать и детали. Например, так как в энциклопедической системе “синтез” должен быть все же достойнее “тезиса”, то автор оказывается вынужденным находить в “Логике” (в противоречии с собственной высокой ее оценкой) просто несуществующие недостатки: “Теперь (в “Философии духа”, - В.К.) то, что в начале (в логике) было высказано об абсолютной идее как “некоего рода заверение”, своеобразная гипотеза, догадка (?! - курсив мой. - Откуда это ? У Гегеля этого стоять не может ! - В.К.), становится научно доказанным и обоснованным. Тем самым философия обретает свою диалектическую целостность и системную завершенность и реально утверждается в качестве осуществленной логицистской (странный титул, - В.К.) философии.” (12,114)
Может быть, наиболее оригинальным явлением в отечественной литературе о Гегеле последних лет является спекулятивно-теологическая (согласно обозначению самого автора) интерпретация философии Гегеля А.В.Кричевского (см.: “Метафизический смысл учения Гегеля об абсолютном духе” - (12)). В центре внимания А.В.Кричевского находится проблема онтологического статуса абсолютного духа как особого рода реальности. В качестве основного инструмента анализа проблемы используется понятие бесконечности, поскольку “определение бесконечности в логическом плане идентично общему определению абсолютного духа” (12,153). (Последнее обстоятельство на самом деле указывает лишь на то, что Философия духа по-своему, полуфилософски, описывает ту же - спекулятивную - предметность, что и Логика, структурой этого высшего уровня предметности “бесконечность” как раз и является.)
Ключевой шаг, из которого вырастают системные построения Кричевского, - которые следует оценить если не как “истинные”, то уж во всяком случае как оригинальные - это тезис о том, что только абсолютный дух является адекватным выражением спекулятивной структуры бесконечности: “ ... истинно бесконечным не могут явиться ни абсолютная идея “Логики начала”, ни тем более “природа”, ни какие бы то ни было формы конечного духа. По гегелевскому замыслу это абсолютное “в-себе-и-для-себя-бытие” есть именно абсолютный дух” (12,154). В результате в самом абсолютном духе различаются, если можно так выразиться, просто абсолютный дух, выступающий как заключение “триады”: Идея-Природа-Дух, и некий “абсолютный абсолютный дух”, пребывающий вне этой “триады” или, может быть, точнее, в ее центре (сам автор использует для его обозначения даже метафору “Алеф”). Это некая особая форма трансценденции - утонченная, но все же достаточно определенная даже для того, чтобы вспомнить о беспредпосылочном начале Платона и Плотина, - в представлении о такой трансценденции и выражается, видимо, “метафизический смысл” учения Гегеля об абсолютном духе.
Главная трудность этой концепции заключается, на мой взгляд, в
том, что А.В.Кричевскому - как, впрочем, и другим авторам - не удалось показать, чем же, собственно, абсолютный дух “Логики конца” конкретнее абсолютной идеи “Логики начала”. Если онтологическое первенство абсолютного духа основывается, по мнению автора, на “бесконечности”, то именно ее содержание и следовало бы определенно выявить, - но, как мы постараемся показать в нашем исследовании, именно эта процедура и доказывает предельную конкретность логической предметности, доказывает, что Логика и есть спекулятивное постижение духа, исчерпывающим образом раскрывающее структуру “бесконечности”.
В самом деле, если бы удалось показать, что абсолютный дух конкретнее абсолютной идеи, то можно было бы принципиально обосновать, что “переход” идеи в природу и ее “возвращение к себе” имеют содержательно-логическое значение, и, следовательно, движение в энциклопедической системе может иметь хотя бы какой-то смысл, хотя бы в какой-то степени может быть мыслимо и без Феноменологии. Но вместо этого автор пытается “помочь” Гегелю обосновать “переход”, используя диалектику понятий, например, диалектику “одного” и “иного”. Но диалектика понятий объясняет только возникновение понятий. Это понимал Гегель, чем и обусловлен тот “психологический дискомфорт”, который он определенно переживал при описании процедуры “перехода”, об этом открыто заявлял Шеллинг.
На мой взгляд, невозможность обоснования большей степени конкретности “Логики конца” по отношению к “Логике начала”, продемонстрированная в отечественной литературе еще И.А.Ильиным, должна вести не к поиску некой “глубинной основы” в абсолютном духе, которая, якобы, одна лишь и реализует “бесконечность”, а к принципиальному отказу от самой “триады”: Логическая идея-Природа-Дух. Действительную конструктивность такого подхода и стремится обосновать предлагаемое исследование.
3. Верно замечено, что установить отношение “Феноменологии духа” к философской традиции было бы весьма непросто, если бы “Феноменология” не получила продолжения в виде “Логики” и “Энциклопедии” (см., напр.: 61,254).
4. Гегель непосредственно указывал на морфологическое единство “Феноменологии” и “Логики” (см.: 2,4,50, или: 2,4,433).
5. Если внимание недостаточно, то повествование Гегеля кажется беспредметным и бессмысленным, говорят: Гегель - скучный философ.
6. Ср. с тем “исчерпывающим” решением “платоновского вопроса”, которое дает Т.В.Васильева: “Был ли Платон, не было ли Платона, - кто выносил, выстрадал и выразил в слове идеи платоновского корпуса, тот и есть Платон” (14,1993,№9,123).
7. “Интерпретатор” должен все же устоять, позволить себе
полностью покориться тексту может только тот “читатель”, которого
имел ввиду Борхес, говоря - и лукавя - что всегда хотел быть не писателем, а только читателем.
8. К такому лишь рассмотрению и сводится господствующий в современном гегелеведении “эволюционно-исторический” (entwicklungsgeschichtliche) метод анализа философии Гегеля.
9. Историк гегелевской мысли, который решается забыть о целом, перебирая детали его повествования, оказывается в конечном счете неким “Карлосом Архентино” гегелевской философии, т.е. “гегелеведом”. И хотя “закон языка” требует разложения “одновременности” в “последовательность”, но последовательность-то эта способна приобрести смысл только в перспективе вбирающей ее в себя “точки”, - так же, как “процесс понимания”, сравнивая “сознания”, сводит их к точке “Я”.
10. Поэтому исследователь, высказываясь о философии Гегеля, должен быть осторожен в цитировании философа, понимая, что сама суть спекулятивного мышления не позволяет просто высказать истину даже тогда, когда она дает мыслителю увидеть себя. Во всяком случае, следует помнить, что применительно к задаче реконструкции гегелевской философии ссылка на текст не может служить решающим аргументом. “Выдуманный факт (здесь: свидетельство истины, не запротоколированное самим философом, - В.К.) может оказаться как раз самым точным.” (10,1,92)
11. В этом контексте прежде всего следовало бы вспомнить, видимо, о Хладениусе, у которого темы предметного понимания и независимости точки зрения интерпретатора от авторской самооценки также выступают взаимосвязанно. Обратимся к тому описанию позиции Хладениуса, которое мы находим в “Истине и методе” Х.- Г. Гадамера. “Фрагмент понимают непосредственно, когда познают предмет, который в нем обсуждается, - то ли вследствие того, что фрагмент напоминает о предмете, то ли вследствие того, что благодаря фрагменту достигается познание предмета. Без сомнения, для понимания решающим ... является понимание предмета, предметное уразумение ...” (15,230-231). “Он констатирует, что в совершенстве понимать автора - не то же самое, что в совершенстве понимать речь или текст. Нормой для понимания книги ни в коей мере не является мнение автора; “так как люди не все способны предусмотреть, то их слова, речи и произведения могут означать нечто такое, о чем они сами не собирались говорить или писать” (Гадамер цитирует “Введение к правильному изложению речей и произведений”, 1742 г., - В.К.), и, следовательно, “пытаясь понять их произведения, можно думать о вещах, и притом с полным основанием, которые не приходили на ум их авторам”. (Как видим, Хладениус обращает внимание на конструктивную и творческую сторону ограниченности человека: из несовершенства всякого произведения возникает стремление интерпретатора обратиться от “текста” к самому “предмету”, вследствие чего формируется “традиция
понимания”. - В.К.) И тогда, когда мы имеем дело с противоположным случаем: “автор
подразумевал больше, чем сумели понять из его произведений” - подлинная задача герменевтики для Хладениуса состоит не в том, чтобы наконец достичь этого “больше”, а в том, чтобы достичь понимания самих книг в их истинном, т.е. предметном значении (выделено мной, - В.К.). Поскольку “все книги людей и их речи имеют в себе нечто непостижимое”, а именно темные места, проистекающие из недостатка предметного постижения, постольку есть потребность в правильном истолковании: “неплодотворные фрагменты могут стать для нас плодотворными”, т.е. “побудить ко многим мыслям”.” (15,231)
“Сам автор текста не обязательно понимает его истинный смысл, а потому интерпретатор часто может и должен понимать больше, чем он. Это утверждение имеет принципиальное значение. Не только от случая к случаю, но всегда смысл текста превышает авторское понимание. Поэтому понимание является не только репродуктивным, но всегда также и продуктивным отношением.” (15,351)
Я не вижу в представленной концепции Хладениуса положения, которое не являлось бы элементом моей собственной методологической позиции. Претендующий на целостность анализ герменевтики Хладениуса дается в: (25).
12. К книге И.А.Ильина в процессе работы над исследованием о системе философии Гегеля мне приходилось обращаться многократно, поэтому знакомство с гегелеведческой концепцией русского философа совершенно необходимо для понимания хода мысли предлагаемого исследования. - Понятно, с другой стороны, что после тщательного продумывания всех деталей повествования И.А.Ильина от большинства его конкретных суждений о философии Гегеля пришлось отказаться.
13. По словам Михелета, Гегель называл “Феноменологию” “кругосветным плаванием в целях открытия новых стран” (41,569). “Страны” здесь, конечно, следует понимать весьма определенно - как различным образом структурированные уровни предметности; и самая интересная “страна” для философа - спекулятивная предметность, логическая идея.
14. К сожалению, И.А.Ильин вообще не обратил внимания на специфику произведений Гегеля, о чем свидетельствует и его способ цитирования гегелевских работ.
15. У Ильина пропущен, таким образом, средний член, чистое (трансцендентальное) самосознание, и конечный дух, не поднятый до трансцендентальной точки зрения, оказывается неспособным пробиться в философскую предметность иначе, чем посредством таинственного приобщения к душевно-духовному опыту философа.
16. Классическое выражение этой позиции дал еще Платон, для которого продолжает сохранять значение положение Сократа о том, что истина достигается только в “беседе”: “В этом, Федр, дурная
особенность письменности, поистине сходной с живописью: ее порождения стоят как живые, а спроси их - они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят как разумные существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, о чем они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же. Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде - и у людей понимающих, и, равным образом, у тех, кому вовсе не подабает его читать, и оно не знает, с кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или несправедливо его ругают, оно нуждается в помощи своего отца, само же неспособно ни защищаться, ни себе помочь.” (36,2,217-218)
17. В дополнение к представленной позиции Хладениуса можно было бы сказать, что о философах и, может быть, о Гегеле в первую очередь, следовало бы повторить то, что К.Г.Юнг писал о поэтах: “Поэты как-никак тоже люди, и то, что поэт говорит о своей вещи, далеко не принадлежит к лучшему, что о ней можно сказать ... Речь идет ни больше ни меньше как о том, что мы должны защищать серьезность изначального переживания ко всему прочему и против личного сопротивления самого автора.” (38,110) “Автор представляет собой в глубочайшем смысле инструмент и в силу этого подчинен своему творению, по каковой причине мы не должны также, в частности, ждать от него истолкования последнего. Он уже исполнил свою высшую задачу, сотворив образ. Истолкование образа он должен поручить другим и будущему. Великое произведение искусства подобно сновидению, которое при всей своей наглядности никогда не истолковывает себя само и никогда не имеет однозначного толкования. ( ... ) Оно выявляет образ, как природа выращивает растение, и уж нам предоставлено делать из этого образа свои выводы.” (38,118) Умберто Эко выражает эту установку еще более категорично: “Автору следовало бы умереть, закончив книгу. Чтобы не становиться на пути текста.” (22,1988,№10,90)
Может показаться, что допускаемая у нас аналогия между поэтическим и философским произведениями некорректна, ведь дело философии и должно состоять как раз в разъяснении своей исходной мысли, тогда как художник создает образ, восприятие которого никаких разъяснений не требует. Думается, однако, что глубокий философский замысел, как и поэтическое переживание, ввиду своей сложности и почти-неуловимости, позволяет схватить себя и развернуть в систему лишь при очень тонком подходе и, конечно, лишь в особые минуты, - и не хочет сделать в этом исключения ни для кого, даже для автора. Интерпретатор же, напротив, должен стремиться максимально яснее, проще и разнообразней представить смысл философского произведения, ведь ему этот смысл был дан уже в эксплицированной форме, а не как изначальная, еще не выраженная в слове интуиция. Если это удается, то интерпретатор постепенно - с помощью рассудка и труда - поднимается
к созерцанию той изначальной простой интуиции, которая явилась философу и положила начало его труду рассудочного анализа и конструирования. Достижение интерпретатором этой изначальной мысли философа означает свершение чуда понимания и оправдывает труд обоих. В этом пункте мы снова можем говорить уже не только о понимании произведения философа, но и о понимании самого философа, т.е. понимании его изначальной интуиции. Последнее, как видим, не только не предполагает учета всех мнений философа, но и просто требует строго отделять текст, ведущий к пониманию изначального переживания, интуиции, разворачиванием которой он и является, от внетекстовых заявлений, которые тоже могут разрастись в целые тома.
18. Представлю здесь в качестве своего союзника американского литературоведа Ричардса, проницательные и остроумные суждения которого (называя их “безукоризненными”) приводит в одной из своих работ А.Ф.Лосев. Статья, которая привлекла внимание А.Ф.Лосева, называется: “Поэтический процесс и литературный анализ”.
“Чтобы по возможности учесть при разборе поэтического произведения свидетельство самого поэта о его создании, в противовес обычным критическим анализам, в которых это свидетельство недооценивается, а зато непомерно выпячиваются любые сведения или сплетни о внешних обстоятельствах жизни поэта во время написания произведения (я предлагаю оба указанных фактора считать второстепенными, к чему, как сейчас увидим, прийдет и наш автор, - В.К.), И.А.Ричардс хочет рассмотреть стихотворение о “поэтическом процессе”, возникновение которого ему хорошо известно. Дело в том, что автор стихотворения - он сам. Мы приведем только начало стихотворения Ричардса.
Harwad Yard in April April in Harward Yard To and fro Across the fretted snow Figures, footprints, shadows go. Their python boughs a-sway The fountain elms cascade In swinging lattices of shade Where this or that or the other thought Might perch and rest. And rest they ought Forr poise or reach. Not all is timly...
“Гарврдский двор в апреле. Апрель на гарвардском дворе. Туда и сюда по изрытому снегу идут фигуры, следы, тени. Свои раскачивающиеся питонообразные ветви спускают каскадом вязы у фонтана в колеблющихся решетках теней, где та или эта, или иная мысль могла бы усесться и отдохнуть. И отдохнуть им следует для равновесия или достижения. Не все своевременно ...”
При написании этого текста, говорит Ричардс, у него возникали многочисленные ассоциации, по-видимому, существенные в данном стихотворении. Так, “тени” в 3 строке не только пересекались с “тенями” в 6, но вызывали также в памяти афоризм Моммзена о том, что “грядущие события бросают перед собой свои тени”; выражение Эмерсона, что “удлиненная тень человека есть история”; строки поэта Де ла Мера: “Нечто даже меньшее, чем тень, вошло и остановилось в комнате” и т.д. Выражение “питонообразные ветви”, вместо “змеевидные”, было выбрано для того, чтобы избежать чрезмерно частого употребления определенной гласной. Образ мыслей, садящихся на ветви, казалось, был вполне определен обычностью этой метафоры. Вспомнились здесь и строки Т.Стикни: “Сэр, ни слова более. Во мне происходит такое, как если бы к бедным птицам моего ума подбирался зеленый взор ползущей кошки.” Сочетание “мысли” и “дерева”, продолжает Ричардс, было близко к матери Еве и “древу познания”, так что вязы со своими питонообразными ветвями оказывались самим соблазнителем.
Эти и многие другие ассоциации и соображения, по свидетельству Ричардса, активно выступали во время сочинения. Но остались ли они в самом стихотворении ? Очевидно, нет. Нет в тексте и прямого буквального отражения главного чувства, которым проникнуто стихотворение, - весенней лихорадки, ностальгии, тяги к странствию. “Несомненно, - заключает Ричардс, - мы должны делать и делаем различение между внешним или явленным содержанием - набором элементов, которые должны войти в любой пересказ, - и тем, что в стихотворении поистине действенно. Мы все согласились бы, что некоторые вещи могут быть упомянуты и даже подчеркнуты в стихотворении, и все же остаться вполне инертными, беспомощными и ничего не говорящими.” Больше того. Когда Ричардс поделился ассоциациями, возникавшими у него при написании стихотворения, с одним своим читателем, который сам был известным поэтом, последнему они не понравились, так как шли вразрез с полученным впечатлением. “Для него они (ассоциации) не содержали настоящего раскрытия моих чувств. Увы ! Бесполезно было говорить, что хотя в стихотворении может быть определенное чувство, но в процессе написания его ничего даже приблизительно подобного не было.” Вовсе не обязательно поэт пишет о том, что составляет главное содержание его душевной жизни. Например, в стихотворении может быть описано убийство, однако автор никогда никого не убивал. “Но нет, - с горечью
замечает Ричардс, - как только заходит речь об отношении к Бессознательному, самое квалифицированное отрицание оборачивается дополнительной уликой.” “Поскольку зашла речь об уликах, какого рода улики действительно имеются в пользу присутствия или отсутствия некоего X (чем бы он ни был) в стихотворении ? Это, по-моему, центральный вопрос, настолько же важный, насколько и трудный. И я питаю надежду, что мне удастся найти поддержку в пользу той точки зрения, что лучший, если не единственный вид улик есть по существу языковой - все, что касается отношений слов и фраз друг к другу, - и далее (парируя подозрение подозрением), что улики из якобы биографии или психологии поэта редко имеет вес в честном судебном разбирательстве. Возвращаясь к моему примеру, если в моем стихотворении действительно есть весенняя лихорадка, она оказывается в нем следствием очень сложной системы взаимовлияний между строками: их движения, поскольку оно производно от их значения, и их значений, причем надо обратить внимание на такие вещи, как факультативное “могли бы” в строках “Где та или эта, или иная мысль могла бы усесться и отдохнуть”; на вялую истому в “та или эта, или иная мысль”; на структуру аллитераций в строках
perch and rest And rest they ought For poise or reach. “Конечно, добавляет Ричардс, - доказательством в этих вопросах,
если мы достигнем когда-либо такового, будет скорее соглашение, чем принуждение.”
Возвращаясь к вопросу о возникающих при создании стихотворения ассоциациях, Ричардс напоминает, что обнаружение параллелей, сходств и подобий составляет обычный путь “Литературного анализа”. При этом иногда начинает казаться, что все приводимые критиком в связи с определенным стихотворением ассоциации действительно необходимы для его понимания. Однако, обычно все приводимые сравнения обнаруживают не историческую, а языковую связь между сходными текстами. “Вспомните фермера, которому Эмерсон одолжил “Государство” (Платона). Фермер вернул его со словами: “У этого мужика масса моих идей !” И это было верно - если мы допустим, что идеи фермера - это идеи, навеянные некоторым образом семантической структурой его языка. Мои идеи, в глубоком смысле, в моем языке - в отношениях между словами, которые руководят мной в их использовании.” И поэт, и критик “находятся под влиянием языка, оба они зависимы от своего понимания языка”. Это понимание языка у критика и у поэта, говорит Ричардс, часто совпадает.
Таким образом, естественным подходом к литературному анализу поэтического произведения может быть только лингвистический разбор текста. “Теперь сопоставьте этот результативный и здравый подход с болезненным состоянием читателя,
который пытается угадать - сам не зная как, - что мог бы испытывать и переживать определенный поэт в особую, не установленную минуту своих духовных странствий.” Биографический подход в критике и литературном анализе бессмыслен. “Предположим, что с какого-нибудь чердака в Страдфорде-на-Эйвоне скатился какой-нибудь бочонок с бумагами. Смогло бы это действительно заставить нас пересмотреть нашу критическую оценку “Короля лира”, или сможет ли очередная партия списков или свитков с Мертвого моря умалить поэзию “Книги Иова” ? Лично я крайне жалел бы о том, что узнал еще один факт о том и о другом авторе. И признаюсь, если бы вином мире мне была предоставлена такая возможность, я бы охотно не стал встречаться с Гомером.” “Суждения литературного анализа, которые в наше время так часто привязываются к личности поэта, принесли бы большую пользу, если бы касались языковых основ, - силы слов и ритмики поэмы, - которые заставляют читателя изобретать и проецировать духовные черты и духовные события за поэта ... Сообщение, предназначенное всем, должно быть делом общего интереса.” Независимо от того, сколь разгорячен или сколь холоден может быть автор, он ничего не может сделать со словом, пока язык не позволит ему, пока язык не захочет работать для него таким образом: “ибо из слов, а не из поэтов составляются поэмы”. И Ричардс требует “освобождения литературного анализа от эксплуатации биографии и догадок”. Надо толковать стихотворение, говорит он, учитывая,, какие значения может придать стихотворению или части его семантическая ткань языка.
Нам кажется, что все это рассуждение Ричардса никому не удастся опровергнуть, если только будет налицо желание исходить в теории стиля из того, что в нем самое главное. Может быть, запрет исследования, например, биографических данных в связи с тем и другим стихотворением и не помешает стилевому анализу, как это думает Ричардс. Нужно только помнить, что все эти лично-биографические, общественные и вообще всякого рода исторические данные уже предполагают то самое, к чему они относятся, т.е. самый текст художественного произведения. Иначе и все эти биографические, и все эти исторические данные, хотя бы и самые правильные, просто повиснут в воздухе, и неизвестно будет, к чему же именно их относить. Поэтому никакие биографические данные не повредят, а только нужно помнить, что они имеют вторичное значение в сравнении с первичностью самого текста.” (30,146-150)
19. Например, К.С.Бакрадзе, в концепции которого тезис о необходимости различения замысла и реализации философии Гегеля играет очень важную роль, предполагает, что в замысле Гегеля логическая идея, природа и дух - равноправные проявления Абсолютного, которое ни в одном из этих проявлений не выражает себя полностью, но именно их совокупность и должна рассматриваться как адекватное выражение Абсолютного, постигаемого конечным духом в
трех науках о нем. В реализации же утверждение тезиса о тождестве мышления и бытия делает невозможным проведение намеченного различия между последовательностью наук и многообразием проявлений Абсолютного и в конце концов приводит к отождествлению того и другого, в результате чего переход от “Логики” к “Философии природы” неизбежно становится переходом логической идеи в природу.
20. В современной зарубежной литературе анализ рукописей Гегеля занимает исследователей едва ли не больше, чем анализ “Феноменологии” или “Логики”, что заставляет вспомнить о мудром замечании В.В.Набокова: “Художник должен был бы безжалостно уничтожить свои рукописи после напечатания, дабы они не могли ввести в заблуждение академическую посредственность и позволить им думать, что, изучая заброшенные (отброшенные) тексты, они смогут раскрыть тайны гения.” (45,12)
21. Посмотрим, в чем ближе выражается этот взгляд на предмет Логики. Сначала я предлагаю вернуться к труду И.А.Ильина и более подробно охарактеризовать уже упомянутую позицию русского философа по этому вопросу. И.А.Ильин называет Логику (именно Логику, а не логическую идею, поскольку считает изначально тождественными “теогонический” и “научный” процессы) “первой эпохой божественной жизни” (21,1,192). “По основному замыслу,, - пишет И.А.Ильин, - априорность логики по отношению к миру может иметь только спекулятивный характер: именно, логика есть органическая всеобщность и субстанция, а подчиненные сферы суть ее части или члены, причем обе стороны состоят в отношении конкретного взаимопроникновения. При таком понимании логика априорна в том смысле, в каком у Аристотеля “целое” было первее своих “частей”, а государство первее индивидуума.” (21,1,205)
Но последовательное проведение этого замысла, считает И.А.Ильин, потребовало бы от Гегеля включения в логику содержания реальной философии: “Перед Гегелем возникает железная необходимость не только признать логические категории живой субстанцией подчиненных сфер, но и включить содержание этих подчиненных сфер в организм логического процесса” (21,1,203. На столь решительный шаг, утверждает Ильин, Гегель не идет, полагая, что в этом пункте спекулятивное понятие впервые у Гегеля изменяет своей природе: “Логика есть субстанция “природы” и “духа”, но “природа” и “дух” остаются неассимилированными чистому понятию. Спекулятивное понятие оказывается неверным спекулятивному строю и способу жизни, и притом в самом центральном и существенном пункте: в вопросе об отношении творящего бога к создаваемому им миру.” (21,1,205)
Несколько смягчает противоречие, считает И.А.Ильин, религиозное истолкование Логики, заключающееся в том, что она интерпретируется как провидимый и предобразуемый богом мир до его
реального творения. При этом мир оказывается непосредственно не включенным в бога, но имеется в нем потенциально: “конкретные науки и создаваемый мир не входят в логику актуально, но присутствуют в ней потенциально ...” (21,1,208). Однако, использование религиозного истолкования Логики в конечном счете разрывает единую последовательность категорий Логики и реальной философии, делая окончательно невозможным осуществление спекулятивного отношения между Логикой и конкретными философскими науками: “Если порядок “мира” предначертывается порядком “логики” так, что низшие состояния мира могут довольствоваться, помимо своих “специфических” определений, одними первыми категориями логики ..., то закон спекулятивной непрерывности и последовательности, т.е. основной закон спекулятивной конкретизации, является существенно искаженным или нарушенным.” (21,1,210)
Тем самым становится окончательно неизбежным формально-логическое и даже хронологическое истолкование Логики: “”Формально-рассудочное” и “конкретно-эмпирическое” истолкование “априорности” логики становится возможным и даже необходимым вследствие того, что всеобщее не сочетается с особенным в спекулятивном порядке. Исключенность низших сфер из “Логики” нарушает и отменяет спекулятивное отношение между ними.” (21,1,211-212) В конце рассмотрения этого вопроса И.А.Ильин делает акцент на хронологическом истолковании Логики: “”Время” расширяет свою компетенцию за пределы конечного мироздания и весь путь божий начинает созерцаться в аспекте временной последовательности. Спекулятивный процесс получает характер как бы эмпирического процесса, а учение о спекулятивном пути божием становится историческим пересказом событий. Теогония заимствует свою схему у космогонии, и бог превращается как бы в “часть мира” или “эпоху мира”.” (21,1,211)
В труде К.С.Бакрадзе логическая предметность также рассматривается в качестве некоторой “части мира”, но только части статичной, устойчивой в себе, т.е. в качестве одной из определенностей Абсолютного. Логическая идея, прямо утверждает К.С.Бакрадзе, есть “проявление абсолютного, так же как природа и дух” (9,99). “Абсолютное существует, - пишет он, - в различных формах; ни одна из этих форм не выражает всю сущность абсолютного ... Логическая идея, развитие которой изучает логика, есть история абсолютного, если можно так выразиться, в одном измерении, в одной форме: это измерение - чистая мысль ... Чистая мысль есть проявление абсолютного, только одна форма его существования.” (9,98-99)
В зарубежной литературе о Гегеле проблема онтологического статуса логической идеи вряд ли может быть отнесена к числу интенсивно обсуждаемых проблем. Например, Х.-Г. Гадамер в работе, специально посвященной “Логике” Гегеля (“Идея гегелевской логики”,
см. в: (53)), считает достаточным обмолвиться, что “Логика” “разворачивает мысли бога перед творением” (53,67). Ничего нового на эту тему нельзя найти и в труде Хесле. “Логику” он вполне традиционно называет “учением о домировом боге”: “”Наука логики” разворачивает определения, присущие богу безотносительно к реальности” (57,1,62).
22. Если бы мы могли понимать под предметом Логики реальность, независимую от феноменологических структур деятельности сознания, “объективную” реальность или “объект” в отличие от “предмета” как реальности, конституируемой сознанием, то тем самым оказалось бы, что предмет в этом - “объективном” - смысле, объект Логики - тот же, что и объект реальной философии. Но не только. Он - тот же, что и объект всякой науки, да и всякого типа сознания вообще, поскольку бытие, независимое от сознания, “вещь в себе”, “объективная реальность” - всегда лишь абстракция действительного предмета науки (и предмета сознания вообще), его “иное”, граница, конец. Лишь первый образ сознания - “чувственная достоверность” - утверждает значимость объективности как таковой. Логической категорией, составляющей субстанцию этого образа сознания, является категория чистого бытия - первая, простейшая абстракция действительного бытия, Понятия.
23. Любопытно, как Мишель Фуко, усматривая отличие культуры 17-18 веков от культуры эпохи Возрождения в устранении “сходства”, посредствующего между “вещами” и “знаками”, и, соответственно, раздваивании знака, если можно так выразиться, на собственно знак и знак как способ, посредством которого в нем присутствует возможность выражать представления, не замечает в этом положении указания на устранение из структуры познания самих вещей, вещей, сущих независимо от их представленности в знаках. Фуко не замечает, что когда он говорит, например, о “дуальной” теории знака или о “бинарной” организации мышления, то реально в качестве “второго” элемента наряду со знаком выступает уже не вещь (сама по себе), непосредственная связь с которой разрушена изгнанием “сходства”, а тот же знак в функции представления вещи.
Местами эта позиция новоевропейской культуры, которую мы в нашем исследовании называем трансцендентальной точкой зрения в философии, и которая, действительно, возникнув в эпоху Декарта, нашла в Гегеле своего последнего - классического - выразителя, представлена у Фуко совершенно определенно: “Имеется одно условие для того, чтобы знак был этой чистой дуальностью. В своем простом бытии идеи, или образа, или восприятия, связанного с другим или же его замещающего, означающий элемент не является знаком. Более того, он им становится лишь при условии обнаружения отношения, связывающего его с тем, что он означает. Необходимо, чтобы он представлял, но это представление в свою очередь само должно быть представлено в нем. ( ... ) Означающая идея раздваивается, поскольку
на идею, которой замещена другая, накладывается идея ее способности выражать представления. Не будем ли мы иметь три члена: означаемую идею, означающую идею и, внутри последней, идею ее роли в выражении представлений ? Тем не менее речь идет не о возвращении украдкой к тройной системе, а, скорее, о необходимом смещении двучленной фигуры, которая сама по себе сокращается и размещается при этом всецело внутри означающего элемента (выделено мной, - В.К.). Фактически, означающее имеет в качестве содержания, функции и определения лишь то, что оно представляет, являясь по отношению к нему совершенно подчиненным и прозрачным элементом. Однако это содержание указывается только в представлении, которое дано в качестве такового, причем означенное без всякого остатка и совершенно четко размещается внутри представления знака (выделено мной, - В.К.).” (43,98-99)
Нас при этом не должно смущать ни то, что сам Фуко не говорит открыто о трансцендентальной точке зрения классической эпистемы (это привело бы к необходимости признать значение, смысл в качестве особого - третьего по отношению к вещи и знаку - участника познавательного отношения, что, в свою очередь, было совершенно неприемлемо для Фуко, поскольку разрушило бы его принципиальную схему классической эпистемы), ни то, что немецкую философию от Канта до Гегеля он относит не к классической эпистеме с ее столь ясно представленным “семиотическим трансцендентализмом”, а уже к современной, “исторически-антропологической” эпистеме. Последнее обстоятельство обусловлено тем, что Фуко прежде всего принимает во внимание возникновение в эту эпоху новых “эмпирических полей”, новых “позитивностей”. Именно кантовская критика и послекантовская трансцендентально-спекулятивная философия, расставаясь с идеей всеобщей науки о порядке, т.е. сужая предмет метафизики до лишь спекулятивной, логической (у Гегеля) предметности, освобождает место для новых позитивностей, обосновывают саму возможность “объективных синтезов”, в результате чего и возникают современные науки, полагает Фуко; но также и: в границах собственно философии доводят самоосознание ее трансцендентальной природы до полной ясности, - добавим мы.
24. Приведем лаконичную формулу С.Н.Трубецкого, которая полностью соответствует взгляду Гегеля: “Сущее как предмет мысли есть мыслимое, и только как мыслимое оно и может быть логически познаваемо нами. Мало того, мы можем сказать, что мы не знаем и не можем знать или логически предполагать другого сущего кроме мыслимого” (27,XIII). С.Л.Франк верно заметил, что философия Гегеля “вообще не допускает бытия иначе, как момента, имманентного понятию” (42,503).
25. Ср.: “Логическое в абсолютной идее может быть названо также одним из способов ее (постижения). Но если “способ” означает
некоторый особенный вид, некоторую определенность формы, то логическое, напротив, есть всеобщий способ, в котором все отдельные способы сняты и заключены. Логическая идея есть сама идея в своей чистой сущности, идея как таковая, которая в простом тождестве заключена в свое понятие и еще не выявлена в какой-нибудь определенности формы. Логика поэтому изображает самодвижение абсолютной идеи лишь (именно в этом и других подобных местах у Гегеля значение “лишь” и остается непроясненным, - В.К.) как первоначальное слово, которое есть внешнее проявление, но такое, которое как внешнее непосредственно вновь исчезло, в то время как идея имеется; следовательно, идея выступает лишь в этом самоопределении - вслушиваться в себя; она имеется в сфере чистой мысли, в которой различие еще не есть инобытие, а есть и остается совершенно прозрачным для себя.” (1,3,289)
26. Гегель чувствовал невозможность понимания “Логики” без “Феноменологии”, в связи с чем и ввел в нее фрагмент о трех отношениях мысли к объективности, который, однако, оказался слишком грубым эрзацем “Феноменологи”, а потому и не восполняет реально ее отсутствия в границах энциклопедической системы.
27. Взгляды на место “Феноменологии духа” в системе Гегеля, представленные в отечественной литературе прошлых лет, являются, впрочем, настолько неопределенными и разноречивыми, что по ним вообще вряд ли возможно составить какое-либо представление о предмете. См., например, анализ старых работ в: (44).
28. Витторио Хесле, например, так описывает предмет реальной философии: “К сущности реального принадлежит то, что оно является не только понятием - как логические категории, - но имеет также пространственно-временной коррелят, доступный эмпирическому познанию. Реальная философия не только выводит определенные логические структуры, но и показывает, что им соответствует в опыте.” (57,1,81-82)
29. В данном контексте мы можем рассматривать реальную философию и “эмпирическую” науку как единое образование. Этот взгляд подтверждается анализом 3 главы “Феноменологии”, но он прямо высказывается и в “Философии природы”: в параграфе 246 Гегель определяет физику как теоретическое, мысленное рассмотрение природы, стремящееся к познанию природного всеобщего, “определенного одновременно в себе” (громоздкое гегелевское выражение, для которого трудно найти адекватный “перевод”) - сил, законов, родов. О философии природы Гегель говорит, что “она имеет своим предметом то же всеобщее, но взятое для себя, и рассматривает это последнее в его собственной имманентной необходимости - согласно определению понятия” (4,2,14). “Философия природы подхватывает материал, подготовленный физикой на основании опыта, в том пункте, до которого довела его физика, и в свою очередь преобразовывает его
дальше, но уже без того, чтобы класть в основание опыт как последнее подтверждение.” (4,2,20)
30. Подобное стремление представлено у Хесле, см.: (57,1,92-93). 31. Следует, однако, заметить, что в контексте трансцендентально-
феноменологической интерпретации философии Гегеля это обстоятельство выражает специфику рассматриваемой формы сознания, а вовсе не указывает на некий бытийный дуализм материального и идеального начал.
32. Самой впечатляющй формой этого различия выступает сегодня то откровенно двойственное понимание Вселенной, согласно которому она описывается всеобщими, т.е.вневременными, законами и в то же время имеет свою историю.
ГЛАВА ПЕРВАЯ 33. Фридрих Энгельс одним замечанием о “Феноменологии” как
именно параллели эмбриологии и палеонтологии духа (см.: 31,21,278) ставит себя выше всех современных ему - как, впрочем, и многих более поздних - интерпретаторов Гегеля. Замечание это, правда, не вполне согласуется с тем “разоблачением” “идеалистической мистификации” человека у Гегеля, которое мы находим в “Экономическо-философских рукописях” Маркса.
34. В этом пункте изложения уже видно, что движение “Логики”, предметом которой является чистая определенность, и движение которой уже не есть “опыт” (поскольку нет ни “существования” (в-себе-бытия), ни сравнения с ним) может начаться лишь на фундаменте “Феноменологии” и совершенно невозможно без нее.
35. К сожалению, представленный в данном издании перевод этого предложения является неверным: “Мистическое - не то, как мир есть, а что он есть” (13,71). Мало того, что “dass” вводит придаточное предложение, а не является вопросительным словом, но само выделение его указывает на то, что смысловое ударение должно переноситься на все придаточное предложение в целом, на то, что утверждается суждением, т.е. непосредственно - на сказуемое. Если бы Витгенштейн хотел сказать то, что говорит этот русский перевод, то он написал бы: Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern was sie ist.
36. Возможно, это замечание Витгенштейна является парафразой шопенгауэровского “Не может быть такого положения, вследствие которого существовал бы мир со всеми своими явлениями” (47,1,215): так в замкнутом пространстве метафизики встречаются в конечном счете и те, кому, казалось, не о чем было говорить в стенах Берлинского университета.
37. См., напр., фрагмент “К истории новой философии (Мюнхенские лекции).Гегель.” - в: (46,2,496-526).
38. Впрочем, если учесть некоторые конкретные аргументы Шеллинга против гегелевской философии или, точнее, против того, чтобы считать ее единственной и универсальной философией, а не частью лишь философии, то гегелевское решение проблемы и в самом деле выглядит не таким ясным, как кажется поначалу. Например, Шеллинг подмечает, что бытие в противоположность определенности - это ведь вовсе не обязательно чувственно-телесное бытие, это может быть, например (и прежде всего, конечно), и бог, “трансценденция” (вспомним не только о многозначности кантовской “вещи в себе”, но и об онтологизме православия). Но тогда получается, что “трансценденцию”, “само бытие” как бы следует постоянно иметь ввиду, но нельзя позволить себе решиться о них высказаться, поскольку то, что будет названо (а вот это, боюсь, почти прямая цитата из
“Приглашения на казнь” Набокова) , обретет бытие для сознания, выступит в качестве определенности, значит: утратит связь с “самим бытием”. Речь, таким образом, идет о той стороне проблемы, которая на материале Гегеля почти не обсуждается, а ведь именно он, завершая классическую философию - эксплицируя “бесконечную” определенность того, что есть, - и берет под свою охрану тайну самого “есть”.
39. Особенно интересен заключительный фрагмент (см.: 2,4,47-50). В частности, Гегель впервые намечает здесь различие в формах выражения “предмета” и “понятия” для сознания (см.: 2,4,48). Специальное исследование этого значимого в контексте нашего исследования вопроса дается в: (52).
40. Подтверждением этому может служить “Гегелевское понятие опыта” Хайдеггера (см.: 56, 115-208).
41. Вспомним глобус, который Маргарита рассматривала у Воланда. Достаточно представить, что фигурки людей оживают и начинают двигаться лишь тогда, когда их касается наш взгляд, и аналогия окажется очень близкой.
42. Понятно, почему Гегель говорит “знание”, а не “сознание”: знание есть “определенная сторона”, по выражению Гегеля, бытия предмета для сознания, и если сознание выступает в Феноменологии как предмет другого сознания, то оно - знание, и именно, являющееся знание.
43. Нельзя сказать, что исследователи “Феноменологии” вообще не чувствуют необходимости различать “наше сознание” и “само сознание”, но, насколько можно судить, до сих пор отсутствовали работы, в которых такое различение проводилось бы систематически и, самое главное, использовалось бы в качестве основания анализа структуры “Феноменологии духа”. Насколько неопределенные суждения на этот счет преобладают в литературе, можно судить, например, по фрагменту одной из статей Х.-Г. Гадамера о “Феноменологии” (см.: 53,34).
44. Т.е. “опыт”, проделывание “опытов” - это судьба сознания, определяемая самой его природой, самой структурой сознания, а не некая внешняя и посторонняя ему процедура, так что когда Гегель говорит, что Феноменология - это наука об опыте сознания, он тем самым не говорит больше того, что Феноменология - наука о сознании, он указывает лишь на движение структуры сознания, состоящее в совершении опытов.
45. Мы могли бы вспомнить Юма, но не менее ясно пишет об этом, например, Рудольф Штейнер (см.: 49,27-29).
46. Нельзя не вспомнить чудесную шутку Гегеля: “То, что в моих книгах принадлежит лично мне, ошибочно” (19,195).
47. У Гегеля вообще спекулятивное достоинство переходит не от предмета к знанию о нем, как можно было бы предположить, если бы
мы находились в границах классической, т.е. антично-средневековой, онтологии, а, напротив, от знания к предмету. Именно, в трансцендентальной философии не характер знания определяется степенью конкретности структуры его предмета, а предмет как выражение того момента опыта, который сознание принимает за в-себе-бытие, или сущность, на деле также полагается сознанием и, следовательно, вбирает в себя ту меру спекулятивной конкретности, которая содержится в деятельности сознания. Поэтому, например, замечание Э.Фольрата “Всякое знание определяется тем, что оно знает. Действительное знание - это знание действительного.” (61,163) нужно было бы непосредственно “перевернуть”, чтобы можно было согласиться с ним. Итак, предмет определяется характером знания, или опытом как целым, момент “в-себе” которого он и выражает, и “действительное” - это лишь предмет “действительного знания”.
48. Это положение можно проиллюстрировать примером. Человек читает книгу, например, “Анну Каренину”, и он видит, каков, например, Алексей Каренин. Он неестествен, сух, лишен всякого чувства жизни и т.п., и это знание о нем воспринимается только как знание, и рассматривается только оно. Но читатель видит и то, что автор испытывает антипатию к своему герою, нарочито подчеркивает все моменты, которые и в читателе должны вызвать подобную антипатию, например, знаменитый хруст пальцев и т.п. И, замечая антипатию автора, читатель замечает,, таким образом, и неистинность изображения, знания, предполагая, что на деле Каренин не таков, каким его изображает Толстой. При этом читатель совершенно забывает, что никакого “на деле” нет, есть только знание, описание Толстого, но, усматривая неистинность его, читатель говорит “на деле” (предмет), обозначая свой переход к другому знанию (что Каренин, например, стремится исполнять христианские обязанности супруга и т.п.). Только сам переход, указывающий на другое знание, и есть предмет, поэтому я говорю “абстракция”. Предмет здесь, таким образом, есть как бы момент самостоятельной жизни героя, который существует только как абстракция перехода от одного представления автора или читателя о герое к другому представлению о нем.
Точно так же обстоит дело и в “Феноменологии”. Для сознания реально существует только знание, но, переходя от одного знания к другому, сознание отвергает это знание, и это отрицание определенного знания - предмет, сущий лишь как негативный момент движения опыта. Поэтому в указанном аспекте трансцендентальная установка “Феноменологии” выступает в форме истолкования предметности как чистой негативности, как лишь “иного” трансцендентальных структур сознания.
49. Эта ситуация снова может быть проиллюстрирована примером. Представим себе детективный роман или рассказ. Расследование, которое ведет детектив, занимает лишь часть (хотя и очень большую,
как правило) повествования. Это - непосредственный аналог опытов “самого сознания”. Но в тексте неизбежно имеется информация, непосредственно обращенная к читателю, информация, недоступная детективу, - начать хотя бы с самого названия книги. Она - материал для рефлексии “нашего сознания”, обеспечивающая ему более высокую точку зрения по сравнению с точкой зрения “самого сознания”. В обычном детективе оба расследования - то, которое ведем мы, и то, которое ведет детектив, - в конечном счете совпадают. Но легко понять, что в соответствии с законами Феноменологии мы должны как минимум раньше раскрывать преступление, чем детектив. Возможна и такая организация феноменологической ситуации, когда различие в наших точках зрения оказывается принципиальным, и тогда только мы, но не детектив (“само сознание”) окажемся способными раскрыть преступление.
На возможность такого повествования указывал Борхес, упоминая, например, о разговоре с Касаресом, в ходе которого они обсуждали, как следовало бы написать рассказ, в котором читатель в конце повествования понимал бы, что детектив раскрыл преступление неправильно (см.: 10,1,271). Исключение из правила, требующего признавать преимущество точки зрения “нашего сознания”, представляло бы лишь то произведение, которое целиком состояло бы из прямой речи “самого сознания” (детектива). Детективный жанр выбран здесь для примера только из-за выразительности действия в нем сознания - действия, приобретающего форму “расследования”. Но то же самое можно было бы сказать и о всяком другом литературном произведении или кинофильме, в которых имеются “действующие лица”, т.е. “другие сознания”, являющиеся предметом нашего наблюдения, - т.е. о всяком произведении в котором воспроизводится феноменологическая структура: “наше сознание” - “само сознание” - “предмет”.
50. Например, В.В.Лазарев прямо утверждает, что “скептицизм”, собственно, не следует из “стоицизма”, а “несчастное сознание” - из “скептицизма” (см.: 28,7-15).
51. Поэтому, кстати, необходимость формально-структурного анализа “Феноменологии духа” и вытекает из исследования, посвященного структуре системы философии Гегеля.
52. К заслугам Александра Кожева должно быть отнесено то, что он обратил внимание читателей Гегеля на особого рода “созерцательность” феноменологического метода (см.: 26,76-82). Правда, он не заметил, что утверждение диалектичности предмета (в противоположность созерцательно-описательному характеру метода) противоречит его же неприятию диалектики природы (см.: 26,68 и далее); правда, сама предметность у Гегеля является трансцендентальной, так что в конечном счете различие между предметом и методом вторично, конституирование предметности и есть
первый этап движения феноменологического метода. Но и с учетом всего этого следует признать, что у Кожева имеется принципиально правильное понимание специфики феноменологического познания, реконструирующего в “созерцании” фундаментальный для Феноменологии акт снятия того различения “я” и предмета, сравнение которых и есть феноменологический опыт, - познания, не допускающего, в частности, рассудочной рефлексии, “аргументирования” и т.п.
53. Мишель Фуко видит своеобразие подхода Гегеля в контексте послекантовской философии именно в рассмотрении соотношении сознания, порождающего предметность, и предметности, взятой вне этого соотношения, взятой так, как если бы она была “дана” сознанию. Гегелевская философия тем самым - может быть, вне “сознаваемых” намерений самого автора - отождествляется, по-существу, с Феноменологией. Эта “проницательная неосторожность” Фуко выявляет в такой характеристике гегелевской философии ее действительное - “археологически увиденное” - место в немецкой классической философии. - Вряд ли следует и говорить о том, насколько подобные “неосторожности” предпочтительнее доступных “академическим посредственностям” “взвешенных оценок”.
Прочитаем теперь этот замечательный фрагмент: “При Декарте или Лейбнице взаимопрозрачность знания и философии была безоговорочной, так что универсализация знания в философском мышлении не требовала какой-то особой рефлексии. Начиная с Канта, проблема меняется: знание уже не может более развертываться на единой и объединяющей основе матезиса. С одной стороны, возникает проблема отношений между формальным полем и трансцендентальным полем (и на этом уровне все эмпирические содержания знания как бы заключаются в скобки и временно лишаются какой-либо значимости), а с другой стороны, возникает проблема отношений между областью эмпиричности и трансцендентальным обоснованием познания (и тогда отодвигается в сторону чистый формальный порядок как не существенный для исследования той области, в которой находит свое обоснование всякий опыт и даже чистые формы мышления). Однако в обоих этих случаях философское мышление о всеобщности находится на другом уровне по сравнению с полем реального знания; оно учреждается либо как чистая рефлексия, способная обосновывать, либо как некий возврат, способный раскрывать. Первая форма философии проявилась прежде всего в фихтевском стремлении генетически вывести целостность трансцендентальной сферы из чистых, всеобщих, отвлеченных законов мысли; тем самым открывается поле исследований, пытающихся либо привести любую трансцендентальную рефлексию к анализу формализаций, либо обнаружить в трансцендентальной субъективности основу возможности всякой формализации. Что же касается другого философского начинания, то
оно возникает впервые в гегелевской феноменологии, где вся целостность эмпирической области воссоздается внутри сознания, раскрывающегося перед самим собой в качестве духа - то есть как поле, одновременно и эмпирическое, и трансцендентальное.” (43,272-273).
Ср. “Возврат, способный раскрывать” с нашей характеристикой спекулятивного метода как “формулы возвращения” (см. гл. II иссл.). Уточним также, что именно о “воссоздании” правомерно говорить постольку, поскольку Фуко затрагивает вопрос лишь о “трансцендентальном обосновании познания”, но если мы попытаемся соотнести трансцендентальную точку зрения с прежней, докантовской онтологией, что и делает реально Гегель, разворачивая перед нами собственно предметные сферы реальной философии и Логики, то должны будем говорить уже и о “создании”, действительном полагании предметности, поскольку Феноменология, углубляя кантовскую постановку вопроса, не признает никакого предпосланного опыту “сущего”. Обратим внимание и на то, что в этом фрагменте Фуко абсолютно точно понимает отношение “чистых форм мышления” к предпринимаемому Феноменологией “трансцендентальному обоснованию познания”. Такая, с одной стороны, сформулированная как бы невзначай, а, с другой стороны, абсолютно точная, характеристика существа гегелевской философии - настоящая находка для исследователя.
54. Проблематика “признания” рождается, т.о., уже здесь, а вовсе не в IV главе; поэтому, например, ошибается Хесле, полагая что главный “разлом” в системе Гегеля в “Феноменологии” проходит между сферами “субъективности” и “интерсубъективности”; как мы уже пытались показать, для Гегеля как для “трансцендентального” философа это различие вторично.
55. Это требование, повторим, законно в контексте феноменологического рассмотрения, если его понимать лишь как запрет на вмешательство внешней рефлексии “нашего сознания” в рассмотрение предмета. “Наше сознание” должно как бы сдерживать себя от того, чтобы препятствовать своей рефлексией созерцанию предмета, созерцанию, благодаря которому на предмет переносятся структуры деятельности сознания и благодаря этому - становятся видимыми, “осознаются”. Предмет - это лишь зеркало, которое в себе не имеет никаких образов и только отражает структуры деятельности сознания. Сознание, чтобы увидеть их чистое отражение, должно остерегаться “трогать зеркало руками”; последнее, именно, вмешательство внешней рефлексии, способно оставить на предмете искажающие самосозерцание сознания в предмете следы.
56. Структура суждения, в частности, роль связки в суждении, будет рассмотрена во II главе нашего исследования.
57. Поэтому всякое познание и есть в конечном счете сравнение с самосознанием.
58. В этом интереснейшем пункте, может быть, мы только и можем увидеть связь “существования” и бытия-определенности: сущее “наше сознание” требует от своего предмета, “самого сознания”, определенности, стремящейся в своем завершенно-бесконечном становлении к наличной абсолютной простоте субстрата, “существования”.
59. Формообразования Феноменологии, т.о., есть не просто этапы феноменологического опыта (вопрос, можно ли все их исчислить, остается по большому счету открытым), но такие целостности, которые воспроизводят все элементы структуры сознания и потому могут выдавать себя за образования самодостаточные и неподвижные. В этом смысле они - на трансцендентальном уровне - подобны Уму, Душе, Космосу Плотина, которые одни лишь в бесконечном ряду ступеней эманации воспроизводят в себе, на своем материале всю систему мироздания.
60. “Определенность” оказывается все же вторичной по отношению к “существованию”, а “наука” - к “жизни”, именно поэтому и требуется механизм “бесконечности” - бесконечно пластичный метод - чтобы растворить “существование” в “определенности”. - Неожиданный взгляд для “панлогиста” Гегеля, не правда ли ?
61. Нет необходимости, видимо, разбирать затрагиваемую Гегелем проблематику конкретного отрицания, этот вопрос многократно обсуждался в отечественной литературе.
62. “Абстрактность” означает здесь отсутствие опосредования; чаще же под “абстрактностью” понимается у Гегеля вызываемая этим отсутствием недостаточная различенность моментов единства.
63. “Как воспринимание, - говорит Гегель, - оно (“само сознание”, - В.К.) пришло к мыслям, которые, однако, оно (здесь - только “наше сознание”, - В.К.) впервые связывает только в безусловно-всеобщем.” (2,4,71) - Безусловно-всеобщее “самим сознанием” еще не достигнуто, поэтому мы можем сказать, что к “мыслям”, т.е. всеобщим определенностям, пришло и “само сознание”,, но связывает их в безусловно-всеобщее пока только “наше сознание”.
“Для нас этот предмет (безусловно-всеобщее, - В.К.) обнаруживается через движение сознания (“самого сознания”, - В.К.) в том смысле, что сознание вплетено в его становление ... “ (2,4,71), т.е. безусловно-всеобщее сформировалась для “нашего сознания” лишь в силу того, что “мы” видели движения соотношения “самого сознания” и “предмета”, но этого движения не видело “само сознание” (так как оно само в нем участвовало).
“Так как сознание (“само сознание”, - В.К.) имело своим
содержанием (т.е. предметом, В.К.) только предметную сущность (“мысли”, или определенности, - В.К.), а не сознание как таковое (т.е. не видело себя, созерцающего “мысли”, - В.К.), то результат для него надо
усмотреть в значении предметного (в “мыслях”, - В.К.), и сознание (“само сознание”, - В.К.) - еще отступающим назад от того, что получилось в становлении (т.е. от безусловно-всеобщего, - В.К.) ... “ (2,4,71). - Видя “мысли” “глазами” “самого сознания”, которое переходит от одной из них к другой, “наше сознание” в то же время видит их в единстве, как безусловно-всеобщее. - Замечу, что я предложил комментарий этого фрагмента главным образом для того, чтобы показать, как легко читается “Феноменология”, если учитывать различие позиций “нашего сознания” и “самого сознания”; кажущиеся странными и не вполне определенными формулировки Гегеля оказываются элементом общего движения Феноменологии.
64. В “Феноменологии” подобное “неузнавание” есть, конечно, формально-негативная предпосылка “узнавания”, т.е. опыта сознания, познания, - точно так же как и в греческой трагедии, как об этом пишет Аристотель в “Поэтике”: узнавание есть “перемена от незнания к знанию” (7,44,657); о видах узнавания см. также: (7,4,662-664); изложение этого фрагмента у А.Ф.Лосева см. в: (29,736-737).
Имеется ли связь между гегелевской реконструкцией “узнавания” и его античными прообразами ? - Если при этом не обременять себя несущественными вопросами, например, “имел ли ввиду” Гегель “Эдипа” или “Поэтику”, работая над “Феноменологией”, а попытаться соотнести смысл античного и новоевропейского образов “узнавания” как действия, открывающего самосознанию его самого, то рассмотрение “Феноменологии духа” наверняка способно обрадовать неожиданностями.
65. Путь сознания к понятию силы Гегель представляет так. Безусловно-всеобщее есть не только форма, но и содержание, поскольку всякое (иное) содержание, выступавшее прежде в восприятии, “на деле принадлежит только форме и растворяется в ее единство” (2,4,72). Как единство для-себя-бытия (рефлектированное в себя “одно”) и бытия для чего-то иного (всеобщая Среда существующих материй) это содержание всеобще, или “не может быть другого содержания, которое ... могло бы избежать ухода обратно в эту безусловную всеобщность” (2,4,72). Как соотносятся эти моменты ставшего единства, безусловно-всеобщего ? - “Благодаря тому, что они суть только в этой всеобщности, они вообще более не отделены друг от друга (как в сфере восприятия, где это единство только складывалось, - В.К.), а по существу суть стороны, снимающие себя в себе самих, и установлен только переход их друг в друга.” (2,4,72) Это диалектическое движение Гегель и называет силой. “Самостоятельно установленные (материи) переходят непосредственно в свое единство, а их единственно непосредственно переходит в развертывание, и это последнее, в свою очередь, - назад, в сведение. Но это движение и есть то, что называется силой: один момент ее, а именно, сила как распространение самостоятельных материй в их бытии, есть внешнее проявление; она же как исчезаемость (Verschwundennsein) их
есть сила, оттесненная из своего внешнего проявления обратно в себя, или сила в собственном смысле.” (2,4,73)
66. Приведем важнейшие фрагменты, в которых Гегель показывает это открытие “самого сознания”. “Для сознания (“самого сознания”, - В.К.) ... в восприятии движения силы выясняется, что крайности ... не представляют собой чего-либо в себе, но эти стороны, в которых должна была устойчиво существовать их различенная сущность, суть только исчезающие моменты, непосредственный переход каждой стороны в противоположную.” (2,4,76) “Эти две силы существуют как для себя сущие сущности; но их существование есть такое движение по отношению друг к другу, что их бытие есть скорее чистая установленность через нечто иное, т.е. что их бытие скорее имеет чистое значение исчезания. Они существуют не как крайние термины, которые удерживали бы для себя что-нибудь прочное и только пересылали бы какое-нибудь внешнее свойство друг другу в средний термин и в точку их соприкосновения; то, что они суть, они суть только в этом среднем термине и в этом соприкосновении.” (2,4,76)
Сущность этих противоположных моментов состоит в том, что “каждый момент есть только благодаря другому, и то, что есть таким образом каждая сила благодаря другому моменту, тем она непосредственно уже не является, так как она оказывается таковой благодаря другому моменту. На деле, следовательно, у этих сил нет собственных субстанций, которые были бы их носителями и сохраняли их. Понятие силы сохраняется, напротив (т.е. в отличие от подразумеваемых носителей, устойчивых субстанций, - В.К.), как сущность самой ее действительности; сила как действительная сила состоит просто лишь во внешнем проявлении, которое в то же время есть не что иное, как снятие себя самого. Эта действительная сила, представляемая свободной от своего внешнего проявления и сущей для себя, есть сила, оттесненная обратно в себя; но эта определенность, на деле, как оказалось, сама есть только момент внешнего проявления. Истина силы остается, следовательно, только мыслью о ней; и моменты ее действительности вместе с ее субстанциями и с ее движением, будучи лишены опоры, сваливаются в некоторое неразличимое единство, которое не есть оттесненная в себя сила (ибо последняя сама есть только такой момент), а есть понятие как понятие. Реализация силы, следовательно, есть в то же время потеря реальности; она стала здесь, напротив, чем-то совершенно иным, а именно той всеобщностью, которую рассудок сперва или непосредственно признает ее сущностью и которая оказывается также ее сущностью в ее долженствующей быть реальности, (т.е.) в действительных субстанциях.” (2,4,76-77)
67. На примере рассмотрения “силы” мы видим, как Гегель - под давлением “реальности” - сближает некоторые моменты феноменологического движения и с понятиями науки (а не только с образами истории философии, искусства, нравственного сознания и
т.п.). В литературе о “Феноменологии духа” до сих пор считают за удачу обнаружение подобных сходств между моментами феноменологического движения и философскими или научными теориями и историческими событиями, забывая о мудром замечании Г.Г.Шпета: “Догадки, основанные на знании истории культуры и философии, сплошь и рядом не достигают цели” (2,4,XLVII). Более того, подобные сходства используют как средство или ключ - иногда почти единственный - для интерпретации “Феноменологии”. Найдя что-то внешне знакомое, исследователи стараются “угадать”, что же “имел ввиду” Гегель, упоминая в таком-то контексте о том-то или том-то. (Уж не думают ли, что он намеренно оставлял эти метки, как бы заранее сочувствуя бьющимся над “Феноменологией” “гегелеведам” ?) И в этом, как раз очень популярном у гегелеведов месте, приходится снова повторить, что подобные прочтения “Феноменологии” беспредметны, а их метод - изначально ошибочен.
Идея “Феноменологии” не предусматривает непосредственных совпадений феноменологических формообразований с явлениями “реальной истории”. Феноменологические образы должны пониматься как чистые структуры, описывающие отношения сознания и предмета, и только. Все фрагменты, напоминающие о “реальном” мире, должны быть признаны не вполне достойными феноменологического замысла. Конечно, можно сказать и так, что все исторические события и все явления культуры являются внешними манифестациями тех или иных трансцендентально-феноменологических формообразований, но задача исследователя состоит ведь не в хаотичном отыскивании этих соответствий феноменологических образов с явлениями “реальной” жизни, а в построении всего замкнутого ряда формообразований Феноменологии, только в этом случае мы оказались бы способными схватить собственно феноменологическую предметность.
Оправданием для Гегеля за то, что “реальность” то тут, то там прорывается в текст, на мой взгляд, является следующее: Гегель, конечно, не только трансцендентально-созерцающий философ, но и погруженный в реальную жизнь и историю человек, он не может полностью очистить свое сознание от “естественных” ассоциаций, завершить “трансцендентальную редукцию”. Следует учитывать и то, что “Феноменология” была написана сравнительно быстро, и наличие в ней элементов, не вполне соответствующих целому, уже и с этой точки зрения неудивительно. И уж конечно, современный исследователь, располагающий большим, чем оказавшийся в стесненных жизненных обстоятельствах философ, временем, должен потрудиться над выработкой более тонкого метода прочтения “Феноменологии духа”.
68. Гегель говорит, что в явлении “бытие восприятия и чувственно-предметное вообще имеют только негативное значение, сознание, следовательно, отсюда рефлектирует в себя как в истинное, но в качестве сознания снова возводит это истинное в предметное
“внутреннее” и различает эту рефлексию вещей (видимо, Гегель имеет ввиду конституирование внешнего сознанию “внутреннего” вещей, - В.К.) от своей рефлексии в себя самого ... Посему это внутреннее есть для сознания некоторый крайний термин его отношения к нему (а “средний термин” - “явление”, - В.К.).” (2,4,78)
69. Читателю, не знакомому с дальнейшим движением “Феноменологии”, этот тезис о для-себя-бытии как негативном движении должен представляться не вполне понятным. Более того, обоснование этого тезиса дается только “Логикой”. Тем не менее, Гегель не замечает этого и использует данный тезис как технический инструмент. Думается, это обстоятельство свидетельствует о силе философских интуиций Гегеля, которые, не получив еще развернутого изложения в тексте, уже используются как нечто самоочевидное.
70. Предлагаю проверить правильность интерпретации этого замечательно тонкого размышления философа: “внутреннее” для сознания “потому истинное, что сознание в нем как в (бытии) в себе обладает вместе с тем достоверностью себя самого или моментом своего для-себя-бытия; но этого основания оно еще не сознает, ибо для-себя-бытие, которое само по себе должно содержать “внутреннее”, было бы не чем иным, как негативным движением; но это последнее для сознания остается еще предметным исчезающим явлением, оно еще не есть его собственное для-себя-бытие; “внутреннее” поэтому для него, конечно, понятие, но оно еще не знает природы понятия.” (2,4,78)
71. С достигнутой теперь точки зрения ясно, почему “само сознание” в IV главе будет выступать как “жизнь”, ведь именно понятие жизни охватывает у Гегеля все многообразие проявлений структуры “бесконечности”. О соотношении “жизни” и “органического” мы специально будем говорить во втором параграфе третьей главы нашего исследования. См. также прим. 115.
72. См. прим. 64. Если сознание не узнает в этом целом себя, воспринимает его как внешнюю себе силу, то это - “судьба”. Кажущаяся содержательно сложной мифологема “разлагается”, т.о., на простые логико-феноменологические составляющие. К этой теме Гегель снова вернется в главах VI и VII “Феноменологии”.
73. Переход от сознания к самосознанию с логической точки зрения может быть понят как переход от “дурной бесконечности” к “истинной бесконечности”, о различии которых мы специально будем говорить в первом параграфе второй главы исследования. Но мы видели, что по существу эта проблема возникает у Гегеля до Логики (напротив, сам предмет Логики формируется феноменологическим построением “бесконечности”), независимо от специфически-логической проблематики, и решается эта проблема не столько логическими, сколько феноменологическими средствами.
Это обстоятельство, во-первых, требует скорректировать не вполне определенное представление о “панлогизме” Гегеля, а, во-
вторых, показывает, что если мы оставляем Логику (в составе “Энциклопедии”) без Феноменологии, то мы оставляем ее без ее действительной основы, и в энциклопедической системе неизбежно будет обнаруживаться противоречие между Логикой и реальной философией. Но, несмотря на то, что и исторически, и по существу, переход от “сознания” к “самосознанию” не является следствием некой логической закономерности, указанную связь все же следует иметь ввиду как перспективу, в которой будет продолжено обсуждение этой проблематики.
Так как реально система философии Гегеля основывается не на Логике, а на Феноменологии, то направление этой связи двух частей системы (несмотря, например, на те различия в типах их систем, которые отмечает Фуко) указывает на ее принципиальное родство с системой Фихте, у которого “Я есть Я” - основание для “А=А”, но не наоборот. А если взглянуть на более широкий исторический контекст, то можно сказать, что вся традиция европейского трансцендентализма начиная с Декарта была, по существу, традицией рассмотрения самоочевидного существования самосознания как основы всякого бытия и познания, и чистая структура этого акта (или, с другой стороны, его формальный результат) - “бесконечность”.
74. Выбор именно этой книги в качестве примера выражения точки зрения “гегелеведения” обусловлен тем, что в отечественных публикациях последних лет воспроизводятся не только ее основные установки, но и сам стиль обсуждения проблем интерпретации гегелевской философии.
75. Об этом, конечно, можно писать и спокойнее: “Естественно, что в феноменологии как разделе “Философии духа” нашли отражение идеи “Феноменологии духа” (1807 г.), но, во-первых, специфическое содержание этой работы было в каком-то смысле потеряно в “Философии духа”, а, во-вторых, Гегель придал пониманию феноменологии новые оттенки, связанные с иным, чем в работе 1807 г., пониманием духа, разума.” (11,17)
76. Оценка этого текста Н.В.Мотрошиловой приводится у нас выше. См. также (60).
77. А.В.Кричевский (см.: 12), прямо ссылаясь на Борхеса, предлагает говорить “алеф”. При этом упускается из виду, что у Борхеса “метафизическое” конструирование всегда получает нарочито-наивную пространственно-временную локализацию, вообще включается в “бытовой” контекст, - Борхес и демонстрирует нам то “растворение” философии в культуре, о котором у нас еще будет идти речь. Мало того, что алеф у Борхеса имеет определенный диаметр и находится на уровне такой-то ступеньки подвала на улице Гарая, но герой говорит даже: мой алеф. А допустимо ли выпускать из внимания последнюю, самую глубокомысленную, страничку повествования Борхеса, на которой обосновывается, что это был фальшивый алеф ?
78. Заметим, что во всем этом фрагменте речь идет только о “реально-философском”, т.е. на самом деле - полуфилософском, образе духа. Дух как субстанция бесконечной определенности и сама бесконечная определенность, дух как явленная идея, выступит перед нами в феноменологическом контексте в процессе рассмотрения последних глав “Феноменологии духа”, а выражением его чистой структурной определенности является “Наука логики”.
ГЛАВА ВТОРАЯ 79. Подобный подход был бы оправданным, если бы мы
предпринимали специальное исследование “Логики” в контексте того целого, каким является “система”, - но мы, напротив, только и пытаемся теперь подойти к самому общему представлению об этом целом.
80. Значимым для понимания этой проблемы является анализ, данный в: (37).
81. См., напр., статью Х.-Г. Гадамера “Гегель и античная диалектика” в: (53).
82. Трудно избавиться от впечатления, что в этих простых формулах о “конечном”, “границе” и т.п. абстрактных определениях мысли Гегель “угадал” весь экзистенциализи 20 века, который, правда, сам себя смог представить лишь в форме десятков (?) томов - столь ли уж необходимых для самой мысли ?
83. В этих определениях мы можем увидеть не только фиксирование определенного этапа движения логической предметности, но и нескрываемую полемику с кантовско-фихтевской философией.
84. Это обстоятельство нужно иметь ввиду при обсуждении вопроса о судьбе мира перед лицом выступившей в “абсолютной” философии спекулятивной предметности, Идеи.
85. Можно ли сравнить это положение с теорией относительности, в которой максимально возможная скорость взаимодействия - скорость света - приходит на смену принимавшемуся прежней физикой неподвижному эфиру ?
86. В этом контексте “бытие” (противостоящее “сущности”) означает, конечно, не “истинное бытие” (Понятие, Идея), а “бытие как категория”. Возможно, Гегель воспроизводит в этом пункте тот смысл “Бытия”, который принимался Кантом, радикально противопоставлявшим бытие рефлексии. О связи непосредственности и “существования” напомнят нам и последние страницы “Феноменологии”.
87. Обратим внимание на слова философа, подтверждающие обоснованность такого восприятия внешней рефлексии: “Эта внешняя рефлексия есть заключение, в котором двумя полюсами служат непосредственное и рефлексия в себя; его серединой служит соотношение этих полюсов, определенное непосредственное, так что одна часть этого определенного непосредственного, непосредственность, присуща лишь одному полюсу, а другая, определенность или отрицание, - лишь другому.” (1,2,23)
88. В современной формальной логике, правда, большинство исследователей придерживается того взгляда, что “законом логики” могла бы быть названа всякая тождественно-истинная формула, так что
первые три (поддающиеся формализации) закона логики никак не могут претендовать в этом смысле на исключительность.
89. В отечественной литературе последних десятилетий безусловно господствовало это - восходящее к “оговоркам” Гегеля - “редукционистское” истолкование диалектики “Логики”. Полагали, что чем больше “движения”, тем больше “диалектики”, следовательно, требовалось поддерживать любые заявления о движении и переходе чего-угодно во что-угодно.
90. Психологическим аналогом этого процесса является самопознание, всегда озадачивающее нас - пугающее или радующее - неожиданностями. Завершение самопознания, однако, если бы оно могло состояться как событие реальной жизни, всегда означало бы признание себя и умиротворение.
91. Бесконечное, говорит Гегель, есть “противоречие, обнаруживающееся в сфере бытия” (1,2,66).
92. Вспомним еще раз аналогию со светом, который, как максимально быстрый способ распространения взаимодействий, оказывается функционально тождественным неподвижному эфиру, поскольку также служит точкой отсчета для оценки всякого иного движения.
93. В “мире”, т.е. на не-спекулятивных уровнях предметности, тема возвращения принимает различные образы, например, обращение к той части “Феноменологии духа”, где разум рассматривается на уровне наблюдения органического (см.: 2,4,139 и далее), показывает, насколько фундаментальную роль играет представленное движение возвращения в формировании понятия спекулятивной предметности.
94. Прав Фуко, показывающий, что сходство немецкой классической философии с рационализмом 17-18 веков является в этом вопросе внешним, реально же “взаимопрозрачность знания и философии” (43,272) разрушается: предмет философии сужается, философия осознает свой трансцендентальный характер, освобождая тем самым место независимым от философии (“матезиса”) “эмпиричностям”.
95. В изложении этого параграфа мы будем опираться преимущественно на Малую Логику.
96. В пользу того, что выбор этой точки зрения не является случайным, говорит то, что эти две темы - специфика спекулятивного предложения и отношение к традиционной метафизике - много раз выступали связанными в работах Гегеля и до “Учения о понятии”. См., напр.: (2,4,11-12; 33-36); (1,1,149-150; 1,2,30-31; 37). Нашлось место для этой темы и в резюмирующей “Логику” главе “Абсолютная идея” (см.: 1,3,299-300). Вспомним еще, что именно в контексте обсуждения природы глагола “быть” Фуко упоминает о Гегеле как об основателе традиции “изумления перед отношениями бытия и языка” (см.: 43,130).
97. А.В.Кричевский обращает внимание на то, что впервые эта
спекулятивная структура, которую он называет “принципом обращения результата” (см.: 12,155), встречается еще у Платона (см.: 36,3,292-294).
98. П.П.Гайденко, процитировав это место в рецензии на книгу А.Л.Доброхотова, пишет даже: “Гегель парадоксальным образом оказывается наследником номиналистической традиции - ведь именно у номиналистов бытие трактуется как простая абстракция от единичных вещей” (14,1987,№10,92). Мне это сравнение представляется крайне некорректным. Даже если гегелевское бытие и “простая” абстракция, с чем тоже можно было бы поспорить, то уж во всяком случае никак не от единичных вещей.
99. Поэтому сведение гегелевского учения о бытии к рассмотрению лишь бытия как категории, что делает в своей книге А.Л.Доброхотов, и вызывает не соответствующее реальному положению дел впечатление, будто, как пишет в упомянутой рецензии П.П.Гайденко, “само понятие бытия Гегель трактует совсем не так, как представители греческой классики” (14,1987,№10,92).
100. “Конкретное-спекулятивное” - один из тех терминов, которые использует в своем труде о Гегеле И.А.Ильин. Он означает абсолютную идею, спекулятивный идеал, финал Логики. В отличие от него, “абстрактное-спекулятивное” - понятие абсолютного знания, “бытие”, финал Феноменологии и начало Логики; “абстрактное-формальное” - рассудочная общность, предмет реальной философии и науки; “конкретное-ээмпирическое” - сфера единичных чувственно-воспринимаемых вещей. Логика в этих терминах предстает как движение от абстрактного-спекулятивного к конкретному-спекулятивному, а Феноменология - как движение от конкретного-эмпирического через абстрактное-формальное к абстрактному-спекулятивному.
101. Принимая эти характеристики, следует сразу же указать и на принципиальную неудовлетворительность концепции спекулятивного И.А.Ильина. В специально посвященном этому вопросу четвертой главе первого тома он связывает “образность”, “картинность”, “наглядность” гегелевской мысли с тем, что “смысл”, принимая в себя “мышление”, выдает в качестве себя самого,, в качестве самого предмета или логического то, что не имманентно ему, а лишь внесено в него мышлением. Это принципиально неверно. Причина “созерцаемости”, образности гегелевской мысли заключается в том, что это именно завершенное мышление. Никаких дополнительных условий для этого не требуется. Правда, тут же у Ильина имеются и формулы, в которых он совершенно правильно говорит об имманентности образности мысли как таковой, например, “Спекулятивная мысль есть не только мысль, но, вместе с тем, как таковая (выделено мной, - В.К.), - и созерцание” (21,1,42). Тем не менее, речь, видимо, должна идти не о каком-то внешнем недосмотре в его гегелеведческой концепции, а о ее двойственности, ведь в том же, совершенно правильном, контексте
проходит, например, и мысль о том, что “подвижность” логического предмета есть результат “изменения его природы”, вызванного, якобы, принятием в логический “смысл” “мышления”, “целых слоев душевных состояний”. Таким образом, в “сотрудничестве” с И.А.Ильиным в изучении философии Гегеля, которое, несомненно, может быть весьма плодотворным, необходимо сохранять максимальную осторожность и критичность - с тем, чтобы неподражаемая форма труда русского философа не заставила отказаться от самостоятельного продумывания гегелевской мысли, поскольку последнее всегда и является для исследователя самым актуальным.
102. В цитировавшейся книге А.Л.Доброхотова есть выражение: “Интуиция всегда в конечном счете есть мысль” (20,223). Здесь мы видим, что строю гегелевской мысли соответствовало бы и обратное утверждение, а именно: мысль в конечном счете (т.е. в своем предельном состоянии) есть интуиция.
103. Термином “интенсивность” я хочу подчеркнуть два в равной мере существенных момента: во-первых, бесконечность окончательно перестает быть здесь процессом, возвышаясь до простого единства абсолютной отрицательности; во-вторых, моментами, снимаемыми в непосредственности абсолютной идеи, являются теперь лишь такие непосредственности, которые сами возникли в результате завершенно-бесконечного опосредования.
104. Термин И.А.Ильина должен пониматься строго трансцендентально. Однако, как уже было отмечено, Ильин считает, что тождество это не является действительным внутренним единством, поскольку “мышление”, вторгаясь в объективный “смысл”, меняет, якобы, его природу, вносит в него чуждую ему процессуальность и выдает свою собственную жизнь за жизнь самого смысла, что разрушает в конце концов как чистоту смысла, так и естественные границы мышления. “Созерцающее мышление, ушедшее в смысл, вносит в него начало процесса.” (21,1,57) “Героическая интуиция Гегеля ... обогащает смысл собою, вносит в него себя ... и тем самым меняет его природу ... Смысл начинает жить так, как это свойственно только живому мышлению; а мышление полагает такую объективность, такие свойства, которые присущи только смыслу.” (21,1,57) “Основная феноменологическая ошибка Гегеля”, по Ильину, заключается в том, что “целые слои душевных состояний испытывались и трактовались Гегелем как куски или отрывки самого логического “предмета” в его сверхчувственной жизни; а смысл, впитавший в себя жизнь души, рассматривался как живое, самопочинно меняющееся и развивающееся духовное начало” (21,1,61).
Такую интерпретацию гегелевской философии принять, конечно, нельзя. Думается, что основой ее явилось невнимание к роли “Феноменологии” в системе Гегеля, ведь именно феноменологический путь должен убедить исследователя в том, что “мышление” и “смысл”,
“я” и “предмет” - это не разные сущности, пусть даже и соотносящиеся, а просто единая структура “бесконечности”, которую мы, только мы, можем рассматривать “субъективно” или “объективно”, но сама она - являясь трансцендентальной определенностью и не соотносясь с “существованием” - не есть ни “субъект”, “жизнь”, ни “объект”, “бытие”.
105. Послушаем И.А.Ильина: “весь процесс конкретизации следует представлять себе так, что он совершается в пределах известной, недоопределенной всеобщности, ее силами и во имя ее цели. Эта всеобщность есть та основа, которая творит в себе раздвоение, присутствует имманентно в каждой из сторон и, вслед за тем, движет их изнутри ко взаимному приятию и сращению. Завершение конкретного синтеза обнаруживает или разоблачает эту основу как творческую силу и, в то же время, как результат, своеобразно утвердившийся там, где царила распря. Туман диалектической видимости расступается, и за ним обнаруживается первоначальная основа понятия во всей ее “прозрачной ясности”, глубине и содержательной зрелости.” (21,1,158)
106. Выше мы уже касались этой проблемы, см., например, параграф 4 первой гл. нашего исследования.
107. Посмотрим, как Гегель точнее определяет соотношение в идее (уже в идее вообще, а не в абсолютной идее) спекулятивной формы единства различенного с бесконечной определенностью (отрицатель-ностью) идеи. Во-первых, говорит Гегель, идея есть “простая истина, тождество понятия и объективности как всеобщее, в котором отношение противоположности и устойчивость особенного разрешены в его тождественную с собой отрицательность и выступают как равенство с самим собой. Во-вторых, идея есть соотношение для-себя-сущей субъективности простого понятия и его отличной от него объективности ... В качестве этого соотношения идея есть процесс, в котором она расщепляется на индивидуальность и на ее неорганическую природу, вновь приводит эту неорганическую природу под власть субъекта и возвращается к первой простой всеобщности. Тождество идеи с самой собой составляет одно с процессом (выделено мной, - В.К.).” (1,3,214) И далее читаем: “Идея, ввиду свободы, которой понятие достигает в ней, имеет внутри себя и самую острую противоположность; ее покой состоит в твердости и уверенности, с которыми она вечно порождает эту противоположность и вечно ее преодолевает, и в ней сливается с самой собой.” (1,3,214)
Указанные Гегелем два момента структуры идеи, представленные категориально, есть “жизнь” и “познание”, жизнь - как простая непосредственность идеи, познание - как ее равная себе отрицательность, завершающее же слияние всех моментов познания в единый смысл есть абсолютная идея, спекулятивный идеал в прямом смысле. Гегель так подвел итог проделанного движения: “Этот результат как возвращающееся в себя и тождественное с собой целое
вновь сообщил себе форму непосредственности. Стало быть, он сам таков, каким определило себя началополагающее. Как простое соотношение с собой он нечто всеобщее, и отрицательность, которая составляла его диалектику и опосредствование, точно так же слилась в этой всеобщности в простую определенность, которая вновь может быть началом.” (1,3,303-304) “Таким образом, и логика возвратилась в абсолютной идее к тому простому единству, которое есть ее начало; чистая непосредственность бытия, в котором всякое определение представляется сначала стертым или опущенным путем абстракции, есть идея, вернувшаяся путем опосредствования, а именно путем снятия опосредствования, к своему соответствующему равенству с собой.” (1,3,309)
108. Можно было бы предположить, что как свет нуждается во тьме, чтобы явить слитно живущее в нем многообразие цветов, так и бытие-определенность (Ум, Идея и т.п.) нуждается в своей абсолютной и абстрактной противоположности (материи, “существовании”), чтобы выявить себя, в конечном счете - для самого себя же, т.е. познать себя. Подобное предположение, однако, могло бы иметь смысл, если бы и разумное начало также было абстрактным, а между тем логическое движение выявляет его завершенно-бесконечную, спекулятивную природу. И все же следует признать, что Гегель - не говоря уже об интерпретаторах - в какой-то мере находился под влиянием этого противоположения, а потому и был склонен принижать спекулятивное значение “Логики”, приписывая ей (по сравнению с “синтезом”) “абстрактность”, - разумеется, лишь мнимую. См., напр.: “Эта идея есть еще логическая идея и т.д.” (см.: 1,3,309)
109. Как мы видели, с научно-систематической точки зрения все гегелевские трудности с “переходом” есть результат попытки обойтись в философской системе без Феноменологии. Но то, что по логике самой системы должно было располагаться на разных “онтологических” уровнях, оказалось смешенным в один ком, вследствие чего и возникла “проблема перехода”.
110. Если говорить об эрзаце “Феноменологии духа” в рамках “Энциклопедии”, то им является скорее фрагмент о трех отношениях
мысли к объективности, именно он должен был бы готовить
читателя к восприятию “Логики”. 111. Когда критики Гегеля утверждают, что переход логической
идеи в природу недостаточно хорошо обоснован, то под этим следует понимать главным образом то, что непонятно,, зачем, собственно логическая идея совершает этот переход, ведь в качестве спекулятивного смысла - а только так ее и можно представить - она уже завершена. (См., напр., шеллинговское толкование “двойного становления” абсолютного - “логического” и “реального” - в: (46,2,513-514). Но в этом упреке Гегелю должна была бы отражаться и другая
проблема: а откуда вдруг возникает предмет реальной философии ? Это ведь тоже весьма сложно сконструированная предметность, особым образом соединяющая трансцендентальную определенность с внешней ей “субстратностью”, ее нельзя просто “найти”, “взглянув” на мир. Но, как ни странно, в литературе о философии Гегеля трудно найти указания на то, что без Феноменологии не только Логика лишается своего предметного основания, но равным образом также и реальная философия, и ее внешнее сочленение с Логикой в акте “перехода” в значительной степени и обусловлено, видимо, этой ее “безосновностью”. Отсутствие видимого осознания этой трудности подтверждает наше мнение о том, что исследовали до сих пор не продумывали вопрос о “генезисе” предметности у Гегеля и специфике различных ее уровней.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 112. Ниже мы увидим, как хорошо согласуется этот общий взгляд
на структуру “Феноменологии духа” с решением множества частных вопросов, например, с пониманием Гегелем места органического в феноменологическом движении.
113. Правильно описывает смысл гегелевского образа “жизнь” В.Н.Кузнецов: “В понимании Гегеля всякая внутренне противоречивая и развивающаяся реальность является “живой”. “Жизнь” в произведениях Гегеля - это фактически синоним диалектических процессов. Ее биологическую форму он рассматривал как их чувственно воспринимаемое проявление.” (26,48) В контексте феноменологического рассмотрения, однако, мы должны отличать жизнь от других - структурно тождественных ей - спекулятивных образов, т.е. от самосознания, разума и т.д.. Анализ их соотношения и есть, собственно, то, во что развернется наше исследование структуры “Феноменологии духа” Гегеля.
114. Сам философ о предстоящем опыте говорит: “Но эта иная жизнь, для которой род есть как таковой и которая для себя самой есть род, (т.е.) самосознание, есть для себя прежде всего лишь в качестве этой простой сущности и имеет предметом себя как чистое “я”; в опыте самосознания, который теперь подлежит рассмотрению, этот абстрактный предмет (т.е. абстрактное “я”, - В.К.) обогатится для него и получит то раскрытие, которое мы видим в жизни (что и будет означать усмотрение единства сознания и жизни, - В.К.).” (2,4, 97)
115. “Удвоение самосознания” и начало движения взаимного признавания является той точкой, в которой завершается, по мнению Хесле, движение “Феноменологии” в сфере субъективности, и оно вступает в область интерсубъективных отношений. Исповедуемая Хесле логика анализа гегелевской философии, принимающая в качестве фундаментального это различение субъективного и интерсубъективного, приводит к выводу, согласно которому все последующее движение “Феноменологии” не имеет уже значения для “Логики”, которая целиком принадлежит области трансцендентальной субъективности. Я, со своей стороны, полагаю, что различение субъективного и интерсубъективного значимо только для “субстрата” сознания, но оно не характеризует само сознание, оно не является трансцендентальным или логическим, спекулятивно-содержательным, различием, - а только эти последние и должны приниматься во внимание при рассмотрении философии Гегеля.
116. Эти образы жизни и смерти, риска, господства и рабства и т.п. больше всего занимали многие десятилетия марксистски или экзистенциалистски настроенных читателей “Феноменологии”, которые как раз и обращали внимание преимущественно на IV главу. Однако, как легко понять в контексте нашего изложения, ни антропологизация, ни
историзация этих понятий недопустимы, все они - лишь иносказания, действительным содержанием которых являются моменты эволюции единой феноменологической структуры.
117. Эти две точки зрения мы и называем в нашем исследовании “точкой зрения бытия” и “точкой зрения определенности”. Мы можем найти для них соответствия на всех этапах феноменологического движения, поскольку “точка зрения бытия” вообще указывает на момент непосредственности феноменологического опыта, а “точка зрения определенности” - на опосредование и развитый характер определенности; это как бы крайние точки движения сознания на каждом его этапе. Например, “точка зрения бытия” охватывает все предметное сознание в целом, тогда как “точка зрения определенности” выявляется в ходе движения предметного сознания как момент негации, диалектического опосредования. Напротив, в области самосознания “точка зрения определенности” является в целом доминирующей, тогда как непосредственность, бытие (в образе жизни) здесь вторичны. В соответствии с ориентацией различных философских теорий на те или иные типы формообразований и все основные философские позиции могли бы быть разделены на эти две группы.(Всякая философия, конечно, более или менее “чисто” реализует определенное феноменологическое формообразование, так что следовало бы говорить не только о тождестве логического и исторического, но и о тождестве феноменологического и исторического, - правда, в обоих случаях подобное отождествление предполагает устранение “логика” и “феноменолога” как достигнутой историей точки зрения на свои предшествующие этапы.)
118. См. прим. 64 к первой главе. 119. Это хороший пример взаимодействия “нашего сознания” и
“самого сознания” в ходе феноменологического движения. Без “нашего сознания”, без его “подсказки”, “само сознание” не могло бы здесь двинуться вперед. - Не в этом ли основание того, что реальная история - в отличие от феноменологической ее реконструкции - обречена на почти бесконечные жертвы времени, труда и крови ради достижения того знания, которое, оказывается, может быть достигнуто не только без “страданий”, но и с удовольствием ?
120. “За то, что неизменное сознание отрекается от своей формы и оставляет ее (разделение действительности на подлежащую деятельности сознания внешность и в-себе-бытие неизменного, - В.К.), а единичное сознание, напротив, воздает благодарностью, т.е. отказывает себе в удовлетворении сознания своей самостоятельности и, слагая с себя, передает сущность действования потустороннему (где эта сущность и воссоединяется с неизменным самим по себе, - В.К.), - благодаря обоим этим моментам взаимного отказа от себя обеих частей возникает, конечно, тем самым для сознания его единство с неизменным.” (2,4,119)
121. “Если названная крайность (неизменное само по себе, - В.К.) предоставляет ему (единичному сознанию, - В.К.) свою поверхность (видимость, несущественную сторону действительности, которую оно и потребляет, - В.К.), сознание все-таки выражает благодарность и, отказываясь от своего действования, т.е. от самой своей сущности (т.е. от момента “в себе”, который оно выносит в сферу потустороннего, - В.К.), совершает этим, собственно говоря, большее деяние, чем другая (крайность) (неизменное само по себе, - В.К.), которая лишь отталкивает от себя поверхностное (предоставляя его в пользование единичного сознания, - В.К.). Все движение (заключения, - В.К.), следовательно, рефлектируется в крайность единичности не только в действительном вожделении, в процессе труда и потреблении, но даже в благодарении, в котором как будто совершается противоположное этому (т.е. инициатива должна была бы переходить к неизменному, - В.К.). Сознание чувствует себя тут в качестве этого единичного и не обманывается видимостью своего отречения, ибо истина его состоит в том, что от себя оно не отказалось, а произошла лишь двойная рефлексия в обе крайности, и в результате - повторное расщепление на противоположное сознание неизменного и на сознание противостоящего хотения, совершения, потребления и самого самоотречения, или познание для-себя-сущей единичности вообще.” (2,4,119)
122. Интересно, что та трансцендентально-феноменологическая интерпретация философии Гегеля, которая развивается в настоящем исследовании, выявляет близость Гегеля одновременно ко всем трем основным религиозно-метафизическим типам новоевропейского (“возрожденско-протестантского”) мировоззрения, о которых А.Ф.Лосев пишет на последних страницах “Очерков античного символизма и мифологии” - картезианству, кантианству и позитивизму (см.: 29,872-873). Принимая во внимание, что у Гегеля согласованно представлены все основные интенции западного мышления, становится понятным, почему именно гегелевская философия рассматривается традиционно в качестве завершения классической европейской философии. Если не учитывать, что гегелизм является “чистым культурным типом” Европы Нового времени, то право занимать это место на основании лишь логических, формально-систематических, его достоинств не является очевидным, ведь и Фихте, и Шеллинг одновременно с Гегелем - интерпретируя Канта - подошли к границам новоевропейской философии. Ср. с нашей интерпретацией философии Гегеля ту характеристику протестантизма, которую дает А.Ф.Лосев: “Протестантизм (в отличие от католицизма, который, по Лосеву, также вносит элемент язычества в христианство, - В.К.) только и берет в общехристианской субстанции внешнюю сторону, энергию (определенность абсолютного, - В.К.), отрывая ее от самой субстанции (и разрушая тем самым апофатически-символический онтологизм православия, - В.К.) и мысля в качестве этой субстанции реальное Я
самого человека (предметополагающая функция сознания в Феноменологии, - В.К.) и доказывая, что божественность энергий привела бы к дроблению этой субстанции (чего православие избегает посредством принципиального различения творца (бога вместе с энергиями) от твари, - В.К.); отсюда - дуализм (“существования” и бытия-определенности, - В.К.) и абстрактное понимание Божества как отвлеченного понятия (локализируется в мозгу), таинства - в технику, образа - в простую аллегорию, всякой догматики - в абстрактно-метафизическую, зависящую от личного философского почина систему; все немыслительное (например, чувство) тут второстепенно, несущественно и производно.” (29,893)
Впрочем, нельзя не задаться вопросом, следует ли замыкать мысль Гегеля какими-либо конфессиональными, или вообще идеологическими, рамками ? Может быть, скорее, его порыв исчерпать всю определенность бытия приближает его к самому бытию настолько, что делает его мысль универсальной инвариантой, с помощью которой мы и можем входить в единый мир антично-новоевропейской философской культуры, в который исторически развернулось “бесконечное” ? Ближе: разве не об одном и том же “молчат” неоплатоники и исихасты, Кант и Витгенштейн, и - даже и не упоминающий об этом - Гегель ?
123. Обратим внимание (поскольку мы говорили в основном о феноменологической стороне дела, о соотношении сознания и предмета), что с точки зрения формы, чистой структуры, движение заключения к абсолютному опосредованию крайних терминов в деятельности среднего термина воспроизводит “бесконечность”. Сам Гегель не использует здесь понятия бесконечности, он говорит об абсолютном опосредовании, указывает на структуру рефлексии, на снятие крайних терминов в среднем и т.д., что, видимо, следует понимать не как признак невнимательности Гегеля к понятийному аппарату, а как следствие органичного восприятия философом одной и той же логической структуры в различных феноменологических контекстах. Более того, следует вспомнить и опыт “Логики”, который показывает, что о “бесконечности” Гегель непосредственно говорит только тогда, когда имеет место самое “трудное” опосредование инаковости, когда оно проходит всего “медленнее”. Более “быстрые” формы опосредования, в которых хотя и выступает та же структура, уже именуются Гегелем иначе, - единство выражающих одну и ту же структуру фрагментов очевидно, и не следует загромождать текст повторением одних и тех же терминов.
124. Еще одна, феноменологическая - столь же фантастическая, как и все другие - теория, объясняющая мимолетность сновидений: в сновидениях не мы смотрим на мир, но некто смотрит на нас, на “наше сознание”; в снах мы пребываем не в качестве субъектов, но в качестве объектов движения представления. Сны случаются с нами, но не для
нас, - стоит ли долго помнить эти невзначай подсмотренные картинки ? 125. Что касается субъективных ассоциаций Гегеля,
соответствующих тому, что он называет пустым идеализмом, то это, конечно, и Фихте (см.: 2,4,125), и Декарт (а возможно, также и Фихте) (см.: 2,4,126), и Кант (см.: 2,4,127), и опять Фихте вместе со всей философией 17-18 веков (см.: 2,4,128-129). Но ясно, что на деле ни феноменологическое формообразование не “объясняет” конкретной философской системы, ни позиция того или иного философа не помогает понимаю специфики формообразований Феноменологии, которые, будучи простыми, лишь трансцендентальными, сущностями, могут быть поняты только сами через себя, т.е. из развертывания своей действительной “субстанции” (а как иначе я мог бы оправдаться за “сами через себя” ?) - единого феноменологического предмета.
126. “Мы видим теперь, что это сознание, для которого бытие (das Sein) имеет значение своего (des Seinen), хотя входит опять в мнение и воспринимание, но входит не как достоверность некоторого лишь “иного”, а располагая достоверностью того, что оно само - это иное.” (2,4,129) “Мнение и воспринимание, которые раньше (в “первом круге”, - В.К.) устранялись для нас (“нашего сознания”, - В.К.), теперь (во “втором круге”, - В.К.) устраняются сознанием (“самим сознанием”, - В.К.) для него самого; разум стремится знать (выделено Гегелем, - В.К.) истину, найти как понятие то, что для мнения и воспринимания есть вещь, т.е. обладать в вещности только сознанием себя самого. Разум теперь проявляет общий интерес к миру потому, что он есть достоверность того, что он наличествует в мире, или что наличность - разумна. Он ищет свое ”иное”, зная, что обладает в нем не чем иным, как самим собой; он ищет только свою собственную бесконечность.” (2,4,129-130)
127. Как в самом общем виде Гегель описывает путь сознания во “втором большом круге” ? - “Сознание наблюдает, т.е. разум хочет найти и иметь себя в качестве сущего предмета, как действительный, чувственно-наличный модус (“само сознание” пока, как и “наше сознание” в начале “первого круга”, предполагает, что бытие тождественно чувственно воспринимаемому, - В.К.). Сознание этого процесса наблюдения (рефлексия “самого сознания” по поводу своих действий, - В.К.) мнит и говорит, конечно, что оно хочет узнать на опыте не себя само, а, напротив, сущность вещей как вещей. То обстоятельство, что это сознание мнит и говорит так, объясняется тем, что оно есть (выделено Гегелем, - В.К.) разум (т.е. это еще разум “в себе”, а не “для себя”, лишь достоверность разума, - В.К.), но разум как таковой еще не есть его предмет. Если бы оно знало разум как одинаковую сущность вещей и себя самого (т.е. если бы оно знало, что в вещах не может быть ничего, чего прежде не вложило в них сознание, - В.К.) и знало также, что разум может наличествовать в специфическом для него виде только в сознании, то оно, напротив, спустилось бы в свою
собственную глубину и искало бы его (т.е. собственную конкретность, пыталось бы придать себе определенность, - В.К.) здесь, а не в вещах. Если бы оно нашло его в этой глубине, то оттуда он снова был бы отослан к действительности, чтобы созерцать в ней свое чувственное выражение, но тотчас же по существу истолковало бы его как понятие (выделено Гегелем, - В.К.).” (2,4,130)
Последнее замечание дает и однозначный ответ на вопрос о судьбе мира после того, как Понятие постигнет в нем себя самого (ср.: 9,382). Конечно же, чувственно воспринимаемый мир как “существование”, подразумеваемая “объективность”, может существовать сколь угодно долго - пока будут выступать “сущие” сознания, для которых “чувственная достоверность” будет сохраняться в качестве адекватного отношения к предметности. Но спекулятивного смысла подобное существование мира уже не имеет, оно безразлично для дела самопознания духа, которое в историческом времени окажется уже свершенным. (Почему мы все еще говорим в будущем времени ? “Говорить” вообще имеет смысл лишь в контексте “истории”, хотя бы - на ее границе.) - “Мир существует для того, чтобы войти в книгу.” - “Разум, как он непосредственно выступает в качестве достоверности сознания, что он есть вся реальность, понимает свою реальность в смысле непосредственности бытия и точно так же единство “я” с этой предметной сущностью - в смысле непосредственного единства, в котором разум еще не разделил и не соединил снова моменты бытия и “я”, или, двумя словами, которое разум еще не познал. Поэтому разум как наблюдающее сознание (т.е. “само сознание” на ступени чувственной достоверности и восприятия, - В.К.) подходит к вещам, придерживаясь того мнения, что он поистине приемлет их как вещи чувственные, противоположные “я”, но его действительный образ действия противоречит этому мнению, ибо он познает (выделено Гегелем, - В.К.) вещи, он превращает их чувственность в понятия (выделено Гегелем, - В.К.), т.е. именно в бытие, которое в то же время есть “я”, превращает мышление тем самым в сущее мышление (мы видели, как в результате взаимообмена определенностями между сознанием и предметом лишь понятие сознания - “само сознание” - стало “сущим” и “живым”; это и есть модель “оживотворения” всякого смысла, т.е. лишь внутренне-созерцаемой предметности; о том же, означает ли, однако, подобное “оживотворение” и достижение действительного бытия, мы будем говорить в последнем параграфе главы, - В.К.), или бытие - в мыслимое бытие (в том же акте совпадения “нашего сознания” и “самого сознания” сущее “наше сознание” идеализуется, становясь компонентом трансцендентально-феноменологической структуры и освобождаясь от влияния субстрата, - В.К.), и на деле утверждает, что вещи обладают истиной только как понятия (поэтому, будучи постигнутыми, вещи передают свой смысл сознанию, и бытие их простых чувственных оболочек становится
бессмысленным, - В.К.). Для этого наблюдающего сознания тут обнаруживается только то, что является вещами, а для нас (наблюдающего разум как “само сознание” “нашего сознания”, - В.К.) - что есть оно само (что именно разум, “само сознание”, и есть источник определенности вещей, причем вещи даже и не настолько объективны, как кажется, - В.К.); но результатом его движения будет то, что оно станет для себя самого тем, что оно есть в себе (осознает, что оно само и есть и источник определенности, или смысла, и бытия, - В.К.).” (2,4,130-131)
128. Правда, может возникнуть подозрение, что некоторые контексты IV главы все же противоречат этому положению. Например, в знаменитом положении о господском и рабском сознании перемена в их соотношении как раз и происходит потому, что с самостоятельностью вещей оказывается связанным только рабское сознание, и, становясь господином вещи, оно в конце концов становится и господином господина, который вещи только потребляет, но не обрабатывает их и потому не знает их “самости”. Однако, это подозрение рассеивается, если принять во внимание, что вещи, о которых говорит здесь Гегель, - это, собственно, не “предмет” как элемент структуры феноменологической предметности, а лишь предметный, т.е. отрицательный, полюс каждого из действующих сознаний, который безотносительно к конституирующему его сознанию не обладает бытием ни в каком смысле.
129. “Самосознание есть в себе и для себя потому и благодаря тому, что оно есть в себе и для себя для некоторого другого (самосознания), т.е. оно есть только как нечто признанное. Понятие этого его единства в его удвоении, бесконечности, реализующейся в самосознании, есть многостороннее и многозначное переплетение, так что, с одной стороны, моменты этого единства надо точно отделять друг от друга, а с другой стороны, в этом различении в то же время надо принимать и признавать эти моменты и неразличенными, или принимать и признавать их всегда в противоположном значении. Эта двусмысленность различенного заключается в самой сущности самосознания (как образа “бесконечности”, - В.К.), состоящей в том, что оно бесконечно или непосредственно противоположно той определенности, в которой оно установлено.” (2,4,99)
130. Странно, что на этот очень примечательный пережиток “классической эпистемы” у Гегеля не обратил внимания Мишель Фуко.
131. Это загадочное и почти фантастическое повествование Гегеля вряд ли достойно традиционного упрека в том, что Гегель, дескать, не видит диалектичности природы и не понимает значимости идеи органической эволюции. Думается, этот фрагмент вообще следовало бы оценивать скорее по критериям художественно-психологическим, нежели рассудочно-научным.
132. “Самосознание нашло вещь в качестве себя (конец “первого
малого круга”, - В.К.) и себя в качестве вещи (конец “второго большого круга”, - В.К.), т.е. для самосознания ясно, что в себе оно есть предметная действительность. Оно уже не есть непосредственная достоверность того, что оно есть вся реальность (как в начале “второго большого круга”, - В.К.), а оно есть такая достоверность, для которой непосредственное вообще имеет форму чего-то снятого, так что его предметность (тело самосознающей индивидуальности, - В.К.) считается еще лишь поверхностью, внутреннее и сущность которой есть оно само. - Предмет, с которым оно положительно соотносится, есть поэтому некоторое самосознание (т.е., как и в “первом круге”, здесь происходит “удвоение” самосознания, - В.К.), он есть в форме вещности, т.е. он самостоятелен; но самосознание обладает достоверностью того, что этот самостоятельный предмет не есть нечто чуждое для него; оно знает тем самым, что оно в себе признано этим предметом (т.е. самосознание не непосредственно устанавливает свое бытие, а через другое самосознание, которое им устанавливается в своем бытии и которое, в свою очередь, устанавливает бытие первого, - В.К.); оно есть дух, обладающий достоверностью того, что в удвоении своего самосознания и в самостоятельности обоих (чтобы “признавание” было делом серьезным, а не игрой с зеркалом, самосознание должно установить бытие “другого” как полностью самостоятельное, - В.К.) он имеет свое единство с самим собой (т.е. самосознание “одно”, потому что это не “сущее” самосознание, а чистая структура, устанавливающая и “существование”, и определенность всякого единичного самосознания, - В.К.). Эта достоверность должна теперь для него возвыситься до истины (цель “второго малого круга”, - В.К.); то, что важно для него, (т.е.) то, что оно есть в себе и в своей внутренней достоверности, должны войти в его сознание и открыться для него.” (2,4,187)
133. “Прежде всего этот деятельный разум сознает себя самого только в качестве некоторого индивида и как таковой необходимо требует своей действительности в другом и создает ее; но затем, когда сознание индивида возвышается до всеобщности, оно становится всеобщим разумом и сознает себя в качестве разума, как то, что признано уже в себе и для себя и что объединяет в своем чистом сознании всякое самосознание; оно есть простая духовная сущность, которая, приходя в то же время к сознанию, есть реальная субстанция (основание “существования”, - В.К.), куда прежние формы возвращаются как в свою основу, так что по отношению к последней они суть лишь отдельные моменты ее становления (знакомая нам спекулятивная структура субъект-предикатного обращения, - В.К.); эти моменты хотя и отрываются и выступают в качестве собственных формообразований, на деле, однако (т.е. в целом феноменологического опыта, - В.К.), обладают наличным бытием и действительностью, только имея своим носителем эту основу; своей же истиной (здесь: своим местом в целом опыта или в духе, - В.К.) обладают лишь постольку,
поскольку они суть и остаются внутри его самого (духа, - В.К.).” (2,4,187-188)
134. “Если мы воспримем эту цель (дух, - В.К.), которая есть лишь понятие (т.е. пока лишь во “в себе”, - В.К.), для нас (для “нашего сознания”, - В.К.) уже возникшее (в “первом малом круге”, - В.К.), т.е. признанное самосознание, которое в другом свободном самосознании обладает достоверностью себя самого и именно ее имеет своей истиной, ( ... ) то (мы убедимся, что ) в этом понятии открывается царство нравственности. Ибо это последнее есть не что иное, как абсолютное духовное единство сущности индивидов в их самостоятельной действительности, некоторое в себе всеобщее самосознание ...” (2,4,188). Отметим, что предстоящий нам во “втором малом круге” путь лишь завершает становление этого понятия духа, так что все характеристики духа как субстанции и т.п. должны приниматься нами пока как план или предвосхищаемый общий итог предстоящего движения.
135. Нельзя не вспомнить здесь, конечно, об опыте греческой трагедии, мы имеем здесь дело со случаем чрезвычайно “чистого” совпадения феноменологического “прообраза” и исторического “воплощения”: “Индивид только гибнет, а абсолютная хрупкость единичности рассыпается в прах, наткнувшись на столь же твердую, но непрерывную (а не “точечную”, как само самосознание, т.е. речь идет об опосредовании, негации как таковой, - В.К.) действительность. - Будучи в качестве сознания единством себя самого и своей противоположности, индивид еще видит эту гибель; он видит свою цель и свое претворение в действительность, точно так же как и противоречие того, что было сущностью для него (нахождение себя в другом и в то же время удерживание своей единичности, - В.К.) и что есть сущность в себе (абсолютная и абстрактная - “беспричинная” - негация всякой единичности, - В.К.).” (2,4,195)
Сознание не замечает, конечно, что “незаслуженная жестокость” судьбы связана с его изначальной невнимательностью к моменту всеобщности в своей собственной сущности, со стремлением удержать единичность. “Поэтому сознание благодаря своему опыту, в котором для него должна была обнаружиться его истина, стало для себя скорее загадкой: последствия его действий для него не есть сами его действия; то, что с ним случается, не есть для него опыт того, что оно есть в себе ( ... ). Абстрактная необходимость считается, таким образом, той лишь негативной непостигнутой в понятии мощью всеобщности, о которую разбивается индивидуальность.
Здесь кончается явление этой формы самосознания; последний момент существования этой формы есть мысль о ее потере в необходимости, или мысль о себе самой, как о некоторой абсолютно чуждой себе сущности. Но самосознание в себе пережило эту потерю; ибо эта необходимость или чистая всеобщность есть его собственная сущность. Эта рефлексия сознания в себя - знание того, что
необходимость - это оно само, - есть его новая форма.” (2,4,195-196) 136. Для поисков реально-исторических коррелятов этого этапа
эволюции рассматриваемого формообразования следовало бы, конечно, перенестись во Францию 18 века. Ясно, что пространственно-временная удаленность этих двух - как и множества других - соседствующих в “Феноменологии” образований должна свидетельствовать только о том, что феноменологические формообразования “организованы” в единый текст не в соответствии с хронологическим или каким-либо другим “реально-историческим” принципом, а как-то совсем иначе. Я пытаюсь показать, что они связаны чисто структурно, причем все движение в целом определяется изначально установленной самой задачей “Феноменологии” структурой ее предмета. “Реальная история” оказывается лишь неким “предметным наличным бытием” Феноменологии, связывающей в качестве среднего термина естественное сознание с духом: “Для сознания средний термин - между всеобщим духом и его единичностью или чувственным сознанием - служит система формообразований сознания как жизнь духа, упорядочивающая себя в целое, - система, которая рассматривается здесь (в “Феноменологии”, - В.К.) и имеет свое предметное наличное бытие в качестве всемирной истории” (2,4,159).
137. “Содержание этого действия есть собственная индивидуальность, которая хочет сохранить себя в качестве “этой” единичной индивидуальности, противоположной всеобщему.” (2,4,198)
138. “В этом своем безумии сознание провозглашает индивидуальность тем, что приводит к безумию и извращению, но (это) чуждая и случайная индивидуальность. Однако сердце или единичность сознания, непосредственно желающая быть всеобщей, есть само это приводящее к безумию и извращенное ...” (2,4,200). “Не некоторая случайная и чуждая индивидуальность, а именно “это” сердце со всех точек зрения есть внутри себя то, что извращено и извращает.” (2,4,201) Впрочем, и сама действительность также несет в себе эту извращенность: “Так как непосредственно всеобщая индивидуальность есть то, что извращает, то сам этот всеобщий порядок, будучи законом всех сердец, т.е. законом того, что извращено, не в меньшей мере есть в себе то, что извращено ...” (2,4,201). Таким образом, и в самосознании, и в действительности присутствуют и момент извращения, и момент всеобщности.
139. “Сознание рефлектирует в себя из своего преходящего произведения и утверждает свое понятие и достоверность как сущее и постоянное в противоположность опыту случайности действования; фактически оно узнает на опыте свое понятие, в котором действительность есть лишь момент, нечто для сознания (“точка зрения определенности”, трансцендентальный способ рассмотрения, - говорим мы в настоящем исследовании, - В.К.), а не то, что есть в себе и для себя; оно на опыте узнает ее как исчезающий момент, и она имеет для него
поэтому значение лишь бытия вообще, всеобщность которого тождественна действованию.” (2,4,218) - Деятельность сознания покрывает всю сферу предметности, и нет никакого “бытия”, если нет сознания, для которого оно выступало бы. Сознание постулирует “существование” лишь для того, чтобы в дальнейшем перенести на него свою определенность. Без “существования”, без разворачивания конституирующего его субъект-объектного отношения, сознание не может выразить пребывающую в нем во “в себе” конкретность своей структуры. По-существу, мы здесь видим, как завершается, пройдя четыре феноменологических “круга”, становление понятия трансцендентального способа рассмотрения предметности.
“Это единство (бытия и деятельности, предполагаемого “существования” и спонтанной активности сознания, - В.К.) есть истинное произведение; оно есть сама суть дела (выделено мной, - В.К.), которая просто утверждает себя и узнается на опыте как “постоянное”, независимо от того дела (Sache), которое есть случайность индивидуального действования как такового, обстоятельств, средств и действительности.
Сама суть дела лишь постольку противоположна этим моментам, поскольку они должны иметь значение как изолированные, но как взаимопроникновение действительности и индивидуальности она по существу есть единство этих моментов; равным образом она есть некоторое действование - чистое действование вообще, а следовательно в такой же мере и “действование “этого” индивида, и это действование - как ему еще принадлежащее в противоположность действительности, (т.е.) как цель. Точно так же она есть переход из этой определенности в противоположную, и, наконец, она есть действительность, которая имеется налицо для сознания (ср. с исчерпывающей познаваемостью “чтойности” у Аристотеля, - В.К.). Сама суть дела, следовательно, выражает духовную существенность, в которой все эти моменты сняты как имеющие значение для себя и, следовательно, имеют значение только как всеобщие, и в которой для сознания его достоверность себя самого есть предметная сущность, суть дела: предмет, рожденный из самосознания как его предмет, не переставая быть свободным предметом в собственном смысле (выделено мной, - В.К.). - Вещь же чувственной достоверности и воспринимания имеет теперь свое значение для самосознания только через него.” (2,4,218-219)
“Таким образом, в самой сути дела как ставшем предметным взаимопроникновении индивидуальности и самой предметности самосознанию открылось его истинное понятие о себе, или: оно пришло к осознанию своей субстанции.” (2,4,219)
140. На путь ее движения к духу мы теперь и укажем. Сама суть дела первоначально остается простой сущностью, безразличной к своим моментам - цели, средствам, процессу деятельности, действительности; она род и предикат этих моментов. Сознание, причастное хотя бы
одному из названных моментов, причастно и самой сути дела, это - “честное” сознание. “Оно, - говорит Гегель, - достигло самой сути дела и осуществило ее, ибо в качестве этого общего рода названных моментов она - предикат их всех.” (2,4,215) Однако, это сознание, как показывает опыт (см.: 2,4,220-223), в то же время “обманывает” и обречено на “обман”. Дело в том, что, пытаясь ухватить саму суть дела как простое единство, оно перебирает все моменты, родом (предикатом) которых сама суть дела является, и при этом, когда какой-либо момент выражается вовне, противоположный неизбежно сберегается сознанием для себя. В этом состоит “рассудочная” природа взаимного “обманывания” единичными сознаниями, обладающими лишь абстракцией самой сути дела, не научившимися еще “в одно и то же время и в одном и том же отношении” удерживать в единстве противоположности духовной сущности. “Один из этих моментов содержания выставляется им (сознанием, - В.К.) на свет и представляется для других; но в то же время сознание рефлектировано из него в себя и противоположное точно так же имеется в нем налицо; сознание хранит его для себя как свое. При этом не бывает также, чтобы один какой-нибудь момент был только вынесен наружу, а другой лишь сохранен внутри, - нет, сознание чередует их, ибо оно должно и тот, и другой сделать существенным для себя и других. Целое есть движущееся взаимопроникновение индивидуальности (сознания, - В.К.) и всеобщего (сути дела, - В.К.); но так как это целое имеется налицо для этого сознания лишь в качестве простой сущности и, следовательно, в качестве абстракции самой сути дела, то моменты этого целого распадаются как разъединенные вне ее и внеположенные; и как целое оно исчерпывается и проявляется лишь раздельным чередованием вынесения наружу и для-себя-сохранения.” (2,4,221)
141. Применительно к эстетическому отношению человека к миру Гегель высказал эту мысль и в том рассерженном замечании, которое было обращено к рассуждающему о звездах Гейне: “При чем тут звездное небо, оно - то, что вкладывает в него человек !” (41,592)
142. Почему она и предстает перед читателем как “Феноменология духа”, и почему, в частности, Гегель отказался от первоначального варианта названия книги. (См. об этом в: 58).
143. Из состава VI главы приведем, однако, один фрагмент, содержащий эскизное изложение содержания “третьего круга”. “Живой нравственный мир есть дух в его истине (в отличие от пройденных формообразований, которые были его абстракциями, - В.К.); подобно тому, как дух прежде всего приходит к абстрактному знанию своей сущности, так нравственность пропадает в формальной всеобщности права. Дух, отныне раздвоенный внутри себя самого, начертает в своей предметной стихии как в некоторой прочной действительности один из своих миров, царство образованности, и противопоставит ему в стихии мысли мир веры, царство сущности. Но оба мира, постигнутые духом,
который, утратив самого себя, уходит внутрь себя, постигнутые понятием, ввергаются в хаос и революционизируются здравомыслием и его распространением - просвещением; и царство, разросшееся и разделившееся на посюстороннее и потустороннее, возвращается в самосознание, которое теперь в морали постигает себя как существенность, а сущность - как действительную самость и уже не выносит из себя наружу своего мира и его основы, а предоставляет всему истлеть внутри себя и в качестве совести (Gewissen) оказывается духом, обладающим достоверностью (der Gewisse) себя самого.
Итак, нравственный мир, мир, разорванный на посюстороннее и потустороннее, и моральное мировоззрение суть духи (целостные духи, а не абстракции духа, как прежние формообразования, - В.К.), движение и возвращение которых в простую для-себя-сущую самость духа развиваются, и целью и результатом которых выступает самосознание абсолютного духа (т.е. в конечном счете - абсолютное знание, - В.К.).” (2,4,235)
Это предпосланное Гегелем самому изложению конкретного движения “Духа” краткое его описание охватывает содержание всей VI главы. Мы не можем здесь останавливаться на комментарии этого фрагмента, поскольку метод такого комментария должен был бы совмещать в себе и тот структурно-феноменологический способ рассмотрения, который применялся в процессе рассмотрения глав I-V, и некий, не опробованный еще нами, метод феноменологической критики истории культуры, - тот, применимый, может быть, лишь в процессе анализа “третьего круга” метод, безадресное и неуместное использование которого породило ту необозримую литературу о “Феноменологии духа”, которая теперь скорее мешает, чем помогает понять эту книгу.
144. Из того, что Гегель, перечисляя абстрактные моменты духа, указывает наряду с сознанием ... и т.д. и “дух”, отличая, очевидно, дух как отдельное образование, описывающее наличное бытие духа, от духа как субстанциального целого, можно сделать вывод, что изображение духа в главе VI все еще относится к одной из абстракций духа, и, следовательно, ее можно было бы прокомментировать привычным для нас методом. Если этот вывод верен, в пользу чего можно было бы указать и на то обстоятельство, что приведенный нами фрагмент находится в начале VII главы, а не в начале VI главы, как можно было бы ожидать, то адекватным, конкретным образом духа должно быть признано только его самосознание (аналог “Малого круга” в “третьем круге”), представленное “Религией” и “Абсолютным знанием”, и, соответственно, непосредственно всеобщими моментами духа - только моменты “Религии” и “Абсолютного знания”, но не моменты “Духа”.
Мы, однако, исходим в нашем исследовании из того, что уже “Дух” не может быть прокомментирован вне учета исторического контекста, о чем и говорили выше. Предлагаемая сводная схема
структуры “Феноменологии духа” исходит именно из такого понимания характера VI главы. Может быть, Гегель просто как бы по инерции перечисляет в этом ряду и “Дух”, сбиваясь с указания “кругов” на указания глав (обратим внимание на то, что и в “Разуме” он не выделяет два “круга”, хотя в самом тексте и различает их вполне определенно). К тому же, как указывалось, именно в “третьем круге” исчезает основание для различения сознания и самосознания, поскольку исчезает предметность как нечто внешнее самосознанию. На схеме, однако, отказ от нашего предположения привел бы лишь к изменению обозначений, а именно: вместо В, В-а, В1, В2, В3, В-z нужно было бы подставить О5, О5-а, О5-E1 (так как моменты “Духа” также должны будут оказаться “точечными абстракциями”, а не целокупностями), О5 -E2 и т.д., а также снять один “штрих” в вертикалях В.
145. Напомним, что это изменение стиля отчасти обусловлено отличием “третьего круга” “Феноменологии” от первых двух ее “кругов”. Но дело, видимо, не только в этом. Нельзя не заметить, что изложение становится просто более свободным, легким и многословным. Думается, можно указать еще как минимум две причины этого изменения стиля. Во-первых, Гегель говорит в “третьем круге” о предметах, которые ему лучше известны, которыми он непосредственно интересовался в предшествующие годы. Это мораль, религия, история культуры и т.п.. Во-вторых, следует вспомнить о сделанном в письме к Шеллингу признании, что в последних главах труда он в силу обстоятельств не успел навести должного порядка. Может быть, мы на самом деле имеем здесь просто наскоро подготовленные черновые материалы. Во всяком случае, логично предположить, что в более спокойных условиях Гегель постарался бы внести и в эти заключительные главы свойственную предшествующему изложению лаконичность и терминологическую строгость.
146. Представленное понимание проблемы согласуется и с тем фрагментом “Энциклопедии”, который, как правило, признается исследователями в качестве ее исчерпывающего решения (см. параграф 247, Прибавление: 4,2,27-29). Интересно, что ближайшим по смыслу историко-философским аналогом этого учения о преодолении самосознанием времени является тот момент платоновского мифа о душе, в котором она, пройдя путь земного познания, возвращается на, небо а телесный мир остается в качестве зарезервированного за другими душами (и за ней же в следующем круге ее бытия) объекта стремления темного начала души. См. также прим. 127.
147. Как важно, однако, даже в таких очевидных фрагментах не забывать о мудром предостережении Г.Г.Шпета: “Догадки, основанные на знании истории культуры и философии, сплошь и рядом не достигают цели” (2,4,XLVII).
148. Карл Маркс, характеризуя в “Экономическо-философских рукописях 1844 года” “абсолютное знание” и “абсолютную идею” как
чисто негативные сущности, оказывается удивительно близок в этой оценке Шеллингу, - близости, очевидно, не мешает даже то, что в качестве “положительного” бытия для Маркса и Шеллинга выступают совершенно разные сущности. Эта странная общность есть выражение духа времени, который - перешагнув пределы классической философии - готов отождествлять бытие с какими угодно “позитивностями” или фрагментами построений старой онтологии, но только не с тождественной бытию “идеальностью” трансцендентально-спекулятивной философии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 149. Жалкой попыткой Гегеля решить эту проблему в границах
“Энциклопедии” является фрагмент о трех отношениях мысли к объективности. Именно он, а не энциклопедическая “Феноменология”, является эрзацем “Феноменологии духа” в энциклопедической системе.
150. Здесь нет ошибки, ведь и в “Феноменологии” дух не переходит в идею как один предмет мог бы “переходить” в другой. Речь у Гегеля идет о движении от одного формообразования к другому - и в этом и состоит в конечном счете последнее основание предложенной трансцендентально-феноменологической интерпретации системы философии Гегеля, - т.е. все образы предметности, в том числе и логическая идея, или “бытие”, предметность “абсолютного знания”, представляют собой лишь “части” действительных целостностей, эволюция форм которых и завершается “духом”.
151. Установление через “бесконечность” специфики логической предметности позволяет провести единый принцип в истолковании всех трех частей “Логики”, а именно представить ее начало (предмет), середину (метод) и завершение (идеал) как моменты единого пульсирующего движения спекуляции.
152. Быстрота и видимая “неожиданность” возникновения основного содержания “Феноменологии духа” должны подтолкнуть нас к пониманию того, что уже в Йене определенно выступило различие между отраженным в “Феноменологии” творческим поиском философа и отправлением официальных философских обязанностей. Если воспользоваться выражениями К. Г. Юнга, то можно сказать, сказать, что “Феноменология” должна быть отнесена к тем произведениям, с которыми сам автор справляется с трудом, и по отношению к которым он реально является (а может быть, и осознает себя) лишь медиумом.
Обратим внимание на некоторые фрагменты произведений Юнга, которые, думается, могли бы быть прокомментированы и примером отношения Гегеля к своему непокорному творению. “Органически растущий труд есть судьба автора и определяет его психологию. Не Гете делает “Фауста”, но некий психический компонент “Фауста” делает Гете.” (38,118) “Нерожденное произведение в душе художника есть сила природы; оно проводит свою линию либо тиранически властно, либо с той тонкой хитростью, которой природа всегда пользуется для осуществления своих целей, нисколько не заботясь о личном благе или вреде для человека, являющегося носителем творческого начала. Творческое начало живет и растет в человеке, черпая в нем свою энергию подобно дереву, извлекающему пищу из почвы.” (51,50) “Эти произведения прямо-таки навязываются автору, его рука схвачена, а перо пишет такие вещи, которые дух обнаруживает с удивлением. Произведение само приносит свою форму. При этом то, что автор хочет вложить от себя, отклоняется, а то, чего он принять не хочет, ему навязывается. В то время, как его сознание растерянно и опустошенно
стоит перед этим феноменом, он захлестывается потоком мыслей и образов, которые его намерение никогда не создавало, а воля никогда не желала порождать. Вопреки своей воле он все-таки вынужден признать, что через них заявляет о себе его “Я”, что его внутренняя природа раскрывает саму себя и громко возвещает о том, чего никогда раньше не доверяла языку. Он может лишь подчиняться и следовать якобы чужому импульсу, чувствуя, что его произведение более великое, чем он сам, и поэтому имеет над ним власть, которой он ничего не может противопоставить. Он не тождествен творческому процессу; он осознает, что стоит ниже своего произведения или в крайнем случае рядом с ним - подобно постороннему лицу, очутившемуся в заколдованном круге чужой воли.” (51,47)
153. Традиционное понимание этого фрагмента см., напр., в: (60). 154. Вносимое тем самым в философию в дополнение к бытию-
определенности “существование” - это не бытие как действительное основание и предмет мысли, это - “позитивность”, расползание которой по мысли не обогащает, но скорее сковывает и разрушает ее. Бытие достигается мыслью не переходом в свою формальную противоположность - “существование”, - а неким “стоянием-у-границы”: мысль знает себя как мысль и ясно видит свои границы. Лишь такому - непритязательному - взгляду и открывает себя бытие.
155. Следует, конечно, признать, что господство одного метода в изучении такого “философа по преимуществу”, каким является Гегель, не может быть чем-то случайным, не обусловленным “исторически”, это, несомненно, выразительный символ эпохи, определенного “культурного типа”. Первые черты этой эпохи “постисторического скептицизма” (со столь свойственной его культуре “научной обстоятельностью”) выступили в философии уже при Гегеле или сразу после Гегеля. Конечно, фиксируя в “Феноменологии духа” приближение нового периода в истории духа и также связывая его с “научностью” - но совсем иначе понимаемой - Гегель не мог и предположить, как скоро наступит господство позитивизма, материализма, антропологизма - всех этих систем мысли, оккупировавших изолированные фрагменты распавшегося под натиском духа времени единого “бытия” прежней философии. Бессмысленно сетовать на “несчастную судьбу” гегелевской философии, философия не провидит будущее и не способна предуготовить себе понимание со стороны грядущих поколений, - философия только осознает ставшее прошлым настояще.
Равным образом и мы можем лишь понять себя - наше уходящее настоящее, - но тем самым, правда, мы решаемся и на то, чтобы зафиксировать приближение неведомого нам будущего. Поэтому мы оказываемся некой “границей” современной мысли и, оглядываясь назад, т.е. пытаясь понять последний цикл, пройденный нашей культурой, должны будем хотя бы формально повторить Шпенглера: “Систематическая философия нынче бесконечно далека нам; этическая
философия завершена. Остается еще третья, соответствующая в пределах западного духовного мира античному скептицизму возможность, характеризуемая неведомым до сих пор методом сравнительной исторической морфологии. Возможность, т.е. необходимость. Античный скептицизм аисторичен: он сомневается, говоря просто “нет”. Скептицизм Запада обязан, если он обладает внутренней необходимостью, если он должен явить собою символ нашей клонящейся к концу душевности, быть насквозь историчным. Он упраздняет, понимая все относительно, как историческое явление. Он действует физиогномически. Скептическая философия выступает в эпоху эллинизма как отрицание философии - ее считают бесценной. В противовес этому мы принимаем историю философии как последнюю серьезную тему философии. Это и есть скепсис. Отрицаются абсолютные точки зрения: греком, когда он улыбается прошлому своего мышления; нами, когда мы понимаем это прошлое как организм.” (48,181-182)
156. Знаменательно, конечно, что намерение Гегеля подробно разработать Философию природы и Философию духа так и не осуществилось, как, впрочем, не осуществилось и намерение Маркса изложить на двух-трех печатных листах “рациональное ядро” диалектики. Почему именно на такие невозможные забавы у гениев предусмотрительно не находилось времени ?
157. История европейской культуры последних двух веков, в свою очередь, сама делится на два периода, в течение которых сначала близость потери бытия и метафизики вызывала стремление “сохранить” и “упорядочить”, а затем уже отчаяние безвозвратной утраты - и стремление сформировать такие структуры опосредования, которые могли бы довольствоваться и исчезающим субстратом. Поэтому символы конца 19 века - империи, литература и “социальный вопрос”, тогда как символы конца 20 века - деньги, компьютеры, секс. Но не возвращается ли тем самым культура к “бытию” как “прозрачности”, в которой только и видимы все вещи, и метафизике, для которой обладание бытием никогда и не было чем-либо иным, как способностью простого понимания ?
158. Видимо, этот процесс деления единой философии на не связанные друг с другом единым предметным полем “направления” может завершиться полным растворением философии в культуре, и тогда она, сохраняя от прежней своей истории, может быть, лишь имя, действительно станет “археологией”: следы ее, например, в языке, будут обнаруживаться повсюду, но если собрать из них целое, скажем, чашу - хотя бы ту самую “чашу царства духов”, - то единственным местом, в котором она сможет существовать, окажется музей. Но разве не стало уже таким музеем растворившее в себе философию бытие культуры, та почва языка, в которую когда-то - под осенним взглядом йенского философа - излилась осколками смысла влага чаши, вообразившей себя
единственной хранительницей бесконечности ? 159. В 19 веке трансцендентализм классической философии,
оказавшийся вследствие исчерпанности логической определенности бытия лицом к лицу с самим бытием, не смог отказаться от претензий на обладание тем, отблеском чего на самом деле только и является все содержание философии и, как следствие, был замещен абсолютизировавшей “существование” материалистичной и субъективистской антропологией. Но если сегодня европейская культура, пройдя цикл, возвращается к осознанию классической философии как своего мыслительного контекста, то не можем ли мы отсюда заключить, что “антропологическая эпоха” завершается или завершится вскоре ? И если “человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке” (43,404), то не следует ли уже задуматься над тем, кем или чем станут его очертания после отступления волны ?
Studien zur Systemstruktur der Philosophie Hegels
Zusammenfassung
Die vorliegende Untersuchung begruendet die Moeglichkeit einer neuen Auffassung auf das System der Philosophie Hegels - der Auffassung, in der “Phaenomenologie des Geistes” nicht als eine “Einleitung”, sondern als erster und wichtichster Teil des Systems erscheint.
“Phaenomenologie des Geistes” konstituiert eine grosse Anzahl der Arten von Gegenstaendlichkeit - ebensoviel wie Gestalten des Bewusstseins sie entfaltet, denn die “Gegenstaendlichkeit” in der Transzendentalphilosophie - die Bestimmtheit als das Sein - ist nur “das Negative des Bewusstseins”. Unter ihnen befinden sich auch Formen der Gegenstaendlichkeit der Realphilosophie und der Logik, das sind zwei abschliessede Abschnitten jedes von “Kreisen” der “Phaenomenologie”.
Die in der “Unendlichkeit” verwirklichende Vollendung des phaenomenologischen “Kreises” zieht eine Grenze, die zwei Gestalten verteilt. Die eine von ihnen konstituiert den Gegenstand der Realphilosophie, die andere - den Gegenstand der Logik (die logische Idee). Die logische Idee wird durch die Taetigkeit der Gestalten des Bewusstseins konstituiert, in der die Bezieungen zwischen “Ich” und “Gegenstand” die Struktur der “wahren Unendlichkeit” verwirklichen. Der Gegenstand der Realphilosophie wird durch die Taetigkeit der Gestalten konstituiert, die die Konkretheit der “Unendlichkeit” nicht erreichen, Gestalten, in denen die unaufgehobene Grenze zwischen “Ich” und “Gegenstand” bleibt.
Die logische Idee und die Natur (der Geist) sind nicht unmittelbar - z.B. in der Bewegung “des Ueberganges” - verbunden, weil sie die Bewegungen der verschiedenartig strukturierten Gegenstandssphaeren beschreiben. Ihre Gegenstaende befinden sich in der verschiedenen “ontologischen” Ebenen. Logik und Realphilosophie sind in der Tat nur als Elemente der Phaenomenologie miteinander verbunden, darum muss gerade sie als grundlegender Teil der Philosophie Hegels betrachtet werden.
Список цитируемой литературы 1. Гегель Г.В.Ф. Наука логики, т.1-3. М., 1970-1972. 2. Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т.1-14. М., 1929-1959. 3. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. 4. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук,
т.1-3. М., 1974-1977. 5. Hegel G.W.F. Phaenomenologie des Geistes. Hrsg.
V. Y. Hoffmeister. Hamb., 1952. 6. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской
литературы. М., 1977. 7. Аристотель. Сочинения, т.1-4. М., 1975-1984. 8. Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и
математике. М.,1963. 9. Бакрадзе К.С. Система и метод философии
Гегеля. Тб., 1958. 10. Борхес Х.Л. Сочинения, т.1-3. Рига, 1994. 11. Быкова. М.Ф. Гегелевское понимание
мышления. М., 1990. 12. Быкова М.Ф., Кричевский А.В. Абсолютная
идея и абсолютный дух в философии Гегеля. М.,1993. 13. Витгенштейн Л. Философские работы, ч.1. М.,
1994. 14. Вопросы философии. 15. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. 16. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки.
М.,1980. 17. Гайм Р. Гегель и его время. СПб., 1861.
_______________ Ссылки в тексте оформлены следующим образом: в скобках дается порядковый номер издания в списке литературы (1), номер тома (в многотомных изданиях) или год и номер периодического издания (2), номер страницы (2,3).
18. Гессе Г. Игра в бисер. М., 1992. 19. Гулыга А.В. Гегель. М., 1994. 20. Доброхотов А.Л. Категория бытия в
классической западноевропейской философии. М., 1986. 21. Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о
конкретности бога и человека, т.1-2. М., 1918. 22. Иностранная литература. 23. Кант И. Критика чистого разума. М.,1994. 24. Коплстон Ф.Ч. История средневековой
философии. М., 1997. 25. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное
познание. М., 1991. 26. Кузнецов В.Н. Французское неогегельянство.
М., 1982. 27. Кэрд Э. Гегель. С предисл. С.Н.Трубецкого и
послесл. В.С.Соловьева. М., 1898. 28. Лазарев В.В., Рау И.А. Гегель и философские
дискуссии его времени. М., 1991. 29. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и
мифологии. М., 1993. 30. Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля.
Киев, 1994. 31. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-е издание. 32. Мотрошилова Н.В. Путь Гегеля к “науке
логики”. М., 1984. 33. Мотрошилова Н.В. Современные исследования
философии Гегеля. - (14, 1985, №7). 34. Новалис. Фрагменты. М., 1914. 35. Огурцов А.П. “Философия природы” Гегеля и ее
место в истории философии науки. - (4, 2). 36. Платон. Сочинения, т. 1-4. М., 1990-1994. 37. Радлов Э.Л. “Парменид” Платона и Гегель. - Сб.
в честь С.А. Жебелева. Б.м. 1926. 38. Самосознание европейской культуры ХХ века.
М., 1991.
39. Тевзадзе Г.В. Иммануил Кант. Тб., 1979. 40. Философские науки. 41. Фишер К. История новой философии, т.VIII,
первый полутом. М.-Л., 1933. 42. Франк С.Л. Предмет знания. Пг., 1915. 43. Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994. 44. Фурманов Ю.Р. Место “Феноменологии духа” в
системе философии Гегеля. - (40,1987, №4). 45. Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения.
М., 1991. 46. Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения, т. 1-2. М., 1987-
1989. 47. Шопенгауэр А. О четверояком корне ... Мир как
воля и представление, т.1. Критика кантовской философии. М., 1993.
48. Шпенглер О. Закат Европы, т. 1. М., 1993. 49. Штейнер Р. Очерк теории познания гетевского
мировоззрения. М., 1993. 50. Эко У. Заметки на полях “Имени розы”. - (22,
1988, №10). 51. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М.,
1994. 52. Dove K.R. Die Epoche der Phaenomenologie des
Geistes. - (55, 11). 53. Gadamer H.-G. Hegels Dialektik. Tueb., 1980. 54. Hegel-Studien. 55. Hegel-Studien, Beihefte/ 56. Heidegger M. Gesamtausgabe, I Abteilung, Bd. 5.
Fr. am Mein., 1977. 57. Hoesle V. Hegels System, Bd. 1-2. Hamb., 1987. 58. Nikolin F. Zum Titelproblem der
“Phaenomenologie des Geistes”. - (54, 4). 59. Puntel L.B. Darstellung, Methode und Struktur. -
(55, 10). 60. Volkman-Schluck K.-H. Metaphysik und
Содержание
Введение (Предмет и структура исследования. Форма и стиль исследования. “Исторический” и “системати-ческий” способы реконструкции философии Гегеля. Самостоятельное видение предмета как условие реконструкции философской системы Гегеля. Отношение к методологической позиции И.А.Ильина. Методологическое значение “Феноменологии духа”. “Самостоятельность текста” как формальный принцип интерпретации. “Замысел” и “реализация” философии Гегеля, корпус сочинений Гегеля. Традиционное понимание предмета логики. Статус предметности в трансцендентальной философии. “Феноменология духа” как путь к логической идее. Постановка проблемы предмета реальной философии. Пример традиционного подхода к проблеме предмета реальной философии....................................
6
Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ СПЕКУЛЯТИВНОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ В “ФЕНОМЕНО-ЛОГИИ ДУХА”.......................................................
30
1. Предмет “Феноменологии духа”. Структура предмета Феноменологии и структура “Феноменологии духа”...........................................
30 2. Проблема источника и природы
феноменологического движения (опыт “чувственной достоверности”)................................................................
49
3. Становление “бесконечности” как структуры спекулятивной предметности (опыты “восприятия” и “рассудка”)...................................
62
4. Общая характеристика соотношения “Фено-менологии духа” и “Науки логики” ....................
83
Глава II РЕАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ СПЕКУЛЯТИВНОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ В “НАУКЕ ЛОГИКИ”.....................................................................
103
1. Учение о бытии...................................................... 105
2. Учение о сущности................................................. 120
3. Учение о понятии................................................... 152
4. Формальные особенности спекулятивного
метода и традиционная онтология............................
160
5. Спекулятивный идеал............................................ 165
6. Выводы относительно структуры системы философии Гегеля до исследования структуры “Феноменологии духа”..........................................
179
Глава III СТРУКТУРА “ФЕНОМЕНОЛОГИИ ДУХА”...... 186
1. “Первый большой круг” и “первый малый круг” “Феноменологии”....................................................
187
2. Опыт “самого сознания” (“второй большой круг” “Феноменологии”).......................................
207
3. Продолжение опыта “самого сознания” (“второй малый круг” “Феноменологии”)...........
225
4. Феноменологическое учение о духе (Образы духа в философии Гегеля. Преобразование феноменологического метода в “третьем круге”. Общая сводка исследования структуры “Феноменологии духа”. Абсолютное знание. Открытия и загадки последних страниц. Замечания об отношении Феноменологии к другим элементам системы. Мысль, слово, бытие.)............................................................
232
Заключение (Этапы становления исследования и его результаты. Философия Гегеля: феномен непонимания. утрата и обретение “системы
Гегеля”)...........................................
292
Примечания ................................................................................... 307
Резюме ................................................................................... 365
Список цитируемой литературы ........................................................ 366 Содержание........................................................................................... 370