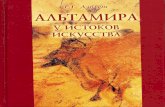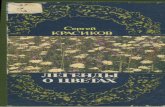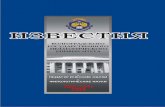Белякова Надежда. О попытке создания организационной...
Transcript of Белякова Надежда. О попытке создания организационной...
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzeLatvijas Vecticībnieku biedrība
Latvijas vecticībnieki: identitātes saglabāšanas
vēsturiskā pieredze
Rakstu krājums
Rīga 2014
Институт философии и социологии Латвийского университета
Рижская Гребенщиковская старообрядческая община
Старообрядческое общество Латвии
Латвийские староверы: исторический опыт
сохранения идентичности
Сборник статей
Рига 2014
UDK 271.2(474.3)(091) La 811
Latvijas vecticībnieki: identitātes saglabāšanas vēsturiskā pieredze.Rak stu krājums / Sastādītāji Illarions Ivanovs, Nadežda Pazuhina, Inese Runce. Rīga: LU FSI, 2014. 336 lpp.
Rakstu krājums „Latvijas vecticībnieki: identitātes saglabāšanas vēstu riskā pieredze” ir sagatavots Valsts pētījumu programmas „Nacionālā iden titāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” projektā „Nacionālā un eiropeiskā identitāte”.
Krājums ir rekomendēts publicēšanai ar LU aģentūras LU Filozofi- jas un socioloģijas institūts Zinātniskās padomes 2013. gada 18. oktobra sē des lēmumu.
Zinātniskais redaktors: Dr. hist. Aleksandrs Gavriļins
Recenzenti: Dr. habil. hist. Jānis Bērziņš t. Aleksijs Žilko
Sastādītāji: Illarions Ivanovs, Nadežda Pazuhina, Inese RunceAtbildīgā redaktore: Nadežda PazuhinaLatviešu tekstu redaktore: Arta JāneMaketētāja: Anna SņegirjovaVāka dizains: Viktorija Matisone
ISBN 9789934506178 © Latvijas Universitātes aģentūra LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014 © Vāka noformējums: Viktorija Matisone
Veltījums Arnolda Podmazova piemiņai
Памяти Арнольда Андреевича Подмазова
UDK 271.2(474.3)(091) La 811
Латвийские староверы: исторический опыт сохранения иден тич но сти. Сборник статей / Составители Илларион Иванов, На дежда Пазухина, Инесе Рунце. Рига: LU FSI, 2014. 336 стр.
Сборник статей «Латвийские староверы: исторический опыт со хра нения идентичности» подготовлен в рамках проекта «Нацио нальная и европейская идентичность» государственной програм мы исследо ваний «Национальная идентичность (язык, история Латвии, куль тура и защищенность человека)».
Сборник рекомендован к публикации решением науч ного совета агентства Латвийского университета Институт фи ло софии и со циологии Латвийского университета от 18 октября 2013 года.
Научный редактор: Dr. hist. Александр Гаврилин
Рецензенты: Dr. habil. hist. Янис Берзиньш о. Алексий Жилко
Составители: Илларион Иванов, Надежда Пазухина, Инесе РунцеОтветственный редактор: Надежда ПазухинаРедактор латышских текстов: Арта ЯнеМакет: Анна СнегиреваДизайн обложки: Виктория Матисоне
ISBN 9789934506178 © Latvijas Universitātes aģentūra LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014 © Дизайн обложки: Виктория Матисоне
7
Satura rādītājsСодержание
Priekšvārds ........................................................................................................ 13Предисловие .................................................................................................... 17
I
Rīgas vecticībnieki: etnokonfesionālā identitāte vēsturiskajā perspektīvā
Рижские староверы: этноконфессиональная идентичность в исторической перспективе
Григорий Поташенко. Роль и значение Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины в истории староверия ............... 21
Grigorijs Potašenko. Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes loma un nozīme vecticības vēsturē ........................................... 53
Людмила Клешнина. Охранная зона СвятоУспенского храма Рижской Гребенщиковской общины ................................................. 54
Ludmila Kļešņina. Rīgas Grebenščikova draudzes Svētās DievmātesAizmigšanas dievnama aizsargjosla ........................................................ 63
Елена Белякова. Памятники канонического права в традициистароверов Поморья и Гребенщиковской общины ........................ 64
Jeļena Beļakova. Kanonisko tiesību pieminekļi Pomoras novirziena un Grebenščikova draudzes vecticībnieku tradīcijā ..................................... 75
Александр Гаврилин. Собеседования синодальных миссионеров с рижскими староверами в 1889–1890 гг. .......................................... 76
Aleksandrs Gavriļins. Sinodālo misionāru pārrunas ar Rīgas vecticībniekiem 1889. un 1890. gadā ........................................................ 87
Viktorija Aleksandrova. Rīgas vecticībnieku ikonu glezniecības darbnīca 20. gadsimtā ................................................................................ 88
Виктория Александрова. Рижская старообрядческая иконопис-ная мастерская в ХХ веке ...................................................................... 95
Nadežda Pazuhina. Labdarība vecticībnieku kultūrā: Rīgas Grebenščikova draudzes pieredze 1920.–1930. gados ................ 96
8 9
Илларион Иванов. Игнатий Владимирович Дорофеев: страницы биографии ............................................................................ 162
Illarions Ivanovs. Ignatijs Dorofejevs: biogrāfijas lappuses ....................... 168
Кристина Новикова. Наставники Рижской Гребенщиковской общины в период «хрущевских гонений» ....................................... 169
Kristīna Novikova. Rīgas Grebenščikova draudzes garīgie tēvi „Hruščova vajāšanu” laikā .......................................................................174
Елена Юхименко. Иван Никифорович Заволоко и выговская культура ............................................................................... 175
Jeļena Juhimenko. Ivans Zavoloko un Vigas klostera kultūra ................... 188
Михал Ржоутил. Переписка И. Н. Заволоко с Семинарием им. Н. П. Кондакова (на материале пражских архивов) .............. 189
Mihals Ržoutils. I. Zavoloko sarakste ar N. Kondakova semināru (Prāgas arhīvu materiāli) ......................................................................... 197
Анатолий Ракитянский. Круг чтения И. Н. Заволоко: к вопросу о составе личной библиотеки ......................................... 198
Anatolijs Rakitjanskis. I. Zavoloko lasāmviela: jautājumi par personiskās bibliotēkas krājumu ............................................................. 204
Максим Пашинин. Врач и христианин И. М. Рошонок: примержизненного пути латвийского старовера в ХХ веке .................... 205
Maksims Pašiņins. Ārsts un kristietis I. Rošonoks: 20. gadsimta Latvijas vecticībnieka dzīves gājuma piemērs ........................................214
IIIVecticības vēstures un garīgā mantojuma pētījumi:
etnokonfesionālās identitātes tapšanas jautājumiИсследование истории и
духовного наследия староверия: вопросы становления этноконфессиональной
идентичности
Кирилл Кожурин. Старообрядческие духовные центры русскопольского пограничья в XVII–XX вв................................................ 217
Kirils Kožurins. Vecticībnieku garīgie centri Krievijas un Polijas pierobežā no 17. līdz 20. gadsimtam ....................................................... 232
Надежда Пазухина. Благотворительность в культуре староверия: опыт Рижской Гребенщиковской общины в 1920–1930-х годах ................................................................................. 108
Vineta Jonīte. Rīgas Grebenščikova draudzes nabadzīgo bērnuaudzināšanas biedrības bērnudārza vēsture .........................................110
Винета Йоните. История детского сада при Рижском Гребен-щиковском обществе по воспитанию бедных детей .....................114
Евгения Назарова. Рижские староверы в понимании новой власти: 1940–1941, 1944 гг. .................................................................... 115
Jevgeņija Nazarova. Rīgas vecticībnieki jaunās varas uztverē: 1940.–1941., 1944. gads ............................................................................ 123
Зоя ЯрошевичПереславцев. Связи староверов из Речи Посполитой и Восточной Пруссии с рижскими староверами .............. 125
Zoja Jaroševiča-Pereslavceva. Žečpospolitas un Austrumprūsijas vecticībnieku kontakti ar Rīgas vecticībniekiem ................................... 132
Ирина Трушкова. Системные факторы воспроизводства старообрядческих общин: Гребенщиковская община в контекстеисторикокультурных сравнений ..................................................... 133
Irina Truškova. Vecticībnieku draudžu pēctecības saglabāšanas sistēmfaktori: Grebenščikova draudze kultūrvēsturisko salīdzinā-jumu kontekstā.......................................................................................... 144
IIVecticībnieku etnokonfesionālās identitātes biogrāfiskā dimensija
Биографическое измерение этноконфессиональной идентичности староверов
Василий Барановский. «В законе Господнем поучался день и ночь...». К 135летию со дня рождения М. А. Власова ................................. 147
Vasilijs Baranovskis. „Dieva likumā mācīts dienu un nakti...”Mihaila Vlasova 135. dzimšanas dienas piemiņai ............................... 155
Иоанн Жилко. Даниил Давыдович Михайлов. К 125летию со дня рождения .................................................................................... 156
Ioans Žilko. Daniils Mihailovs. 125. dzimšanas dienas piemiņai .............161
10
Галина Пономарева. Прибалтийские староверы в эстонской прессе ................................................................................. 306
Gaļina Ponomarjova. Baltijas vecticībnieki Igaunijas presē ..................... 322
Аркадий Неминущий. Между «заветами отцов» и новой жизнью (старообрядчество в романе П. Д. Боборыкина «Обмирщение») ...................................................................................... 323
Arkādijs Ņeminuščijs. Starp „tēvu baušļiem” un jauno dzīvi (vecticīb-nieki P. Boborikina romānā „Obmirščenie” [„Laiciskošanās”]) .......... 329
Autori ............................................................................................................... 330Авторы ............................................................................................................ 333
Inese Runce. Valsts attieksme pret vecticībnieku draudzēm Latvijā (1918–1940) .................................................................................. 233
Инесе Рунце. Отношение государства к старообрядческим общинам в Латвии (1918–1940) ........................................................... 239
Михаил Одинцов. Архивный фонд Совета по делам религиозных культов при СМ СССР (1944–1965) какисточник изучения политики советского государства в отношении старообрядческих общин и других религиозных объединений ................................................................. 240
Mihails Odincovs. PSRS MP Reliģisko kultu lietu padomes arhīva fonds (1944–1965) kā avots pētījumos par padomju valsts politiku vecticībnieku draudžu un citu reliģisko apvienību jautājumos ................................................................................................. 246
Надежда Белякова. О попытке создания организационной структуры у старообрядцевбеспоповцев Прибалтики в 1940е гг. ................................................................................................ 247
Nadežda Beļakova. Par mēģinājumiem izveidot Baltijas bezpriesteruvecticībnieku organizācijas struktūru 20. gs. 40. gados ....................... 262
Juris Paiders. Latvijas vecticībnieku skaita un ģeogrāfiskā izvietojuma novērtējums .............................................................................................. 263
Юрис Пайдерс. Оценка численности и географического распределения латвийских староверов ........................................... 271
Guna Ševkina. Vecticībnieku lūgšanu namu arhitektūra Austrumlatvijas pilsētās: periodizācijas jautājumi ............................................. 272
Гуна Шевкина. Архитектура старообрядческих моленных в городах Восточной Латвии: вопросы периодизации ................. 278
Валерий Плотников. Культурноисторическое наследие староверов Латгалии: староверские кладбища ............................. 280
Valerijs Plotņikovs. Latgales vecticībnieku kultūrvēsturiskais mantojums: vecticībnieku kapsētas ........................................................ 290
Владимир Никонов. К истории Саманской моленной ...................... 292Vladimirs Nikonovs. Par Samaņu lūgšanu nama vēsturi ......................... 298
Майя Гризане. Образ староверов в латвийской прессе 1920–30х годов ....................................................................................... 299
Maija Grizāne. Vecticībnieku tēls Latvijas presē 1920.–1930. gados ........ 305
13
Priekšvārds
Latvijas kultūrtelpa mūsdienās vairs nav iedomājama bez vēsturiski izveidojušās daudzveidības – to veido specifiskas etnogrāfiskas, reliģiskas un kultūrsociālas iezīmes, kas raksturo Latvijā dzīvojošo cilvēku kultūras prakses un kolektīvo vēsturisko atmiņu. Protams, atšķirības starp dažādām etniskajām vai reliģiskajām grupām ir savā ziņā robežakmeņi, kas norāda uz „savējo” loku šajā kopīgajā telpā. Bet piederība tai iezīmē arī iespēju pieskarties kaut kam atšķirīgam, kas tomēr nav svešs, – kaut kam citādam, kas reizē ir kopīgās ikdienas sastāvdaļa.
Latvijas vecticībnieki ir vēsturiski izveidojusies īpaša etnokonfesionāla grupa, kas dzīvo mūsdienu Latvijas teritorijā kopš 17. gadsimta otrās puses. Šajos gadsimtos Latvijas vecticībnieki ir uzkrājuši bagātīgu kultūras mantojumu, saglabājot un attīstot savu senču tradīcijas ne tikai reliģiskajā, bet arī ikdienas dzīvē. No vienas puses, vecticībnieku arhitektūras, mākslas, lietišķās mākslas un nemateriālās kultūras fenomeni (unikālā unisona dievkalpojumu dziedāšana, folkloras tradīcijā balstītā garīgā dzeja, tradicionālā virtuve) ir organiska Latvijas kultūrtelpas sastāvdaļa, kura joprojām saglabā „noslēpumainību” un tādējādi arī pievilcību plašākas sabiedrības acīs. No otras puses, vecticībnieku kopiena, kuru mūsdienās pārstāv ap 70 000 cilvēku, ir relatīvi noslēgta, bet tās kultūrvēsturiskais mantojums nav apzināts un daļēji vēl nav integrēts Latvijas kultūras kopējā kartē.
Raksturojot Latvijas vecticībnieku vēstures un kultūras jautājumiem veltīto pētījumu klāstu, jāatzīmē, ka šī tēma nokļuva zinātnisko pētījumu lokā tikai 1920.–1930. gados. Par Latvijas vecticībniekiem tika rakstīts arī iepriekšējā laikposmā, piemēram, 19. gadsimta otrajā pusē, taču šīs publikācijas bija vai nu sociāli polemiska, vai filozofiska rakstura pār domas. Baznīcas šķelšanās un vecticībnieku tradīciju aspekti tajās drī zāk bija tematisks iegansts runāt par kādu citu tobrīd aktuālu problēmu. Patiesa pētnieciskā interese par Latvijas un Baltijas vecticībnieku
14 15
paaudzē. Rīgas vecticībnieku reliģisko dzīvi vēsturiskā skatījumā savos rakstos ap lūko Grigorijs Potašenko, Jeļena Beļakova, Aleksandrs Gavriļins, Jevgeņija Nazarova; par Grebenščikova draudzes locekļu iesaistīšanos sociālajā darbā Latvijas brīvvalsts laikā raksta Nadežda Pazuhina un Vineta Jonīte; savukārt vecticībnieku sakrālajam mantojumam – Svētās Dievmā tes Aiz migšanas dievnama kompleksa vēsturiskajai apbūvei un Rīgas ikonu glezniecības darbnīcai – veltīti Ludmilas Kļešņinas un Viktorijas Aleksandrovas apcerējumi; Rīgas un Polijas vecticībnieku kultūras kontaktu apzināšanai pievēršas Zoja JaroševičaPereslavceva; Irina Truškova sniedz vispārinātu ieskatu vecticībnieku draudžu kultūras pēctecības saglabāšanas pieredzē salīdzinoši vēsturiskajā aspektā.
Krājuma otrajā sadaļā ir aplūkots ievērojamu vecticības darbinieku veikums reliģiskajā un profesionālajā jomā, kā arī viņu līdzdalība sabiedrības dzīvē: izmantojot biogrāfisko metodi, atklāta vecticībnieku personiskā pieredze savas identitātes saglabāšanā 20. gadsimta politiskajos un sociālajos līkločos. Latvijas vecticībnieku garīgo tēvu biogrāfijām ir veltīti Vasilija Baranovska, t. Ioanna Žilko, Illariona Ivanova, Kristīnas Novikovas raksti. Vecticības un senkrievu kultūras pētnieka Ivana Zavoloko biogrāfijas maz zināmajām lappusēm veltīti Jeļenas Juhimenko, Mihala Ržoutila un Anatolija Rakitjanska raksti. Vecticībnieku vidē pazīstamais ārsts, rīdzinieks, vecticībnieks pēc izcelsmes, Ivans Rošonoks ir Maksima Pašiņina apcerējuma galvenais varonis.
Rakstu krājuma trešā sadaļa ir veltīta dažādiem vecticības vēstures un vecticībnieku kultūras mantojuma izpētes aspektiem. Jauna lappuse vecticībnieku garīgo centru vēsturē Krievijas un Polijas pierobežā tiek atklāta Kirila Kožurina pētījumā. Valsts politikai reliģijas jautājumos un attiecībām starp valsts institūcijām un vecticībnieku draudzēm dažādos 20. gadsimta posmos un dažādu politisko režīmu apstākļos ir veltīti Ineses Runces, Mihaila Odincova un Nadeždas Beļakovas raksti. Vecticībnieku klātbūtni Latvijas teritorijā no demogrāfiski statistiskajām pozīcijām analizē Juris Paiders. Latgales vecticībnieku kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumiem pievēršas Guna Ševkina, Valērijs Plotņikovs un Vladimirs Nikonovs. Latvijas vecticībnieku tēla interpretāciju preses un daiļliteratūras spogulī pēta Maija Grizāne, Gaļina Ponomarjova un Arkādijs Ņeminuščijs.
kul tūru aizsākās ar ievērojamā vecticības tradīciju pazinēja Ivana Zavoloko (1897–1984) publikācijām.
Vērtējot situāciju Latvijas historiogrāfijā kopumā, jākonstatē, ka par Latvijas vecticībniekiem un viņu etnokonfesionālās identitātes šķautnēm pētnieki un publicisti ir rakstījuši salīdzinoši maz. Nenoliedzami, īpaši no zīmīga loma Latvijas vecticības pētījumos ir bijusi LU FSI vadošajam pētniekam Arnoldam Podmazovam (1936–2010), kam pieder arī pirmais mēģinājums sistematizēt un izklāstīt vecticības vēsturi Latvijā latviešu va lodā,1 pateicoties viņa iniciatīvai, pētījumi par Latvijas vecticībnieku kultūru ir iekļauti nacionālās pētnieciskās programmas „Letonika” (intelektuālā un kultūras mantojuma izpētes programma) zinātnisko rakstu krājumos.
Rakstu krājumā „Latvijas vecticībnieki: identitātes saglabāšanas vēsturiskā pieredze”, turpinot šīs tradīcijas, tiek piedāvāti aktuāli pētījumi par vecticībnieku kultūru un vecticības vēsturi Latvijā. Rakstu autori pār stāv dažādas zinātniskās disciplīnas, metodoloģiskās pieejas, paaudzes un valstis. Šī dažādība atspoguļo ne tikai pašu vecticības pētījumu specifiku, bet arī starpdisciplinārās pieejas pieredzi, kas tika aprobēta disku sijās starptautiskajā konferencē „Rīgas vecticībnieki: kultūrvēsturiskās pieredzes 250 gadi”.2 Rakstu krājuma kodolu veido šīs konferences dalīb nieku referāti.
Rakstu krājuma saturu veido trīs tematiskās sadaļas, katra no tām parāda vecticībnieku pieredzi viņu mijiedarbībā ar citām sabiedrības gru pām Latvijā un ārpus tās, ar vecticībniekiem citos reģionos, vēsturiskajā perspektīvā un mūsdienās, tādējādi atklājot vēl vienu, pagaidām maz zināmu, dimensiju Latvijas kultūrtelpā.
Pirmajā sadaļā galvenā uzmanība pievērsta Rīgas vecticībnieku vēsturei. Viņu pieredze uzskatāmi parāda kopienas pielāgošanās spējas so ciāli politiskajām transformācijām sekularizētajā pilsētas vidē, reizē rūpējoties par reliģisko tradīciju stingru pārmantošanu no paaudzes
1 Podmazovs A. Vecticība Latvijā. Rīga, 2001. 210 lpp.2 Konference notika 2010. gada 28. un 29. maijā, to organizēja Latvijas Uni
versitātes Filozofijas un socioloģijas institūts un Latvijas Vecticībnieku biedrība ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālo atbalstu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālo atbalstu – no Sabiedrības integrācijas fonda līdzekļiem. Teksti rakstu krājumā publicēti oriģinālvalodā, kādā tie iesniegti redkolēģijai.
16 17
Предисловие
Староверы представляют собой устойчивую этноконфессиональ ную группу, историческое наследие которой является неотъемлемой частью культурного пространства современной Латвии. Пер вые поселения сторонников «старой веры» на территории Латвии относятся ко второй половине XVII века, на сегодняшний день в Латвии проживает около 70 000 староверов и выходцев из староверческих семей.
Интерес к культуре латвийских старообрядцев как в академическом сообществе, так и в обществе в целом, существует уже давно. В латвийской историографии научные исследования, посвященные латвийскому старове рию, в первую очередь, связаны с именами Ивана Никифоровича Заволоко (1897–1984) и Арнольда Андреевича Подмазова (1936–2010), в работах которых прослеживаются основные этапы истории староверия и связанные с ним культурные и религиозные традиции. В контексте изучения формирования различных типов идентичностей опыт латвийских ста роверов вновь оказывается в фокусе внимания исследователей.
В сборник «Латвийские староверы: исторический опыт сохранения идентичности» вошли статьи, посвященные различным аспектам становления этноконфессиональной идентичности староверов. Авторы исследований представляют не только различные области гуманитарных наук и географического пространства (историки, со циологи, искусствоведы, филологи из Латвии, Литвы, Эстонии, Рос сии, Польши и Чехии), но и разные поколения исследователей. Стимулом к созданию данного сборника послужили выступления ученых на конференции «Рижские староверы: 250 лет культурноисторического опыта»1, состоявшейся в Риге 28 и 29 мая
1 Конференция проводилась при финансовой поддержке Исландии, Лих тенштейна, Норвегии в рамках финансовой программы Европейской Экономической зоны и при латвийской государственной финансовой поддержке Фонда общественной интеграции. Тексты статей в сборнике пуб ли куются на языке оригинала.
Krājumā apkopotie raksti ir oriģināli pētījumi, kas balstās uz plašu līdz šim vēl nepublicēto arhīvu materiālu klāstu. Lasītājam ir iespēja gūt priekšstatu gan par Latvijas, gan par citu valstu (Krievijas, Baltkrievijas, Čehijas, Igaunijas) arhīvu fondu dokumentiem, kas ietver vecticības vēstures un vecticībnieku draudžu darbības tematiku.
Rakstu krājumā publicēto pētījumu uzdevums ir rosināt diskusijas par identitātes saglabāšanas mehānismiem un to apzināšanas problēmām gan Latvijas akadēmiskajā vidē, gan arī starptautiskajā līmenī, pa verot iespējas ārzemju lasītājiem tuvāk iepazīt Latvijas vecticībnieku kultūras specifiku.
Krājuma sastādītāji pateicas visiem kolēģiem un domubiedriem par diskusijām un ieteikumiem krājuma sagatavošanas laikā, kā arī Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzei un Latvijas Vecticībnieku biedrībai par vienmēr sirsnīgu atbalstu un sadarbību.
18 19
ховного наставника Михаила Александровича Власова (1875–1956) обраща ется в своей статье В. С. Барановский. И. А. Жилко описывает факты биографии знатока и ценителя древнерусской книжности, духовного наставника Первой Даугавпилсской Новостроен ской общины Даниила Давыдовича Михайлова (1885–1973). Ранее неиз вестные страницы биографии духовного наставника и предсе дателя Совета Рижской Гребенщиковской общины Игнатия Владимировича Дорофеева (1876–1951) раскрываются в статье Ил. И. Иванова. В очерке К. Новиковой рассматривается деятельность трех духовных наставников Рижской Гребенщиковской об щины в период «хрущевских гонений» – Ивана Иулиановича Ваконьи (1883–1965), Трофима Афа насьевича Каштальянова (1888–1966) и Порфирия Феодоровича Фадеева (1904–1964).
Ряд статей посвящен малоизвестным фактам биографии выдающегося собирателя и исследователя русской старины Ивана Никифоровича Заволоко (1897–1984). Е. М. Юхименко обращает внимание на интерес И. Н. Заволоко к истории Выгорецкого монастыря и на вклад И. Н. Заволоко в сохранение уникальных сви детельств о Выге другого известного знатока древнерусской письменности – рес тавратора Федора Антоновича Каликина (1876–1971). М. Ржоутил анализирует редкие архивные документы, свидетельствующие о контактах И. Н. Заволоко с пражскими научными учреждениями в 1920–1930х годах. В свою очередь, А. Т. Ракитянский намеча ет возможные пути реконструкции каталога личной библиотеки И. Н. Заволоко. Особое место в этом разделе занимает биография известного латвийского кардиологаревматолога Ивана Матвеевича Рошонка (1911–1982), представленная в статье М. Б. Пашинина.
Третий раздел «Исследование истории и духовного наследия староверия: вопросы становления этноконфессиональной идентич но сти» объединяет различные по тематике и методологической направ ленности исследования историкокультурного наследия ста ро веров стран Балтии. К. Я. Кожурин изучает региональную специфи ку русскопольского пограничья в период XVII–XX веков в контекс те истории формирования духовных центров староверия на этих территориях. И. Рунце дает характеристику религиозной политики в Латвии в 1920–1930х годах, анализирует взаимоотношения между государственными учреждениями и представителями
2010 года. Сборник состоит из трех разделов, содержание которых отражает актуальные направления работы современных исследователей.
В первом разделе «Рижские староверы: этноконфессиональная идентичность в исторической перспективе» очерчен круг проблем, относящихся к изучению жизни староверов в условиях политических и социокультурных изменений. В статье Г. В. Поташен ко уточняется периодизация истории Рижской Гребенщиковской об щи ны, а также анализируются особенности религиознодогма тических взглядов рижских староверов. Л. В. Клешнина дает профессиональную оценку технического состояния и возможности корректного, с точки зрения охраны памятников культуры, использования архитектурного комплекса Гребенщиковской общи ны. Книжным памятникам канонического права в традиции риж ских староверов посвящена статья Е. В. Беляковой. А. В. Гаврилин раскрывает ранее неизвестные аспекты взаимоотношений рижских староверов и представителей Синодальной Церкви в конце XIX века. В. Александрова рассматривает основные этапы деятельности староверческих мастеровиконописцев, работавших при Гребенщиковской общине в разные периоды ХХ века. В статье Н. Пазухиной дан анализ форм благотворительной деятельности рижских староверов в межвоенный период. Эту же тему продолжает небольшой экскурс в историю первого староверческого детского сада, представленный В. Йоните. Е. Л. Назарова предприни мает попытку реконструировать позицию советских властей по отношению к уровню религиозности русского населения прибал тийских республик в 1940х годах. В свою очередь, контакты, существовавшие между рижскими и польскими староверами на протяжении XIX–XXI веков, прослеживает в своем очерке З. ЯрошевичПереславцев. И. Ю. Трушкова предлагает новый взгляд на проблему воспроизводства староверческих общин с точки зрения системного анализа.
Второй раздел «Биографическое измерение этноконфессиональ ной идентичности староверов» посвящен биографическим очеркам о латвийских староверах, чью жизнь можно считать подвижническим служением. К таким значимым в староверии людям, в первую очередь, относятся духовные наставники. К биографии ду
IRīgas vecticībnieki:
etnokonfesionālā identitāte vēsturiskajā perspektīvā
Рижские староверы: этноконфессиональная
идентичность в исторической перспективе
старовер чес ких общин и организаций. Источниковедческий потенциал документов фонда Совета по делам религиозных культов при СМ СССР (1944–1965), хранящегося в Государственном Архиве Российской Федерации, рассмотрен в статье М. И. Одинцова. Материалы этого фонда легли в основу исследования Н. А. Беляковой, анализирующей по пытки создания в СССР централизованной организационной структуры управления общинами староверовбеспоповцев в 1940е годы. Ю. Пайдерс дает оценку численности и географического распределения латвийских староверов в исторической перспективе XX – начала XXI веков. Вопросы сохранения и необходимости тщательного исследования культурного наследия староверов Латгалии рассмотрены В. В. Плотниковым на примере старообрядческих кладбищ и Г. Шевкиной в рамках работы, посвященной критериям периодизации памятников сакральной архитектуры в городах Восточной Латвии. В статье В. В. Никонова представлены новые сведе ния об истории Саманской моленной, а также о деятельности ее наставников в XIX веке.
Внимание исследователей привлекает и то, каким представляется «типичный» старовер в восприятии людей «внешнего мира». Образ староверов в латвийской периодической печати межвоенного периода показан в статье М. Гризане. Г. М. Пономарева анализирует отношение к староверам в газетных публикациях на эстонском языке. Литературоведческая интерпретация образа ста ровера в романе П. Д. Боборыкина «Обмирщение» представлена в исследовании А. Н. Неминущего.
Предлагаемый читателю сборник статей ориентирован на широкую читательскую аудиторию, однако прежде всего адресован исследователям истории староверия. Большая часть статей данного сборника представляет собой исследования, основанные на обширной базе архивных источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.
Составители сборника искренне благодарят всех коллег за цен ные замечания и дополнения, сделанные в ходе работы над сбор ником, а также Рижскую Гребенщиковскую старообрядческую об щину и Старообрядческое общество Латвии за многолетнее сотрудниче ство и поддержку.
23
Григорий Поташенко
Роль и значение Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины
в истории староверия
Значение Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины в современном староверии общеизвестно: это крупнейшая в ми ре по численности прихожан поморская религиозная община (насчитывает до 7 тысяч исповедников и, по некоторым данным, до 20 тысяч староверов) с самым большим храмом (вмещает около 4–5 тысяч человек).
Золотистая колокольня храма во имя Успения Богородицы возвышается над Латгальским предместьем или Московским форштадтом, как традиционно принято его называть, и доминирует в этой части города. В облике колокольни храма «русский стиль» красиво сочетается с югендстилем. Поморский храм на улице Маза Краста стал неотъемлемой частью всей Риги и одной из достопримечательностей столицы.
В этом отличие Риги от других столиц стран Балтии – Таллин на и Вильнюса, в которых существуют поморские храмы, но их местонахождение, архитектурный облик и известность в городе иные. Своей известностью и славой памятника культуры в городском пространстве с Рижским поморским храмом может сравниться, ви димо, лишь храм Даугавпилсской Новостроенской общины. В Даугавпилсе действуют шесть поморских храмов, поэтому город иногда именуют «староверческим Иерусалимом». В последние го ды Вильнюсский СвятоПокровский храм, интересный своими религиозными и архитектурными особенностями, также приобретает известность в столице Литвы. Нельзя не вспомнить еще один важный центр староверия в странах Балтии – Причудье в Эстонии, где действуют девять общин, и бережно хранится память и наследие известного иконописца и наставника Гавриила Ефи мовича Фролова.
24 25
Вместе с тем этот высокий статус Гребенщиковской общины – крупнейшей поморской общины в мире и духовного центра – это не только повод для гордости и восхищения. Такое положение очень ответственное. На крупный центр всегда обращены надежды и чаяния староверов, горожан и общества в целом. Быть первым в бурном потоке современной жизни – это ответственность и испытание. И порой непростое испытание, чреватое подъемами и падениями, конфликтами и примирениями. В последние двадцать лет своей истории всего этого, кажется, не избежала и Гребенщиковская община.
Последние два десятилетия развития общины тоже уже стали историей, но все еще живут в нашей памяти и сознании. В этой связи, перед церковным и историческим сознанием возникает вопрос о необходимости осмыслить связь между современностью и прошлым, церковной и социальнополитической (светской) историей.
Мы часто творим историю без знания прошлого, решаем и сами создаем проблемы современности, не изучая при этом уроков прошлого. Забываем очевидный факт: если познание истории есть признак культурного образованного человека, то познание церковной истории есть также свидетельство сознательного верующего.
Религиозная история (как и богослужение), т. е. исповедание церковной веры во времени, в разных культурных условиях и разных эпохах, выражает не только «человеческое предание», но и Предание Церкви. Здравомыслящий историк должен учитывать сле дующие факторы: 1) в понимании христиан Священное Предание, изменяясь в веках, остается неизменным по существу; 2) многообразие исторических форм отражает внутреннее единство Церкви.
Цель настоящей статьи – поделиться некоторыми мыслями, со ображениями и предложениями о роли и значении Гребенщиковской общины в истории староверия, прежде всего староверия в Балтии.
История Гребенщиковской общины до сих пор полностью не изу чена, хотя накоплен значительный материал по отдельным ее вопросам. Отсутствует более или менее исчерпывающее исследование по истории общины или даже только по отдельным периодам
И всетаки именно Гребенщиковская община продолжает но сить славу столичной общины. Община имеет свою богатую 250лет нюю историю. Она была основана в 1760 году, когда наставник Федор Саманский освятил первый староверческий храм в Риге. Со временем община стала важнейшим духовным центром в Риге и Латвии. Такой она остается и до сих пор. В 1989–1995 гг. здесь располагался Центральный Совет ДПЦ Латвии (ныне находится в Даугавпилсе). В 1989–1994 гг. при Гребенщиковской общине действовало, а с 2006 г. была возобновлена работа Духовного училища, одного из двух поморских училищ в Европе (другое действует в СанктПетербурге). Это также важный издательский центр поморцев в странах Балтии, России, Белоруссии и Польше.
Гребенщиковская община считается одним из старейших и известнейших центров староверия в странах Балтии и России – ранее нее было основано лишь Выговское общежительство, в свою очередь, Московская Монинская, Преображенская и Рогожская, Петербургская Косцовская общины возникли уже после нее. Рижская община является уникальным культурным центром староверия, имеющим богатейшее собрание икон, древних рукописных и печатных книг. При общине постоянно действует библиотека.
Гребенщиковская община по праву может гордиться своими известными религиозными и общественными деятелями. Это духов ный наставник Федор Никифорович Саманский; купцы и крупные благотворители Алексей Петрович Гребенщиков и Григорий Семенович Ломоносов; председатели совета общины, предприниматели и крупные жертвователи Ананий Ерофеевич Трифонов (1851–1937), удостоенный в начале XX в. звания почетного гражданина Риги, и Василий Григорьевич Кудрячев (1869–1941); историк, собиратель русских древностей, педагог и публицист Иван Никифорович Заволоко; наставник и почетный председатель совета общины Лаврентий Силович Михайлов и многие другие. С общиной тесно связаны имена известных политических и религиознообщественных деятелей первой половины XX в.: члена Учредительного собрания и первого председателя Центрального комитета по делам старообрядцев Латвии Федора Семеновича Павлова (1872–1933), профессора и депутата Сейма Латвии Ивана Феропонтовича Юпатова (1865–1944) и др.
26 27
учитывать как внутреннее религиозное развитие общины в контексте истории Древлеправославной Церкви и ее Предания, так и внешнюю социальнополитическую историю («человеческое предание»). Поэтому можно выделить три наиболее существенных эта па истории Гребенщиковской общины:
1) Федосеевский период – 1760–1832 гг. Это годы утверждения федосеевства среди рижских староверов – со времени основания общины в 1760 г. до принятия браков в 1832 г. Уже в ранний период своей истории Рижская община стала одним из крупных центров федосеевства в Российской империи и, бесспорно, крупнейшим духовным центром федосеевцев на территории современных стран Балтии.
2) Период так называемых «рижских федосеевцев» или «федосеевскопоморский» период: 1832 г. – 40–60е гг. XX в. Вслед за разрешением брачным прихожанам участвовать на общем богослужении в храме и совершать исповедь, в конце этого периода брачных начали пускать уже и на клирос. До сих пор остается малоизученным вопрос о более точном времени допущения брачных на клирос в Гребенщиковской общине. Поэтому пока сложно более точно установить и хронологические рамки окончания периода «рижских федосеевцев».
Однако при определении хронологии второго периода появляются некоторые проблемы, требующие серьезного обсуждения. В 1832 г. рижские староверы приняли браки.6 С этого времени возникло особое наименование местных староверов – «рижские федосеевцы». Оно означало не только местонахождение староверов, но и имело важное религиозное содержание – речь шла о потомках федосеевцев, которые приняли браки. Сами рижские староверы называли себя поразному: «православными», «федосеевцами», «староверами федосеевскопоморского согласия» и, наконец, «поморцами». Это хорошо показал Н. Лесков в своих статьях о рижских староверах.7
6 Согласно И. Нильскому, в 1837 г. или даже ранее (см.: Нильский И. Семейная жизнь в русском расколе. Исторический очерк расколь нического учения о браке, вып. 2. СанктПетербург, 1869. С. 136.)
7 Лесков Н. С. Полное собрание сочинений, т. 3. Москва, 1996. С. 384–459, 482–589.
ее религиозной и общественнокультурной жизни. Следует заметить, что в историографии существуют лишь две научнопопулярные работы по истории рижских староверов. В 1933 г. вышел краткий исторический очерк И. Заволоко о староверах в Риге с 1760 г. до начала 30х гг. XX в.1 В 2010 г. появилась книга А. Подмазова «Рижские староверы», в которой вкратце приводятся основные вехи истории рижских староверов и их современное положение.2
о периодизации
Вопрос о периодизации истории Гребенщиковской общины в историографии обстоятельно не рассматривался. В некоторых исследованиях и статьях высказывались лишь отдельные суждения по этой проблеме. В очерке И. Заволоко по истории староверия Риги излагается тематически сюжетное повествование в рамках общеполитической истории России и отчасти Латвии.3 Периодизация истории староверия Латвии дается в книге А. Подмазова «Старообрядчество в Латвии».4 Эту историю он разделил на следующие периоды: ранний период (до 1721 г.), царское время и XX в. В основу периодизации истории староверия Латвии положен хронологический принцип, при этом учитываются и политические изменения, поскольку в XX в. выделены период независимой Латвии, советский период и время после 1991 г. Подобное деление, но уже в применении к истории староверов в Риге, находим и в книге А. Подмазова «Рижские староверы».5
Понятно, что периодизация истории Гребенщиковской общины, как и Древлеправославной Поморской Церкви в целом, должна
1 Заволоко И. Н. О старообрядцах г. Риги. (Исторический очерк). Рига, 1933.
2 Подмазов А. Рижские староверы / Rīgas vecticībnieki / The Old Believers of Riga. Редактор Надежда Пазухина. Рига, 2010.
3 См.: Заволоко И. Н. О старообрядцах г. Риги. (Исторический очерк). Рига, 1933.
4 Podmazovs A. Vecticība Latvijā. Rīga, 2001.5 Подмазов А. Рижские староверы / Rīgas vecticībnieki / The Old Belie
vers of Riga. Редактор Надежда Пазухина. Рига, 2010.
28 29
Историю Гребенщиковской общины в XX в. целесообразно под разделять на более мелкие подпериоды, в соответствии с изменениями политических режимов и религиозной политики различных государств, повлиявших на положение общины и Церкви в целом. В этой связи можно выделить следующие подпериоды: 1918–1940, 1941–1945, 1945–1991 гг. и время после 1991 г.
Зачем нужна и что дает такая периодизация истории общины? Вопервых, она более полно раскрывает особенности истории общины на раннем этапе ее развития и дает четкие хронологические рамки федосеевского периода в этой истории, что в исторической литературе до сих пор не подчеркивалось. Например, в историческом очерке И. Заволоко «О старообрядцах г. Риги» (1933) даже нет упоминания о том, что в ранний период своей истории Гребенщиковская община была федосеевской. В более поздних трудах (А. Заварина10, А. Подмазов11, О. Пухляк12, С. Ковальчук13, К. Кожурин14 и др.) находим упоминание о федосеевцах в Риге (и в Латвии в целом), однако федосеевский период истории общины не выделяется как отдельная исследовательская проблема.
Вовторых, когда мы говорим о том, что рижские поморцы, как и все поморцы Латвии в целом, имеют федосеевские корни, то
10 Заварина А. А. Русское население восточной Латвии во второй поло вине 19 – начале 20 века: Историкоэтнографический очерк. Рига, 1986; Заварина А. А. Русское население Латвии (к истории поселения) // Русские в Латвии. Из истории и культуры староверия. Издание 2е. Рига, 2003. С. 10–47.
11 Подмазов А. А. Ранняя федосеевщина в Прибалтике и ее исто рические судьбы // Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы 4ой научнопрактической конференции, проходившей 14–15 мая 1998 г. в Москве. Москва, 1998. С. 117–119; Podmazovs A. Vecticība Latvijā. Rīga, 2001; Подмазов А. Рижская Гребенщиковская старообрядческая община // Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 329–333.
12 Пухляк О. Рижские старообрядческие моленные в первой половине XIX века // Староверие в Латвии. Ответственный редакторсоставитель Ил. И. Иванов. Рига, 2005. С. 259–273.
13 Ковальчук С. Рижские староверы в период гонений в 40–50е годы XIX века // Староверие в Латвии. Ответственный редакторсоставитель Ил. И. Иванов. Рига, 2005. С. 280–289.
14 Кожурин К. Культура русского старообрядчества (XVII–XX вв.). Учебное пособие. Часть первая. СанктПетербург, 2007.
Итак, время с 1832 г. по 40–60е гг. XX в. можно считать отдельным периодом в развитии Гребенщиковской общины и именовать временем собственно «рижских федосеевцев» или «федосеевскопо морским».
3) С точки зрения современной ДПЦ, рядовых верующих и, конечно, исследователей, понятие «рижский федосеевец» или «брачный федосеевец» имеет некое внутреннее противоречие: если брачный беспоповец, да еще молится за царя, то он считается поморцем, если небрачный, – то федосеевцем. В связи с этим и второй период истории Гребенщиковской общины целесообразно было бы уже с 1832 г. называть «поморским». Таким образом, поморский период общины охватывал бы последние 180 лет, т. е. с 1832 г. по 2010 г. В этом случае, период «рижских федосеевцев» (1832 г. – 40–60е гг. XX в.) стал бы первым этапом поморского периода.
Н. Лесков в своих известных очерках о рижских беспоповцах называл их поморцами, потому что они молились за царя и брачились в моленной с благословением родителей и духовного отца.8 В середине XIX в. небезызвестный Павел Прусский также называл брачных беспоповцев, потомков федосеевцев, живущих в Москве, Петербурге, Риге, Ковенской (Каунасской) губернии и других местах «поморцами».9
Известно, что в начале XX в. среди рижских староверов активно стало утверждаться самоназвание «поморцы», особенно после принятия устава Гребенщиковской общины в 1908 г. и Первого Всероссийского собора христианпоморцев, приемлющих брак, в Москве в 1909 г. В Соборе приняли участие несколько рижских староверов, однако официальных представителей Гребенщиковской общины на этом Соборе не было. Осознание принадлежности к поморцам среди рижских староверов окончательно утверждается, видимо, в 20–60е гг. XX столетия.
8 Лесков Н. С. Полное собрание сочинений, т. 3. Москва, 1996. С. 589.9 Воспоминания, беседы и иные сочинения о глаголемом старообряд
честве, составленные игуменом Павлом, настоятелем Московского Никольского единоверческого монастыря. Москва, 1871, часть 1–2; также см.: Нильский И. Семейная жизнь в русском расколе. Исторический очерк раскольническаго учения о браке, вып. 2. СанктПетербург, 1869. С. 166.
30 31
то лики, православные, иудеи, появились староверы; наряду с немцами (45,2 %) здесь жили латыши (36,9 %) и русские (10 %), немного поляков, литовцев, белорусов, евреев и, возможно, латгальцев.15 По данным А. Завариной, в 1767 г. в Риге проживало почти 3 тысячи русских (точнее – 2963 человек), значительная часть кото рых была староверами. Староверы, наряду с православными, стояли у истоков формирования коренного русского населения города.16
Присоединение Лифляндии к России открыло свободный путь русским в Ригу, хотя и до того отдельные их группы проживали в городе. В конце XVIII в. Рига была крупным европейским портом, а также важным экономическим центром восточнобалтийского региона. Тогда же создается и богатая староверческая прослойка в Риге – купцы Хлебников, Пименов, Грязнов, Дьяконов, Шелухин уже в конце XVIII в. открывают свои промышленные предприятия. Они материально поддерживают рижскую общину.
В XVIII в. русские в Риге селились преимущественно за пределами городских укреплений – в Московском и Петербургском форштадтах, а также на левом берегу Даугавы – в Задвинье. Именно в Московском форштадте, на земле купца Саввы Дьяконова был устроен первый староверческий храм в честь Успения Богородицы.17
В Российской империи староверам строго запрещалось строить храмы, однако в условиях смягчения антистароверческой по литики при Екатерине II (упразднена Раскольничья контора, отменены двойные налоги в 1782 г. и др.) они обходили этот запрет,
15 Всего в 1766 г. в Риге проживало 21 165 душ. См.: Дорошенко В. Жители старой Риги в 1786 году // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике, т. 4. Рига, 1999. С. 9.
16 Заварина А. А. Русское население Латвии (к истории поселения) // Русские в Латвии. Из истории и культуры староверия. Издание 2е. Рига, 2003. С. 31.
17 До этого рижские староверы совершали богослужения в частных домах. См.: Подмазов А. Рижская Гребенщиковская старообрядческая община // Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 330; Пухляк О. Рижские старообрядческие моленные в первой половине XIX века // Староверие в Латвии. Ответственный редакторсоставитель Ил. И. Иванов. Рига, 2005. С. 260.
возникает необходимость разобраться с двумя серьезными проблемами: как происходил переход от федосеевцев к брачным поморцам, означающий важный перелом в церковной истории местного староверия, и какое значение для поморцев в прошлом имеет федосеевское религиозное наследие. Это вопрос внутренней преемственности в истории древлеправославия в Латвии (и в Балтийских странах в целом), которая отражает внешнее, историческое многообразие.
Не будем пытаться дать решение этих проблем, скажем только, что догматическое и религиозное наследие федосеевцев Риги XVIII и первой трети XIX вв. со временем теряло свое практическое значение для местных староверов. С точки зрения современной РГСО, оно имеет лишь историческое значение и рассматривается как ранний период развития общины. Однако федосеевский период представляет интерес для исследователей исторического богословия и истории общины, а также имеет значение для сохранения коллективной памяти современных староверов Риги. Перефразируя известную фразу, можно сказать: «В каждом поморце в Риге, если потереть как следует, появится прежний федосеевец».
Федосеевский период Рижской (Гребенщиковской) общины: 1760–1832 гг.
Староверы уже около ста лет жили на территории современной Латвии (тогда – в вассальном Курляндском герцогстве и Инфлянтском воеводстве Речи Посполитой), когда приблизительно в 1760 г. возникла их община в Риге. Город уже фактически пятьдесят лет (формально с 1721 г.) принадлежал Российской империи, а не Швеции, и был административным центром Рижской (1713–1783), затем (с 1796 г.) – Лифляндской губернии. В Остзейском крае гос под ствовало прибалтийское немецкое дворянство. И хотя права бюргеров (горожан) имели лишь рижские немцы (исключением были 1786 – около 1796 гг., когда Екатерина отменила деление на граждан и неграждан), Рига была многоконфессиональным и мно гонациональным городом: кроме господствовавших лютеран были ка
32 33
церковным вопросам (например, Саманский высказался против написания пилатовой титлы [ИНЦИ] на кресте).21
Саманский стоял у истоков создания книжницы Гребенщиковской общины, поскольку в книжнице общины сохранились книги с его пометами. Считается, что второй список литературного шедевра XIII в. – «Слово о погибели Русской земли», который в 1933 г. в книжнице Гребенщиковской общины обнаружил И. Н. Заволоко, принадлежал Ф. Н. Саманскому.22
Итак, Федор Никифорович Саманский был основателем и первым наставником Гребенщиковской общины, внес вклад в сохранение памятников древнерусской литературы (гипотетическая вер сия), умер в Риге и похоронен на «тамошнем кладбище».23 Он стал частью культурного наследия города Риги, и в историческом сознании староверов и русских рижан, в целом, остается Саманским, хотя есть полное основание называть его Рижским. Однако пока нет ни специального исторического исследования о нем, ни улицы в Риге24 или в Зарасай, ни мемориальной доски или
21 См.: Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт энциклопедического словаря. Москва, 1996. С. 248–249.
22 Барановский В., Поташенко Г. Саманский Федор Никифорович // Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 343. Список был передан И. Н. Заволоко в Институт русской литературы в тогдашнем Ленинграде. «Слово о погибели Русской земли» – отрывок полностью не сохранившегося произведения, посвященного татаромонгольскому нашествию на Русь. Отрывок этот дошел до нас в двух списках, при этом не как самостоятельный текст, а как введение к первой редакции «Повести о житии Александра Невского». Один список – XV в. (Гос. архив Псковской области, собр. ПсковоПечерского мон., ф. 449, № 60), второй – XVI в. (ИРЛИ, Р. IV, оп. 24, № 26). Заглавие памятника «Слово о погибели Рускыя земли и по смерти великого князя Ярослава» читается только в первом списке. См.: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4639
23 Хронограф, сиречь Летописец Курляндсколитовской / Подг. текста, вступ. ст. Г. Маркелова // Древлехранилище Пушкинского Дома. Материалы и исследования / Ред. В. П. Бударагин и др. Ленинград, 1990. С. 199.
24 Прим. ред. Пока статья ожидала выхода в свет, на основании про шения Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины Рижской Думой было принято решение о присвоении имени Феодора Саманского новой улице, ведущей к Успенскому храму Гребенщиковской общины. См. Решение Рижской думы от 15.01.2013, № 5751 (www.rigasaustrumi.lv/.../01_Lemums_Nr. 5751)
открывали «тайные» моленные или устраивали их в больницах и приютах. Чтобы не вызвать лишних подозрений со стороны властей, рижская федосеевская община (общество) формально дей ствовало как «Богоугодное странноприимное больничное заведение» со своим храмом и богадельней. Поэтому и Федора Саманского современники называли духовным отцом, настоятелем, основателем «больничного заведения».18 Он был одним из наиболее энергичных и образованных федосеевских наставников, прибывшим, вероятно, из Курляндии. До того он основал храмы в Саманяй (1735 г., ныне Литва) и Войтишках (1740 г., около нынешнего Даугавпилса), был участником Гудишкского собора 1752 г., принявшего знаменитые в истории беспоповцев «Польские статьи» и утвердившего учение федосеевцев в балтийском регионе. После Гудишкского собора безбрачные федосеевцы стали более строго относиться к новоженам и даже к староженам, а несогласие с выговцами по поводу богомолия за царя выразилось в более радикальном размежевании с ними.
Остается непонятным, сколько времени Федор Саманский был наставником в Рижской общине, поскольку в исторической литературе приводятся разные даты его смерти: 1771 г. (по данным «Дегуцкого летописца»19) или 1794 г. (надпись под его портретом в Гребенщиковской общине20).
Те, которые придерживаются более поздней даты смерти Саманского, утверждают, что в 70–80е гг. XVIII в. его авторитет признавался среди федосеевцев всей европейской части Российской империи, а в 1791 г. федосеевцы Преображенской общины считали его «первым своим отцом» и советовались с ним по некоторым
18 См. надпись на портрете Федора Саманского в РГСО.19 Хронограф, сиречь Летописец Курляндсколитовской / Подг. текста,
вступ. ст. Г. Маркелова // Древлехранилище Пушкинского Дома. Матери алы и исследования / Ред. В. П. Бударагин и др. Ленинград, 1990. С. 198–199.
20 Об этом см. Заволоко И. Н. О старообрядцах г. Риги. (Исторический очерк). Рига, 1933. С. 2; Барановский В., Поташенко Г. Саманский Федор Никифорович // Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 343.
34 35
староверов, поскольку в течении последующих двух столетий такого уже не было.
По примеру московских федосеевцев рижане в 1813 г. приняли у себя «Правила для управления богадельни, больницы, сиротского отделения и школы рижского старообрядческого общества». Однако, в сравнении с московскими «Статьями к церковному управ лению» 1812 г., этот документ был более пространным и состоял из 14 глав, 25 статей и 163 параграфов. Он более детально регламентировал религиозную и хозяйственную жизнь рижской общины: сроком на три года избирался Совет общины, состоявший из десяти членов (трех духовных наставников, по одному от каждой моленной, и семи мирян); подробно регламентировалась деятельность богадельни, больницы, сиротского отделения и школы при общине; вводилось централизованное управление тремя храмами; моленная при богадельне, т. е. «Большая каменная», считалась «главною над прочими в городе Риге» (параграф 138), а ее наставник – «главным лицом над прочими духовными лицами» (параграф 139).26
При «Большой каменной» моленной находилась богадельня. В 1829 г. в ней проживали 244 человека. При храме имелась больница, где в стационаре лечились 73 больных, и сиротское отделение, давшее приют 71 ребенку. Кроме главной богадельни существовали и еще четыре, что свидетельствует о широкой благотворительной деятельности староверов. Так, в доме купеческой вдовы Волковой, подаренном старообрядческому обществу, проживало до 30 женщин и детей. Третья богадельня находилась на Московском форштадте в доме купца Ф. Никитина, а четвертая («нелегальная», как отмечали чиновники) – на «Двинском форштадте» в доме купеческой вдовы Олифановой. Хотя эти данные относятся к концу 20х – началу 30х гг. XIX в., они свидетельствуют о благотворительной активности староверов.27
При главной моленной имелась школа, в которой, по отчету за 1829 г., обучалось 110 учеников, как мальчиков, так и девочек,
26 Подмазов А. А. Устав как исторический источник // www.staroverpomorec.lv/starover/docs/1_chtenije/dokladi/23.doc
27 Там же.
достойного памятника. Кстати, книжница Гребенщиковской общины вполне могла бы быть названа его именем.
И все же рижские староверы сохранили память о своем первом наставнике и основателе общины. До сих пор в комнате заседаний Совета Гребенщиковской общины находится портрет Федора Никифоровича, написанный, видимо, во время первого расцвета общины в начале XIX в.
В 1793 г. староверческое общество в Риге выкупило помещение моленной у купца Г. А. Панина, тогдашнего владельца, и через пять лет построило новое кирпичное здание (перестроено в 1814 г.; неудачная попытка закрыть моленную была в 1859 г.). С 1806 г. староверам принадлежала мыза Гризенберг, которая давала немалый доход общине. В 1809 г. в Петербургском предместье возник второй Панинский храм («запечатан» в 1827 г., просуществовал до 1843 г.25), в Московском форштадте – третий, Пушковский или Новый храм (открыт до 1812 г.; отстроен в 1814 г., однако в 1836 г. был превращен в единоверческую церковь).
В историю рижской общины вписана и война 1812 г. России с Наполеоном. Для части рижан и местных староверов война была большим несчастьем, поскольку в страшном пожаре в июле 1812 г. (французская армия к Риге так и не подошла) сгорело почти все деревянное Московское предместье, включая два староверческих храма, общественные строения и жилые дома.
После 1812 г. рижские староверы испытали 15–20 относительно спокойных, почти счастливых лет. Это была «почти религиозная свобода» на западной окраине империи, в Остзейском крае, в эпоху умеренно либерального правления Александра I. Однако запретов на строительство староверческих храмов в империи никто не отменял.
Зажиточные староверы быстро нашли средства и в 1814 г. отстроили на каменном фундаменте «Большую каменную» молельню лучше старой, а также и Пушковский (Новый) храм. Наличие трех храмов в Риге – исключительный случай в истории рижских
25 Пухляк О. Рижские старообрядческие моленные в первой половине XIX века // Староверие в Латвии. Ответственный редакторсоставитель Ил. И. Иванов. Рига, 2005. С. 262–265.
36 37
генералгубернатором маркизом Филиппом Паулуччи. Известно, что лифляндские власти терпимо относились к «русскому расколу». «Правила Паулуччи» давали староверам большую свободу в управлении своими религиозными и хозяйственными делами. Это был исключительный случай в Российской империи, когда староверская община получила юридическое признание со стороны мест ных властей. Однако не надолго – пять лет спустя «Правила Паулуччи» были отменены (в 1832 г.), а сам либеральный губернатор еще ранее ушел в отставку и уехал в Италию. Тем не менее «Правила Паулуччи» и период начала XIX в. оставили след в исторической памяти русских староверов Риги как символ духовного расцвета и хозяйственной самостоятельности рижской общины, наконец, – и это самое главное – как символ приверженности староверов религиозной свободе и равноправию. Именно в контексте этого расцвета рижской общины в начале XIX в. произошли два важных события: беспоповская община впервые признала браки, о чем было заявлено рижанами еще в 1827 г. и утверждено на Варковском соборе 1832 г., а в 1833 г. община получила наименование Гребенщиковской, по имени одного из крупных жертвователей – митавского купца Алексея Петровича Гребенщикова. Это означало начало нового периода в истории рижской общины – поморского или, точнее, «федосеевскопоморского» периода, когда местных староверов часто называли «рижские федосеевцы».
Таким образом, уже в первой трети XIX в., точнее в 1813–1832 гг., Рижская община становится важным религиозным центром федосеевцев на балтийских землях и одним из крупных духовных центров в Российской империи в целом. На балтийских землях тогда действовали также другие важные, хотя и не такие крупные, центры федосеевцев – Дегуцкая обитель около нынешнего Зарасай (Литва) и Масловская община Динабургского уезда, наставник которой стал председателем Духовного суда и первым подписал известные Варковские постановления 1832 г.
Именно в начале XIX в. Рижская община, или как ее тогда назы вали «Московская моленная на берегу Двины», становится одним из трех крупных центров федосеевцев в Российской империи. В Москве тогда сиял «федосеевский Сион» – Преображенская община,
причем 75 из них проживали в приюте. Дети бедняков за учебу не платили. Судя по всему, школа предназначалась преимущественно для обучения детей малоимущих. Учитывая, что среди старообрядцев Риги довольно значительной была прослойка купцов, домовладельцев и других богатых или просто зажиточных людей, можно предположить, что существовали и другие формы обучения, что подтверждается рядом косвенных фактов. Эта школа (закрыта властями в 1832 г.) была первой староверческой (начальной) школой на балтийских землях и одно их первых старообрядческих учебных заведений начального типа в России (подобные школы были в Москве и, видимо, на Выге). Кроме того, эта староверческая школа (имеются сведения и о второй, «Шелтовской» школе28) была одной из первых русских школ в Риге, открытой вслед за Екатерининским училищем. Это училище было основано в 1790 г. на средства самой императрицы и горожан Риги.
При рижской общине существовали также различные мастерские, например, иконописная29, мастерская по производству свечей и другие. Опытные писцы занимались перепиской книг.
Расцвет общины сопровождался быстрым ростом прихожан. В первой трети XIX в. почти в четыре раза выросло количество староверов в Риге: в 1816 г. здесь насчитывалось более 2 тысяч (2112) староверов, в 1826 г. – 5402, а в 1830 г. – до 8 тысяч (7905 человек), что составляло 15,2 % всего населения Риги.30 В 1826 г. в Лифляндской губернии их было почти 8 тысяч (7697).
Староверы Риги не только устроили свою религиозную жизнь, окрепли материально, но и фактически добились легализации своей общины. Устав общины 1813 г. был переработан и в 1827 г. утвержден Рижским губернатором и Лифляндским и Курляндским
28 См.: Заволоко И. Н. О старообрядцах г. Риги. (Исторический очерк). Рига, 1933. С. 11.
29 Подробнее о Риге как центре староверческого иконописания в стра нах Балтии см.: Морозова Н., Поташенко Г. Старообрядческая иконопись в странах Балтии и Польше: иконописные центры и мастера // Культура староверов стран Балтии и Польши: исследования и альбом. Ответственный редактор Г. Поташенко. Вильнюс, 2010. С. 115–148.
30 Заварина А. А. Русское население Латвии (к истории поселения) // Русские в Латвии. Из истории и культуры староверия. Издание 2е. Рига, 2003. С. 36.
38 39
указывается 1831 г.). На этом соборе присутствовали два наставника из Риги: Иван Ефимович из «Большой» моленной и Григорий Савинов из Панинского храма. Признание браков беспоповцами Риги существенно сблизило их с московскими брачными поморцами того времени, хотя рижане и сохранили некоторые особенности федосеевского взгляда на браки, богослужение и религиоз ную практику. Браки допускались «по слабости человеческой», венчание совершалось в моленной, но супруги со дня своего брака теряли право молиться вместе со всеми, не могли стоять на клиросе, т.е. как бы пребывали под вечной епитимиею. Другое отличие – наонное пение, сохранившееся у рижан. Еще одной особенностью рижан было четкое деление помещения храма на мужскую и женскую стороны, которое, кстати, символически сохранилось в РГСО до наших дней.
Итак, рижские наставники продолжали думать и учить, что каж дый должен стремиться к безбрачию, придерживаться монашеских идеалов «ангельского жития» или «девства». Однако с 1832 г. они начали принимать браки «по нужде», а наставник в храме благословлял вступающих в брак. Можно сказать и так: это «полубрачные поморцы» или «полубрачные федоcеевцы». Это особое, двойственное отношение к браку и к женатому прихожанину или замужней прихожанке. Именно поэтому рижских федосеевцев ино гда называли «федосеевскопоморским» толком.
Церковные браки, заключенные рижанами, должны были записываться в специальные метрические книги. Староверы, видимо, хотели воспользоваться утвержденным императором постановлением Государственного Совета о запрещении расторгать «супружеские союзы», заключенные всеми христианскими исповеданиями – как теми, в которых брак считался таинством, так и теми, в которых он принимался за гражданский акт.31 В начале XIX в. наставник Г. Скачков даже добился от московских гражданских влас тей разрешения (как оказалось, только временного) на ведение при Монинском храме метрических книг. Староверческие бра ки, занесённые в них, некоторое время признавались местными
31 Полное собрание законов Российской империи, т. 36. СанктПе тербург, 1830. № 27737.
в СанктПетербурге действовала хорошо организованная федосеевская Косцовская община.
По благоустройству религиозной общины и своему влиянию Рига в первой трети XIX в. занимала одно из первых мест во всем староверии и была сравнима с такими крупными центрами староверия, как Московская Рогожская (поповская), Преображенская (федосеевская) и Монинская (поморская) общины, Петербургская Косцовская (федосеевская, 1767–1849 гг.) община и Выговское общежительство (поморское, с 1798 г. признававшее браки).
Впечатляющий религиозный и хозяйственный расцвет сравнительно молодой рижской федосеевской общины в полулегальных условиях России, продолжавшийся почти двадцать лет, оставил не изгладимый след в истории Гребенщиковской общины. Этому религиозному подъему рижских староверов способствовал ряд фак торов: успешная деятельность наставников, сознательность и рост числа прихожан в общине, экономический подъем Риги, наличие крупных благотворителей и способных попечителей, относительная автономия Прибалтийского края, расположенного вдали от «правительственного ока», и, конечно, умеренная правительственная политика в отношении староверия при сравнительно либеральном царе Александре I.
Период «рижских федосеевцев»: 1832 г. – 40–60-е гг. XX в.
(или первый этап поморского периода)
Перемены религиозной жизни
В период с 1832 г. по 40–60е гг. XX в. произошли важные изменения в ре лигиозной жизни рижских староверов. Распространение браков постепенно привело к забвению прежних строгих федосеевских обычаев в богослужении, обрядах и повседневности, хотя этот про цесс шел медленно.
В 1832 г. рижские староверы приняли браки, что было подтверждено решениями Варковского собора того же года (иногда
40 41
староверовбеспоповцев. Правительство пыталось прежде всего урегулировать очень запутанное имущественное и семейное положение русских староверов в соответствии с нормами гражданского права России и общественной морали. Только после издания закона о старообрядческих общинах от 17 октября 1906 года староверы в России впервые получили право самостоятельно вести метрические книги, регистрировать браки и выдавать свидетельства, имеющие юридическую силу.
В исторической литературе остается практически неизученным вопрос о том, как именно в религиозной практике и повседневности рижских староверов утверждались браки, когда на брачных перестали накладывать епитимию и наравне с другими начали допускать их на общую молитву и на клирос.
Можем указать лишь приблизительное время важных перемен. В течение 100–130 лет, т. е. к 40–60м гг. XX в., отношение рижских беспоповцев к браку изменилось: бессвященнословный брак как допустимая уступка для некоторых стал общепризнанной и распространенной нормой религиозной и социальной жизни для многих староверов, прежний идеал безбрачия утратил свое значение, супругов после венчания в храме перестали отлучать от общей молитвы, а брачных начали допускать на клирос.
В начале XX в. бессвященнословный брак стал, вероятно, достаточно распространенной (венчания лишь для желающих, а часть активных прихожан общины была безбрачной), но еще не общепризнанной нормой религиозной и социальной жизни для рижских староверов. В Гребенщиковской общине с уважением относились к браку и доказывали, что несправедливо девственную жизнь возвышать в ущерб супружеской жизни. Брак был делом законным и не препятствовал спасению христианина даже в «последнее время». Считалось, что безрассудно требовать от всех ве рующих непременного девства. Однако в начале XX в., как и приблизительно до 40–60х гг. этого столетия, брачные в Гребенщиковской общине на клирос еще не допускались.37 Вероятно, наставники, клирошане и часть прихожан общины, как и ранее
37 Воспоминания о Гребенщиковской общине (в связи с ее общей бытовой обстановкой в последние 70 лет). Публикация текста В. Никонова // Поморский вестник, 2010, № 22–23. С. 66.
властями законными.32 Однако, как показал Нильский, мнение староверов о том, что центральное правительство признавало их браки законными или, по крайней мере, официально терпимыми, еще в 1819 г. было неверным.33
В 1834 г. Рижский генералгубернатор М. Пален писал губернатору Лифляндской губернии о том, что старообрядческие свидетельства о браках не следует считать законными.34 Поэтому и дети староверов считались незаконнорожденными и не могли быть записаны на фамилию отца, что вызывало серьезные проблемы, связанные с воспитанием детей, имуществом и наследством.35 Лишь в 1874 г. вышли «Правила о метрической записи браков, рождения и смерти раскольников».36 Согласно этому закону жених и невеста, принадлежащие к «раскольничьей среде», имели право зарегистрировать свой брак в полицейском управлении.
Таким образом, впервые для значительной части населения Рос сийской империи была введена процедура гражданского брака. Это совсем не означало, что власть признавала церковные браки
32 Вскоре подобный порядок был установлен в СанктПетер бурге и Дегутях (Литва); см.: Назаров А. А. Семейное право старообрядцев в до револю ционной России // http://www.portalcredo.ru/site/print.php?act= monitor&id=8224; Поташенко Г. Староверие в Литве: вторая половина XVII – начало XIX вв. Исследования, документы и материалы. Вильнюс, 2006. С. 431–440. Синод, не признававший тогда законность старообрядческих браков, выступал против подобной практики. В поста новлении от 27 мая 1829 г. говорилось, что «введение в Раскольничьих молельнях метрических книг не только бесполезно, но и незаконно ... бу дет только содействовать уси лению заразы той и породит для церкви великий соблазн, а для отечества самое пагубное зло и вред неизбежный» (Собрание постановлений по части раскола. СанктПетербург, 1860. С. 230–231).
33 Нильский И. Семейная жизнь в русском расколе. Исторический очерк раскольнического учения о браке, вып. 2. СанктПетербург, 1869. С. 406.
34 Ковальчук С. Рижские староверы в период гонений в 40–50е годы XIX века // Староверие в Латвии. Ответственный редакторсоставитель Ил. И. Иванов. Рига, 2005. С. 281.
35 Подмазов А. Рижская Гребенщиковская старообрядческая община // Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 331.
36 Полное собрание законов Российской империи, т. 49, отд. 1. СанктПетербург, 1876. С. 654.
42 43
XIX – начале XX вв. брачные начали допускаться как на богослужение, так и на исповедь42 (сравним: с 1907 г. московские федосеевцы начали допускать новоженов к молению, а в 1923 г. – на исповедь), сохранялись и чисто федосеевские обычаи (например, наставники и клирошане должны были быть безбрачными).
Устойчивые традиции безбрачия среди наставников, клирошан и, вероятно, определенной части активных прихожан и взгляд на брак как приемлемый по нужде обряд («венчание для купцов»), не позволили Гребенщиковской общине принять более активное участие на съездах брачных поморцев в 1901 и 1906 гг. в Вильню се. Официальные представители Гребенщиковской общины отсут ст вовали на Первом Всероссийском соборе христианпоморцев, приемлющих брак, состоявшемся в Москве в 1909 г., однако рижские староверы на этом соборе присутствовали, а из Лифляндской губернии было всего семь человек.43 Учитель Рижского Гребенщиковского училища А. И. Волович выступил на соборе с докладом. А. И. Волович и вероучитель И. У. Ваконья (представлял тогда староверов Чистополя) были избраны в Училищную комиссию, а рижский поморский наставник Д. Е. Петринин – в Духовную комиссию и Духовный суд.44 В то же время представители Гребенщиковской общины не принимали участия также и на Первом Все рос сийском съезде «христиан древлеправославнокафолического вероисповедания» (федосеевцев) в Москве в 1908 г.45
(Нильский И. Семейная жизнь в русском расколе. Исторический очерк раскольнического учения о браке, вып. 2. СанктПетербург, 1869. С. 166).
42 Можем сравнить: в 80е гг. XIX в. московские, режицкие (резекненские) и другие безбрачные федосеевцы не принимали на исповедь новоженов, а наставников, исповедавших новоженов, отлучали от своего общества (см.: Деяния московского федосеевского собора, бывшего в августе 1883 г., с предисловием от редакции // Братское слово, 1884, август, № 11. С. 40–155). Рижские староверы не принимали участия на этом соборе.
43 Деяния Первого Всероссийского собора христианпоморцев, приемлющих брак, происходившего в царственном граде Москве в лето от сотворения мира 7417 мая в дни c 1 по 12. Москва, 7417 [1909]. Часть 5. С. 30–44.
44 Подмазов А. Рижские староверы / Rīgas vecticībnieki / The Old Believers of Riga. Редактор Надежда Пазухина. Рига, 2010. С. 42.
45 См.: Труды первого Всероссийского христианского съезда в Мос кве. Москва, 1909.
Г. Скачков и В. Емельянов, все еще полагали, что «девство должно почитать выше брака».38
В конце XIX и начале XX вв. в Риге начали создаваться новые беспоповские общины или «домашние моленные» не только по территориальному, но и по религиозному признаку. Так, с конца XIX в. и по 30е гг. XX в. в доме предпринимателя Дионисия Евграфовича Петринина (1853–1935) на Московском форштадте (ул. Динабургская, 6; ныне Даугавпилсская) действовала моленная, которую посещали местные староверы «одного с ним поморского законобрачного исповедания».39 Прихожане этой фактически действующей общины поддерживали также связи с Гребенщиковской общиной, однако не входили в ее состав.
В 1913 г. была создана еще одна (третья) «Рижская община старообрядцев беспоповщинского согласия (толка) районов Красной Двины, Мюльграбена и Царского Леса».40 Само название этой общины – «беспоповщинского согласия» – свидетельствует о том, что религиозное самосознание части рижских староверов к тому времени не было еще до конца устоявшимся с точки зрения принадлежности к определенному направлению (согласию).
Как и название «федосеевскопоморского периода», это религиозное самосознание рижских староверов в начале XX в. носило двойственный или смешанный характер: наряду с признанием браков, как у «чистых поморян» (термин Н. Лескова), существовали некоторые особенности местных «федосеевцев», к которым они любили причислять себя (например, согласно Н. Лескову, еще в 80х гг. XIX в. рижские «федосеевцы» устранялись от освящения браков по определенному чину41); видимо, уже во второй половине
38 Сравните: Нильский И. Семейная жизнь в русском расколе. Ис то рический очерк раскольнического учения о браке, вып. 2. СанктПе тербург, 1869. С. 231.
39 Друговейко Н. Участник Первого Всероссийского собора христиан поморцев в Москве – старовер из Риги // Поморский вестник, 2010, № 22–23. С. 9–12.
40 Подмазов А. Рижские староверы / Rīgas vecticībnieki / The Old Believers of Riga. Редактор Надежда Пазухина. Рига, 2010. С. 43.
41 Лесков Н. С. О рижских прелестницах и о благословенных браках // Лесков Н. С. Иродова работа. СанктПетербург, 2010. С. 310–311. В 60е гг. XIX в. И. Нильский писал о том, что в Риге совершение брака состояло «в пении псалма: блажени вси …, чтении апостола и евангелия и в поучении»
44 45
униатские приходы просто закрыли. Староверие решили «искоренять» постепенно, его душили как явно, так и тайно.
При Николае I были закрыты два храма в Риге (один на Московском форштадте закрыт еще в 1827 г., просуществовал до 1843 г.; Пушковский храм в 1836 г. был превращен в единоверческую церковь), была закрыта школа (в 1832 г.) и сиротское отделение, отменены «Правила Паулуччи». Богадельня и больница были переданы в управление Лифляндского приказа общественного призрения. Был введен строгий надзор за деятельностью храма и религиозной жизнью староверов, начато внедрение единоверия. Староверы, прежде всего купцы и состоятельные горожане, испытывали жест кое ограничение своих религиозных, общественных и экономических прав, – повышались налоги, староверам запрещалось занимать общественные должности. В 1847 г. рижским староверам было запрещено вступать в купеческие гильдии, приобретать в собственность или в арендное владение земельную недвижимость.48 Детей староверов считали незаконнорожденными, при генералгубернаторе А. Суворове «бездомных» мальчиковстароверов крес тили в православие и отдавали в Рижский батальон военных кантонистов, а девочек – в монастыри. В итоге, в середине 50х гг. XIX в. часть более состоятельных староверов стала переходить в единоверие или в господствующее православие.
Староверы прозвали такую политику Николая I войной со староверами или «мамаевым разорением», как это было в случае закрытия Выговского общежительства в 50х гг. XIX в. После 1860 г. правительственная политика в отношении староверов смягчилась. Александр II и Александр III не проводят репрессий, однако российскому правительству еще не хватало воли объявить свободу вероисповедания.
В это время большинство староверов Риги ненасильствен ным путем сопротивлялись политике властей, хотя известны и случаи столкновения с полицией во время попыток закрыть храм в 1859 г. Противостояние большинства староверов приняло черты
48 Нильский И. Семейная жизнь в русском расколе. Исторический очерк раскольнического учения о браке, вып. 2. СанктПетербург, 1869. С. 144–155; Заволоко И. Н. О старообрядцах г. Риги. (Исторический очерк). Рига, 1933. С. 17.
Видимо, лишь в 20–30е гг. XX в. основная масса прихожан Гребенщиковской общины перешла к чисто поморским традициям (т. е. приняла браки, «по старинке» участвовала на общем богослужении и принималась на исповедь) и начала все более различать «коего они духа» (осознавала принадлежность к поморскому направлению). При этом, пока точно неизвестно: когда и какой чин бракосочетания использовался в общине. В то же время наставники и клирошане (исключительно мужчины) должны были придерживаться безбрачия46, но и они не были «настоящими федосеевцами», поскольку латгальские федосеевцы общение с рижанами считали «замирщением».
По устным рассказам, лишь в 40–60е гг. XX в. брачные в Гребенщиковской общине начали свободно допускаться на клирос.47 Это время можно считать концом периода «рижских федосеевцев» или же завершением «федосеевскопоморского» этапа в рамках бо лее длинного поморского периода в истории Гребенщиковской общины.
Староверы Риги и власть
Начало нового периода «рижских староверов» (или первого эта па поморского периода) в истории Гребенщиковской общины совпало с новой волной жестоких преследований со стороны царских властей, о которых староверы почти забыли при Екатерине II и Александре I. Самая печальная ее часть – 30–50е гг. XIX в. – время правления Николая I и первые годы правления Александра II. Имперский патриотизм в эпоху Николая I был тесно связан с принадлежностью русских к государственной религии Российской им перии – православию. Отсюда рождался импульс нового проекта – «искоренения раскола» и уничтожения униатства. В 1839 г.
46 Иногда все же делались отступления и от этого правила. Так, Лев Сергеевич Мурников, наставник Гребенщиковской общины с 1935 по 1945 г., был семейным человеком.
47 Устные сведения Алексея Деликатного (Рига) и Максима Пашинина (Москва), 29 мая 2010 г. Известно, что в 1946 г. Лаврентий Силович Михайлов, будучи семейным человеком, приехал с семьей в Ригу и служил головщиком в Гребенщиковской общине, затем (до 1956 г.) был певческим старостой.
46 47
ценный памятник по истории общины и быта прихожан того времени. Он так писал о роли Гребенщиковской общины в староверии: «Русские раскольники, имеющие некоторое понятие о рижской общине беспоповцев, представляют себе эту общину идеалом всестороннего благоустройства и желанной свободы. Из раскольников ближе всех знакомы с рижскою общиною московские федосеевцы и беспоповцы поморского согласия, рассеянные по северозападному краю России, Литве и Царству Польскому».52
Что же представляла собой тогда Гребенщиковская община на окраине империи, вдали от других очагов староверия? Благодаря рачительным попечителям и крупным жертвователям община сохранила свое хозяйственное самоуправление, имела «благолеп ную каменную молельню» с четырьмя наставниками и хором обученных крюковому пению певчих. По воспоминаниям современников, в конце XIX в. причт общины состоял из 35 певчих и 15 псалтырщиков.53 Община была школой многим клирошанам из приходов северозападных окраин Российской империи. На пожертвования тогдашнего попечителя общины Г. С. Ломоносова в 1863 г. была построена лестница у здания храма, о чем ныне гласит табличка на колокольне. При общине действовала больница и приют для престарелых (на рубеже XIX и XX вв. здесь было 265 призреваемых). Имелось большое хозяйство в пригороде – в мызах Гризенберг (Гризинькалнс) и Биккери (Бикерниеки). Староверческие школы за крыли в 30х гг. XIX в., однако в 50х гг. XIX в. в Риге начали действовать тайные школы – в Московском предместье в 1856 г. откры лась «Марочкина школа», названная по имени учителя этой школы Маркияна Емельянова. Лишь в 1873 г. староверы снова открыли свою школу, ставшую одной из немногих (согласно Ф. Мельникову – двух) легальных школ староверов в Российской империи до 1905 г.
Закон 1883 г. предоставил староверам ограниченную свободу бо гослужения и возможность ремонтировать и строить храмы с разрешения губернатора. Этим воспользовались староверы Риги. «Вера двигает горами», – говорили староверы. В 1886 г. они во главе с К. Т. Макаровым перестроили здание храма и богадельни, тогда
52 Лесков Н. С. Полное собрание сочинений, т. 3. Москва, 1996. С. 384.53 Отец Иван. Воспоминания об общине. Внешний быт и состояние
общины в последние 70 лет // Библиотека РГСО. Б. 0788.
рели гиозного сопротивления, подпольной деятельности и, наконец, формы религиозной оппозиции.
На фоне всей Российской империи у Риги оставался особый статус. Гребенщиковская община была самой крупной в балтийских землях. В 1848 г. в Риге проживало около 9 тысяч староверов.49 Видимо, уже в середине XIX в. Гребенщиковская община была самой многочисленной поморской общиной в России. Так что слава самой крупной в мире общины за гребенщиковцами закрепилась уже давно. В 60е гг. XIX в. община была примером для многих староверов Российской империи, поскольку в результате широких правительственных репрессий против староверов были закрыты такие крупные центры староверия, как: Выг, Преображенка, Рогожка и Иргиз, Дегучяй в Литве и пр.
Более терпимым к староверам стало и российское общественное мнение. В эпоху национального возрождения, поиска национальной самобытности тема русского староверия для некоторых русских писателей, художников и композиторов стала источником творческого вдохновения, примером сохранения национальной рус ской культуры и идентичности, особенно на окраинах империи. Именно в недрах русского национализма рождалась симпатия части русского общества к староверам как «истинно русским людям» и зачатки религиозной терпимости к ним в обществе. Известный русский писатель Федор Достоевский, например, оценивал староверие как «самое крупное явление в русской жизни и самый лучший залог надежд на лучшее будущее»50.
В 1863 г. Николай Лесков, автор известных очерков о рижских староверах, был удивлен прежде всего положением «тринадцати тысяч русских подданных, поселенных между немцами, не имеющих ни одной русской школы, а в смешанные школы староверы не посылают своих детей…»51. Работы Лескова о рижских староверах –
49 Заварина А. А. Русское население Латвии (к истории поселения) // Русские в Латвии. Из истории и культуры староверия. Издание 2е. Рига, 2003. С. 36.
50 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 тт., т. XX. Ленинград, 1972–1984. С. 20–21.
51 Цит. по: Заволоко И. Н. О старообрядцах г. Риги. (Исторический очерк). Рига, 1933. С. 20.
48 49
венные организации, иконописные мастерские. Среди них отметим созданное в октябре 1908 г. «Взаимновспомогательное, благотворительное и просветительское общество старообрядцев в городе Риге». Оно впервые начало выпускать периодические издания: выходил журнал «Старая Русь», в 1911 г. – «Старообрядческий адрескалендарь на 1911–1912 г.». Однако первое свое издание рижане выпустили еще в 1829 г. – это был отчет о деятельности Рижского общества (богадельни).
Экономический рост Риги сопутствовал успешной деятельности староверческих купцов. К. Макаров, И. и М. Лашковы, А. Три фонов, П. и Н. Волковы были влиятельными прихожанами и жертвователями общины. Знаком благополучия общины должна была быть перестройка всего комплекса здания храма с богадельней и возведение большого храма в шатровом стиле. Однако война перечеркнула эти планы.
XX в. был для общины, как и балтийских обществ в целом, насыщенным, динамичным и, в то же время, очень непростым, в годы двух мировых войн, оккупаций – тяжелым и трагическим.
Гребенщиковская община в XX в. оставалась ведущим духовным центром староверия Латвии, стран Балтии и, отчасти, бывшего СССР. Однако роль и значение общины в истории староверия XX в. были не столь устойчивыми, как в XIX в. Роль и значение общины менялись в разные исторические периоды в зависимости от религиозной и социальнополитической ситуации в регионе. В 20е и начале 30х годов Гребенщиковской общине пришлось уступить статус ведущего центра объединения поморцев и федосеевцeв Резекне. В советский период, в 50–80е гг. XX в., духовный центр поморцев в СССР переместился в Вильнюс, где находился Высший старообрядческий Совет – единственный официально признанный религиозный центр беспоповцев в СССР. В 1966 г., спустя 54 года после Второго Всероссийского собора поморцев в 1912 г., в Вильнюсе прошел собор Старообрядческой Поморской Церкви (ныне – Древлеправославной Поморской Церкви), фактически объ е динивший многих поморцев СССР.
Образ Гребенщиковской общины как самой лучшей и самой благоустроенной старообрядческой общины Латвии и, одно время, всей России (с 60х гг. XIX в. по 1915 г.) пополнился в XX в. но выми
появился и 4й этаж, и здание приняло нынешний вид, лишь без колокольни. Храм общины, вмещающий 4–5 тысяч прихожан, видимо, был тогда самым большим храмовым помещением поморцев в империи. В 1887 г. был создан 6ярусный иконостас в стиле русского классицизма, послуживший образцом для других староверческих храмов. Автором проекта иконостаса был известный в то время латышский архитектор Янис Фридрих Бауманис.54 Ныне это уникальное собрание икон различных древнерусских школ иконописи и более поздних работ насчитывает без малого 2 тысячи икон и, вероятно, входит в десятку крупнейших собраний русских икон в Европе.55 Затем, в 1895 г., силами самих прихожан было построено трехэтажное здание школы и приюта для детей.56
Наконец, после манифеста Николая II о религиозной терпимости от 17 апреля 1905 г. рижские староверы, как и староверы всей империи, обрели религиозную свободу. Начался впечатляющий религиозный подъем – так называемый «золотой век» староверия. Однако, как и в начале XIX в., он был коротким, длился около десяти лет, но оставил заметный след в истории общины. Символом той эпохи стала колокольня со шлемовидным куполом, возвышающаяся над этой частью города до сих пор. В 1905–1906 гг. известный мастер рижского модерна А. Р. Шмелинг пристроил к Успенскому храму Гребенщиковской общины стройную столпообразную колокольню с изысканным декором. Сочетание «русского стиля» и югендстиля хорошо отражает культурное взаимодействие русской и немецкой культур в Риге в поздний имперский период.
В 1908 г. был принят «Устав Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины», подробно регламентировавший ее религиоз ную, хозяйственную и благотворительную деятельность. Впервые Гребенщиковская религиозная община получила статус юридического лица. В Риге действовали и создавались новые староверческие благотворительные, религиознопросветительские и общест
54 Миролюбов И. Е. Об иконах и иконостасе Рижского Гребенщиковского храма // Поморский вестник, 2010, № 22–23. С. 50.
55 Мнение одного из ведущих в России художниковреставраторов и экспертов древнерусской иконописи Виктора Баранова об иконах Гребенщиковского храма // Поморский вестник, 2010, № 22–23. С. 52.
56 Отец Иван. Воспоминания об общине. Внешний быт и состояние общины в последние 70 лет // Библиотека РГСО. Б.0788.
50 51
щина превзошла религиоз ный подъем начала XX в.59 Но религиозному чувству рижских староверов явно не хватало радости обретения долгожданной религиозной свободы, того всеохватыва ющего порыва религиозного духа, который, казалось, пронизывал социальнообщественную жизнь после 1905 г. Ярким явлением религиознокультурной жизни общины в независимой Латвии и символом той эпохи стали журналы «Родная старина» (1927–1933) и «Наставник», деятельность «Кружка ревнителей русской старины» под руководством И. Н. Заволоко, созыв Вселатвийских съездов старообрядческих вероучителей в Риге (1931, 1935).
В сентябре 1939 г. в Риге планировалось созвать первый съезд (собор) староверов стран Балтии и Польши.60 Начало Второй мировой войны помешало осуществить эти планы.
В 20–30е гг. XX в., затем в послевоенные годы, была проделана большая работа по сбережению и популяризации памятников русской культуры. В Гребенщиковской общине накопилось самое богатое собрание рукописных и старопечатных кириллических книг в Риге и Латвии. По описи 1917 г. в книжнице общины насчитывалось около 80 рукописных и 150 старопечатных книг, в 1958 г. – уже около 150 рукописных и 300 старопечатных книг.61 В книжницу общины поступали как отдельные книги, так и целые коллекции книг от наставников и прихожан: Л. С. Михайлова, Д. Н. Першина, И. В. Дорофеева, И. Н. Заволоко и др. В 1933 г. И. Н. Заволоко в сборнике общины «Сложник святых отец» обнаружил второй список шедевра древнерусской литературы XIII в. – «Слова о поги бели Рус кыя земли». Однако до сих пор нет полного научного описания собрания древнерусских книг в книжнице общины.
С Гребенщиковской общиной тесно связаны имена видных наставников того времени – М. А. Власова, Л. С. Мурникова,
59 О культурных практиках староверов Латвии в XX в., в частности, на примере благотворительности Гребенщиковской общины, см.: Pazuhina N. Latvijas vecticībnieku kultūras prakses: 20. gadsimta pieredze / Promocijas darba kopsavilkums mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai. Rīga, 2007.
60 Старообрядчество Балтийских стран и Польши готовится к общему собору // Сегодня вечером (Рига), 22 апреля 1939 г., № 91.
61 Бегунов Ю. К. Обзор собраний древнерусских рукописных книг города Риги, http://annals.xlegio.ru/rus/small/ae61_beg.htm#_ftnref8.
чертами. В XX в. она стала важным издательским центром староверческой литературы и периодики, значительным культурным и просветительским очагом, в общине появились или с ней были связаны новые выдающиеся наставники и прихожане.
20–30е гг. XX в. прошли под знаком религиозной свободы и мирного развития для староверов независимой Латвии и, в частности, для Гребенщиковской общины. Рига в межвоенные годы была одним из центров русской эмиграции57, культурная и просветительская деятельность которой давала дополнительный сти мул, пример для рижских староверов. После переворота 1934 г. правительство К. Улманиса вмешивалось во внутренние дела ста роверов, однако положение староверов в Латвии тогда было несравнимо лучше, чем в СССР, где староверы испытали невиданные по масштабам даже в первое столетие после церковного раскола XVII в. преследования, массовые репрессии верующих, казни, безжалостное уничтожение общин, храмов, культурного наследия ста роверов.
После Первой мировой войны Гребенщиковская община снова окрепла и была самой благоустроенной и самой крупной среди 85 староверческих общин Латвии. Однако 12 старообрядческих съездов (общие для поморцев и федосеевцев) прошли в других го родах – в Резекне, Якобштадте (Екабпилсе), Двинске (Даугавпилсе), поскольку большинство староверов Латвии проживали в Латгалии.58 Рига стояла как бы особняком от этих религиозных движений, но все же оставалась важным участником объединения староверов и крупным хозяйственным и интеллектуальным центром. Лишь в 30е гг. XX в., особенно после закрытия в 1934 г. центральных органов управления общинами староверов Латвии, РГСО приобрела значение самого важного духовного центра в Латвии и одного из значительных в странах Балтии. Своей активностью в сфере просвещения, многосторонней духовной деятельностью об
57 См.: Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции: 1919–1939. Москва, 1994; Флейшман Л., Абызов Ю., Равдин Б. Русская печать в Риге: из истории газеты «Сегодня» 1930х годов. Stenford, 1997; Фейгмане Т. Д. Русские в довоенной Латвии. Рига, 2000.
58 Подмазов А. Вселатвийские старообрядческие съезды (1920–1933) // Староверие в Латвии. Ответственный редакторсоставитель Ил. И. Ива нов. Рига, 2005. С. 333–342.
52
С ослаблением антирелигиозной политики Гребенщиковская община в конце 80х гг. XX в. вновь стала важным духовным, религиознокультурным и издательским центром поморцев Латвии63, поморцев стран Балтии и Восточной Европы в целом. Такое значение Гребенщиковская община сохраняет и в год своего 250летия.
Grigorijs Potašenko
Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes loma un nozīme vecticības vēsturē
Raksta autora mērķis ir, apkopojot jau paveikto pētījumu rezultā-tus un balstoties uz arhīvu materiāliem, raksturot Rīgas Grebenščikova draudzes lomu vecticības vēsturē Baltijā. Rakstā precizēta Grebenščikova draudzes vēstures periodizācija un detalizēti raksturots laika posms līdz 1920. gadiem, vispārējos vilcienos ir aplūkots arī periods līdz 1991. gadam.
Rīgas Grebenščikova draudzes vēsture vēl nav izpētīta pilnībā, lai gan ir uzkrāts liels materiālu klāsts par atsevišķiem jautājumiem. Jāatzīmē, ka līdz šim ir publicēti tikai divi populārzinātniski darbi par Rīgas vec-ticībniekiem.
Rīgas vecticībnieku īpašo pieredzi raksturo ne tikai viņu prasme iz-dzī vot sarežģītajos represiju apstākļos un izveidot stabilas labdarības un garīgās izglītības tradīcijas, bet arī viņu reliģisko priekšstatu transfor mā-cija – no radikālākā fedosejeviešu uz liberālāko pomoriešu novirzienu. Raksts pirmo reizi sniedz iespēju iedziļināties šo izmaiņu būtībā, izseko jot gan kultūrsociālās situācijas, gan draudzes reliģiskās dzīves dinamikai.
63 В феврале 1989 г. здесь прошел съезд староверов Латвии, избравший Центральный Совет ДПЦ Латвии во главе с рижским наставником. В Риге открылось первое в тогдашнем СССР Духовное училище поморцев с двухлетним сроком обучения (1989–1994).
И. В. До рофеева. Но самым известным старовером Латвии и одним из самых известных староверов XX в. в Восточной Европе в целом является Иван Никифорович Заволоко (1897–1984)62, ставший сво его рода легендой города и староверия стран Балтии. Живую память о нем сохранили староверы Риги. В городе действует общество его имени, проходят Заволокинские научные чтения, в Гребенщиковской общине открыт музей имени И. Н. Заволоко.
В сложный и порой трагический советский период Гребенщиковская община сохранила статус ведущего центра староверия, хо тя и лишилась своего имущества, земли и денежных накоплений. Советская политика и законы сводили роль общины лишь к проведению богослужений и отправлению религиозной практики. Тем не менее, в Гребенщиковской общине не прекращались богослужения, она сохраняла и, по возможности, приумножала свое культурное наследие, накапливала и пополняла книжное собрание. Община была важным издательским и интеллектуальным цент ром староверовбеспоповцев на территории СССР. В Риге старани ями руководителей общины при участии Высшего старообрядческого Совета в Вильнюсе, Московской поморской и, одно вре мя, федосеевской общин выходило единственное в СССР пе рио дическое издание поморцев – «Старообрядческий церковный календарь». В это время значительно выросло количество прихожан – от 10 тысяч в 30х годах до 20 тысяч в конце XX в. Это принесло Рижской общине славу самой крупной поморской общины в современном мире. Вместе с тем, это вызвало попытки приобщения прихожан к богослужению, к их религиозному просвещению, вовлечению прихожан в общинную жизнь, культурнопросветительскую и бла готворительную деятельность и т.п.
62 О нем см.: Инфантьев Б. Странички из воспоминаний об Иване Никифоровиче Заволоко // Даугава, 1998, № 4. С. 105–122; Равдин Б. И. Н. Заволоко: от биографии к биографии // Даугава, 1998, № 4. С. 123–145; Иван Никифорович Заволоко: жизнь и судьба. Резекне, 1998; Памяти Заволоко Ивана Никифоровича. Рига, 1999; Мекш Э. Иван Никифорович Заволоко // Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Поль ши: краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 173–175; Пазухина Н. Иван Никифорович Заволоко // Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 175–181.
54 55
ния, но далее включает часть исторической застройки улицы Маскавас. Этот земельный участок и строения являются собственностью Гребенщиковской общины. В настоящее время здание № 116 используется для сдачи в наем под офисы, здания № 118 и № 120 – жилые дома. На первом этаже здания № 118 располагается кафе и похоронное бюро. Вблизи охранной зоны находится здание бывшего детского сада общины под № 91, теперь тоже отданное под офисы.
К сожалению, в настоящее время приспособление помещений для новых нужд ведется без единого проекта, никакой концепции по сохранению этого культурного наследия не разработано. Архитектурнохудожественные достоинства этой застройки пока еще не получили должной оценки, не осознана и ее культурноисторическая ценность. А ведь эти здания являются неотъемлемой частью целой эпохи староверской жизни, условия для которой были созданы упор ными трудами нескольких поколений.
Рижские староверы отличались не только образованностью и де ловой предприимчивостью, но и способностью к состраданию, ду шевной отзывчивостью. Об этом говорят обстоятельства основания и развития нынешнего архитектурного памятника. Если проанализировать эти исторические события, то весь комплекс вместе с застройкой охранной зоны представляется памятником благотворительности, сострадания и попечительства о стариках и детях.
Комплекс Рижского старообрядческого СвятоУспенского храма складывался постепенно в течение 250 лет. Первый старообрядческий храм в Риге был освящен Феодором Саманским в 1760 году, точное местонахождение его неизвестно. Начало застройки на ны неш нем месте было положено в 1777 году, когда купец Савва Дья конов купил здесь участок земли для больницы. В больницу принимались бедные и неимущие старики из староверов. «Иметь смотрение» над больными был приглашен наставник Феодор Никифоров. К началу XIX века в доме «рижского старообрядчес кого больничного призре ния» содержалось уже более 250 человек «увечных и странных».2 При этой богадельне и была построена сна чала деревянная, а затем каменная моленная, которая впоследствии
2 Поморский вестник, 2005, № 3 (18). С. 29–31.
Людмила кЛешнИна
охранная зона Свято-Успенского храма Рижской Гребенщиковской общины
Архитектурный комплекс старообрядческого СвятоУспенского храма в Риге является памятником архитектуры государственного значения № 6629. Охраняемый законом архитектурный комплекс включает в себя все составляющие культурной среды, в том числе, и окружающий городской контекст. Чтобы комплекс не утратил своей целостности, существующим законодательством уста новлена 100метровая охранная зона вокруг памятника.1 Это зна чит, что современные новостройки должны размещаться за пределами этой зоны, а историческая застройка, находящаяся в ее пределах, не может быть каклибо изменена без согласования с Государственной инспекцией по охране памятников культуры. Хозяйственная деятельность в охранной зоне должна происходить без нарушения планировки и объемной структуры застройки, а также без вмешательства в ландшафтный облик, – то есть сохраняя целостность той культурной среды, которая составляет визуальный фон памятника архитектуры. Охранную зону можно назвать буферной зоной между памятником архитектуры и современной застройкой.
С южной стороны рижского храма современная застройка по ул. Краста размещена согласно закону. Благодаря этому мы и сегодня можем любоваться панорамой храмового комплекса во всей его красе, можем представить себе, как величественно смотрел ся храм, когда стоял на берегу старого русла Даугавы. С востока к храму примыкает зеленая зона больницы, свободная от застройки. С запада охранная зона была нарушена в советское время, современное здание вторгается в культурную среду памятника. С севера охранная зона нарушена постройкой котельной и складско го зда
1 Aizsargjoslu likums, 8. pants, 38. pants. LR likums par kultūras pieminekļu aizsardzību, 23. pants, 30. pants. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474, 35. pants, 36. pants, 44. pants, 59. pants.
56 57
храмовая территория обрела высотную доминанту – новую колокольню, глава которой осеняла благодатью всю округу.
Во времена атеизма более других пострадало здание богадельни, так как там был размещен Гальванический цех небольшого завода. По прямому назначению богадельня прослужила около 60 лет. Еще губернскими правилами 1813 и 1827 годов по управлению богадельнями были разработаны подробные требования по обеспечению «чистоты, наилучшего порядка и опрятности» в таких учреждени ях. Архив общины свидетельствует, что вопросы по призрению престарелых всегда были в центре внимания Совета. Новое здание было построено с учетом накопленного опыта, согласно самым современным требованиям своего времени. Жилые помещения новой 3этажной богадельни были связаны через переход с храмом. Планировка проста: в центре просторный светлый коридор и большие комнаты с двух сторон. Отопление печное, в каждой комнате через каналы в несущих стенах был обеспечен естественный воздухообмен. Помещения были полны света и воздуха: высота комнат (h) = 3,45 м, высокие сдвоенные окна, деревянные полы. На каждом из двух жилых этажей – санузел и прачечная, на первом этаже – кухня и столовая. Престарелым здесь был обеспечен достойный санитарный уход и духовное окормление. Богадельня монументаль ностью внутреннего пространства и внешнего облика похожа на маленькое «палаццо». Фасады здания решены в трех ярусах, декорированы капельками «Божией благодати» под карнизами, увенчаны массив ным нависающим фризом, в котором можно усмотреть образ надежного крова. Постройка такого добротного здания говорит о том, что в общине к старшему поколению относились очень уважительно (фото 1, 2).
С большой заботой о маленьких воспитанниках было построено здание начального училища с приютом по ул. Маскавас № 116. В школе обучались и мальчики, и девочки, но в разных частях здания. Обучение было организовано по принципу объединения трех отделений учащихся (младшего, среднего и старшего) в один класс. Приют предназначался для 50 малолетних детей, училище рассчитано на 300 учащихся. Такие выводы можно сделать при рассмотрении проекта училища. Планировка здания была очень
несколько раз перестра ивалась и благоукрашалась, став сакральным ядром рижского староверия.
Традиционной формой самоорганизации староверов для сохра нения своего образа жизни всегда была община. Ее заботой в XIX веке были окружены не только старики, но и дети. Уже в 20е годы XIX века староверы имели добротные, построенные на свои средства богадельню, больницу, сиротский дом, школу для мальчиков. Школа находилась вблизи Красной Горки. В 1832 году школа в Риге была закрыта, богадельня и больница поступили в ведение Лифляндского приказа общественного призрения. Но обучение детей не прекращалось и в годы гонений. В это время были организованы «тайные» школы, существовавшие на пожертвования купцов Ломоносова, Беляева, Великанова. Гребенщиковскую моленную удалось отстоять от запечатывания. Старообрядческая школа была легально вновь открыта только в 1873 году. Изменения политических реалий и наличие значительных капиталов позволили и дальше улучшать социальные условия общины. В 1888 году городская управа передала общине землю бывшего рынка Красная Горка.3 Таким образом произошло слияние расположенных рядом участков земли, и образовалась обширная территория, где можно было обустроить жизнь общины согласно традициям, вести религиозное воспитание молодежи.
Территория нынешнего храмового комплекса Гребенщиков ской общины застраивалась постепенно. Денег, как говорится, не жалели. Все строили добротно, монументально, из хороших материалов, по самым современным требованиям. Строительство велось под руководством архитекторов Яниса Бауманиса, Рейнголь да и Александра Шмелингов. В последнюю четверть XIX века была радикально реконструирована моленная (1885–1888). При реконструкции к ней пристроили новое благоустроенное здание богадельни, а также возвели все хозяйственные постройки для нужд призреваемых – пе карню (1877) и баню (1893), каменный ледник (1896) и деревянный сарай (1897), был замощен двор, построена ограда вокруг храма (1883–1887), устроен сад с огородом.4 В 1906 году
3 Старообрядческий церковный календарь на 1998 год. С. 95.4 Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) 2761. fonds, 3. apr., 5861. lieta.
58 59
современной для того времени: светлые рекреации шириной 3,30 м, просторные классы. Этажи имели разное назначение и высоту помещений. На первом, более низком, этаже размещались зал для гимнастики, столовая с кухней, мастерская для мальчиков, приемное санитарное отделение. На втором, самом высоком (его высота + 4,5 м), – по два больших класса отдельно для девочек и мальчиков (в каждом могли разместиться 75 учеников), учительская, квартира учителя. Верхний этаж был предназначен для приюта – две большие спальни для девочек и мальчиков, каждая на 25 мест, квартира надзирательницы между ними, лазарет, мастерская для девочек5 (фото 3).
Архитектурные формы здания ненавязчиво участвовали в педагогическом процессе, через среду внутренней жизни воспитывая носителей староверской культуры. Из первоначальных интерьеров училища сохранилось только пространство двух лестниц. Решено оно просто, но впечатляюще. Все перемычки над проемами выполнены в виде арок, опоры которых оформлены в виде сти лизованных капителей. Их упрощенный, но монументальный
5 Turpat, 5860. lieta.
1. Общий вид здания богадельни – маленького «палаццо» для старых и немощных
2. Богадельня. Деталь венчающего карниза
3. Общий вид здания начального училища по ул. Маскавас 116
60 61
прогулок детей. Проектом были предусмотрены зеленые насаждения, разделяющие его на две части: для девочек и мальчиков отдельно.
Светлые классы и просторные рекреации теперь застроены и пе репланированы до неузнаваемости. Сильно пострадали фасады зда ния – оригинальные деревянные окна и двери были демонтированы еще в советское время, при размещении в здании поликлиники. Кирпичный декор местами поврежден. До последнего времени еще сохранялись оригинальные импосты фрамуг над входными две рями. Но и они были демонтированы при установке пластмассовых входных дверей. Пропорции новых дверей не соответствуют членениям фасада (фото 6).
Не менее интересна архитектура жилого дома № 118. Фасады решены в том же «кирпичном» стиле. Здания № 116 и № 118 дополняют друг друга, вместе создают единую композицию, в которой читаются черты староверской традиции. Детали скромного, но ин тересного декора выполнены заботливо и стилистически точно. Жилой дом обильно украшен изображениями капелек «Божией бла годати». Часть оригинальных деревянных окон еще сохранилась (фото 7, 8).
Чтобы восстановить фасады, необходимо контролировать заме ну окон арендаторами. Установка пластмассовых окон в этих зданиях недопустима, так как застройка находится в охранной
профиль перекликается с формами кокошников на воротах главного входа в храм, имеет с ними внутреннее сродство символических смыслов, точно выражающих «староверский дух» традиции (фото 4).
И ограда, и училище построены по проекту Рейнгольда Шмелинга. Фасады здания строги и представительны. Оконные и двер ные проемы оформлены сдержанным кирпичным декором с использованием качественного фигурного кирпича. Над порталами входов – ниши для икон. Оба фасада, уличный и дворовой, оформлены одинаково тщательно, так как двор был предназначен для
4. Арки в интерьере лестничной клетки бывшего училища
5. Начальное училище. Деталь кирпичного карниза
6. Входной портал здания училища. Наверху – ниша
для иконы, следы крепле ния лам пады.
Пластмассовые двери установ лены
в 2009 году.
62
глазами посмотреть на красоту, созданную трудами прежних поколений. Восстановление первоначального художественного облика охранной зоны стало бы реальным свидетельством традиций благотворительности в Гребенщиковской общине.
Ludmila kļešņIna
Rīgas Grebenščikova draudzes Svētās Dievmātes aizmigšanas
dievnama aizsargjosla
Rīgas Grebenščikova draudzes Svētās Dievmātes Aizmigšanas diev-na ma komplekss ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, un saskaņā ar likumu šā kompleksa aizsardzībai ir paredzēta aizsargjosla, kuras pla-tība nav mazāka par 100 metriem. Raksta autore aplūko iespējas, kuras mūsdienās var būt noderīgas šīs saglabātās vēsturiskās apbūves saudzīgai un lietderīgai izmantošanai.
Jāatzīmē, ka gandrīz visas ēkas, kas atrodas šīs aizsargjoslas teritorijā, vēsturiski ir saistītas ar Grebenščikova draudzes labdarības un izglītības darbību. Autore sniedz ieskatu šīs apbūves tapšanas vēsturē, kā arī rak-sturo autentiskos arhitektoniskos elementus, kuri saglabā vēstures klāt - būt ni mūsdienu pilsētvidē. Lasītāja uzmanība tiek pievērsta vēsturiskās apbūves degradācijas problēmai un nevērībai pret šķietami „nenozīmī-gām” detaļām, kas notiek, veicot pārbūves un rekonstrukcijas darbus. To-mēr gadsimtu gaitā Rīgas vecticībnieku pieredzē ir izveidojusies prasme lietišķās intereses savienot ar cieņu pret senču tradīcijām, tas ir tikai jā-atceras.
зоне памятника. Деревянные окна и входные порталы можно восстановить по старым деталям, согласно единому проекту. Законодательная база для восстановления цельной культурной среды имеется. Чтобы не допустить деградации культурного фона храмапамятника, требуется переоценка ценностей, желание новыми
8. Жилой дом по ул. Маскавас 118.Деталь дворового фасада
7. Общий вид жилого дома по ул Маскавас 118
64 65
Юстиниана на епископов. Переработанный текст начала этой Новеллы в виде Заповеди епископам о хранении церковных правил вошел в Кормчие русской редакции, был включен и в состав Печатной Кормчей3, ссылались на него и писателистароверы.4 В Поучении говорилось, что ответст венность за несоблюдение церковных канонов несут еписко пы и что за нарушение канонов следуют Божьи казни.5 В НовгородскоСофийской редакции, одна из рукописей которой хранилась в собрании Соловецкого монастыря, это поучение помещено трижды.6 Собор 1509 г. Киевской митрополии даже запретил мирянам держать Кормчую из опасения суда мирян над священниками.
Сохранившиеся с XV в. канонические памятники позволяют утверждать, что церковные каноны стали достоянием не только епископских кафедр, но и монастырей, в которых они активно переписывались и создавались новые редакции сводов правил.
Ситуация отсутствия епископов, в которой оказались ста рове ры, значительно актуализировала в их среде знание церковных канонов и обращение к каноническим рукописям. Для старове ров важен был исторический прецедент: те условия, в которых оказались православные в эпоху иконоборческой иерархии. Поэтому сочинения Феодора Студита приобретают особую актуальность.
Для апологии старообрядчества особое значение имела уже упо мянутая выше НовгородскоСофийская редакция Кормчей. В эту редакцию со второй половины XV в. было включено Феодоритово слово, содержавшее обоснование двоепер стия7, а также чин принятия крещенных от еретиков. Использовали противники нововведений и вводную статью этой редакции, в которой содержались
3 Кормчая. М., 1653. Л. 25–25 об.4 БАН, Друж. 162(198). Л. 7–13 об. – Сочинения писателейстарообряд
цев... Т. 7. Ч. 2. С. 239.5 Поучение опубликовано: Памятники канонического права / Русская
Историческая библиотека. М., 1880. Т. 6. № 11. Стб. 127–128.6 РНБ, Солов. 476/495. 7 См. например, список: РГАДА, ф. 181, МГАМИД, № 577, л. 456. – Опи
сание: Каталог славянорусских рукописных книг XV в., хранящихся в Российском государственном архиве древних актов / Под ред. А. А. Ту рилова. М., 2000. С. 105–113.
елена БеЛякова
Памятники канонического права в традиции староверов Поморья
и Гребенщиковской общины
Для старообрядческой традиции канонические памятники име ют особое значение. В знаменитых «Ответах» Александра дьякона, поданных митрополиту Нижегородскому Питириму, содержалось утверждение о том, что гонения не могут за ставить староверов нарушить священные правила: «Сего ради многи скорби терпим, да священных правил не наруши тели будем, сих ради во многих нуждах препровождаем дни своя, да не преступники священных правил явимся, ради сего странствуем бедне, да соборных законов не устранимся вечне».1
Ни одно из полемических произведений старообрядцев не обходится без ссылок на каноны. Уже в XVII в. складывается новый для русской письменности жанр: сборники выписок из церковных канонов, из Кормчей. Практически во всех значительных собраниях рукописей имеются подобные сборники.2
Можно выделить два основных направления обращения ста роверов к канонам:
1) с целью апологии «старой веры» и подтверждения правоты своей позиции;
2) для организации церковной жизни.Сохранение церковных канонов в древнерусской церковной тра
диции возлагалось в соответствии с Новеллой 137 им ператора 1 Ответы Александра диакона (на Керженце), поданные Нижегород
скому епископу Питириму в 1819 г. (Беспл. прилож. к ж. Старообрядец. 1906). С. 209–210. (Ответ 49).
2 В собрании И. Н. Заволоко это №№ 15, 33, 24, 164, 221, 34, 45 – Маркелов Г. В. Коллекция рукописей И. Н. Заволоко в Древнехранилище Пушкинского Дома // ТОДРЛ. Т.XXXIV. Л., 1979. С. 380. См. также БАН. Каргоп. 95 – Сочинения писателейстарообрядцев первой половины XVIII в. / Описание рукописного отдела библиотеки РАН. Т. 7 . ч. 2./ Сост. Буб нов Н. Ю. СПб., 2001. С. 201–205. БАН, Вятск. 240 – Там же. С. 220–222; БАН, Лукьян. 107 – Там же. С. 226–228.
66 67
старообрядческих рукописях из собрания В. Г. Дружинина: БАН – Друж.155 (191) и Друж.154 (190).12
Нельзя не отметить, что число Кормчих, попавших в собрания коллекционеров уже в XIX в., значительно превышает число списков, оставшихся в составе исторически сформированных собраний.13 Коллекционеры XIX в. прилагали многие усилия по отыс канию списков Кормчих. В собрании графа Уварова их 13, в собрании Елпидифора Васильевича Барсова, бывшего преподавателя Олонецкой семинарии, находится 10 списков Кормчих. Особо нужно отметить собрание Егора Егоровича Егорова (убит в 1917 г.), собиравшего свою коллекцию для Московского Преображенского кладбища. В его собрании находится 10 Кормчих, 16 уставов, Зонара, Арменопул, Номоканон, 7 экземпляров Поморских ответов. В этом собрании нами выявлена рукопись Алфавитной Синтагмы Матфея Властаря и Зинара – вклад известного старца Кожеозерского монастыря Боголепа Львова, отказавшегося явиться на собор 1666 г.14 В собрании Рогожской общины (РГБ) также имеется 6 Кормчих.
Списки Кормчих XVIII и XIX в., как правило, не имеют описания и до сих пор остаются неизученными, как, например, список № 7342, хранящийся в Библиотеке Академии наук Латвии. Многие из списков имеют записи о принадлежности крестьянам. Несомненно, что в старообрядческой традиции святые каноны актуализировались, делались достоянием не иерархов, а мирян и создали особый «законнический» тип сознания, характерный для многих духовных наставников.
Исключительное значение для старообрядческой традиции имел Стоглав. В среде староверов Стоглав продолжали переписывать в XVIII и XIX в., от этого времени дошло 86 списков памятника.15
12 Сочинения писателейстарообрядцев... Т. 7. Вып. 1. С. 198–203; 206–208.
13 В Выговском собрании была, повидимому, одна Кормчая XVIII в. – Юхименко Е. М. Описание рукописнокнижного собрания Выголексинского общежительства // Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь. Духовная жизнь и литература. М., 2002. Т. 2. № 98. С. 387.
14 РГБ, ф. 98, № 1681. Рукопись, написано тем же почерком и с тем же делением на листы, что и РНБ, Солов. 684/742. (доб. 2013 г.)
15 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. М., 2000. С. 9.
обвинения против греков.8 Уже в Соловецком монастыре во время осады между 1667 и 1674 г., было составлено архимандритом Никанором с добавлениями Илариона Смирного «Собрание от божественных писаний, от апостольского предания и от правил святых отец против новых книг», в котором имелись ссылки на эту редакцию Кормчей по списку из библиотеки Соловецкого монастыря. 9
Отсылки к текстам «старописьменных» Кормчих имеются в Дья конских и Поморских ответах и в разного рода Сборниках.10 НовгородскоСофийская редакция была хорошо известна поморским книжникам. Многие ее ранние списки оказались в составе старообрядческих собраний: 2 списка XVI в. поступили в Институт Русской Литературы – «Пушкинский Дом» (далее – ИРЛИ) из деревень на Чудском озере (ИРЛИ. Причуд. 48 – XVI в. и ИРЛИ. Причуд. 2 – XVI в.), 3 списка находятся в собрании Е. Е. Егорова (один из них из собрания Першиных в Коврове), 2 списка в собрании Е. В. Барсова.
Другая редакция Кормчей, выписки из которой имеются в сбор никах староверов – это КириллоБелозерская, включившая в себя статьи из Стоглава, в том числе и статьи о бороде, и статьи, относящиеся к иконописцам.11 Эта редакция также неоднократно используется в сборниках, происходящих из Двинского собрания (ИРЛИ). Список этой редакции имеется в собрании Рогожского кладбища (РГБ. Рогожск. 272). Главы из этой редакции имеются в
8 Текст и исследование этой статьи – Белякова Е. В. Обоснование автокефалии на страницах русских Кормчих // Церковь в истории России. Сб. 4. М., 2000. С. 139–161.
9 Никаноровский сборник – БАН, 16. 6.21 XVII в. Л. 131. Гл. 66 «О вселенских патриарсех, иже благодать Божию корчемствующим и на мзде продающих и о отступлении от них болгарских православных царей». – Сочинения писателейстарообрядцев... Т. 7. Вып. 1. Л., 1984. С. 21.
10 «Выписано из Кормчей старописменной» – БАН, Друж. 457 (486). Л. 181. БАН. Друж. 168 (204) – Сочинения писателейстарообрядцев... Т. 7. Вып. 2. С. 287.
11 На сегодня известно уже четыре списка этой редакции: ГИМ. Син. 570 1643–1644; РНБ, КириллоБелозерская 3/1080; РГБ, Рогожск. 272 и в Пермской государственной художественной галерее ПГХГ Р5525, 10–20 гг. XVII. в., а также три списка ее переработки, сделанные в Белокриницкой митрополии в XIX в. (доб. 2013 г.)
68 69
БАН. Собрание текущих поступлений 418; БАН. Лукь ян. 49; БАН. Двинск 1518, РГБ. Синодальное собр. Ф. 272. № 412 и др.).
В письменных старообрядческих памятниках всегда говорится о «Кормчей печатной» (без разделения на «Иосифовскую» и «Никоновскую») и указываются листы издания.19 Как показало исследование, издание, начатое в 1649 г. при патриархе Иосифе, было завершено только в 1653 г. при патриархе Никоне.20 В издание был внесен ряд исправлений: заменена вводная статья; переделаны листы Указателя 14 титулов; добавлены дополнительные две тетради с главами «О римском отпадении» и «Грамота царя Константина» («Константинов дар»); добавлены листы с рассказом о V Вселенском Соборе; заменены отдельные листы. Неисправленными остались экземпляры, переплетенные перед слушанием. В настоящее время известен лишь один экземпляр, в котором не отразился пос ледний этап правки – ГИМ, Царск. 168. Все остальные, даже со держащие лист 647 с выходными данными об издании при пат риархе Иосифе, содержат более позднюю правку, внесенную уже при Никоне, – в них переделаны титлы с добавлением указаний на листы, вставлено новое предисловие на 37 листах и заменен значительный ряд листов.
Для старообрядческой традиции оказывается важным «Предисловие», включенное, как свидетельствуют материалы Печат ного двора, в состав Кормчей по указу патриарха Никона.21 В основе это го предисловия лежит «Известие» об учреждении патриаршества в России, созданное при патриархе Филарете.22 Слова, вло жен ные в уста Константинопольского патриарха Иеремии, о Москве как Треть ем Риме, постоянно используются в полемических
18 Сочинения писателейстарообрядцев... Т. 7. Вып. 1. С. 86, 88.19 См. например: Сборник XVIII в. поморского происхождения – БАН,
Друж. 162 (198). Л.7; Сборник XVIII в. поморского происхождения – БАН, Друж. 296 (342). Л. 4. – БАН, Друж.168 (204) – Сочинения писателейстарообрядцев... Т. 7. Вып. 2. С. 291.
20 Белякова Е. В. К вопросу о первом издании Кормчей Книги // Вестник церковной истории. М., 2006. № 1. С. 131–150.
21 РГАДА, ф. 1182, оп. 1, д. 52, л. 626.22 Белякова Е. В. Первые опыты русской церковной историографии. К
изучению Известия о поставлении патриарха Филарета и Сказания об учреждении патриаршества // Факты и знаки. Исследования по семиотике истории. Вып.1. М., 2008. С. 208–224.
Но надо отметить, что в понимании канонов в начале XVII в. происходят определенные изменения, которые нашли свое отражение в старообрядческой традиции. В Стоглаве 79 глава («О тех же вдовьствующих попех и диаконех преподобнаго игумена Иосифа Ламскаго Волока, самобывшаго на том соборе, собрание от священных правил») доказывает возможность изменения канонов: «А мнозии святии отцы ис правил оставиша, что есть на вред Церкви и на соблажнение христианству».16
В XVII в. акцент делается на неизменности канонов, что связано с конфессионализацией церковного сознания. 71 глава Печат ной Кормчей составлена из соединенных вместе слов Никона Черногорца из Тактикона и Пандектов о неизменности правил: «подобает даже и до кончины века христианом божественая тех хранити правила, а не непщевати вины о гресех. И яко аще кто некая от бо жественых правил истощевати, или возбраняти начнет, повинен есть по таковому правилу и запрещение приимати».17
Особое значение для старообрядческой традиции приобрело постановление Собора 1620 г. при патриархе Филарете. Издано было это постановление, в частности, в связи с тем, что митрополит Крутицкий Иона не признавал практики перекрещивания католиков, ссылаясь на входившее в состав русской редакции Кормчей «Вопрошание Кирика». В определении Собора 1620 г. говорилось о необходимости перекрещивании и униатов, и «белорусцев» в случае неправильно совершенного чина крещения и в случае, если чин крещения совершал не православный. Определение Собора бы ло опубликовано в Требниках 1639 и 1651 г. под названием «От божественных писаний и от святых правил собрание великого Гос подина смиреннаго Филарета патриарха царствующаго града Москвы».
Этому определению суждено было сыграть решающую роль в складывании традиции староверов: даже переход из одного согласия в другое совершался только путем перекрещивания. Отсылки к постановлению Собора имеются в «Ответах» Александра дьякона, Поморских ответах и многочисленных сборниках (например,
16 Там же. С. 382.17 Кормчая. М., 1653. Л. 637–641 об.
70 71
ления граней (в издание не вошли вставленные после л. 173 листы, а также добавленные главы: Сказание об учреждении патриаршества, Грамота царя Константина, О римском отпадении. Нет в нем и правки, которая содержится в более поздних экземп лярах).
Незамененный лист 647 с указанием на выход Кормчей при пат риархе Иосифе 1 июля 1650 г. встречается в ряде экземпляров. Однако наличие этого листа не значит, что в данный экземпляр не была внесена правка при патриархе Никоне. Исследование показало, что в ряде экземпляров удалялось имя Никона, которое трижды помещено в Печатной Кормчей (л. 37, 37 об. – первого счета, л. 647).
Печатная Кормчая не только имелась в старообрядческих собраниях, но с нее делались также рукописные копии. Две копии, сде ланные «строка в строку» с печатного издания, имеются в современном собрании Рогожского кладбища (Старообрядческой мит рополии) в Москве (№ 26 и № 3602/4).
О темах, которые больше всего привлекали внимание староверов, можно судить по многочисленным выпискам из Кормчей в разных собраниях, начиная с рукописей выговского происхождения (напр. Сборная рукопись с автографами наставников Выга – Калик. 12727). Это вопрос о браках, о крещении28, об отношении к еретикам, например, «Сказание от священных правил и от учителей церковных, яко не подобает и еретиком и схизматиком приобщения имети в молитвословии, в ядении, в питии и любви»29, о брадобритии30, о постах31.
Помимо Кормчей для старообрядцев был важен сборник «Зо нар».32 Это свод норм, переведенных с греческого, повидимому, в
27 Сочинения писателейстарообрядцев первой половины XVIII в. // Описание рукописного отдела библиотеки РАН. Т. 7., ч. 2. Сост. Буб нов Н. Ю. СПб., 2001. С. 16–20.
28 БАН, Друж. 256 – Сочинения писателейстарообрядцев.... С. 110–111. БАН, Друж. 756 (800). – Там же. С. 269–272.
29 РГБ, ф. 227, № 418. См. также БАН, Друж.125 (157) – Сочинения писателейстарообрядцев... Т. 7. Вып. 2. С. 103–105.
30 БАН, Друж. 129 (162) – Сочинения писателейстарообрядцев... Т. 7. Вып. 2. С. 77–79.
31 См. например: БАН, Друж. 229 (272) – Сочинения писателейстарообрядцев... Т. 7. Вып. 2. С. 42–43.
32 См. например: в составе Сборника – БАН, Друж.168 (204) – Сочинения писателейстарообрядцев… С. 281–282.
сочинениях староверов.23 Надо сказать, что эта Вводная статья Печатной Кормчей никогда не отвергалась в старообрядческой традиции. Имеется она и в экземпляре Гребенщиковской общины № 1600, ко торый принадлежал Феодору Саманскому. Этот экземпляр содержит выходные данные на л. 37 об. и л. 647 об издании в 1653 г.
Ряд печатных экземпляров сохранил, как и Варшавское издание 1785 г.24, два предисловия – первое на 4х листах, составленное священником Василием в Люблине и рассказывающее о гибели веры25, и второе – уже упомянутое – «Сказание» об учреждении патриаршества, где главным мотивом является цветущее благочестие. В некоторых сохранившихся экземплярах Печатной Кормчей первое предисловие вписано от руки.
Экземпляр Печатной Кормчей из Соловецкого монастыря находится в собрании Российской Национальной Библиотеки (РНБ).
В 1885 г. было осуществлено издание Кормчей в «царствующем великом граде Москве, при СвятоТроицкой Введенской церкви в типографии единоверцев в лето от сотворения мира 7393».26 Это издание сделано, как следует из послесловия, «с книги Кормчеи же, напечатанои в том же царствующем великом граде Москве в 5 лето благочестивыя державы царства государя царя и великаго князя Алексея Михаиловича всея России, в 8 лето патриаршества отца его и богомольца Иосифа, патриарха Московскаго и всея России», т. е. издание делалось с экземпляра, близкого к Царскому 168 (а, воз можно, и с самого экземпляра) и отражающего стадию до исправ
23 Об использовании этого текста Феодосием Васильевым см. Гурьянова Н. С. О двух экземплярах Кормчей книги // Гуманитарные науки в Сибири, № 3, 2001. Cм. вышеупом. Никаноровский сборник, а также БАН, Друж. 23 (39) – Сочинения писателей старообрядцев... Т. 7. Вып. 1. С. 126 и др.
24 В книжнице Гребенщиковской общины имеется два экземпляра этого издания.
25 Это предисловие имеется в издании Кормчей 1913–1914 гг. О происхождении предисловия писал А. С. Павлов – Павлов А. С. Заметка о Кормчей люблинского священника Василия, писанной в 1604 г. // Памятники русской старины в западных губерниях, издаваемые с высочайшего повеления И. Н. Батюшковым. Вып. 8. СПб., 1885. С. 217–228.
26 Кормчая. М., 1885. Л. 680.
72 73
рили круг канонических сборников, напечатав новые издания в тайных типографиях.
Внимание староверов к канонической традиции связано не толь ко с апологетикой, но и с необходимостью канонического устрой ства монастырей и всего сообщества верующих, а также для правильной организации всего жизненного уклада.
Соборные каноны не предусматривали церковное устройство без епископата, а, тем более, без священства. Для старообрядцев важны были исторические примеры непризнания иерархии, как, например, в эпоху иконоборчества, когда патриархи были неправославными. Уже выговские наставники пошли по пути создания чинов, позволяющих совершать разные службы и таинства без священника. Опорой здесь служила древняя монашеская традиция, в которой сохранялись эти чины в силу различных периодов гонений, в том числе и преследований от турок. С исихастской традицией пришли и многие чины, позволяющие совершать службу без священника. Уже на Выгу создается ряд уставов и чинов: «Устав часовенной службы от великой субботы по неделю всех святых»40, «Чин погребения иноков, мирских человек и младенцев»41. Для старообрядческой традиции характерно составление новых чинов и уставов по различным случаям: «Устав о звоне праздничном», «Како самому себя причастити», были созданы несколько чинов венчания без священников («Чин как совершить брак»)42, «Како по добает себе отпети»43, «Общесоборная установления от отеческих преданий вкратце избранная, яже всем сестрам на службах дальних и ближних бывающим неизменно хранити подобает»44. Слияние канонических норм с уставными можно отметить уже в Стоглаве. В произведениях старообрядцев эта линия продолжает развиваться.
40 Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь... С. 21.41 Там же. С. 408.42 Многочисленные чины находятся в рукописях в собрании И. Н. За
волоко – Маркелов Г. В. Коллекция рукописей И. Н. Заволоко в Древнехранилище Пушкинского Дома... С. 386.
43 РГБ, ф. 272 (Синодальное собрание), № 363.44 БАН, Друж. 8 – Сборная рукопись, содержащая установления Вы
голексинского монастыря – Сочинения писателейстарообрядцев... Т. 7. Вып. 2. С. 89.
Болгарии не позднее 30х гг. XIV в. Наиболее ранний известный список – ГИМ. Хлуд. 76.33 Староверы не только переписывали этот сборник, но осуществили и его издание34 (частично он был издан еще в XVI в. в сербских типографиях в Горадже и Милешево, а затем в Стрятине). Большинство статей этого сборника не восходят к правилам Вселенских и Поместных Соборов, они фиксируют те стороны религиозного быта, о которых Соборы не издавали распоряжений.
Старообрядцы переписывали и «Синтагму» Матфея Властаря («Правильник»). В старообрядческих типографиях впервые на славянском языке было напечатано собрание Константина Арменопула в переводе Епифания Славинецкого в Балахне (это издание также имеется в книжнице Гребенщиковской общины).
Продолжали переписывать в старообрядческой среде и произведения писателя XI в. Никона Черногорца. «Никоновы правила» имеются также в большинстве старообрядческих собраний в полном виде (на Выгу был список XV в.)35, но еще больше в выписках36.
Различные издания Номоканона, как киевские (в собрании Выга имелся Номоканон (Киев, 1624))37, так и московские 1639 и 1651 г., при Требниках38, также использовались в старообрядческой традиции. Сравнение Номоканонов сделал обитатель Выга Петр Прокопьев.39
Можно отметить, что репертуар актуализированных канонических памятников в старообрядческой среде оказался шире, чем в синодальной Церкви. Поразительно то, что старообрядцы расши
33 Белякова Е. В. О составе Хлудовского Номоканона (К истории сборника «Зинар») // Старобългарска Литература. Кн. 3738, Българска Академия на Науките. Институт за литература. София, 2007. С. 114–131.
34 Вознесенский А. В. Старообрядческие издания XVIII – начала XIX века. Введение в изучение. СПб., 1996. С. 97–101.
35 Юхименко Е. М. Описание рукописнокнижного собрания Выголексинского общежительства... № 149. С. 395.
36 В собрании И. Н. Заволоко это № 40 – Маркелов Г. В. Коллекция рукописей И. Н. Заволоко в Древнехранилище Пушкинского Дома... С. 380.
37 Юхименко Е. М. Описание рукописнокнижного собрания Выголексинского общежительства... С. 417.
38 В собрании Выга имелся Требник 1639 г. – Там же. С. 418.39 Потребы. Номоканон. – РГБ. Собр. Барсова № 340. – Юхименко Е. М.
Выговская старообрядческая пустынь... С. 111.
74
Jeļena BeļakoVa
kanonisko tiesību pieminekļi Pomoras novirziena
un Grebenščikova draudzes vecticībnieku tradīcijā
Vecticībnieku tradīcijā Baznīcas kanoniem ir īpaša vieta. Jau sākot ar 17. gs., parādās rokrakstu krājumi, kuros tika apkopoti vecticībnieku reliģiskajai praksei nozīmīgi fragmenti – citāti no Baznīcas kanoniem. Analizējot vecticībnieku rokrakstu krājumus, kas ietver kanonisko tiesību tekstus, raksta autore izseko šo krājumu vēsturei un saiknēm ar tiem tekstiem, kuri bija izplatīti Krievzemē pirms patriarha Nikona reformas.
Kanonisko tekstu rokrakstu krājumi vecticībnieku tradīcijā vēl ir maz pētīti, lai gan visās lielajās rokrakstu kolekcijās tie ir atrodami lielā skai-tā. Šo krājumu satura izmaiņas liecina, kā mainījusies vecticībnieku at-tieksme pret kanoniem un kādā veidā viņi ir centušies risināt nozīmīgas problēmas, aktualizējot atbilstošus kanoniskos noteikumus.
Одним из институтов, характерных для поморской традиции, является институт наставников. Статус наставников вызывал мно го споров и нареканий. В старообрядческих сочинениях XIX в. можно найти как критику конкретных наставников, так и протест против тенденции превращения этого института в наемнический.
Исключительное значение для русской церковной традиции име ло сохранение соборности у старообрядцев в управлении церковными делами. Сохранение этой традиции имело значение и для восстановления соборности в синодальной Церкви.
Другой значительный вклад староверов в русскую правовую традицию – это борьба за правовой статус, за легализацию и правовое оформление старообрядческих учреждений: советов, богаделен, больниц. Поморское согласие первым начинает вырабатывать правила управления общиной. Правила 1813 г., выработанные собором Преображенской общины, были заимствованы и Гребенщиковской общиной.
Знаменитый писатель Н. С. Лесков, не только изучивший жизнь рижских старообрядцев, но и сделавший все для остановки административного произвола по отношению к ним, отмечал, что лучше всего у рижских староверов то, «что они долее всех... могли уберечь сильное общинное управление и школу». Далее он писал о крепости и процветании староверческой общины, больниц, бо гаделен и школ в условиях, когда «не было уже их и помину в Москве»45.
Староверы имеют и продолжительный опыт существования без государственной поддержки, отсутствовавший в синодальной церкви и необходимый в условиях правовых государств.
Старообрядческое соборное движение начала ХХ в. стало значительным стимулом для активизации соборного движения и в синодальной Церкви.46 Старообрядческий опыт участия мирян в церковных делах и сохранении канонических традиций имеет, на наш взгляд, исключительную ценность для современной церковной традиции.
45 Лесков Н. С. Иродова работа. СПб., 2010. С. 94–95. 46 Белякова Е.В. Старообрядческий вопрос на Поместном соборе 1917–
1918 гг. // Старообрядчество в России (XVII–XX века). Вып. 4. М., 2010. С. 146–147.
76 77
ствия. В эпоху реформ периода правления Александра II (го ды царствования 1855–1881) в противовес попыткам репрессив ными методами уничтожить «раскол», развернутыми в царствование Николая I (с 1825 по 1855 год), правительство рекомендовало РПЦ более активно использовать методы «увещевания» старообрядцев. В результате отмены крепостного права развернулось мас совое движение крестьян за официальное признание их староверами, которое заставило Св. Синод заняться миссионерской работой. Тем не менее, вплоть до последней трети XIX века не было планомерно организованной миссионерской работы среди староверов. Считалось, что миссионерскую работу должно было проводить приходское духовенство, которое, как правило, даже не об щалось с местными старообрядцами, и не было к такой работе подготовлено. В свою очередь, сами староверы обычно избегали част ных бесед с православными священниками, не принимали их в своих домах и не приходили по их приглашениям.
Управлявший Рижской епархией в 1887–1897 годах епископ (с 1893 года – архиепископ) Рижский и Митавский Арсений (Брянцев, 1839–1914) считал, что выпускники семинарий, тем более – Ду ховных Академий, вполне готовы для ведения миссионерской работы, «если они того пожелают и о том позаботятся», однако сам же признавал, что немногие священники пытаются это делать.2 В свою очередь, Полоцкая Духовная консистория, отвечавшая за латгальские приходы, признала в начале XX века, что приходские священники или совсем не занимались миссионерской работой среди староверов, или же «в своей миссионерской деятельности обнаружили недостаточность внимания, знания и осторожности, чем скорее могут принести вред, а не пользу делу миссии»3.
Подводя итог борьбе со староверием в 60х – начале 80х годов XIX века, оберпрокурор Св. Синода в 1880–1905 гг. К. П. Победоносцев (1825–1907) написал в 1881 году ведущему обличителю староверия в Российской империи, профессору Московской Духовной
2 Архиепископ Арсений (Брянцев). О миссионерстве вообще и в Рижской епархии – особенно // Прибавления к Церковным Ведомостям, № 3, 18 января 1897 г. С. 78–90.
3 Архив Люцинского благочиния (далее – АЛБ), «Указ из Полоцкой Духовной консистории от 19 июля 1901 года».
александр ГавРИЛИн
Собеседования синодальных миссионеров с рижскими староверами в 1889–1890 гг.
C начала раскола Русской Православной Церкви (РПЦ) староверы, всегда готовые отстаивать правоту своей веры, охотно шли на публичные богословские диспуты. Достаточно вспомнить, что одни из первых собеседований или «прений о вере» состоялись 5 июля 1682 года в Грановитой палате Московского Кремля в присутствии патриарха Иоакима (СавеловПервый, 1621–1690) и царевны Софьи Алексеевны (1657–1704). На этих «прениях» от лица ревнителей «древлего благочестия» выступил суздальский священник Никита Добрынин (Пустосвят), доводы которого в защиту «старой веры» никто из его оппонентов не смог опровергнуть, поэтому царевна, чтобы не смущать присутствующих, распорядилась на следующий день арестовать и казнить о. Никиту. Второй известной в истории попыткой организации публичного диспута о вере можно считать события 1722–1723 годов. В 1722 году по просьбе Св. Синода Петр I послал к старообрядцам Выговского общежительства иеромонаха Неофита с наказом провести с ними собеседования – «имети о происшедшем несогласии кроткое и без опасное разглагольство, принуждения не творити насильно». Од нако на первых же публичных «разглагольствах» или собеседованиях, проведенных в Петрозаводске, ученый иеромонах не смог противостоять аргументации выговских начетчиков, поэтому отказался от публичных диспутов и попросил выговцев в письменной форме ответить на подготовленные им 106 вопросов. Так появились знаменитые «Поморские ответы».1
После первых неудачных попыток убедить староверов в их «заблуждениях», основным аргументом правительства и Св. Си нода в борьбе со староверием стали методы административного воздей
1 Катькова В. В. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви среди старообрядцев в Самарской епархии последней трети XIX века. Ч.I. // samstarbiblio.ocoz.ru/publ/ 144101554.
78 79
лиотека при Рижской Духовной семинарии (РДС) была открыта в 1889 году. В августе 1888 года в учебную программу семинарии был введен курс «История и обличение русского раскола и местных сект», который стал преподавать кандидат богословия, выпуск ник СанктПетербургской Духовной Академии (СПДА) 1888 года Владимир Игнатьевич Плисс.7
При анализе материалов собеседований со староверами нужно учитывать односторонность, даже субъективность исторических источников. Для самих староверов был закрыт доступ к средствам массовой информации, у них не было возможности зафиксировать свое отношение к собеседованиям в материалах делопроизводст ва, поэтому единственные источники, по которым можно про сле дить ход собеседований – это отчеты об этих мероприяти ях, подготовленные православными миссионерами и опубликован ные в конфессиональных (православных) периодических изданиях. В ре зультате, в исторических источниках практически отсутствует информация о реакции староверов на ход дискуссии, о какихлибо промахах и неудачах миссионеров, неизбежных в ходе публичных выступлений, нет критического анализа выступлений миссионеров и т. п. Следует учитывать и то, что после долгих лет гонений староверы настороженно относились к попыткам вызвать их на публичный диалог, поэтому во время собеседований старались отмалчиваться. Кроме того, тексты их выступлений в отчетах православных миссионеров приводи лись только в сокращенном виде, причем, разумеется, авторы отчетов никогда не забывали подчерк нуть, что доводы староверов,
7 Владимир Игнатьевич Плисс родился в 1862 году в г. Пружаны Гродненской губ. Закончил Виленскую Духовную семинарию, затем – СанктПетербургскую Духовную Академию. Интересно отметить, что однокурсником Владимира Плисса был будущий Патриарх Московский и всея Руси Тихон (Белавин), а ректором СПДА в 1883–1887 гг. служил епископ Ладожский Арсений (Брянцев), который и пригласил Владимира Плисса в Ригу. В 1893 году был рукоположен в священники Рижского кафедрального Христорождественского собора, в 1900–1915 гг. служил ключарем кафедрального собора. В 1915 году протоиерей Владимир Плисс был эвакуи рован в Нижний Новгород, где служил настоятелем храма Вознесения Господня. В марте 1926 года о. Владимир Плисс был арестован органами ЧК и вывезен в Казанскую тюрьму. Скончался 28 февраля 1927 года.
Академии по кафедре Истории и обличения русского раскола Н. И. Субботину (1827–1905): «Ни один (из епископов) до сих пор не составил общей картины раскола во всем многообразии его оттенков в епархиях. Как Вы знаете, существуют большие различия не только в количестве, но и в качестве… Мы печатаем книги и рассылаем их, а потом оказывается, что они гниют в консисториях». Субботин согласился с оберпрокурором и от себя добавил, что «у нас епископы раскола не знают и имеют превратное понятие о единоверии»4.
25 мая 1888 года Св. Синод принял «Правила об устройстве мис сии и о способе действия миссионеров и пастырей Церкви по отношению к раскольникам и сектантам». Согласно этим «Правилам» в каждой епархии «для вразумления раскольников в истинах православной веры и обличения их заблуждений» учрежда лись должности епархиального и окружных миссионеров, организовывались противостарообрядческие библиотеки, предлагалось сис те матически проводить со староверами внебогослу жебные миссионерские беседы.5 Переход от частных бесед к публичным собеседованиям объяснялся следующими преимуществами этой формы работы: собеседования привлекали людей в православные храмы; можно было работать с самой разнообразной по конфессиональному и социальному составу аудиторией; было возможно публично критиковать старообрядческих «отцов», эмоционально воздействовать на аудиторию, «укреплять» православную паству в вере.
20 августа 1888 года епископ Рижский и Митавский Арсений (Брянцев) предложил епархиальной консистории разослать всем причтам храмов Рижской епархии подписные листы для сбора пожертвований на покупку «противораскольничьих и противосектантских книг», чтобы оборудовать библиотеку, на базе которой православные миссионеры будут готовиться к собеседованиям со староверами и сектантами.6 Епархиальная миссионерская биб
4 Цит. по: Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917. Ч. 2. Москва, 1997. С. 164.
5 Там же. С. 197.6 По вопросу об устройстве миссий против раскола и разных сект //
Рижские Епархиальные Ведомости, № 19, 1 октября 1888 г. С. 576.
80 81
и протоиерея Ксенофонта Крючкова (1842–1909). Открывая одно из собеседований, проведенное иеромонахом Арсением 12 марта 1889 года в Рижской Всехсвятской церкви, Рижский архиерей заявил, что «цель беседы нашей с вами, братья, отнюдь не обличение или укор заблуждающимся, а искреннее желание, проникнутое истинной христианской любовью, привести всех к познанию истины, согласию и соединению, чтобы все мы, как братья во Христе не по имени только, но самым делом принадлежали к святой Церк ви, и приобщались от одной чаши Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа»11. Владыка Арсений не пояснил, в какой форме возможно такое соединение, но само собою подразумевалось, что, по мнению архиерея, единственно возможной формой мог быть только переход староверов в официальную Православную Церковь.
Иеромонах Арсений провел в марте 1889 года в Риге восемь со беседований. Темы бесед были традиционными: церковные таинства, о браках законных и незаконных, о решениях московского Собора 1666–1667 года и т. п. В отчете о беседах, проведенных о. Арсением, отмечались его эмоциональность, обличительный,
монастырь, стал членом Самарской миссии. С 1869 года стал регулярно направляться в разные селения губернии для собеседований со староверами и молоканами. В 1877 году была издана его книга «Проповедание истины в Самарской епархии». В 1882 году был направлен на Афон, где 9 марта 1883 года был пострижен в мантию. 1 мая 1883 года рукоположен во иеродиакона, спустя семь дней – во иеромонаха. В 1886 году был передан в распоряжение Св. Синода для работы с сектантами. С 1888 года проводит миссионерские беседы в разных губерниях Российской империи. В июле 1890 года причислен к братии СанктПетербургской АлександроНевской Лавры. 13 июля 1890 года был официально назначен синодальным противосектантским миссионером. В 1894 году возведен в сан игумена. Изза разногласий с руководством Св. Синода в ноябре 1898 года был лишен должности синодального миссионера. Поводом для такого решения послужило издание о. Арсением своей книги «Обличение на книгу Фаррара именуемую «Жизнь Иисуса Христа». Всероссийскую известность приобрел в ноябре 1905 года, когда стал одним из основателей «Союза русского народа» (другое название этой православномонархической, националистической организации – «Черная сотня»). Скончался 20 августа 1913 года на Афоне в Андреевском скиту, был похоронен в лесной чаще.
11 В. П. Миссионерские беседы в г. Риге // Рижские Епархиальные Ведомости, № 15, 1 августа 1889 г. С. 509.
в отличие от выступлений миссионеров, не смогли убедить аудиторию.8
Одними из постоянных вопросов собеседований, поднимаемых миссионерами, были вопросы об истинности Церкви, о церковной иерархии, о священстве и таинствах. Православные миссионеры старались доказать, что Иисус Христос создал Церковь со всем священноначалием и таинствами. Опровергая этот тезис, староверы обычно ссылались на исторический опыт существования Поместных Церквей без священноначалия; приводили 15е правило Второго Константинопольского Собора, допускавшего отказ верующих от подчинения епископу, который впал в ересь, а также цитировали слова св. Иоанна Златоуста о праве паствы на выбор себе пастыря: «овцы имеют право выбирать себе пастыря». На доводы миссионеров о необходимости св. причастия, староверы обычно от вечали, что «мы каждый день причащаемся – хлеб едим и воду пьем»9. Большие затруднения вызывали вопросы о церковной обрядности. Как известно, одной из основных задач никоновской ре формы было приведение обрядности в РПЦ в соответствие с обрядностью в греческой Церкви. Об этом в конце XIX века не могли говорить православные миссионеры, так как РПЦ в это время уже считала, что греческая Церковь заражена католицизмом, т. е. разделяла точку зрения староверов. Споры о крестном знамении обычно заканчивались тем, что стороны приходили к заключению, что совсем не важно, как крестится верующий – тремя или двумя перстами, важно, какой смысл он в это вкладывает.
Собеседования в Риге начались с 1889–1890 годов, когда епископ Арсений (Брянцев), используя свои петербургские связи, при гласил самых известных «противостарообрядческих» миссионеров того времени – иеромонаха Арсения (Алексеева, 1845–1913)10
8 В. П. Беседы синодального миссионера, протоиерея К. Крючкова с именуемыми старообрядцами в г. Риге // Рижские Епархиальные Ведомости, № 11, 1 июня 1890 г. С. 339.
9 В. П. Миссионерские беседы в г. Риге // Прибавления к Церковным Ведомостям, № 10, 6 марта 1893 г. С. 413–414.
10 Отец Арсений (Степан Федотович Алексеев) родился в семье крестьян Бугурусланского уезда Самарской губернии. В 1860 году поступил послушником в Бузулукский Мойский монастырь. 9 марта 1863 года был пострижен в рясофор. В 1869 году перемещен в Самарский Николаевский
82 83
Церкви.13 В целом, В. И. Плисс считал, что рижские беседы о. Арсения «произвели весьма хорошее впечатление не только на именуемых старообрядцев», но и «на православных, живущих среди раскольников и сектантов, предохраняя чад Православной Церкви от совращений. Кроме того, миссионерские беседы и собеседования вносят в городскую среду религиозное оживление, пробуждают религиозные интересы, среди раскольников возникает живейшее искание православной истины, и многие из заблуждающихся становятся на истинный путь».14
Протоиерей Ксенофонт родился в с. Паим Пензенской губернии в поморской семье. Его родители занимались кожевенным делом и принадлежали к купеческому сословию. Имея в своем распоряжении богатую библиотеку книг духовного содержания, принадлежавшую деду, Ксенофонт очень рано научился грамоте. С годами стал широко эрудированным человеком, отличался своим ораторским искусством. В православие перешел в 1866 году под влиянием знакомства с бывшим федосеевцем, знатоком древнерусской и святоотеческой литературы, архимандритом Павлом (Ледневым, 1821– 1895) Прусским и митрополитом Московским св. Филаретом (Дроз довым, 1782–1867). В 1880 году был рукоположен во иереи и стал одним из самых популярных миссионеров РПЦ, выступления кото рого собирали большие аудитории слушателей. Протоиерей Ксенофонт умело направлял беседу в нужное для него русло, поднимал вопросы, к ответам на которые был заранее обстоятельно подготовлен, имея в своем распоряжении тщательно отобранные исторические факты, цитаты из Св. Писания, из деяний св. Отцов, из трудов православных богословов, из древнерусской литературы.15
Открывая 18 марта 1890 года в Рижском кафедральном Христорождественском соборе цикл бесед о. Ксенофонта, епископ Арсений
13 В. П. Миссионерские беседы в г. Риге // Рижские Епархиальные Ведомости, № 10, 15 мая 1889 г. С. 348–353; № 15, 1 августа 1889 г. С. 508–520; № 17, 1 сентября 1889 г. С. 570–577.
14 В. П. Миссионерские беседы в г. Риге // Рижские Епархиальные Ведомости, № 17, 1 сентября 1889 г. С. 576–577.
15 Плисс Владимир. Синодальный миссионер, протоиерей Ксенофонт Никифорович Крючков и его собеседования с именуемыми старообрядцами в г. Риге // Рижские Епархиальные Ведомости, № 8, 15 апреля 1890 г. С. 231–237.
напористый тон его выступлений. Судя по тому, что каждое выступление миссионера заканчивалось «горячей благодарностью» слушателей, а также тем, что каждый старался получить от него благословение, подавляющее большинство аудитории составляли православные. Исключением была седьмая беседа, проведенная о. Арсением 12 марта во Всехсвятской церкви. На это собеседование пришла большая группа староверов, которые своим шумным поведением попытались помешать выступлению миссионера. На это последовало резкое замечание о. Арсения. Он заявил, что за «22 го да своей миссионерской деятельности никогда не встречал терпимости христианской у именуемых старообрядцев, они никогда не оказывались способными для братской беседы об истинах веры. Это объясняется тем, что кто удаляется от Св. Церкви, тот удаляется и от Духа Святого, в том не может быть христианского терпения». Во время этой беседы выступил старовер, домохозяин Цветков, который, используя свои записи, попытался опровергнуть доводы миссионера, который отвечал ему «строго обличительным тоном».12
14 марта 1889 года в Рижском Христорождественском кафедральном соборе, подводя итог своим рижским выступлениям, иеромонах Арсений призвал всех собравшихся на его последнюю беседу быть «воинами царства Божия и все свои силы посвящать защите матери своей – Православной Церкви… Вы живете среди именуемых старообрядцев – раскольников и различных сектантов. Может быть, когонибудь из вас соблазняют обычаи этих не верных, их льстивые слова; для вразумления подобных людей пусть послужат мои беседы». По словам Владимира Плисса, соста вившего отчет о визите о. Арсения, «двое именуемых старообрядцев, посещавших все беседы о. Арсения, при помощи благодати Божией сознали гибельность раскольнических заблуждений и вы разили желание возвратиться к любвеобильной матери своей – присоединиться к Св. Православной Церкви». Удивительно только, что, с восторгом отметив этот наиболее наглядный резуль тат миссионерской деятельности о. Арсения в Риге, автор отчета не счел нужным назвать имена этих неофитов Православной
12 Там же. С. 510–517.
84 85
о незаконности их браков, никто из староверов не захотел ему оппонировать.
Третья беседа синодального миссионера в Риге состоялась 21 марта во Всехсвятской церкви. И это собеседование предварил сво им обращением к слушателям епископ Арсений: «Прошу вас, возлюбленные братья, со всем вниманием выслушать беседу о. про тоиерея, облегчить вашу душу разрешением тех сомнений, которые тяготят вас, не стесняйтесь обращаться к нему за разрешением ваших сомнений»19. В этой беседе о. Ксенофонт дал анализ понятия «антихрист» и попытался проанализировать старообрядчес кое отношение к св. таинствам.
Четвертое собеседование, проведенное протоиереем Ксенофонтом Крючковым 23 марта в Рижской единоверческой церкви, было посвящено церковным обрядам. Миссионеру удалось вызвать на диалог двух староверов и доказать им, что раз Церковь имеет право трансформировать обрядную сторону богослужения, то в та ком случае вполне правомерны были и изменения, проведенные патриархом Никоном. И это собеседование показало, что с о. Ксенофонтом практически невозможно было спорить – слишком хорошо он ориентировался в предмете спора.
Наконец, в последней, пятой беседе, состоявшейся 25 марта в Рижском Христорождественском кафедральном соборе, протоиерей Ксенофонт Крючков подвел итог всем своим предыдущим встречам с рижанами и в очередной раз проанализировал основные разногласия Православной Церкви со старообрядцамибеспоповцами.20
Выступления протоиерея К. Крючкова вызвали огромный интерес со стороны рижан. Достаточно сказать, что такие большие по площади храмы, как Христорождественский кафедральный собор, Благовещенская и Всехсвятская церкви во время выступ лений о. Ксенофонта не могли вместить всех желающих. Порази тельно,
19 Речь Преосвященного Арсения пред третьим собеседованием миссионера протоиерея Ксенофонта Крючкова, сказанная во Всехсвятской церкви 21 марта // Рижские Епархиальные Ведомости, № 11, 1 июня 1890 г. С. 332.
20 В. П. Беседы синодального миссионера, протоиерея К. Крючкова с именуемыми старообрядцами в г. Риге. Пятая беседа // Рижские Епархиальные Ведомости, № 12, 15 июня 1890 г. С. 364–365.
(Брянцев) заметил, что «цель наших собеседований – утверждать в правоверии находящихся в недрах Православной Церкви и обращение на путь истины заблуждающихся»16.
Протоиерей Ксенофонт Крючков провел в Риге пять собесе до ваний. Тема первого собеседования была традиционная для подобного рода встреч – о Церкви Христовой. После своего всту пи тельного слова миссионер предложил староверам публично опровергнуть его доводы. На это один из староверов заявил, что в православном соборе «старообрядцы не могут ничего говорить» и пригласил миссионера выступить в их моленном доме. На это предложение о. Ксенофонт ответил, что он «может придти в моленную, но с тем условием, чтобы вы держали себя там сдержанно, все со вниманием слушали. Но сделаете ли вы это? Нет». По словам о. Ксенофонта, в своих моленных староверы оскорбительно относятся к православным миссионерам, обзывают их бранными словами, причем осо бым фанатизмом отличаются женщины.17 Этим и закончилось первое выступление синодального миссионера в Риге.
Надеясь всетаки вызвать староверов на диалог с о. Ксенофонтом, епископ Арсений выступил с речью и перед вторым собеседованием, проведенном миссионером 20 марта в Благовещенской церкви. В своей речи архиерей призвал всех присутствующих «без стеснения вступать в беседу с о. миссионером, соблюдая при этом осторожность в словах, приличие и вежливость. Избави Господь всех нас от того, чтобы мы стали унижать друг друга, презирать и смеяться: Господь Бог нас за это накажет. Не будем, братья, друг другу силою навязывать своих вероисповеданий, но будем просить Господа, чтобы Он открыл истину заблуждающимся, и чтобы она была принята ими добровольно и сознательно, и послужила им во спасение»18. Однако, несмотря на все приглашения о. Ксенофон та опровергнуть его доводы о неимении у староверов Церкви и
16 В. П. Беседы синодального миссионера, протоиерея К. Крючкова с именуемыми старообрядцами в г. Риге //Рижские Епархиальные Ведомости, № 9, 1 мая 1890 г. С. 282.
17 Там же.18 Речь Преосвященного Арсения пред вторым собеседованием мис
сионера протоиерея Ксенофонта Крючкова, сказанная в Благовещенской церкви 20 марта //Рижские Епархиальные Ведомости, № 10, 15 мая 1890 г. С. 299.
86
aleksandrs GaVRIļInS
Sinodālo misionāru pārrunas ar Rīgas vecticībniekiem 1889. un 1890. gadā
Raksts ir veltīts publiskajām misionāra rakstura sarunām, kuras Rī - gas dievnamos 1889. un 1890. gadā veica Pareizticīgās Baznīcas garīdz - nieki ar vecticībnieku pārstāvjiem. Šādas diskusijas norisinājās pie re-dzējušo misionāru vadībā – hieromūka Arsenija (Aleksejeva, 1845–1913) un arhipriestera Ksenofonta Krjukova (1842–1909) klātbūtnē. Sarunu gal venās tēmas bija saistītas ar Svētā Vakarēdiena sakramenta izpratni, Baznīcas hierarhijas, laulību, 1666.–1667. gada Baznīcas koncila nozīmi ticīgo dzīvē u.c.
Spriežot pēc pārskatiem par misionāru sarunām ar Rīgas vecticīb nie-kiem, kopumā tikai 12 vecticībnieki ir pieņēmuši lēmumu pievienoties oficiālajai Baznīcai. Šādas diskusijas aktivizēja pareizticīgos, veicinot vi-ņu interesi par ticības jautājumiem, savukārt vecticībnieku vidē notika iepriekšējās apoloģētiskās polemikas principu pārvērtēšana, konsolidējot vecticībniekus un rosinot viņus vēl rūpīgāk meklēt argumentus savas ti-cības pamatu aizstāvēšanai.
но рижская аудитория того времени была готова 3–4,5 часа слушать анализ сложнейших богословских вопросов, причем не просто слушать, но и вступать с докладчиком в дискуссию.
По мнению В. И. Плисса, выступления миссионера способствовали, прежде всего, укреплению в вере православных Риги. Дей ствительно, судя по тому, что каждая беседа о. Ксенофонта заканчивалась тем, что многие слушатели подходили к протоиерею под благословение, понятно, что подавляющее большинство аудитории составляли православные.
Разумеется, среди слушателей синодального миссионера не бы ло никого, кто бы мог на равных вести с ним диалог: о. Ксенофонт сам выбирал тему собеседования, был готов к разговору на эту тему, был начитанным человеком и профессиональным оратором, который своей взвешенной, продуманной аргументацией мог сокрушить любого оппонента. Более того, он был настолько уверен в своих силах, что всегда заранее объявлял тематику своего следующего собеседования, давая возможность потенциальным оппо нентам подготовиться. Вместе с тем, эти беседы принесли большую пользу и рижским староверам, так как подтолкнули их к углубленным занятиям богословскими вопросами. Если верить отчету о миссионерских беседах 1890 года, составленному преподавателем Рижской Духовной семинарии, десять рижских староверов под влиянием собеседований, проведенных о. Ксенофонтом,21 перешли в православие. Однако при этом выступления известного миссионера только укрепили общину рижских староверов. Говоря словами настоятеля Рижской единоверческой церкви о. Петра Рогункова, благодаря беседам протоиерея К. Крючкова и иеромонаха Арсения, рижские «раскольники, а тем более ярые раскольницы, из страха, чтобы не пошатнулся их раскол, сильнее стали защищать свое отступление от Церкви Христовой, разумеется, не публично, но среди своей братии и простого люда»22, то есть стали усиленно заниматься анализом догматов своего вероисповедания, защитой их от нападок официальной Церкви.
21 Как и в случае с иеромонахом Арсением, имена перешедших в православие староверов не упоминаются.
22 В. П. Несколько слов по поводу миссионерских бесед в г. Риге // Рижские Епархиальные Ведомости, № 12, 15 июня 1890 г. С. 369–371.
88 89
tikumībā un nožēlot savu nodarījumu”2. G. Frolovs arī uzskatīja, ka svarīgs kristieša pienākums ir vecticības tradīciju saglabāšana un cieņa pret tām, jo, ja senie ieradumi netiks cienīti, tad diez vai reliģiozitāte un tikumība var būt atjaunota. „Nav vajadzības mainīt svēto tēvu ieražas, bet gan personīgā dzīve jālabo patiesas senās dievticības garā,”3 rakstīja G. Frolovs. Viņš un I. Zavoloko publicēja arī rakstus par ikonu glezniecības vēsturi Krievijā, par A. Rubļova daiļradi, seno ikonu glezniecības tehniku u.c. Šie raksti organiski iekļāvās pulciņa locekļu kopīgās interesēs, jo senkrievu kultūras savdabības pētīšana nevarēja notikt bez ikonu glezniecības izzināšanas.
Paralēli teorētiski publicistiskajam darbam ikonu glezniecības popu larizācijas jomā, pulciņa dalībnieki uzskatīja par svarīgu uzdevumu nodrošināt zinātnisku pieeju senkrievu ikonu atjaunošanai. 1928. gada augustā pulciņa locekļi ar pazīstamo speciālistu un krievu ikonu pēt nieku P. Muratovu priekšgalā organizēja Grebenščikova draudzes Svētās Dievmātes Aizmigšanas dievnama ikonu apskati. Daudzi 15.–16. gad simta senkrievu mākslas pieminekļi tolaik pirmo reizi tika izpētīti un aprakstīti. Par to tika ziņots žurnāla „Rodnaja starina” 5./6. numurā, kas bija veltīts ikonogrāfijas jautājumiem. Šajā numurā bija publicēti populārzinātniski N. Gardnera, J. Šmurlo, V. Nikoļska, I. Zavoloko raksti, kas skāra dažādus ikonu glezniecības aspektus.
1927. gada rudenī pulciņa locekļi I. Zavoloko vadībā apmeklēja Peipusa ezera novada vecticībnieku draudzes nolūkā izpētīt senās ikonas.4 Vienā no Peipusa ezera novada ciematiem – Rajā, kur dzīvoja un strādāja G. Frolovs, I. Zavoloko iepazinās ar Pimenu Sofronovu – jauno, ta lantīgo G. Frolova skolnieku. I. Zavoloko un P. Sofronova iepazīšanās izrādījās liktenīga, jo pēc šīs tikšanās starp viņiem izveidojās draudzīgas attiecības, kas saglabājās visas dzīves garumā.
Pulciņa darbība ikonu glezniecības izzināšanas jomā un ikonu izpēte Baltijas vecticībnieku lūgšanu namos lika pamatus Rīgas ikonu glezniecības darbnīcas dibināšanai 1928. gada rudenī. Darbnīcas atklāšanā
2 Фролов Г. О покаянии // Родная старина, 1930, № 8. С. 4.3 Фролов Г. О наречном пении // Родная старина, 1928, № 4. С. 24.4 Маркелов Г. Изограф из Причудъя // Даугава, 2000, № 1. С. 97. Krievu
vecticībnieku apmetne Peipusa ezera krastā izveidojās 18. gs. sākumā, kad fedosejeviešu virziena pamatlicējs Feodosijs Vasiļjevs iecerēja uzcelt netālu no Tartu kinoviju, kas līdzinātos Vigas klostera – vecticībnieku kultūras centra – paraugam.
Viktorija aLekSanDRoVa
Rīgas vecticībnieku ikonu glezniecības darbnīca 20. gadsimtā
Vecticībnieku ikonu glezniecības darbnīca atradās Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes telpās. Ikonu gleznotāju iedvesmas avots bija Grebenščikova lūgšanu nama ikonas, kuru lielākā daļa ir datēta ar 18.–19. gadsimtu. Ņemot vērā šo ikonu stilistisko līdzību, var pieņemt, ka šajā laika posmā glezniecības darbnīca Grebenščikova draudzē jau darbojās, taču ikonu gleznotāji neparakstīja savus darbus, un arī draudzes administrācija tos neuzskaitīja, tādēļ liecības par darbnīcas pastāvēšanu iepriekšējos gadsimtos nav saglabājušās. 1928. gadā ikonu glezniecības darbnīca tika organizēta, pateicoties vecticībnieku jauniešu „Se natnes cienītāju pulciņa” (Кружок ревнителей старины) iniciatīvai tā reliģiski izglītojošās darbības ietvaros.
1927. gada 2. jūnijā Rīgas vecticībnieku draudzē notika vecticībnieku jaunatnes sanāksme, kurā oficiāli nodibināja „Senatnes cienītāju pul ci ņu”, kā arī izteica pulciņa darbības mērķi – reliģiskās pašapziņas atjaunošana vecticībnieku jauniešu vidē1, respektīvi, seno pareizticīgo tikumu kopšana un vecticības tradīciju atjaunošana. Pulciņa galvenais darbības veids bija sanāksmju rīkošana, kurās klātesošie klausījās kultūrapgaismojošas tematikas referātus. Ar Ivana Zavoloko (1897–1984) – vecticībnieku pulciņa vadītāja – iniciatīvu tika organizēta žurnāla “Rodnaja sta rina” izdošana. Šajā žurnālā, kas tika izdots no 1927. līdz 1933. gadam, lasītāji varēja iepazīties ar dažāda žanra publikācijām par Senās Krievzemes vēsturi, par vecticības vēsturi, par baznīcas mākslu u.c. Rak stus par vecticības reliģisko būtību publicēja galvenokārt divi ievērojami vecticības tradīciju pazinēji – Ivans Zavoloko un Gavriils Frolovs (1854–1930). G. Frolovs – ikonu gleznotājs un vecticībnieku mācītājs sa vos rakstos aizstāvēja senās dievbijības saglabāšanu un, norādot uz vec ticībnieku pienākumiem, centās pamodināt lasītājos reliģiskās jūtas un sirdsapziņu. G. Frolovs bija pārliecināts, ka patiesās senkrievu dievbijības atdzimšana sākas ar ticīgā grēku nožēlošanu. Atsaucoties uz Svētā Jāņa Zeltamutes vārdiem, viņš aicināja ikvienu kristieti „dzīvot
1 Кружок Ревнителей Старины // Родная старина, 1927, № 1. С. 24.
90 91
Kā tolaik ziņoja avīze „Segodņa”, izstādei bija liela kultūrapgaismojoša nozīme, un tā ir radījusi rīdzinieku interesi par krievu tradicionālo mākslu. Izstādes rīkotāji ar gandarījumu vēroja lielo apmeklētāju skaitu, starp kuriem bija arī vēstniecību pārstāvji. Daudzi mākslinieki nāca kopēt ikonas. Izstādes apmeklētāji bieži lūdza pulciņa dalībniekus pastāstīt par ikonu glezniecības vēsturi. Profesors V. Sinaiskis lasīja lekcijas „Par senkrievu ikonu glezniecību”, „Par Pleskavas klosteri”, bet I. Zavoloko nolasījis lekciju „Krievijas tautas sadzīves māksla”.9
Jāpiebilst, ka darbnīcas darbība labi iekļāvās arī pulciņa aktivitātēs senpareizticīgo tradīciju atjaunošanas jomā. Tātad par ikonu darbnīcas gleznotāju mērķi kļuva senkrievu ikonu glezniecības tradīciju atjaunošana un saglabāšana. Lai sasniegtu šo mērķi, 20. gadsimta dažādos periodos ikonu gleznotāji aktīvi strādāja seno ikonu restaurācijas jomā, kā arī savā daiļradē centās atdzīvināt senās tradīcijas. Turklāt ikonu gleznotāji centās restaurāciju veikt atbilstoši stingrām zinātniskām prasībām. 1928. gadā ar „Senatnes cienītāju pulciņa” atbalstu tika nodibi nāti sakari ar mākslinieku un mākslas zinātnieku I. Grabaru, kurš piedāvāja seno ikonu zinātniskajai restaurācijai nepieciešamos materiālus.10 1928. gada beigās pulciņš turpināja sadarboties ar Prāgas Kondakova semināru. Kondakova seminārs izveidojās 1925. gadā kā Nikodima Kon dakova – pazīstamā krievu zinātnieka, akadēmiķa, izcilā bizantīnista un mākslas vēsturnieka – studentusekotāju biedrība. Semināra intere šu loku noteica nozares, ar kurām nodarbojās zinātnieks: mākslas vēsture, Bizantijas un senkrievu vēsture. Semināra locekļi turpināja Kondakova uzsāktos pētījumus.11 Žurnāla “Rodnaja starina” redakcija nodarbojās ar Semināra izdevumu – rakstu krājumu par Bizantijas mākslu – izplatīšanu Baltijas valstīs.12
1931. gadā, pēc Parīzes krievu biedrības „Ikona” ielūguma, P. Sofronovs aizbrauca uz Parīzi mācīt ikonu glezniecību, un par galveno ikonu gleznotāju Rīgas darbnīcā kļuva Konstantīns Pavlovs. 1930. gadu vidū arī K. Pavlovam parādījās skolnieki – profesionāli mākslinieki Aleksejs
9 В. Ш. Закрылась выставка русского искусства // Сегодня, 1929, 4 ноября. С. 12.
10 В Кружке Ревнителей Старины // Родная старина, 1928, № 4. С. 40.11 Семинарий им. Кондакова в Праге // Родная старина, 1928, № 5–6.
С. 30.12 Turpat.
piedalījās P. Sofronovs, kuru I. Zavoloko bija uzaicinājis atbraukt no Igau nijas uz Rīgu, lai izveidotu darbnīcu un uzsāktu nepieciešamos restaurācijas un ikonu glezniecības darbus gan draudzes dievnamā, gan arī veikt privātus pasūtījumus.
Drīz vien P. Sofronovam parādījās skolnieki – mākslinieki Jurijs Rikovskis, Jevgeņijs Kļimovs un Latvijas Universitātes profesors jurists Va sīlijs Sinaiskis, kuri 1928.–1930. gados apguva ikonu glezniecības pamatus.5 1930. gadā par P. Sofronova skolnieku kļuva Konstantīns Pavlovs, dziļi reliģiozs vecticībnieks, „Senatnes cienītāju pulciņa” loceklis.6
Darbnīcas darbības laikā no 1928. gada līdz 1930. gadam norisinājās P. Sofronova un viņa skolnieku sadarbība, kas organiski iekļāvās pulciņa kultūrapgaismojošās programmas ietvaros. Piemēram, 1929. gada novembrī Rīgā O. LišinasBočagovas ģimnāzijas ēkā pulciņš noorganizēja krievu mākslas darbu izstādi, kuras galvenā ekspozīcijas nodaļa bija veltīta ikonu glezniecībai. Izstādes mērķis bija parādīt senkrievu reliģiskās mākslas vēsturisko attīstību. Krievzemes ikonu glezniecības senāko periodu (11.–12. gs.) piedāvāja apskatīt reprodukcijās no I. Zavoloko kolekcijas. Nākamo ikonu glezniecības vēstures posmu – no 13. līdz 17. gs. – atspoguļoja Prāgas Kondakova Semināra (Seminarium Kondakovianum) izdevniecības reprodukcijas. Vairāk nekā 200 ikonu deva iespēju iepazīties ar Stroganovu un Pomoras stila glezniecības paraugiem. Mūsdienu ikonu glezniecību izstādē atspoguļoja P. Sofronova tradicionālajā manierē gleznotie darbi. 1920. gadu žurnālistu īpašu uzmanību piesaistīja divas izstādē aplūkojamās ikonas: „Ne ar rokām darinātais Pestītāja atveids” (Спас Нерукотворный) un „Deisiss”, kuras Sofronovs gleznoja Novgorodas skolas stilā. Izstādē tika demonstrētas arī 400 uz emaljas gleznotas ikonas no A. Mirtina kolekcijas.7 Senkrievu mākslas nodaļas noslēgumu veidoja reti priekšmeti no Pleskavas Pečoru klostera: izsmalcinātie baznīcas izšuvumu paraugi, kuri bija saglabājušies no cara Ivana Bargā laikiem, ar pērlēm un zeltu izšūtie priesteru apģērbi u.c.8
5 Синайская Н. В. Круг жизни профессора В. И. Синайского. Рига, 1998. С. 48.
6 Памятные даты: К. Павлов // Старообрядческий церковный календарь на 1977 год, 1976. С. 77.
7 Б. Ш. Новые экспонаты на выставке русского искусства // Сегодня, 1929, 1 ноября. С. 6.
8 Выставка Рижского Кружка Ревнителей Старины // Родная старина, 1929, № 8. С. 20.
92
kas notika dažādos 20. gadsimta posmos. Šos gleznotājus vienoja tieksme pētīt, saglabāt un atdzīvināt senkrievu ikonu glezniecības tradīcijas. Seno mākslas pieminekļu restaurācija un jaunrade sekmēja vecticības tradīciju saglabāšanu un atdzimšanu.
виктория аЛекСандРова
Рижская старообрядческая иконописная мастерская в ХХ веке
Статья посвящена деятельности Рижской старообрядческой иконописной мастерской с момента ее основания в 1928 году и до конца прошлого столетия. Автором рассматривается творчество ведущих иконописцев мастерской – Софронова П. М. (1898–1973), Павлова К. А. (1907–1976), Быкадорова С. Т. (1922–2011).
В 1928 году по инициативе выдающегося иконописца П. М. Соф- ронова и других членов Кружка ревнителей старины при Гребенщи- ковской общине была организована иконописная мастерская. Ра бо - та в мастерской велась в двух направлениях: реставрация древних памятников, а также изучение и возрождение древнерусских иконо-писных традиций. Несмотря на то, что каждый из иконописцев имел свой иконописный почерк и стиль, они едины в главном – в строгом соблюдении канонов древнерусской иконографии. Источ-ни ком вдохновления изографов Рижской иконописной мастерской служили иконописные образы XII, конца XV – начала XVII веков.
Jupatovs un Tatjana Kosinska, taču viņi nedarbojās kā restaurētāji un negleznoja ikonas vecticībnieku lūgšanu namiem.
1940. gadā, kad staļinisma režīms ielauzās Latvijā, pulciņa darbī bu pārtrauca un pulciņa vadītāju I. Zavoloko arestēja. Viņš pavadīja 8 gadus nometnē un 8 gadus izsūtījumā Novosibirskas apgabalā. Ti kai 1956. gada beigās I. Zavoloko varēja atgriezties Rīgā.13 1940. gadā arī ikonu glezniecības darbnīca oficiāli vairs nepastāvēja. Taču 1940. – 1950. gados K. Pavlovs turpināja gleznot ikonas un nodarbojās ar restaurācijas darbiem draudzes dievnamā.
1950. gadu sākumā uz dievkalpojumiem Grebenščikova draudzē sāka nākt Simeons Bikadorovs, kurš tajā laikā vēl bija Rīgas Rozentāla mākslas skolas 4. kursa students. Bikadorovs bija redzējis lūgšanu namā strādājam ikonu gleznotāju K. Pavlovu, bet viņi neuzturēja kontaktus nedz tolaik, nedz arī vēlāk.14
1950. gados Rīgas vecticībnieku draudzē vairākkārt veica restaurācijas un ikonu glezniecības darbus G. Frolova skolnieks Jefimijs Kekiševs (1892–1980). Pateicoties viņam, S. Bikadorovs apguva pirmās iemaņas ikonu glezniecībā.
Sākot ar 1960. gadiem un līdz savai nāves stundai 1976. gadā, K. Pavlovs vairs nenodarbojās ar ikonu glezniecību slimības dēļ. 1960. gados draudzi bieži apmeklēja Fjodors Kaļikins (1876–1971) – Pomoras denominācijas vecticībnieks, atzīts senās mākslas restaurētājs, kura darbība norisinājās galvenokārt Ļeņingradā – Krievu mākslas muzejā un Ermitāžā. Rīgā F. Kaļikins ir restaurējis daudzus senkrievu ikonu glezniecības šedevrus un paralēli tam mācījis S. Bikadorovam restaurācijas teh nikas pamatus.15 Sākot ar 1960. gadu beigām un galvenokārt 1980. gados, S. Bikadorovs jau patstāvīgi restaurēja senās ikonas. Kopš 1960. gadiem ar ikonu glezniecību un restaurāciju Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes darbnīcā sistemātiski nodarbojās tikai S. Bikadorovs.
Kopumā Rīgas vecticībnieku ikonu glezniecības darbnīcas darbība ir tās vadošo gleznotāju (Sofronova, Pavlova, Bikadorova) radošā darbī ba,
13 Фейгмане Т. Д. «Следственное дело» НКВД на И. Заволоко // Памяти Заволоко Ивана Никифоровича. Сборник статей и материалов, посвященных 100летию И. Н. Заволоко. Рига, 1999. С. 133.
14 S. Bikadorova atmiņas, kuras raksta autore pierakstīja Rīgā, 19.04.2000.15 Заволоко И. Памяти Ф. А. Каликина // Старообрядческий церков
ный календарь на 1973 год, 1972. С. 79.
Ikonas „Vladimiras Dievmāte” fragments. 12. gs. pirmā trešdaļa. Bizantija. Valsts Tretjakova galerija. Maskava
Ikona „Vladimiras Dievmāte”. 1999.
S. Bikadorovs. S. Bikadorova kolekcija
Ikona „Svētītājs Jānis Zeltamutear Jaunās Derības Trīsvienību un dzīves ainām” un tās fragments. 17. gs. trešais ceturksnis. Privāta kolekcija. Maskava
3.1. Ikona „Lielmoceklis Soluņas Dmitrijs” un tās fragments. 1929. Rīga. P. Sofronovs. Grebenščikova draudzes Dievmātes Aizmigšanas dievnams
96 97
Bezpriesteru virziena vecticībnieku draudzes dzīves organizācija ko pumā orientējas uz klostera dzīves paraugu un galvenokārt – uz Vigas klostera pieredzi, kas kļuva par Senpareizticības sekotāju ideālās kopienas paraugu, liecinot par to, ka ticīgo kopienas dzīve iekļauj sevī ne tikai kopīgas lūgšanas, bet arī kopīgu saimniecisko darbību un savstarpēju atbalstu.2 Vecticībnieku literatūrā ir skaidri pamanāma vēlēšanās vilkt historiosofiskas paralēles starp Senpareizticības sekotājiem un agrīnajiem kristiešiem: nevainīgo vajāšanas ticības dēļ, mocekļu nāve ticības vārdā, pašaizliedzīga uzticība garīgajai autoritātei, – šie sižeti atgādina hagiogrāfiskās literatūras shēmas un tiek pasniegti kā vecticības patiesuma pieradījums.3 Gan dievkalpojumam, gan labdarībai vecticībnieku vidē tiek piešķirta aksioloģiska nozīme – saglabāt senču dzīves iekārtu tā veselumā kā ētiski nozīmīgu jēgpilnu dzīvi (saskaņā ar „senču novēlējumiem”) pretstatā Antikrista valdītajai pasaulei. „Ticība bez darbiem ir mirusi” (Jēk. 2:20) – par savu uzdevumu izvirzot „īstās” ticības saglabāšanu, vecticībnieki neatkarīgi no sava sociālā stāvokļa apzinājās ne pieciešamību ar darbiem pierādīt savu taisnību un aicinājumu.
Rīgas Grebenščikova draudzes piemērs uzskatāmi parāda dažādus vecticībnieku labdarības virzienus, ļaujot spriest par šīs vecticībnieku kultūras prakses specifiku. Tā, piemēram, Rīgas Grebenščikova nespējnieku patversme (dibināta 1813. gadā) bija viena no pirmajām oficiāli atzītajām vecticībnieku organizācijām Rīgā un darbojās uz pašu vecticībnieku izstrādātā dokumenta pamata, kas detalizēti regulēja visas Rīgas vecticībnieku draudzes saimnieciskās un reliģiskās dzīves jautājumus.4
2 Юхименко Е.М. Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература. Т. 1. Москва, 2002. C. 114–170.
3 Skat., piemēram: Житие Аввакума // Житие Аввакума и другие его сочинения. Москва, 1991. С. 27–82. Īpaši spilgti šīs paralēles ir saskatāmas vecticībnieku vidē izplatītajos rokrakstu citātu krājumos, kuros apkopoti apokrifi un leģendas par agrīnās kristietības tēmām, skat.: Сборник, составленный Г. Е. Фроловым, 20е гг. ХХ в. Институт Русской литературы (ИРЛИ), Древлехранилище, коллекция Заволоко, № 164; kā arī garīgās dze jas rokrakstu krājumos, skat., piemēram: Сборная рукопись духовных стихов, кон. XIX в. – нач. XX в., 12 лл. ИРЛИ. Древлехранилище, коллекция Заволоко, № 32.
4 Морозова Н. А. «Рижские статьи» 1813 года // Рижский Старообрядческий сборник. Материалы по истории староверов. Вып. II. Статьи, воспоминания, публикация документов. Составитель Илларион Иванов. Ри га, 2011. С. 283–302.
nadežda PazuhIna
Labdarība vecticībnieku kultūrā: Rīgas Grebenščikova draudzes
pieredze 1920.–1930. gados
Labdarība pareizticības (un plašāk – kristietības) tradīcijas kontekstā ir viena no noturīgākajām kultūras praksēm, kas ietver sevī gan palīdzību sociāli maznodrošinātajiem, gan morālo atbalstu līdzcilvēkiem, gan arī specifisku reliģiskās kalpošanas formu. Labdarība krievu pareizticībā nav tikai ticīgo sociālas saliedētības izpausmes forma, tā tikusi sa prasta kā kalpošana Dievam īpašā veidā – caur kalpošanu (palīdzību) tuvākajam, pat vēl konkrētāk – labdarība tika tieši sasaistīta ar dvēseles pestīšanas ideju. Palīdzība tuvākajam, ziedojums nabadzīgajam, pa tvērums bezpajumtniekam uzskatīti par „ziedojumiem Dieva dēļ”, tātad simboliski tie kļūst par kārtējo soli dvēseles pestīšanas ceļā un ir pieskaitāmi garīgās dzīves dimensijai. Viens no 1551. gada koncila1 noliku miem noteica, ka visās Krievijas pilsētās garīdznieku vadībā ir nepieciešams dibināt vīriešu un sieviešu patversmes, kurās to iemītnieki („темный богаделенный люд”) gūtu garīgo palīdzību un uzraudzību. Pie baznīcām sāka ierīkot atsevišķas ēkas nabadzīgajiem („убогие дома”), kas vēlāk pārveidojās par patversmēm, šajās mājās atrada patvērumu arī bērni. Šīs pareizticībā jau izveidojušās labdarības formas saglabāja arī vecticībnieki, pielāgojot tās tiem apstākļiem, kuros viņi bija nokļuvuši, glābjoties no vajāšanām svešatnē.
1 1551. gada koncils vai Simts nodaļu koncils (Стоглавый собор) – Krievu Pareizticīgās Baznīcas koncils, kas notika Maskavā, Kremļa Svētās Dievmātes Aizmigšanas katedrālē, no 1551. gada 23. februāra līdz 11. maijam. Tajā piedalījās cars Ioans IV (Bargais), augstākā garīdzniecība un Bajāru domes pār stāvji. Vecticībnieku vidē šī koncila lēmumiem (kopš 16. gs. beigām tos sauc par Simts nodaļu krājumu (Стоглав)) ir īpaša autoritāte, jo koncils ir no raidījis cara valdības sekularizācijas plānus, ieviesis dievkalpojuma rituālu unifikāciju, kā arī stingru reglamentāciju visās Baznīcas dzīves jomās, to skaitā dievkalpojumu grāmatu pārrakstīšanā, ikonu glezniecībā, baznīcu celtniecībā. Daļu no šiem nolikumiem atcēla 1666.–1667. gadu Maskavas koncils, kurā tika nolādēti „senie” rituāli un to sekotāji.
98 99
pārvaldīšana bija viens no draudzes stabilitātes galvenajiem nosacījumiem.8
Rīgas Grebenšcikova draudzes darbība 1920.–1930. gados parāda, kā vecticībnieki plānoja un īstenoja savu saimniecisko darbību, sasniedzot līdzsvaru starp „tīro” peļņu un labdarību, neatdalāmu vecticībnieku uz ņēmējdarbības sastāvdaļu. Grebenščikova draudzes locekļu pilnsapulču protokolu pārskati dod iespēju izsekot līdzi patversmes labdarības aktivitātēm, kuras nosacīti var sadalīt šādos pamatvirzienos.
1. Veco un slimo, sociāli neaizsargāto cilvēku iekārtošana patver-smē. Pretendēt uz patvērumu Grebenščikova draudzes patversmē varēja nespējīgi un slimi („дряхлые и немощные”) vecticībnieki no Rīgas un Rīgas apkaimes, tostarp arī no Jelgavas. Par uzņemšanu patversmē paši vecie cilvēki vai viņu radinieki ieguldīja tradicionālo „dāvinājumu” („дар”) – tas varēja būt finanšu ieguldījums skaidrā naudā vai testamentā atvē lēta summa, kā arī materiālās vērtības – visbiežāk ikonas vai ikonu apka lumi (оклады), krusti u. tml. Šādi dāvinājumi tika pasniegti patversmei vai lūgšanu namam ar nosacījumu, ka patversmē uzņemtā cil vēka apbedīšana notiks par patversmes līdzekļiem, kā arī tiks veikti visi nepieciešamie aizlūgumi (панихиды). Tā, piemēram, 1923. gada 16. janvārī patversmes valde piekrita pieņemt par pajumtniekiem K. Švenceru (dzimis 1858. gadā), kurš uzdāvināja 6000 rubļu ar nosacījumu, ka viņa bēres tiks sarīkotas par patversmes līdzekļiem, un J. Šabanovu (dzimusi 1863. gadā), kura uzdāvināja 1000 rubļu.9
Par patversmes administrācijas pragmatisko rīcību liecina arī tas fakts, ka starp patversmi un pilsētas valdi pastāvēja līgums, saskaņā ar kuru patversme ik gadus saņēma no pilsētas valdes līdzekļiem ievērojamu pabalstu pajumtnieku pārtikai (1922./1923. gados šī summa bija 50000 rubļu mēnesī).10 Patversmes pienākums bija katru nedēļu uzņemt Rīgas pilsētas sociālās apgādes nodaļas rekomendētus cilvēkus,
8 Kaut gan jāatzīmē, ka tieši ekonomiskie jautājumi bieži vien kļuva par draudzes iekšējo konfliktu iemeslu. Piemēram, 1920. gadu otrajā pusē izcēlās domstarpības starp Grebenščikova draudzes locekļiem un patversmes padomi. Kā formālais iemesls tika minētas nepilnības 1924. gada biedrības „Grebenščikova patversme Rīgā” statūtos. Tajos nebija strikti norādīts, kā notiek īpašuma sadale starp patversmi un lūgšanu namu. Konflikta risinājumā tika iesaistījās pat valsts iestādes. Skat.: LVVA, 2048. f., 1. apr., 35. 1., 4. lp., 8.–10. lp.
9 Turpat, 6. lp.10 Turpat, 4. lp.
Rīgas pilsētas administrācija akceptēja nespējnieku patversmes un slim nīcas juridisko statusu – lūgšanu nams formāli pastāvēja šo iestāžu paspārnē.
Tikai pēc 1905. gadā izdotā Nikolaja II manifesta vecticībniekiem pa rādījās iespēja leģitimizēt savas aktivitātes kā reliģiskās kopienas darbības virzienus. Saskaņā ar 1906. gada 17. oktobra noteikumiem vecti cībnieku draudzes varēja iegūt oficiālu juridiskas personas statusu. Rī gas vecticībnieku draudzi, kuras īpašumā tolaik atradās patversme, slimnīca un kapsēta, reģistrēja Rīgas Apgabaltiesā 1907. gada 1. novembrī. Arī pēc šo iestāžu pārstrukturēšanas 1924. gadā5 jaundibinātās biedrības „Grebenščikova patversme Rīgā” statūtos saglabājās norāde uz gal vena jiem labarības virzieniem: patversmes darbības mērķis ir abu dzimumu nabadzīgo vecticībnieku apgādāšana, ubagošanas apkarošana un rūpēša nās par patversmes iemītnieku garīgo un tikumisko vajadzību ap mieri nā šanu. Šiem nolūkiem draudze atver patversmes, slimnīcas un citas iestādes nespējniekiem un slimniekiem, kā arī par saviem līdzekļiem ap glabā mirušos draudzes locekļus.6
Rīgas Grebenščikova patversme kopš dibināšanas brīža bija neatņemama Grebenščikova vecticībnieku draudzes sastāvdaļa. Par to liecina arī patversmes pārvaldes administratīvā struktūra: valdē darbojās tie paši cilvēki, kuri bija Grebenščikova draudzes padomes sastāvā, jo sa skaņā ar statūtiem par patversmes biedrības locekli varēja kļūt tikai draudzes loceklis.7 Tāpēc, piemēram, sākot ar 20. gadsimta sākumu, draudzes kopsapulču un valdes sēžu protokolos ierakstīja gan ar patversmes, gan ar lūgšanu nama darbību saistītus lēmumus. Protams, patversmes darbība bija pilnībā atkarīga no draudzes labklājības līme ņa, jo līdzekļi tās uzturēšanai tika pārskaitīti gan no lūgšanu nama īpa šumu, gan no pašas patversmes īpašuma ienākumiem. Likumsa karīgi, ka racionālā saimnieciskā darbība un ekonomiski izdevīga īpašumu
5 Sakarā ar jaunā likuma par sabiedriskajām organizācijām stāšanos spēkā (1923. gadā) visām biedrībām un sabiedriskajām organizācijām vajadzēja pārreģistrēt savus statūtus. Skat.: LR likums par biedrībām un sabiedriskajām organizācijām // Valdības Vēstnesis, 1923, 18. jūlijs, Nr. 152.
6 Latvijas Valsts Vēstures arhīvs (LVVA), 2048. f. (Rīgas Grebenščikova vec ticībnieku draudze), 1. apr., 35. 1. (Draudzes un patversmes valdes sēžu pro tokoli), 1. lp.
7 Turpat, 2. lp.
100 101
neatkarīgi no viņu konfesionālās piederības. Nenoliedzami, pilsētas at balsts jūtami atviegloja patversmes finansiālo stāvokli. Patversmes iemītnieki dzīvoja un saņēma ēdienu par brīvu, lielajos baznīcas svētkos saņēma arī dāvanas, sagādātas par Grebenščikova draudzes savāktajiem ziedojumiem vai pilsētas valdes pabalstiem. Vienīgais „nāves grēks”, par ko izslēgšana draudēja ikvienam pajumtniekam, bija alkoholisms. Tādu grēcinieku vecticībnieku vidē nebija daudz (līdztekus smēķēšanai aizrau šanās ar alkoholu tika uzskatīta par Antikrista nodarbošanos un pa ļaušanos kārdinājumam, kas tika stingri sodīts, sākot ar dažāda veida baznīcas sodiem (епитимия) līdz pat ekskomunicēšanai no draudzes).11 Kopumā dzīves apstākļi patversmē acīmredzot bija vairāk nekā apmierinoši, jo tās iemītnieku skaits pastāvīgi pieauga.12
2. Palīdzība nabadzīgo vecticībnieku ģimeņu bērniem. Rīgas Gre benščikova draudzes paspārnē darbojās arī Rīgas nabadzīgo bērnu audzi-nāšanas biedrība, kas bija dibināta 1899. gadā (oficiāli atklāta 1900. gada 2. aprīlī), tās mērķis bija sniegt garīgu un materiālu palīdzību nabadzīgo vecticībnieku ģimeņu bērniem.13 Jāatzīmē, ka gan biedrības dibināšana, gan tās turpmākās aktivitātes bija atkarīgas tikai no ziedotāju labās gribas un labdarības.
1920. gadā Bērnu audzināšanas biedrība tika no jauna reģistrēta un līdz likvidēšanai 1940. gadā tā darbojās kā patstāvīga sabiedriska organizācija. Par biedrības darbības principiem ir zināms no tās statūtiem, kas 1924. gada redakcijā ir saglabājušies arhīva fondā.14 Iespējams, to pamatā bija pats pirmais patversmes nolikums, kas tika pieskaņots jaunajām juridiskajām normām. Šo statūtu izveidē piedalījās A. Dedusova
11 Tomēr protokolos ir fiksēti atsevišķi gadījumi, kad patversmes valde bija spiesta pieņemt lēmumus par izslēgšanu: piemēram, 1923. gada 11. decembrī par dzeršanu no patversmes tika izslēgti I. Žmogins un V. Rastopčina. Skat.: LVVA, 2048. f., 1. apr., 35. 1., 67. lp.
12 Nespējnieku skaits bija mainīgs dažādos gados un pat mēnešos. Patversme varēja nodrošināt uzturēšanos 200 cilvēkiem vienlaikus. Tas, ka no pretendentiem nokļūt Grebenščikova patversmē regulāri veidojās rinda, liecina par lielu pieprasījumu pēc patversmes pakalpojumiem. Skat.: LVVA, 2048. f., 1. apr., 35. 1., 31. lp.
13 LVVA, 2768. f. (Rīgas Grebenščikova nabadzīgo bērnu audzināšanas bied rība), 1. apr., 10. l. (Valdes sēdes protokoli), 3. lp.
14 Balstoties uz šiem statūtiem, Grebenščikova nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrība tika reģistrēta Rīgas Apgabaltiesā 1925. gada 14. janvārī. Skat.: LVVA, 2768. f. , 1. apr., 10. l., 72. lp.
(valdes priekšsēdētāja), V. Kudrjačovs (Grebenščikova draudzes garīgais tēvs un biedrības priekšsēdētājs), V. Antipovs, V. Fomins, P. Jupatovs, – cilvēki, kuri bija biedrības valdē kopš tās dibināšanas laika, kā arī aktīvi darbojās Grebenščikova draudzei pakļautajās organizācijās. Viņu ba gātā administratīvā darba pieredze un labā izglītība palīdzēja izveidot juridiski korektus statūtus, kuri ietvēra striktu biedrības darbības un pārvaldes reglamentēšanu. Bērnu audzināšanas biedrības darbības institucionālais iekārtojums liecina par to, ka paši vecticībnieki arvien vairāk centās juridiski formalizēt labdarības akcijas, lai, no vienas pu ses, savu darbību saskaņotu ar valsts likumdošanas prasībām, bet, no otras puses, cenšoties nodrošināt labdarības akciju pastāvīgumu, novērst to spontāno raksturu un veidot jaunas stratēģijas, kas tradicionālo labdarību izmantotu kā pastāvīgu finansiālu atbalstu jaunā tipa vecticībnieku organizācijām, tādām, piemēram, kā vecticībnieku bērnudārzi15 un skolas.
Biedrības statūti liecina par vecticībnieku prasmi savienot tradicionālo labdarības praksi ar jaunajiem uzņēmējdarbības virzieniem, kuriem statūtos ir izstrādāti konkrēti finansu pārvaldīšanas noteikumi. Jāuzsver, ka šo statūtu autori ir vecticībnieki ar diezgan lielu sabiedriskās un saimnieciskās darbības pieredzi, tādējādi šī dokumenta izstrā de ir pielīdzināma tāda parauga izveidošanai, kura mērķis bija nodrošināt patversmes (biedrības) nepārtrauktu darbību neatkarīgi no izmaiņām tās administrācijā. Tātad, lai nodrošinātu biedrības darbības nepārtrauktību un stabilitāti, tradicionālā labdarības prakse tika ietverta juridiski konvencionālā formā.
Biedrības statūti noteica, ka par finanšu avotiem varēja kļūt tikai dažādu veidu ziedojumi un ienākumi no biedrības kapitāla un īpašuma. Bērnu patversme orientējās galvenokārt uz ziedojumiem – gan no pri vātpersonām (dāvinājumi no testamenta mantojuma, ziedojumi saska ņā ar ziedojumu lapām un grāmatiņām), gan no publiskās ziedojumu vākšanas akcijām (tādām bija nepieciešama oficiāla pilsētas administrācijas atļauja, jo tās veica ārpus lūgšanu nama). Visus naudas līdzekļus iedalīja divos fondos – rezerves un izdevumu kapitālos. Rezerves kapitāls
15 No 1929. līdz 1940. gadam ar biedrības finansiālo atbalstu darbojās pirmais vecticībnieku bērnudārzs Rīgā. Detalizētāk par to skat. V. Jonītes rakstu šajā krājumā.
102 103
tais I. Zavoloko, kurš bija pilnvarots veikt visas ar biedrības statūtu pār re ģistrēšanu saistītās formalitātes un papildināt tos, ja to prasītu attiecīgās iestādes.19
3. Materiālās palīdzības sniegšana atsevišķiem sociāli nenodro-ši nātiem, nabadzīgiem Grebenščikova draudzes locekļiem un to ģi-menēm. Šādas akcijas Grebenščikova patversme veica kopā ar Grebenšči kova draudzes padomi, piesaistot līdzekļus no ziedojumiem lūgšanu namam. Nokļūstot sarežģītajā situācijā, nabadzīgie vecticībnieki un in valīdi mēdza vērsties patversmē, lūdzot naudu bērnu ēdināšanai vai radi nieku apglabāšanai. Acīmredzot šāda palīdzība draudzē tika praktizēta, lai novērstu „nesankcionētu” ubagošanu pie lūgšanu nama vārtiem. Vi sos dokumentos fiksētajos gadījumos Grebenščikova draudze nekad neatteica lūdzējiem un atvēlēja kaut vai nelielu naudas summu no drau dzes kasē esošiem līdzekļiem vai arī speciāli rīkoja ziedojumu vākšanu pēc dievkalpojuma, norādot nolūku – kam tiek vākti ziedojumi.20
Grebenščikova patversme palīdzēja trūcīgajām ģimenēm ar maizi, izdalot par brīvu ap 350 pūru graudu gadā un rīkojot ziedojumu vākšanu dievkalpojuma laikā (t. s. кружечный сбор).21 Nereti vecticībnieku draudzes locekļi ziedoja tai pārtikas produktus – parasti pašu izaudzētus kartupeļus, kāpostus, burkānus.22 Grāmatvedības dokumentos nav pie rakstīti visu šo ziedotāju vārdi, bet, pateicoties viņu palīdzībai, patversmei izdevās nodrošināt ar ēdienu ne tikai savus iemītniekus, bet arī Maskavas priekšpilsētas apkārtnes trūcīgākos bērnus, kuri nāca uz Grebenščikova patversmi, meklējot pēdējo cerību izdzīvot.
4. Garīgā un materiālā palīdzība citām Latvijas vecticībnieku drau dzēm. Neraugoties uz to, ka jau 1920. gadā bija izveidota vecticībnieku draudžu darbību koordinējoša organizācija, kuras galvenais uz de vums bija rūpēties par vecticībnieku draudžu vajadzībām (Latvijas Vec ticībnieku lietu centrālā komiteja23), mazās lauku vecticībnieku
19 LVVA, 2768. f. , 1. apr., 1. l, 60. lp.20 LVVA, 2048. f., 1. apr., 35. 1., 20.–42. lp.21 Русский ежегодник на 1940 год. Рига, 1939. C. 53.22 LVVA, 2768. f., 1. apr., 10. l., 72.a lp.23 Par Latvijas Vecticībnieku lietu centrālo komiteju sīkāk skat.: Пазухина Н.,
Подмазов А. Центральный комитет по делам старообрядцев Латвии // Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. C. 442.
deva procentus bankā, tā pamatsummas tērēšanu noteica biedrības pilnsa pulce. Izdevumu kapitāls sastāvēja no ienākumu summām un tika iz lietots biedrības vajadzībām saskaņā ar valdes rīkojumiem. Visus svarīgos jautājumus – par rezerves kapitāla izlietošanu, nekustamo īpašumu iegūšanu un atsavināšanu, statūtu grozījumiem – izšķīra biedru pilnsapulce ar 2/3 balsu vairākumu, tā ievēlēja arī biedrības valdi un goda biedrus.16
Biedrības aktivitāšu spektrs paplašinājās, pateicoties arī Ivana Zavoloko dalībai biedrības darbā 1930. gadu otrajā pusē. Viņa vadītajam jau niešu Krievu senatnes cienītāju pulciņam (Кружок ревнителей рус-ской старины, 1927–1940) bija līdzīgas intereses, un pulciņa iniciētā svēt dienas skolas un bibliotēkas atvēršana Grebenščikova draudzē vēl vairāk stiprināja saites starp abām organizācijām. Šīs sadarbības dēļ tika paplašināta Bērnu audzināšanas biedrības kultūrizglītojošā darbība. Šīs izmaiņas atspoguļojās 1938. gada statūtos: biedrības darbības veidiem tika pieskaitīti pulciņam raksturīgie pasākumi – priekšlasījumi, kursi, „vakari”, koncerti, labdarības tirdziņi, ekskursijas, periodisko un neperiodisko izdevumu izdošana. Liela uzmanība tika pievērsta sadarbībai ar citām organizācijām un iestādēm. Šī jaunā statūtu redakcija liecina par 1920. gados konstatētās tendences attīstību. Sākumā šauri lokālā draudzes biedrība pakāpeniski, vismaz tādā apjomā, cik tas tika atspoguļots dokumentos, pārorientējās uz starporganizāciju sadarbību, galvenokārt uzsverot kopīgo mērķi – labdarību un savstarpējo palīdzību.17
Zīmīgi, ka arī 1938. gada statūtu redakcijā juridiski konvencionālā formā ir nostiprinātas tradicionālās labdarības formas, piemēram, pants par biedrības savstarpējās palīdzības fonda dibināšanu un dažādu stipendiju piešķiršanu biedrības locekļiem.18 Iespējams, šis pants tika ie viests, vadoties pēc valsts iestāžu fondu stipendiju piešķiršanas prakses, kuru kā vecticībnieku tradīcijām vistuvāko ierosināja juridiski izglīto
16 LVVA, 2768. f., 1. apr., 1. l, 50. lp. Šajā statūtu redakcijā atspoguļojās arī jauna tendence vecticībnieku vidē – īpaši tiek norādīts biedrības valdes dzimtes sastāvs: 9 valdes locekļu skaitā ir jābūt 4 vīriešiem un 5 sievietēm. Kaut gan pati biedrības darbības specifika noteica nepieciešamību atzīt sievietes dalību tās aktivitātēs par līdzvērtīgu, tomēr kopumā sieviešu piedalīšanās sabiedriskajā darbā 20. gadsimta sākumā vecticībnieku vidē vēl bija diezgan netipiska parādība.
17 Turpat. 18 Turpat.
104 105
lielākoties nozīmēja vecticībnieku draudzes pašreprezentāciju pārējā krievu sabiedrības daļā (nav jāaizmirst, ka dalība šajās organizācijās bija saistīta arī ar biedru naudu maksāšanu, kas, domājams, Grebenščikova draudzei bija arī prestiža jautājums). Vecticībnieku klātbūtne krievu organizācijās dažreiz aprobežojās ar draudzes pārstāvju formālu piedalīšanos oficiālajās sēdēs. Par to liecina tas, ka šo pārstāvju vidū faktiski bija vienas un tās pašas personas – V. Antipovs, V. Fomins, V. Kudrjačovs.26 Tomēr šādas sadarbības fakts norāda uz to, ka Rīgas vecticībnieki apzināti nenoslēdzās no pārējās sabiedrības. Tieši otrādi, savās tradicionālajās praksēs viņi centās reprezentēt sevi kā pilntiesīgus un nozīmīgus (vispirms jau ekonomiski ievērojamus) sabiedrības locekļus. Labdarība šajā gadījumā ir aplūkojama kā instruments, kas veicināja vecticībnieku integrāciju sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, vienlaikus iezīmējot viņu īpašo statusu sabiedrībā. Piedalīšanās labdarības akcijās liecina par vecticībnieku gatavību uzņemties atbildību par sabiedrības labklājību, tas savukārt, vismaz vecticībnieku acīs, vēlreiz pierādīja viņu reliģiskās pārliecības patiesību un spēku. Ņemot vērā, ka vecticībnieki ilgu laiku nav izvirzījuši par savu mērķi misionāru darbu (kaut gan reliģiskās tradīcijas vājināšanās pazīmes tika konstatētas jau 1920. gados, tomēr risinājuma ceļus tikai iesāka meklēt), tieši labdarības joma bija tā, kurā vecticībnieki varēja visadekvātāk pašrealizēties kā reliģiskās kopienas pārstāvji.
6. Labdarības palīdzība cietumniekiem. Saskaņā ar pareizticīgo (ko pumā – ar kristīgo) tradīcijām, ticīgā cilvēka pienākums ir ne tikai ziedot nabadzīgiem, paēdināt izsalkušo un apģērbt kailo, bet arī apmeklēt cietumā esošos. Arī vecticībnieki pildīja šo ieradumu – katru gadu, Lieldienas gaidot, tika rīkota ziedojumu vākšana dāvinājumiem („на красное яичко”, t. i., sarkanajām olām), ko saņēma cietumnieki. Šādos apmeklējumos ieslodzītajiem tika dāvināta arī pārtika.27
26 Turpat.27 1923. gadā Rīgas Grebenščikova draudze pat grasījās atvērt lūgšanu na
mu Rīgas centrālcietumā, pēc palīdzības vēršoties pie Saeimas deputāta vecticībnieka Meletija Kaļistratova. Pēc ilgām pārrunām 1925. gada beigās cietums piekrita piedāvāt telpu šīm vajadzībām, bet atteicās to iekārtot. Lai pielāgotu šo telpu lūgšanu namam, Rīgas Grebenščikova draudze ziedoja 6420,5 rubļu, kā arī uzdeva V. Kudrjačovam un V. Deņisovam veikt nepieciešamus darbus. Skat.: LVVA, 2048. f., 1. apr., 37. l., 34. lp.
draudzes regulāri vērsās pie Rīgas Grebenščikova draudzes ar lūgumiem pēc garīgas (ja pietrūka garīgo tēvu) un ma teriālas (grāmatu, ikonu trūkums, lūgšanu namu avārijas stāvoklis) palīdzī bas. Lai gan bez priesteru virziena vecticībnieku draudzēm nav institucionalizētas Baznīcas hierarhijas, vēsturiski dažām draudzēm pie šķīra īpašu autoritāti garīgo jautājumu jomā, ko brīvprātīgi atzina arī pārējās vecticībnieku draudzes. Tās ir vecticībnieku specifiskās paš organizācijas sekas, kas lie cina, ka arī institucionālās hierarhijas ne esa mības situācijā garīgās prak ses imanentā loģika noved pie alterna tīvu hierarhisku formu izveidošanās.
Rīgas Grebenščikova draudze kā skaitliski lielākā draudze Latvijā vēs turiski bija ieguvusi stabila, ekonomiski un politiski neatkarīga vec ticībnieku centra autoritāti. Tai bija seni sakari ar vecticībniekiem gan Maskavā, gan Lietuvā un Polijā; tā prata atrast kopīgu valodu arī ar pilsētas administrāciju. Tāpēc, cerot uz Rīgas Grebenščikova draudzes ietekmīgumu un spēku, nelielās vecticībnieku draudzes labprātāk uzticēja tai savas problēmas un gaidīja atbalstu drīzāk no tās un nevis no Vecticībnieku centrālās komitejas, kas savā darbībā nereti bija politiski angažēta. Rīgas Grebenščikova draudzes padome saņēma ārkārtīgi daudz lūgumu, un visus izpildīt nebija iespējams. Tomēr draudze centās izdarīt pēc iespējas vairāk: pēc dievkalpojumiem rīkoja ziedojumus lūg šanu namu remontiem un atjaunošanai, dāvināja citām draudzēm lūg šanu grāmatas un ikonas, palīdzēja tām ar padomu garīgajos jautājumos.24
5. Sadarbība ar citām labdarības organizācijām, kas rūpējās par krievu minoritātes pārstāvju labklājību. Šāda sadarbība tika balstīta uz savstarpējās palīdzības principiem, vismaz deklaratīvi noliedzot jebkādas politiskās intereses. Rīgas Grebenščikova draudze centās iesaistī ties dažādu biedrību darbībā, īpaši, ja tā atbilda Grebenščikova drau dzes veikto labdarības akciju raksturam. Tā, piemēram, 1920. gadu pir majā pusē draudze iestājās Ārpuspartiju Krievu slimnīcu biedrībā, Krievu sko lotāju savienībā, nacionāli demokrātiskajā savienībā „Krievu pilsoņi Lat vijā”.25 Protams, šāda aktīva līdzdarbošanās sabiedriskajās organizācijās
24 Par finanšu palīdzību Ludzas, Jaunmuižas, Gajokas vecticībnieku draudzēm (ziedojumi, ikonu un lūgšanu grāmatu dāvinājumi) skat., piemēram: LVVA, 2048. f., 1. apr., 37. l., 34. lp.
25 LVVA, 2048. f., 1. apr., 37. l., 12. lp.
106 107
ticība” tika nodota nākamajai paaudzei ne tikai rituālos, bet arī ikdie nas dzīves paražās, kā arī saglabājot īpašu pietāti pret ģimenes relikvijām. Tāpēc vecticībnieku attieksme pret dāvinājumiem dievnamam bija īpa ša: ziedojot sakrālos priekšmetus dievnamam, ticīgais savu lūgšanu saik ni ar senčiem simboliski uztic pārējiem draudzes locek ļiem un uz liek tiem rūpes par šīs saiknes turpmāku uzturēšanu lūgšanās, kā arī uztic tiem uzturēt aizlūgumos atmiņu par sevi, par savu dvēseli.
Vēl viens dāvinājumu veids, kas kļuva par svarīgāko vecticībnieku draudžu un patversmju finansu avotiem, bija testamentos atvēlētās sum mas vai īpašums. Bieži, lai tas pārietu draudzes īpašumā, vajadzēja veikt vairākas juridiskās formalitātes vai testatoru rīkojumus. Protams, lai izpildītu visus šādus nosacījumus juridiski precīzi, bija nepieciešama pieredze un iemaņas šajā jomā. Viens no tādiem cilvēkiem bija Vasilijs Kudrjačovs, kura vārds arī ir draudzes pastāvīgo ziedotāju skaitā. Pateicoties viņa darbībai, 1921. gadā Grebenščikova draudze un patversme ieguva ievērojamus līdzekļus pēc M. Zaicevas testamenta. Viņš pār deva testatores nekustamo īpašumu Rīgā (28 000 rbļ.) un Jelgavā (60 000 rbļ.), mēbeles (8 435 rbļ.), saņēma procentus pēc ķīlu zīmes – pēc visiem ne pieciešamiem izdevumiem palika summa 111 695 rubļi. Saskaņā ar testamentu šī nauda tika sadalīta starp Grebenščikova draudzi (35 775 rbļ.), Grebenščikova skolu (17 887 rbļ.), patversmi (17 887 rbļ.) un lūgšanu namu (vērtspapīri, ikonas). Kā atlīdzību V. Kud rjačovs saņēma 4000 rbļ., no kuriem 2500 viņš tūlīt ziedoja Liel dienu olu iegādei („на красное яичко”) patversmes iemītniekiem un Grebenščikova skolas audzēkņiem.31
Vecticībnieku labdarību vēsturiski ar pietāti akceptēja arī pārējā sa biedrība un valsts iestādes. Pomoras novirziena vecticībnieki saglabāja saikni ar sabiedrību un apzināti nav atteikušies no integrācijas
в МалютинскоЮдинской старообрядческой общине // Староверие Латвии. Ответственный редакторсоставитель Иванов Ил. Рига, 2005. С. 138– 141. Vecticībnieku izšuvumi ir labi saglabājušies vēl līdz mūsdienām, tiesa, tos arvien biežāk demonstrē kā muzeju eksponātus. Ar vecticībnieku sadzīves iekārtu var iepazīties Rēzeknes Vecticībnieku draudzes Vecticībnieku kultūras muzejā, kā arī etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā „Slutišķu sādžā” Nau jienes pagastā.
31 LVVA, 2048. f., 1.apr., 37. l., 84. lp.
7. Labdarība kā dāvinājums draudzei. Vecticībnieki uztvēra ziedojumu vākšanu kā simbolisku aktu, un tās apjoms principā nebija svarīgs – Dieva priekšā visi ziedojumi ir vērtīgi. Tāpēc arī labdarība izpaudās dažādos līmeņos: individuālajā – kā palīdzība savam tuviniekam, savam dievnamam, patversmei utt.; kolektīvajā – kad draudze palīdz citai draudzei kopumā vai saviem locekļiem, taču vēl bija arī „garīgā” labdarība – dāvinājums, kas adresēts tieši Dievam. Tradicionāli šie dāvinājumi tika veltīti dievnamam kā sakrālai vietai, kur „koncentrējas” žēlastība un kura ar lūgšanām nodrošina mistisko saikni starp dāvinātāju, dāvinājumu un Dievu.
Parasti vecticībnieku vidē bija pieņemts dot dāvinājumus lūgšanu namam ar nosacījumiem, ka par dāvinātājiem regulāri tiks noturēti aizlūgumi. Dāvinājumi bieži bija ikonas, ikonu apkalumi, kioti, krusti un citi baznīcas kulta piederumi, kas varētu glabāties lūgšanu namā. Tā, piemēram, 1923. gada 3. aprīlī Jevdokija Dolbežova uzdāvināja Dievmātes ikonu (Неопалимая Купина) ar nosacījumu, ka ikona pastāvīgi atra dīsies Grebenščikova lūgšanu namā un regulāri tiks noturēti aizlūgumi par mirušajām jaunavām Jeļizavetu, Annu, Praskoviju un pēc nāves – arī par Jevdokiju.28 1924. gada 1. janvārī Grebenščikova lūgšanu nams pieņēma dāvinājumu no Fatīnijas Bočarņikovas – Kristus Pestītāja ikonu sudraba apkalumā un kiotā, ar nosacījumu, ka tā paliks lūgšanu namā mūžīgi.29 Šādi dāvinājumi ir izskaidrojami ne tik daudz ar ticīgo savtīgajiem nolūkiem, cik ar vecticībnieku uzskatu savdabību. Savā reliģiskajā praksē viņi piešķir lielu uzmanību ticības izpausmes materiālajai formai. Dievkalpojuma grāmatas un ikonas vecticībnieku ģimenēs ir ne tikai neitrāli kulta priekšmeti, bet tās glabā atmiņu arī par to iepriekšējiem īpašniekiem. Rūpīgā attieksme pret visām senajām lietām ikdienas apritē – gan pret grāmatām un ikonām, gan pret tērpu un sadzīves priekšmetiem – ir saistīta ar šo lietu simbolisko saikni ar senču pieredzi, kura vienmēr saglabā ideālā parauga vērtību.30 „Senču
28 Turpat, 11. lp.29 LVVA, 2048. f., 1.apr., 37. l., 25. lp. 30 Par to, cik rūpīgi vecticībnieki saglabā gan kulta priekšmetus, gan sadzī
vē izmantojamas lietas, liecina bagātas rokrakstu bibliotēkas vecticībnieku drau dzēs un vērtīgie senie manuskripti, kuri joprojām tiek izmantoti dievkalpojumos. Skat., piemēram: Маркелов Г.В. Латгальская рукописнокнижная традиция. Материалы к изучению // Труды Отдела Древнерусской Литературы. Т. 42. Ленинград, 1989. C. 410–438. Жилко И. Старопечатная книга
108
мируясь в тех социокультурных условиях, в которые по падали староверы, вынужденные уходить из родных мест.
Опыт благотворительной деятельности Гребенщиковской об - щины в 1920–1930-х годах показывает, какие формы благотвори-тельности складывались в этот период в работе Гребенщиковской богадельни, Общества по воспитанию бедных детей, в рамках по-мощи латвийским старообрядческим общинам и сотрудниче ства с русскими общественными организациями, а также в прак тике частных жертвователей – прихожан общины.
pastā vo šajā sociālajā kārtībā 20. gadsimta 20.–30. gados, kad viņi ie guva ju ridiski leģitīmu statusu. Pašu vecticībnieku tradīcijā labdarība ieguva īpašu simbolisku nozīmi, jo šādai palīdzībai bija īpaša motivācija, kura arī atšķīra labdarību no sociālās palīdzības tās sekularizētajā formā. No vienas puses, vecticībnieki sekoja pareizticības tradīcijā sakņotai pārlie cībai par to, ka dāvinājums, nesavtīgs ziedojums ir ceļš uz dvēse les pestīšanu, kas arī ir galvenā motivācija ar savu individu ālo iegul dījumu piedalīties kopīgās labklājības veidošanā. Ticīgā materi ālais ieguldījums simboliski pārvēršas par līdzdalību kopīgajās lūg šanās. No šāda skatpunkta draudzes materiālā labklājība simbolizē vecticības patiesību un autoritāti šajā, laicīgajā pasaulē. No otras puses, labdarībā atspoguļojas vecticībnieku attieksme pret apkārtējo „ārējo” pasauli. Peļņa, kas gūta „Antikrista valdītajā pasaulē”, ir jāizmanto cīņai ar to un savu pozīciju nostiprināšanai. Bezpriesteru virziena vecticībnieku pieredze rāda, ka tieši šāda nostāja ļauj pārdzīvot visnežē līgākos iero bežojumus un vajāšanas.
надежда ПазУХИна
Благотворительность в культуре староверия: опыт Рижской Гребенщиковской общины
в 1920–1930-х годах
Благотворительность в традиции русского православия пред - ставляет собой одну из устойчивых культурных практик, обеспе-чивающих не только социальную сплоченность религиозной группы, материальную взаимопомощь и моральную поддержку, но и форми-рующих особый опыт духовного служения через служение ближ нему. Эти практики сохраняются и в культуре староверия, транс фор-
110 111
locekle Vera Kokoreva 1900. gadā ziedoja 4000 rubļu. 1900. gada 28. mar ta biedrības valdes sēdē tika ņemti uzskaitē pirmie 23 patversmes iemītnieki – 10 meitenes un 13 zēni. 1900. gada 2. aprīlī biedrības valde svinīgi atvēra patversmi, un garīgais tēvs Pjotrs Rožanskis iesvētīja patversmes telpas un vadīja lūgšanu. Latvijas valsts arhīva 2768. fonda 10. apraksta 1. lieta glabā skopas ziņas par patversmes iemītnieku skaitu un tā izmaiņām gadu gaitā: jau 1900. gada septembrī patversmes iemītnieku skaits ir pieaudzis līdz 32: 14 meitenēm un 18 zēniem; 1903. gadā bi ja 40 iemītnieki; 1912. – vairāk nekā 50 iemītnieku. Līdz 1919. gadam patversmē kopumā bija uzturējušies 398 zēni un 418 meitenes.1 1919. ga dā patversme pāriet Rīgas pilsētas Sociālās apgādes nodaļas pārziņā, taču tās darbības nodrošināšanā turpina piedalīties vecticībnieku draudze un arī nosaukums netiek mainīts. Vecticībnieku draudze, atbilstoši līgumam ar Rīgas pilsētas Sociālās apgādes nodaļu, izīrē patversmes telpas un inventāru Rīgas pilsētai, saņemot ikmēneša īres maksu 275,00 latu, kas savukārt tiek izmantoti patversmes uzturēšanas un trūkumcie tēju ēdināšanas izdevumiem. Latvijas statistiskās gada grāmatas laika posmā no 1922. gada līdz 1936. gadam rāda Vecticībnieku bērnu patver smes Rīgā, L. Maskavas ielā 112, audzēkņu skaitu pa gadiem: 1922. gadā – 76 bērni, 1924. gadā – 72, 1925. gadā – 64, 1926. gadā – 62, 1927. gadā – 56, 1928. gadā – 71, 1929. gadā – 60, 1930. gadā – 70, 1931. gadā – 65, 1932. gadā – 66, 1933. gadā – 68, 1934. gadā – 70, 1935. gadā – 61 un 1936. gadā – 38 bērni.2 Patversmi atvēra un līdz pat savai aiziešanai mūžībā 1930. gada 4. novembrī to vadīja Grebenščikova draudzes nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrības valdes locekle – pārzine Akilina Dedusova (dzimusi Borodina) un tajā strādāja divi skolotājiaudzinātāji. 1925. gada pārskatā norādīts, ka patversme atradās mūra ēkas ceturtajā stāvā un patversmei nav ne sava rotaļu laukuma, ne arī dārza. 1925. gada 31. jūlija Rīgas pilsētas valdes sēdes protokolā ir norāde, ka „vecticībnieku bērnu patversmē ir nepietiekams gultu skaits bērniem un bērni guļ pa diviem vienā gultā”, savukārt Sociālās apgādes nodaļai uzkrājumā ir neizmantotas gultas, kas nododamas patversmei.3
Šī paša iemesla dēļ turpmākās vasaras Vecticībnieku patversmes bērniem (vēlākos gados arī bērnudārza audzēkņiem) atveseļošanās nolūkos
1 LVVA, 2768. f., 10. apr., 1. lieta.2 Latvijas statistikas gada grāmata. Rīga, 1922.–1939.3 LVVA, 2881. f., 1. apr., 555. l.
Vineta Jonīte
Rīgas Grebenščikova draudzes nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrības
bērnudārza vēsture
Rīgas Grebenščikova draudzes nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrības bērnudārzs ir viens no Rīgā 20. gadsimta sākumā esošajiem sabiedrisko organizāciju bērnudārziem, kura izveides nepieciešamība un darbības vēsture ir ne tikai rūpes par vecticībnieku draudzes nabadzīgo ģimeņu bērniem, bet tas apliecina arī Rīgas vecticībnieku draudzes rūpes bērnu audzināšanā un izglītošanā.
1888. gadā vecticībnieks Grigorijs Laškovs testamentā novēl 3000 rub ļu bērnu patversmes celtniecībai. Vecticībnieki Simeons Popovs, Vera Ko koreva un Kiprians Makarovs izstrādāja „Nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrības” nolikumu. Nolikuma sešās nodaļās atspoguļoti biedrības mērķi, tās sastāvs, noteikta biedrības līdzekļu ieguves un izlietojuma kārtība, biedrības darbības virzieni un sanāksmju norišu reglamentācija, ietverti biedrības likvidēšanas noteikumi. Biedrība dibināta nolūkā sniegt garīgu un materiālu palīdzību, audzināšanu un pamatizglītību abu dzimumu vecticībnieku bērniembāreņiem no piecu gadu vecuma līdz 14 gadu sasniegšanai (līdz 15 gadu sasniegšanai meitenēm), „pieradinot darināt rokdarbus, ierādot amatu, iemācot gatavot ēst, mazgāt un kopt veļu, kā arī to, kā pareizi vadīt mājsaimniecību” (nolikuma 2. paragrāfs). Šobrīd Grebenščikova draudzes nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrības nolikuma pirmā drukātā versija, ko 1899. gada 7. martā apstiprinājis Iekšlietu ministra biedrs kņazs A. Oboļenskis un ko 1899. gada 27. martā cenzūra atļāvusi drukāt Kalniņa un Deičmana drukātavai, glabājas Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes bibliotēkā.
Pirmā biedrības sēde notika 1899. gada 31. oktobrī, taču oficiāli bied rību reģistrēja 1900. gada 2. aprīlī. Svētdienas dievkalpojumu laikā biedrība aicināja vecticībniekus ziedot ziedojumu krūzītēs naudu patver smes vajadzībām. Jau pirmās sēdes laikā valdes locekļi patversmei saziedoja 2800 rubļu. Lai pietiktu līdzekļu un patversmi varētu atvērt, valdes
112 113
1930. gadā bērnudārza vadību pārņēma divgadīgos pedagoģiskos kursus beigusī skolotāja Anastasija Markova (dzimusi Varunga). Audzēkņu bezatlīdzības medicīnisko uzraudzību un aprūpi visus bērnudārza darbības gadus (1929–1940) veica ārsts Romans Dementjevs, kuram Gre benščikova draudzes nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrības valde savos darbības pārskatos vienmēr izteikusi sirsnīgu pateicību. 1931. gadā atvēra vēl vienu bērnudārza grupu un 1931. gada 1. oktobrī darbā pieņēma skolotāju – Frēbeļa kursus beigušo Natāliju Meščenkovu, kas ieviesa jauninājumu bērnu ikdienā – spēles un rotaļas pagalmā. Vecākajā grupā nodarbības vadīja bērnudārza vadītāja Anastasija Markova un jau nākajā grupā – skolotāja Natālija Meščenkova. 1936. gada 1. oktobrī ilgstošas slimošanas dēļ un sakarā ar pārcelšanos uz Daugavpili darbu pārtrauc A. Markova un viņas vietā tiek pieņemta Glikērija Orlova. Rīgas Grebenščikova draudzes nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrība savos darbības pārskatos norādīja, ka tikuši vākti ziedojumi patversmes un bērnudārza uzturēšanai, gan organizējot mantu loterijas, gan vācot līdzekļus, izdalot speciālas ziedojumu listes, vai arī dievkalpojumu laikā lūdzot ziedojumus krūzītēs. Valde janvārī rīkoja bērniem arī Ziemassvētku labdarības pasākumus, kuros bērni saņēma dāvanas un našķus: maisiņus ar konfektēm un prjaņikus, savukārt bērni bija sagatavojuši mākslinieciskus priekšnesumus.
1936. gada 17. septembrī Rīgas Grebenščikova draudzes nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrība organizēja aizlūgumu un svinīgu bērnudārza jaunās ēkas pamatakmens ielikšanu, līdzekļus tās celtniecībai bija ziedojis valdes priekšsēdētājs Vasilijs Kudrjačovs. 1937. gada 24. oktobrī notika bērnudārza jaunās divstāvu ēkas svinīga iesvētīšana, klātesot ne tikai ēkas celtniecības līdzekļu ziedotājam Vasilijam Kudrjačovam, Rīgas Grebenščikova draudzes nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrības valdei, bērnudārza darbiniekiem, audzēkņiem un viņu vecākiem, ēkas arhitektam Vladimiram Šervinskim, bet uz svinīgo atklāšanu bija aicināti arī Rīgas pilsētas mērs P. Liepiņš, tautskolu inspektors A. Millers un Rīgas pilsētas Aizgādības valdes bērnu inspektors R. Kļaviņš. Biedrības valdes priekšsēdētājs lasīja referātu par biedrības darbību, pilsētas galva P. Liepiņš teica runu un bērnudārza audzēkņi izpildīja Latvijas himnu. 25. oktobrī bērnudārzs uzsāka darbu jaunajā ēkā. Latvijas statistikas gada grāmatas laika posmā no 1927. gada līdz 1939. gadam atklāj
bija iespēja pavadīt vasaras mēnešus Mežaparkā – pilsētai piederoša jā Bērnu vasaras kolonijā bijušā Zooloģiskā dārza teritorijā – Ķīšezera krastā.
Rīgas Grebenščikova draudzes nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrība jau 1926. gadā valdes sēdēs izskata vecticībnieku sūdzības par attieksmi pret viņu bērniem Rīgas pilsētas Sociālās apgādes nodaļas Maskavas priekšpilsētas mazbērnu novietnēs un bērnudārzos un lemj par nepieciešamību veidot savu – vecticībnieku – bērnudārzu, kurā tiktu uz ņemti vecticībnieku bērni, kā arī strādātu pirmsskolas audzināšanas izglītību ieguvušas audzinātājas, kas spētu bērnus sagatavot skolai. Bērnudārza izveidē aktīvi iesaistās arī patversmes vadītāja Akilina Dedusova.
Nekustamo īpašumu – zemi un ēku – biedrībai 1926. gadā dāvināja Vasilijs Kudrjačovs (1869–1941) – Grebenščikova draudzes padomes priekšsēdētājs (1924–1940), „Nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrī bas” un Grebenščikova nespējnieku patversmes aizgādnis. 1931. gadā Va silijs Kudrjačovs ziedoja 600 latu bērnudārza telpu remontam. 1929. ga da 1. decembrī svinīgi tika atvērts Rīgas Grebenščikova draudzes nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrības bērnudārzs L. Maskavas ielā Nr. 101. Bērnudārzu atvēra un tā pirmo darba gadu vadīja Taīsija Ivanova. Decembrī bērnudārza vienīgo grupu apmeklēja 16 bērni, pavasarī – 29, bet gada beigās – jau 42 bērni. Bērni atradās bērnudārzā no pulksten 8.00 līdz 16.30, nepieciešamības gadījumos bērniem bija iespēja palikt bērnudārzā līdz pulksten 18.00, saņemot trīsreizēju bezmaksas ēdināšanu. Pārskatos par bērnudārza darbību norādīts, ka brokastīs pulksten 9.00 bērni saņēma tēju ar sviestmaizi vai marmelādi, pusdienās pulksten 12.00 saņēma trīs ēdienus un pulksten 15.00 launagā – vienu ēdienu, kā arī svētdienās vai dienās, kad bērnudārzs nestrādāja (infekcijas slimību izplatības novēršanas un to karantīnas gadījumos), bērniem līdzi uz mājām izsniedza 200 gramus baltmaizes. Dienas režīms paredzēja arī pusotras stundas ilgu dienas miegu pēc pusdienām. Pirmajā darbības gadā tika iekārtoti bērnu rotaļu laukumi un nojumes. Rīgas pilsētas valde bērnudārza uzturēšanai atvēlēja 1900 latu (ko dažādā apjomā turpināja piešķirt arī nākamajos gados) un pēc Rīgas Grebenščikova draudzes nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrības lūguma atļāva biedrībai izplatīt īpašas ziedojumu lapas, par kurām tā papildus ieguva 1210 latus. Sakarā ar bērnudārza vadītājas T. Ivanovas laulībām un darba pārtraukšanu
115
евгения назаРова
Рижские староверы в понимании новой власти: 1940–1941, 1944 гг.
В основе данного исследования – реферат В. Д. БончБруевича, составленный по очерку, точнее, докладной записке русского писателя Н. С. Лескова «Отчет о раскольниках города Риги, преимущественно в отношении к школам», который хранится в Научном Рукописном отделе Российской Государственной библиотеки. Реферат сохранился в рукописном варианте на листках бумаги разного размера и в машинописном виде.1
Инспекторскую поездку в Ригу для изучения вопроса о школьном образовании детей староверов Лесков совершил в 1863 г. в качестве чиновника Министерства Народного просвещения. В том же году его «Отчет» министерству был напечатан в количестве 60 (или 80) экземпляров для служебного пользования. Талантливый писатель Н. С. Лесков сумел так красочно показать, что длительное противостояние светских властей империи и Православной Церкви желанию староверов учить детей по своим канонам привело к нищенскому положению большого числа русских жителей Риги, к росту количества бездомных и беспризорных, к развитию детской преступности и проституции и т. п., что его «Отчет» взбудоражил российское общество, вызвал негодование православного духовенства и был запрещен к публикации на многие десятилетия.2 После 1863 г. этот труд в виде очерка был напечатан лишь в
1 Научный Рукописный отдел Российской Государственной библиотеки (РГБ), ф. 369 (В. Д. БончБруевича), оп. 68, ед. хр. 8. Л. 10–24.
2 Много лет спустя сам Н. С. Лесков рассказал о предыстории своей поездки в Ригу, о реакции в России на его отчет и сожалел о том, что судь ба мизерного тиража (он называет 80 экз.) неизвестна, а этот труд забыт в российском обществе. Вместе с тем, записка была почти целиком переведена на немецкий язык, напечатана в книге остзейского публициста и историка Юлиуса Экгарта и была расценена в Прибалтике и Германии как точно отразившая ситуацию. Правда, сам Лесков уже путает даты, говоря, что поездка и публикация отчета состоялись в 1862, а не в 1863 г. См.: Лесков Н. С. Народники и расколоведы на службе (Nota Bene
Grebenščikova draudzes nabadzīgo bērnu audzināšanas biedrības bērnudārza audzēkņu skaitu pa gadiem: 1927. gadā – 32, 1928. gadā – 58, 1929. gadā – 79, 1930. gadā – 79, 1931. gadā – 104, 1932. gadā – 120, 1933. gadā – 117, 1934. gadā – 119, 1935. gadā – 127 un 1936. gadā – 109, 1937. gadā – 132, 1938. gadā – 133 un 1939. gadā – 133.4
винета ЙонИте
История детского сада при Рижском Гребенщиковском обществе по воспитанию
бедных детей
В статье рассматривается история создания детского сада при Гребенщиковском обществе по воспитанию бедных детей в Риге, основанном в 1899 году с целью оказания духовной и мате риальной помощи детям-староверам из бедных семей и сиротам. Общество действовало на основе благотворительности и продол жало свою ра боту до 1940 года.
Детский сад при обществе был открыт 1 декабря 1929 года и стал первым такого рода дошкольным образовательным учрежде-нием рижских староверов. Благоустройству и успешной деятель-ности детского сада во многом способствовал Василий Григорьевич Кудрячев (1869–1941). Дети староверов посещали детский сад бес-платно, были обеспечены питанием, с детьми старшего возраста проводили занятия по подготовке к школе.
4 Latvijas statistikas gada grāmata. Rīga, 1922.–1939.
116 117
благодеяние сделала октябрьская революция, навсегда отделив школу от церкви, этого пристанища всякого мракобесия». Причем некоторые нелицеприятные оценки Лескова староверов (например, «раскол свиреп и мстителен»4) в реферате отсутствуют. Под текстом реферата дата – 8 июня 1944 г.
Чтобы понять, для чего один из ведущих деятелей Компартии в разгар войны занялся изучением труда русского писателя о рижских староверах почти столетней давности, следует вспомнить сле дующие моменты.
С начала XX в. В. Д. БончБруевич был главным специалистом РСДРП по вопросам взаимоотношения Церкви и общества, он по заданию партии делал обзоры положения староверов в Российской империи, давал оценки их разногласиям с Православной церковью и царскими властями. Партийные лидеры, исходя из факта притеснений староверов со стороны православных иерархов и светских властей, рассматривали староверческую бедноту как потенциальных сторонников в борьбе РСДРП против самодержавия. Но конкретно о рижских староверах БончБруевич упоминал лишь мимоходом, при перечислении разных староверческих толков.5
По тому, как написан рассматриваемый реферат, можно сказать, что В. Д. БончБруевич составлял его не в целях самообразования и не в качестве записки в ЦК партии. Аннексия стран Балтии совпала по времени с пиком борьбы с «религиозными пережитками» в Советском Союзе. В сфере антирелигиозного воспитания и про паганды первостепенную роль играл «Союз воинствующих безбож ников» и его печатные издания: газета и журнал «Безбожник» и журнал «Антирелигиозник». Причем, авторы статей в них для убедительности обращались и к классическим литературным произведениям, включая рассказы и письма Н. С. Лескова.6
4 Лесков Н. С. Указ. соч. С. 458.5 БончБруевич В. Д. Самодержавие и сектантство // БончБруевич В.
Д. Избранные труды. Т. 1. М., 1959. С. 90102; Раскол и сектантство. Доклад второму очередному съезду РСДРП // Там же. С. 153–188; Сектантство и старообрядчество в 1й половине XIX века // Там же. С. 265–307; Из письма в Народный комиссариат внутренних дел тов. Бородиной. 9 ию ля 1929 г. // Там же. С. 364–372 и др.
6 См.: Ковалев И. Запрещенные рассказы Н. С. Лескова // Безбожник, 1941, № 7, 16 февраля. С. 2.
1996 г., вместе с другими произведениями писателя о староверах в тридцатитомном собрании сочинений Лескова. С конца 90х годов прошлого века эта работа стала широко цитироваться историками разных стран.3
Работа Лескова, несмотря на конкретное название, имеет многоплановый характер, так как помимо школ в ней рассматривались и другие важные вопросы истории, быта, особенностей мировоззрения, отношения к браку и семье староверов Риги. БончБруевич же сконцентрировал внимание только на отражении нищенского положения староверческой бедноты, особенно бездомных и обездоленных детей, на невозможности получить начальное образование, которое позволило бы им выбиться в люди. Со ссылкой на Лескова он подчеркивал, что староверы понимали необходимость современного образования для своих детей, ибо сохранявшееся невежество не позволяло бедноте выбраться из трущоб. Суть разногласий с властями заключалась в требовании староверов, чтобы их детей учили по староверческим традициям, чтобы основы христианской веры преподавали учителя из их среды и без всякого вмешательства православного духовенства. От такой ситуации страдали, в основном, дети бедноты, ибо зажиточные староверы имели другие возможности учить своих наследников. Однако имен но староверыбедняки, вырастая, приобретали «двойную долю сна добий, возбуждающих ненависть» их к правительству. От себя БончБруевич добавлял, что в условиях царской России «тупоголовые бюрократы и злостные попы всячески препятствовали» ста роверам в открытии своих школ, «глушили всякое стремление народа к образованию». Реферат БончБруевича заканчивался фра зой: «в свете истории становится особенно видным, какое великое
к воспоминаниям П. С. Усова о П. И. Мельникове) // Лесков Н. С. Собрание сочинения в 11 томах. Т. 11. М., 1958. С. 34–44.
3 Федосова Э. П. От беглых староверов к государственной колонизации // Диаспоры, 1999, № 2–3. С. 75; Морозова Н. Старообрядчество в оцен ке Н. С. Лескова // Труды по русской и славянской филологии. Новая серия IV: Русские староверы за рубежом. Тарту, 2000. С. 85–97; Трофи мов И. В. Социальнопсихологический портрет старовера в творчестве Н. С. Лескова 1860х годов // Первые «Заволокинские Чтения» 16–17 дек. 2005 года // http://www.starover-pomorec.eu /starover/docs/ 1_ chtenije/ dokladi /20.doc; Подмазов А. А. Устав как исторический источник // Там же; и др.
118 119
староверов подверглись репрессиям. Ктото был сослан, ктото погиб в лагерях, ктото расстрелян, ктото просто постарался уйти в тень.10
О том, как рядовые приверженцы древлеправославной веры вживались в новые условия существования в первый год советский власти, историкам еще предстоит выяснить. В период фашистской оккупации Латвии в Москве, надо полагать, имели информацию о том, что жизнь в староверческих общинах Латвии и конкретно Риги продолжалась. Конечно, такие факты, как спасение староверами военнопленных из лагерей и евреев из гетто, могли быть и неизвестны. Но вряд ли остались незамеченными издание гребенщиковцами в 1943 и 1944 г. староверческих календарей, и, тем более, такие акции, как захоронение на рижском Ивановском кладбище останков советских солдат, погибших при обороне Риги в июле 1941 г., а также установление в следующем году на их могиле памятника с крестом и надписью – «от Гребенщиковской общины»11. На подобные акции тогда требовалось немалое мужество. Неизвестно, насколько оценены эти поступки были в Москве. Однако, очевидно, что в отличие от Православной Церкви Латвии, староверы не запятнали себя прямыми контактами с германскими оккупационными властями.
В 1944 г., разрабатывая войсковые операции по освобождению Прибалтики, в руководстве СССР должны были заранее предусмотреть и то, как будет восстанавливаться на этих территориях советская власть. По мнению А. А. Подмазова, с возвращением советской власти в Латвии был восстановлен и атеистический советский порядок.12 Но надо иметь в виду, что с 1943 г. по личной инициативе Сталина в СССР был изменен по сравнению с довоенным периодом тон антирелигиозной политики. Верующих перестали считать классовыми врагами, а на Церковь стали смотреть как на
10 (Подмазов А.) Рижские староверы. Рига, 2010. С. 51.11 Там же; Емельянов А. О победе, времени и памяти // Поморский
вестник, 2010, № 2223. С. 43–44; Судьбы староверческие. Прошлое – родина души человека. Родословная Белюзовых. Воспоминания Н. Г. Ашаре, записаны З. П. Горичевой // Там же. С. 125; и др.
12 (Подмазов А.) Рижские староверы. С. 51.
Обличительные материалы обо всех действующих на территории республик Балтии религиозных конфессиях и организациях как пособниках реакционных буржуазных режимов в советских печатных изданиях появились уже в июле 1940 г.7 С осени того же года газета «Безбожник» поступила в широкую продажу и в Латвии. В школах вместо отмененных уроков Закона Божьего учителя начали проводить уроки антирелигиозного воспитания.8
В газетах и журналах печатались статьи и против латвийских староверов и их лидеров. Называя староверов сектантами, авторы отмечали, что пропорционально общему количеству населения их в Латвии было значительно больше, чем в России. В перечне конфессий в Латвии их по числу верующих ставили на четвертое место и отдельно от приверженцев сект. В статьях подчеркивалось, что «руководит сектой купечество», что «главари старообряд цев, связанные всем своим существом с буржуазным строем, враждебны советской власти». И. Н. Заволоко, С. Р. Кириллова и «других заправил старообрядчества» – купцов Кудрячёвых, Власовых, Ску билиных, Мещенковых, Панковых – обвиняли в том, что они получали крупные субсидии от «правящей клики» Улманиса. Звучали и другие обвинения в их адрес. Благотворительная и просветительская деятельность староверов выставлялась исключительно в негативном свете.9 Вслед за официальной оценкой в прессе последовали конкретные действия – в 1940–1941 годах многие лидеры
7 Привет советским республикам Литве, Латвии и Эстонии // Безбожник, 1940, № 82, 28 июля. С. 1.; О Богословском факультете Латвийского университета и лично профессоре Адамовиче // Правда, 1940, № 203, 23 июля. С. 4. и др.; Эльвин И. Д. Церковь в Латвии с начала крестоносного завоевания // Антирелигиозник, 1940, №10–11. С. 33–39; Новогоров Г. Латвийский народ и религия // Там же, 1940, № 12. С. 19–23; Он же. Власть церкви в прежней Латвии // Безбожник, 1940, № 30, 22 сентября. С. 1; Владимирский М. Ярость слепит им глаза // Безбожник, 1940, № 11–12. С. 3–4 и др.
8 Рупейка Ф. Преследования за безбожие в прежней Латвии // Безбожник, 1940, № 28, 8. сент. С. 2; Организация антирелигиозной пропаганды в Латвийской ССР // Там же, 1941, № 11, 16 марта. С. 4; Письмо школьницы из Латвии // Там же. № 14, 6 апреля. С. 4; Грузнов К. Голос читателей из новых советских республик и областей // 1940, № 4, 26 мая. С. 2. и др.
9 Михайлов В. Рижские проповедники // Безбожник, 1941, № 6. С. 5–7; Он же. Старообрядцы в Латвии // Безбожник, 1941, № 17, 27 апреля. С. 1.
120 121
кова. Логично предположить, что реферат целенаправленно был составлен для работы с учителями. В структуре восстановления советской власти народному образованию уделялось большое внимание. Помимо заботы об образовании и воспитании подрастающего поколения в рамках государственной идеологии, скорейшее открытие школ в Латвии имело значение и с политической точки зрения: надо было противопоставить советскую школу тем школам, которые работали в условиях нацистской оккупации.16 При этом на первый план выходила проблема педагогических кадров для новой школы. Те учителя, которые работали при нацистском режиме, не подходили для советской школы. Многие из них были уволены советской администрацией как неблагонадежные еще в 1940–1941 годах; в 1944–1945 годах немало учителей бежало от но вой власти на запад.17 Нужны были преподавательские кадры, подготовленные к работе в новых политических и национальных условиях.
Учителей, успевших в начале войны эвакуироваться в советский тыл, а также тех, которые оставались в Латвии, но не работали при немцах, было слишком мало. Поэтому надо было решать вопрос о направлении в Латвию, по крайней мере на первое время, педагогов из старых районов СССР – этнических латышей и русских (русскоязычных). Русские учителя были необходимы в связи с тем, что структура народного образования Латвии должна была быть приведена в соответствие с тем, как это было установлено для всех союзных республик СССР: во всех школах как учебный предмет вводился русский язык. Кроме того, планировалось увеличить количество школ с русским языком обучения.
Показательно, что русский язык в школах Латгалии в 1944 году стали преподавать уже с самого начала учебного года – с 1 октября. Тогда же открылись и русские школы.18 В Риге, в ноябре 1944 года, русские школы оказались готовы раньше к началу учебного года,
16 См.: Салениеце И. Школьный быт Даугавпилса в 1941–1944 годах // Vēsture: avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture VIII. Daugavpils, 2004. 135.–141. lpp.
17 Там же; Lapiņa M. Latvijas kultūras vēsture. XX gs. 40.–80. gadi. Rīga, 2002. 145. lpp.
18 Советская Латвия, 1944, № 4, 1 октября. С. 2; № 5, 4 октября. С. 3.
союзника в борьбе с фашизмом. Было разрешено открывать приходы; политработникам в армии давались указания не преследовать верующих за посещения церкви на освобождаемых территориях; такие же наставления получали и партизаны в фашистском тылу.13
Правда, по мере продвижения фронта на запад, благодушное от ношение к верующим и, особенно, к священникам, часто пропадало. Однако оголтелой антирелигиозной пропаганды, которая существовала до войны, уже не было.
В балтийских республиках в отношениях с Церквью приходилось учитывать сложности общей национальной и социальнополитической обстановки. При переходе управления в регионе к советской администрации и налаживании мирной жизни, в Москве рассчитывали на помощь иерархов разных конфессий, имевших влияние среди населения. В конце сентября 1944 г. в уже занятую советскими войсками Латгалию был послан инспектор Управления по делам религиозных культов Валдемарс Шешкенс. В Даугавпилсе он имел беседу с католическим архиепископом А. Спринговицем и договорился о помощи ксендзов в удержании латвийских католиков от массового бегства на Запад.14
Шешкенс хотел встретиться и с представителями латгальских староверов. Однако те не спешили предстать перед новыми властями. По сообщению Шешкенса от 3 октября, он таковых в Даугавпилсе «еще не нашел», поскольку, как он полагал, их «действующих организаций здесь пока нет»15. Но то обстоятельство, что инспектор не смог встретиться со старообрядцами, еще не означало, что их в Латгалии тогда не было вообще.
Как раз накануне вступления советских войск на территорию Латвии и был составлен реферат БончБруевича по очерку Н. С. Лес
13 История Русской Православной церкви. Глава VII. Русская Православная Церковь при патриархе Сергии (Старогородском). 1943–1944 // http://kds.eparhia.ru/bibliot/istorserkvi/cupin/glava7/; Одинцов М. И. Патриотическое служение Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны //http://church-war.ru/research/odincov-05/; Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны. № 25. С. 277–280.
14 Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны. № 67. С. 380–381. 15 Там же. С. 382.
122 123
урок о староверах по Лескову, подготовленный БончБруевичем, не настраивал слушателей и против простых прихожан (не относившихся к духовенству – «попам») православных храмов. Правильному – «классовому» восприятию материала реферата способствовало и то, что в изображении советской пропаганды «жалкая, полная лишений жизнь» трудящихся в независимой Латвийской республике, в «голоде и нищете» «томившихся под гнетом помещиков и капиталистов»21, не намного отличалась от жизни старообрядческой бедноты XIX века, описанной Н. С. Лесковым.
Таким образом, со значительной степенью уверенности можно считать, что реферат БончБруевича по произведению Лескова предназначался для того, чтобы познакомить готовившихся для школ Латвии учителей с особенностями социальной и религиозной среды, с которыми они могли столкнуться на новом месте ра боты, а также ориентировать их на терпимое отношение к ученикам и их родителям из среды здешних староверов. Правда, еще предстоит выяснить, насколько эти уроки толерантности были реализованы на практике.
Jevgeņija nazaRoVa
Rīgas vecticībnieki jaunās varas uztverē: 1940.–1941., 1944. gads
Raksta autores uzmanības lokā ir 1944. gada 8. jūnijā uzrakstītais V. Bonča-Brujeviča referāts par vecticībnieku situāciju Rīgā, kas savukārt balstās N. Ļeskova ziņojumā (1863. g.) par Rīgas vecticībnieku izglītī-bas jautājumiem. Referāta manuskripts analizēts plašākā sociāli politiskā
21 См.: Правда, 1940, № 203, 23 июня. С. 4; № 204, 24 июля. С. 1 и др.
чем латышские. Причем открывались и вечерние русские школы. Параллельные классы с латышским и русским языками преподавания были и в профессиональных учебных заведениях.19
Советская власть, ориентируясь на поддержку русского населения, не могла игнорировать то обстоятельство, что значительную часть этнических русских составляли люди верующие – православные и староверы. Причем в годы войны количество верующих увеличилось. Разумеется, при подготовке учителей для Латвии было невозможно изменить отрицательное отношение к религии, на котором в СССР воспитывали молодежь, начиная с детского сада. Но вполне реально было передать им сочувственное, сострадательное отношение к верующим из бедных слоев общества. Таким сочувствием к рижским староверамбеднякам был наполнен очерк Н. С. Лескова, и это же настроение было отражено в реферате В. Д. БончБруевича.
В упомянутой выше статье в газете «Безбожник», обличающей лидеров староверов, последние противопоставлялись их бедным единоверцам. Подчеркивались классовые разногласия в староверческой среде: обитатели богадельни, якобы, рассказывали, сколь плохие условия жизни обеспечивают им финансирующие это заведение купцыстароверы; «вожаки староверов» в Латгалии, якобы, призывали бедняков и батраков «любить эксплуататоров» и т. п.20 Эти же классовые акценты расставлял в своем реферате и БончБруевич. Вместе с тем, из его реферата следовало и другое: советская власть призвана защитить народные массы и обеспечить им социальные права, бесплатное образование и т. п. Но пос ле предвоенных репрессий, национализации и ликвидации крупной земельной собственности, а также после разорения военного времени, практически все староверы в 1944 году были малоимущими. Иначе говоря, все они попадали под защиту советской власти, что и должно было служить понятным для советской молодежи тех лет ориентиром в отношении к этой группе населения. Кстати сказать,
19 Советская Латвия, 1944, № 20, 4 ноября. С. 1; № 25, 12 ноября. С. 4; № 33, 22 ноября. С. 3; № 34, 24 ноября. С. 4 и др.
20 Михайлов В. Старообрядцы в Латвии // Безбожник, 1941, № 17, 27 апреля. С. 1.
125
зоя яРошевИч-ПеРеСЛавцев
Связи староверов из Речи Посполитой и восточной Пруссии с рижскими староверами
В связи с распадом Ливонского государства территория Латвии в XVI–XVII веках была поделена между Швецией и Польшей, к которой отошла Латгалия. На этой территории, как показывают документальные материалы («Дегуцкий летописец», «Житие Феодосия Васильева», архивные документы Святейшего Синода, инвентари Б. Р. Брежго и другие) и основанная на них богатая лите ратура, староверы селились в конце XVII – начале XVIII века. Русские крестьянестарообрядцы прежде всего прибывали из Нов городскоПсковского края в староства: Динабургское, Розиттенское и Люцинское. Пришельцы в основной массе считали себя последователями согласия федосеевцев. Присоединение в 1772 году Инфляндии (Латгалии) к Российской империи вызвало отток староверов. Они бежали далее в пределы Речи Посполитой, а потом в Пруссию, где селились на основании королевского указа, изданного Фридрихом Вильгельмом III 5 декабря 1825 года. В переводе он звучал следующим образом: «Хочу, чтобы крестьяне, принадлежащие грекохристианскому течению филиппонов, которые прибыли из нескольких местностей Царства Польского, согласно измененным предложениям правительства от 28 предыдущего месяца, которые поселятся на необработанных землях, лежащих в Литве или Восточной Пруссии, и эти невыкорчеванные земли купят, были бы в первом поколении освобождены от воинской повинности».
Старообрядцы селились в лесных угодьях Миколайки и Крутынь. В 1830х – 1840х годах они основали десять деревень: Онуфриево, Войново, Галково, Мосцишки (называемые также Николаево), Замечек, Иваново, Ладне Поле (ныне Сьвигнайно), Кадзидлово, Осиняк и Петрово. Сохранилось достаточно исторических источ ников о старообрядцах в Восточной Пруссии. Эти сведения использовали Макс Топпен, Эмиль Титиус, Мартин Герсс, а их работами пользовался Евгений Иванец. В 1842 году прусский чиновник
kontekstā, ņemot vērā padomju varas plānus reliģisko organizāciju dar- bības regu lēšanā un izglītības politikā Latvijā.
V. Bonča-Brujeviča referātā sniegtais vecticībnieku dzīves raksturo-jums ir orientēts uz iecietīgas attieksmes veidošanu pret ticīgajiem, kurus ekspluatēja un apspieda „muižnieki un kapitālisti”. Šāds vecticībnieku tēls tika kultivēts, sagatavojot skolotājus darbam Latvijas skolās, kurās pēc Otrā pasaules kara mācījās liels skaits vietējo krievu bērnu no vec-ticībnieku vai pareizticīgo ģimenēm. Padomju varas pārstāvju deklarētā zināmā ideoloģiskā pielāgošanās vietējai situācijai liecina par vēlēšanos izraisīt atsaucību iedzīvotājos, lai efektīvāk nostiprinātu jauno politisko kārtību.
126 127
1930 году председатель Совета старообрядческих соборов и съездов в Латвии, член латвийского Сейма С. Р. Кириллов обратился к председателю Высшего старообрядческого совета в Польше Арсению М. Пимонову с письмом, в котором попросил почтить своим присутствием второе Старообрядческое предсоборное совещание, имеющее быть в г. Двинске 30 и 31 марта, «для принятия в нем участия по вопросу церковного строительства, а также делегировать на означенное совещание двух представителей от Высшего совета в Польше».1
О сотрудничестве между староверами Латвии и Польши свидетельствует содержание журнала «Вестник Высшего старообрядче ского совета в Польше». Почти в каждом номере журнала публи ковалась информация о старообрядцах Латвии, об их духовной и религиознопросветительской деятельности.2 В «Вестнике» часто публиковали письма из Латвии, посланные Высшему совету в Вильнюсе. Например, в 4 номере за 1932 год редакция «Вестника» рассказывала о новой староверческой организации под назва ни ем «Певческое староверческое общество в Латвии», которая предполагала издавать периодический журнал под названием «Ста рая вера». Редакция «Вестника» от души приветствовала столь благое начинание латвийских собратий по вере, и пожелала им процветания и развития в деле церковного знаменного пения среди старообрядчества не только Латвии, но и всех зарубежных старообрядческих общин и организаций.3 В 1933 году в № 1–3 «Вестник» опубликовал информацию о состоявшемся в Риге певческом празднике старообрядческой молодежи: «Это задуман ное Певчес ким старообрядческим обществом в Латвии начинание заслуживает большого к себе внимания и должно послужить примером для подражания всем зарубежным старообрядцам как новый прекрасный воспитательный метод подготовки молодых церков ных певчих и объединения старообрядчества в деле служения св. Церкви и обществу». Беспокоили Высший совет в Польше события, связанные с выборами в новый Сейм Латвии депутата
1 Вестник Высшего старообрядческого совета, 1930, № 1. С. 20.2 См.: Вестник Высшего старообрядческого совета, 1931, № 4–5. С. 28, 31.3 Вестник Высшего старообрядческого совета, 1932, № 4. С. 23.
Шмидт составил список жителей этих 10 деревень, хранящийся в Государственном архиве города Ольштын. Старообрядцев (в списке были также мазурыевангелисты) разделили на 4 группы. В первой группе оказались поселенцы, прибывшие ранее всех и имевшие выездные паспорта, что вынуждало прусские власти при знавать их местными. Во второй группе числились прибывшие позднее, желающие остаться здесь навсегда и имевшие на это право, поскольку были местными подданными. К третьей группе отнесли тех, кто хотел бы остаться в Пруссии временно, однако и позднее их пребывание было бы разрешено. Что касается четвертой группы, то включенных в нее предполагали выслать, однако это не было сделано.
В списки были занесены имя, отчество, фамилия. Прусские вла сти жаловались, что с большим трудом удалось выяснить и за регистрировать фамилии старообрядцев, поскольку те пользовались только именем и отчеством. Фамилиями стали прозвища, например, Славиков, Соркин, Мальован, или патронимы – Макаровский, Филиппковский и др. Кроме того, в списках фиксировались возраст, семейное положение, место рождения, место откуда прибыл (населенный пункт и губерния), время проживания в Пруссии, имущественное положение, семья и ее состав, поведение.
Во время Второй Речи Посполитой, когда президент Польши утвердил 22 марта 1928 года отношение государства к Восточной Церкви, а 29 августа того же года правительство утвердило Устав Восточной Старообрядческой Церкви, не имеющей церковной иерархии, в Польше проживало от 35 до 80 тысяч (в 1939 году) староверов (1,6 % от общего числа населения страны, насчитывающего 32,1 миллиона жителей), объединенных в 48 поморских общин (позднее – 53 общины). Высшими органами управления Восточной Старообрядческой Церкви и решений канонических вопросов были церковные Соборы. Были проведены три Всепольских Собора старообрядцев: в 1925, 1930 и 1939 году в Вильнюсе. На основании принятых Собором 1925 года организационных и правовых решений, управляющим всеми текущими делами Церкви стал Высший старообрядческий совет в Польше (в Вильнюсе). Он поддерживал самые тесные связи с общинами Латвии. Например, в
128 129
и второй), брошюра И. Н. Заволоко «О старообрядцах г. Риги. (Исторический очерк)», и журнал «Старая вера», выходящий под редакцией П. Ф. Фадеева. О сборнике «Духовных стихов» было на писано следующее: «...знакомит нас с нашим богатым, самобытным, народным творчеством. Со стихами этими должна непременно познакомиться наша молодежь, так часто теперь питающаяся лишь городской и чужой музыкой и песнями. Сборник этот, снабженный крюковыми и линейными нотами, как нельзя лучше может служить практическим пособием для наших религиознопросветительских Кружков и дает прекрасный материал для полезного занятия досуга и молодым, и взрослым». Поучения святых отцов Церкви «Златоструй» особенно рекомендовали всем «религиознопросветительным организациям, как прекрасный источник тем для совместных чтений и бесед». Очерк И. Н. Заволоко «О старообрядцах г. Риги» был высоко оценен как научный вклад в исследование истории рижского старообрядчества. Составитель «Библиографии» (инициалы «Б. П.») хвалит «серьезность» содержания и «солидность внешнего вида», однако жалеет, «что издательство не располагает пока церковнославянским шрифтом для воспроизведения обильно приведенных в тексте церковнославянских выдержек, отчего издание не сомненно приобрело бы еще более наш родной, старообрядческий, привычный облик».7
В собрании Войновского женского монастыря хранилась брошюра «Блаженная Евфросиния Полоцкая (Память 23 мая)». Она была издана Советом Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины в Риге, в типографии «PERFEKT», в 1939 году, в серии «Душеполезное чтение для детей» под редакцией И. Н. Заволоко и посвящена «светлой памяти Ирины Ивановны Танаевой».
С объединением части Европы в Европейский Союз ушли в прошлое границы и появились новые возможности для установ ления международных контактов, для обмена информацией, кни га ми, делегациями. Связи староверов Польши, прежде всего, Сувалкской общины с рижскими и другими староверами Латвии укрепились, когда наставником Сувалкской моленной стал Нико лай
7 Б. П. Библиография // Вестник Высшего старообрядческого совета, 1933, № 1–3. С. 28–29.
С. Р. Кирил лова.4 Участники Старообрядческих курсов в Литве 18 июня 1931 года были на экскурсии в Риге, где были встрече ны рижским старообрядческим Кружком ревнителей старины. 22 июня экскурсанты возвратились в г. Ковно (Каунас). «Вестник» сообщил также о выставке в Риге, на которой было много старинных старообрядческих книг. Выставка открылась 23 июня 1931 года.5 По сообщениям «Вестника», 5 и 6 июня 1932 года в Риге состоялся двухдневный съезд старообрядческой молодежи, посвященный пятилетней годовщине деятельности Кружка ревнителей старины. В этом съезде приняли участие хоры из Польши и других балтийских стран. Для их проживания было представлено бесплат ное помещение, а также скидка на железнодорожные билеты в размере 50%.6
Войново в тридцатые годы XX века посетил Иван Никифорович Заволоко, где записал несколько духовных стихов.
Издательскую деятельность староверов Польши в 1925–1937 го дах осуществлял Высший старообрядческий совет Польши в Вильнюсе. Его печатным органом был журнал «Вестник Высшего старообрядческого совета в Польше», выходивший в 1929–1934 годах. В нем постоянно анонсировался журнал «Родная старина» под редакцией И. Н. Заволоко, а начиная с № 1–3 – новый журнал певческого Староверческого общества в Латвии «Старая вера». В рубрике «Библиография» было написано: «Рижский Кружок Ревнителей Старины порадовал нас в этом году рядом своих ценных изданий. С удовольствием и признательностью отмечаем появление очередного номера «Родной старины» (№ 13, Рига, июнь 1933), отличающегося весьма высокими художественными и научными достоинствами, всегда присущими этому изданию, и посвященного на этот раз истории и сущности древнего знаменного церковного пе ния». В этом же номере читателям были рекомендованы следующие издания латвийских староверов: сборник «Духовные сти хи старинные» (Рига, 1933), записанные Иваном Никифоровичем Заволоко в Латгалии и Причудье, «Златоструй» (выпуск первый
4 Письмо из Латвии // Вестник Высшего старообрядческого совета, 1931, № 6. С. 14.
5 Вестник Высшего старообрядческого совета, 1934, № 1–2. С. 20–21.6 Вестник Высшего старообрядческого совета, 1932, № 1. С. 32.
130 131
с 2004 года находился в частной собственности внука Леона Людвиковского (после его кончины в 2002 году, монастырским имуществом заведывал его сын Кшиштоф). Следует отметить, что недавно умерли две последние сестрыбелицы: в 2005 году Ле на (Елена Стопка) и в 2006 году Фима (Евфимия Кушмеж), поэтому в настоящий момент монастырь выполняет функции музея.
7 мая 2005 года латвийский хор «Грезн» посетил Сувалки. Пос ле молебна и пасхальных часов, завершающих празднование пасхальной недели, состоялось выступление хора перед прихожанами. В № 17 газеты «Меч духовный» за сентябрь 2005 года было опубликовано подробное описание поездки хора.8
По заказу Фонда им. Пименовых, основанного в 1984 году профессором Леонидом Пименовым (1908–2000), с помощью православной Митрополии в 1986 году в Варшаве были переизданы два школьных учебника, изданные ранее Советом Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины: «Азбука для начального чтения» (1915) и составленный Иваном Никифоровичем Заволоко «Учебник по Закону Божию для учащихсястарообрядцев русских основных школ (I ступени)» (1936), а также издание представителя Духовной комиссии старообрядцев Латвии, наставника города Двинска А. И. Екимова «Учебное руководство по Закону Божию для детей христианстарообрядцев. Часть первая и часть вторая» (1928). Учебники были необходимы для обучения Закону Божиему в Сувалках и в Габовых Грондах. В 1993 году уроки Закона Божиего в Сувалках посещало 39, в Габовых Грондах – 40 детей.
Обмен экскурсиями, книгами и журналами, совместные богослужения позволяют надеяться на укрепление дружеских свя зей, на сохранение духовной самобытности и идентичности старо веров.
8 Прессслужба Староверческого общества им. И. Н. Заволоко. В гостях у польских староверов // Меч духовный, 2005, № 17. С. 1.
Логинович Васильев, долголетний причетник и головщик риж ских Гребенщиковской и Богоявленской общин. 26 и 27 июля 2004 года Латвию посетили староверы Польши, которые осмотрели храмы Гребенщиковской и Ливанской общин, а также четыре моленные в городе Даугавпилсе. В Екабпилсском храме в субботу вечером, а в воскресенье утром в Новостроенском храме в Даугавпилсе прошли совместные богослужения.
В ответ на этот визит, польских староверов посетили представители Екабпилсской общины. В своей «Летописи» член Совета Войновской общины, старовер из Мронгова Василий Арефьевич Федотов записал: «24 октября 2004 года в Войновском храме на «часах» вместе молились приезжие гости и местные старообрядцы. Богослужение вел наставник из Латвии о. Николай Логинович Васильев. Помогал ему главный редактор газеты «Меч духовный», издаваемой в г. Риге, Петр Алексеев. Приехали представители нашего Высшего старообрядческого совета: Димитрий Терентьевич Капланов, секретарь Петр Буланов и председатель Сувалкской общины Борис Лаврентьевич Кузнецов. Встречали их наши прихожане с представителем общины Григорием Сидоровичем Новиковым. После молитвенной службы была совместная трапеза в доме Бориса Красовского. За столом обменивались мнениями, касающимися церковной жизни в Латвии и у нас на Мазурии». Летописец рассказал присутствующим историю Войновского монастыря, а затем все поехали осмотреть то, что от него сохранилось.
10 января 2007 года Войновскую общину посетили гости, среди которых был Алексей Лавренов – головщик Рижской Гребенщиковской общины. Приезжие собирали материалы для издания книги и календаря. Федотов показал им четыре тома своей летописи. Все вместе посетили Войновский монастырь, а затем все помолились и «пропели рождественские молитвы. То же самое совершали и на квартире Григория Новикова».
В начале мая 2005 года хор «Грезн» Староверческого общест ва им. Ивана Никифоровича Заволоко по приглашению польских староверов посетил три общины. Свою поездку хор начал с выступ ления в деревне Войново, где в храме исполнил для прихожан духовные стихи. Затем хор посетил Войновский монастырь, который
133
Ирина тРУшкова
Системные факторы воспроизводства старообрядческих общин:
Гребенщиковская община в контекстеисторико-культурных сравнений
На рубеже XX и XXI веков представляется актуальным исследование механизмов воспроизводства культурных ценностей, моделей культуры. В глобализующемся мире, при смене цивилизационных ориентиров обращают на себя внимание явления, которые были присущи более ранним историческим эпохам. Классический пример – старообрядчество в разных странах мира. Как будут вести себя модели культуры староверов в наши дни? Должны ли они исчезнуть в будущем? Каковы причины их воспроизводства? Какие факторы действуют на старообрядчество благотворно, а какие – деструктивно? Ответы на эти вопросы можно найти в сравнительноисторических исследованиях разных региональных вариантов рассматриваемой культуры в России и за ее пределами.
Исторические сравнения Гребенщиковской общины с другими центрами староверия приводят к ряду небезынтересных заключений. Достаточно репрезентативно выглядят историкокультурные параллели между моделями культуры староверия Гребенщиковской общины, липован в Украине и Румынии (западное пограничье), и, к примеру (в качестве классической российской провинции), в Приуралье. На протяжении XIX – начала XXI вв. в них фиксируются как некоторые общие процессы, так и вызывающая теоретический и прикладной интерес своя специфика.
Среди материалов для исследования следует отметить не просто дополнение экспедиционных и архивных данных сведениями из научной литературы. Некоторые научные и художественные про изведения прошлого и позапрошлого веков уже могут восприни маться историками, хотя бы частично, как исторические источники. В числе них – работы И. Н. Заволоко, к примеру, «О старообрядцах г. Риги». В этой работе автор предстает не только как
zoja JaRošeVIča-PeReSLaVceVa
Žečpospolitas un austrumprūsijas vecticībnieku kontakti ar Rīgas vecticībniekiem
Rakstā ir sniegts īss ieskats vecticībnieku draudžu vēsturē Austrum-prūsijas un Žečpospolitas teritorijā, īpašu uzmanību pievēršot 19. gs. 30.– 40. gadiem un 20. gs. 20.–30. gadiem, kad izveidojās cieši kontakti starp vecticībnieku organizācijām Polijā un Latvijā. Publikācijas Polijas Aug-s tākās vecticībnieku padomes vēstnesī liecina par Polijas vecticībnieku ieinteresētību Latvijas vecticībnieku draudžu un biedrību darbības jau-tājumos.
Kontakti ar Latvijas vecticībniekiem atjaunojās pēc 2004. gada, kad Eiropas Savienības ietvaros varēja brīvi šķērsot valsts robežas. Polijas vec ticībniekus apmeklēja Rīgas Grebenščikova draudzes pārstāvji, kā arī Ivana Zavoloko vārdā nosauktās biedrības locekļi, savukārt Polijas vecti-cībnieki apciemoja vecticībnieku draudzes Rīgā, Livānos, Daugavpilī un Jēkabpilī. Savstarpējs draudžu apmeklējums, ekskursijas un kopīgi diev-kalpojumi nostiprina vecticībnieku kolektīvās identitātes izpratni un vei-cina vecticības tradīciju saglabāšanu.
134 135
вы сокая адаптивность и резистентность у древлеправославной куль туры проявляется в выработке определенной системы жизнеобеспечения. Последняя состоит из трех уровней «культурных технологий». Первый уровень – уровень адаптации к конкретному региону, его природноклиматическим условиям. На втором уровне закрепляются, консервируются сформированные модели. Третий уровень «культурных технологий» связан с воспроизводством во времени, передачей значимой информации другим генерациям. Показательно, что все три уровня наблюдаются как в материальной, так и в духовной жизни выбранного для исследования сообщества.1
В системе жизнеобеспечения старообрядчества такой компонент как адаптация к конкретным природноклиматическим условиям довольно значителен. Яркие примеры этому имеются как в Балтии и Придунавье, так и во внутренних регионах России, в том числе – и в Приуралье.
После церковной трагедии XVII века приверженцы древлего бла гочестия были вынуждены оставлять родные места и искать убе жища в чужих краях – как внутри своего государства, так и вне его. Большая часть староверов бежали за границу – в Австрию, Османскую империю, Пруссию, Швецию и Польшу. Так, на территории Латвии, земли которой в тот период входили частью в состав Речи Посполитой и частью – Швеции, появилась большая масса русских старообрядцев, составляющих основное ядро русского населения этой земли.2 На новом месте они воспроизводили свой хозяйственный уклад, что способствовало восстановлению и росту экономики региона. Как известно, его благополучие было подорвано после войн и эпидемий чумы, происходивших во второй половине XVII в. на территории Швеции и Польши.3 Включение в XIX веке старообрядчества в сферу активной экономической
1 Трушкова И. Ю. Традиционная культура русского населения Вятского региона в XIX – начале XX вв. (система жизнеобеспечения). Киров, 2003. С. 28–29.
2 Заварина А. А. Русское население Латвии (к истории поселения) // Русские в Латвии. Вып. 3. Из истории и культуры староверия. Рига, 2003. С. 20.
3 Там же.
человек, исследовавший и обобщавший данные по истории старообрядчества в Латвии и других регионах. Особо значимо, что информация о культуре обрабатывалась личностью из данной культуры. «Взгляд изнутри» способствовал более тщательному анали зу и объективному представлению староверия в научном поле осмысления исторической реальности. Классическими примерами такого анализа стали описания фрагментов жизненных практик в староверии г. Риги в произведениях таких писателей, как Н. С. Лесков и др. Подобные композиции источников могут быть использованы и при изучении старообрядчества в других территориях.
Роль вышеназванных произведений в базе источников по старообрядчеству объясняется комплексностью информационного мас сива, включающего информацию изнутри культуры, от этнофоров, а также изпод пера писателей, чья способность художественного видения помогает создавать «более чувствительные» обра зы, содержащие важные детали и настроения, а не только в рациональном стиле описания. Комплексность разноплановых, принадлежащих к ряду гуманитарных наук источников должна помочь очертить разные грани изучаемого явления. Если в XIX веке такой подход был не очень широко распространен, то в наши дни это уже почти обязательное требование.
Каждую региональную модель староверческой культуры можно представить не только как совокупность характеристик, частей структуры, в чем проявляется содержание комплексного подхода. Нельзя забывать, что исторические явления существуют не только в благоприятных условиях; они вынуждены существовать и в ситуациях риска, и противостоять им, чтобы воспроизводиться в дальнейшем. Так образуется система, включающая в себя как механизм существования в обычных условиях, так и в нестандартных условиях, связанных с внешней или внутренней деструкцией. В этом можно видеть сущность системного подхода, который становится востребованным и в наши дни для изучения исторического опыта развития историкокультурных общностей.
Старообрядчество можно воспринимать как культуру, у которой четко разработан механизм существования не только в стандартных ситуациях, но и в кризисные периоды. Прежде всего,
136 137
даже ананасы. У них достаточно рано появилась техника – молотилки и веялки и т. п.7
Во всех рассмотренных регионах роль старообрядчества в развитии экономики была велика. На фоне других регионов староверие на тер ритории Латвии определяется не просто как кресть янскоремесленнокупеческое. По словам И. Н. Заволоко: «Старообрядцы Прибалтики, Витебской, Виленской, Минской, Могилевской и Смоленской губерний всегда находились в ближайших отношениях к Риге, признавая ее своим центром».8 Такое основополагающее значение Риги помогло купцам Московского форштадта приобрести их экономический ресурс, заключавшийся не только в финансовом капитале, но и в недвижимости.
В системе жизнеобеспечения региональных моделей старообрядческой культуры кроме экономических устоев четко выделяется и тема организации быта. Чистоплотность в ведении жилища, опрятность в поселениях, использование традиционной одежды – все это характеризует быт рассматриваемого населения. Поэтому путешествовавший по Дунаю писатель Н. Леонтьев писал, что смотреть на заселенный староверами город Тульчу очень приятно, как, впрочем, и на пестрые сарафаны дунайских староверок и синие рубашки их отцов, братьев и мужей.9 Добротные костюмы заметны и на известных рисунках старообрядцев, помещенных в работе И. Н. Заволоко.10
Многие черты духовной культуры воспроизводились в системе жизнедеятельности старообрядчества, благодаря великой силе веры. Она влияла и на внутри и на внешнегрупповую коммуникацию. Центральное место в такой системе занимала грамотность.
7 Трушкова И. Ю. Система природопользования и организации труда старообрядцев Вятского края // Старообрядчество. История. Культура. Современность. Москва, 2000. С. 481.
8 Заволоко И. Н. О старообрядцах г. Риги. (Исторический очерк). Рига, 1933. С. 8.
9 Цит. по: Евсеев Иван. Русский писательфилософ Н. Леонтьев о рус скихлипованах города Тульчи // Культура русскихлипован (старообрядцев Румынии) в национальном и международном контексте. Бухарест, 1998. С. 51.
10 Заволоко И. Н. О старообрядцах г. Риги. (Исторический очерк). Рига, 1933. С. 5.
деятельности, обусловленное как спецификой истории этого веро исповедания, так и объективными факторами, привели к его расцвету и стабилизации, что помогло выстоять в условиях очередных жестоких гонений периода правления Николая I.4 Так, на территории современной Латвии староверы максимально результативно вписались в хозяйственнокультурный ландшафт.
Аналогичная картина выявляется и в регионе, охватывающем земли Украины, Молдавии и Румынии, в землях, прилегающих к нижнему течению Дуная и к его дельте. Липоване – здешние староверы – формировались как сообщество на протяжении нескольких периодов с конца XVII в. по 1830е годы.5 Во влажном и жарком климате, в частично заболоченных почвах, ревнители древлего бла гочестия обустраивали быт, возделывали пашню, развивали ремесла и торговлю. По договору с Оттоманской Портой, одним из преимуществ, которыми пользовались староверы, была возможность рыболовства на правом берегу Дуная. Будучи трудолюбивыми людьми, они помогали в развитии уже существовавших населенных пунктов, а также закладывали новые.6 Так, благодаря и стараниям старообрядцев регионы югозападного пограничья Рос сийского государства в XIX веке становились обустроенными, экономически развитыми.
Сходные проявления хозяйственной предприимчивости обнаруживаются и в истории внутренних российских провинций. В частности, в Вятской губернии в XIX – начале XX столетий староверы обустраивали пруды, в условиях сурового климата выращивали не только картофель, но и огородные культуры из заграничных семян, купленных в Казани. Они разводили скот «английской породы», первые на Вятке сады, в которых «под стеклом» выращивали
4 Подмазов А. А. Старообрядчество в системе экономического развития (к вопросу о религиозной детерминированности хозяйственной деятельности) // Русские в Латвии. Вып. 3. Из истории и культуры староверия. Рига, 2003. С. 181–182.
5 Пригарин А. А. Формирование старообрядческого населения Придунавья в конце XVIII – начале XIX вв. // Липоване: история и культура русскихстарообрядцев. Вып. 3. Одесса, 2006. С. 4–5.
6 Палагия Радион. Казаки и староверы в румынской историографии // Липоване: история и культура русскихстарообрядцев. Вып. 3. Одесса, 2006. С. 83.
138 139
(украинцы, молдаване, румыны, болгары и др., и все со своими религиозными предпочтениями), то культура старообрядцев была должным образом привита к воспроизводству собственной идентичности.
Сходная картина наблюдалась и на территории современных стран Балтии. Национальный и религиозный состав населения здесь весьма пестрый – латыши, литовцы, эстонцы, немцы, поляки, белорусы, и с ними контактировали обустраивавшиеся в крае староверы. Особенность по сравнению с другими регионами может быть связана с более высоким уровнем развития рыночных от ношений в г. Риге, с налаженной торговлей, с преобразованием некоторых народов в нации. Все это дает основание говорить о более действенной минимизации риска от влияния географического фактора.
Жизнь в этнокультурном и этноконфессиональном пограничье добавляла староверию пассионарности. Причем показательно число контактирующих моделей культуры. Здесь выявляется еще одна закономерность. При взаимодействии двух этнокультурных образований, особенно со сходными религиозными установками, различия между контактирующими группами стираются быстрее. Когда число контактирующих более двух (три, четыре и более), то собственная культурная специфика воспроизводится группами пол нее.
Так, системный подход, с его выявлением «рисков», помогает вы яснить, сколько может сохраняться живущая в инокультурном окружении этноконфессиональная группа, выявить закономерности влияния различных факторов.
Разумеется, среди «рисков» находится почти постоянно репрессивная политика российского государства по отношению к старообрядцам. Ее влияние на воспроизводство старообрядческих сообществ достаточно изучено. Но политический фактор влияет на сравниваемые модели культуры неоднозначно. На первый взгляд, логично, что в центре страны репрессирующая роль государства в отношении к старообрядчеству будет сильнее, чем, к примеру, во внутренних регионах или на границах. В частности, в некоторые периоды староверие на границах государства и за его пределами
Таким образом, различные региональные модели старообрядческой культуры выглядят как комплекс. Однако в них весьма развиты и алгоритмы выхода из проблем (работа с так называемыми «рисками»). В этом проявляется системность данной культуры.
Одним из первых рисков было влияние так называемого географического фактора. Казалось бы, при расселении на других территориях старообрядческая культура вдали от «исторической родины» могла быть быстрее ассимилирована. Но системный подход выявляет следующую закономерность. Показательно, что при миграциях в «глухие» российские провинции старообрядцы комфортнее себя чувствовали в иноэтническом и иноконфессиональном окружении, сопровождаемом, как правило, установлением sta tus quo и поэтому отсутствием идеологического прессинга. Так, например, их поселения в Вятской губернии находились вблизи марийских, удмуртских и татарских деревень, но не в соседстве с «никонианами». Как правило, «никониане» даже рассказывали сказки про старообрядцев, где последние выступали в качестве необычных людей, людей изза некой культурной границы.11 В целом, во внутренних регионах России староверы селились там, где были дос таточно ярко выражены полиэтничность и поликонфессиональность территории.
Данная закономерность проявлялась и в пограничьях Российской империи, где старообрядчество имело тенденции если не к стиранию некоторых различий, то к освоению новых культурных элементов, таких, как изучение других языков, толерантность в от ношении к другим культурам и т. д. Но при этом наблюдалось более «чистое» сохранение характеристик собственной культуры (консервация образцов родной речи, обрядности, элементов уклада жизни и др.).
«Риск географического фактора» для липован мог быть связан с угрозой растворения среди других народов. Но так как живущих по течению реки Дунай этнических образований было немало
11 Архив Русского географического общества, Разряд X., оп.1, д. 29, л. 15; Вятский историкоэтнографический архив (ВИЭА), Кировская область, 1990–2009 гг.
140 141
в частности и в Латвии.13 В воспроизводстве староверческой культуры в Латвии вообще, и в г. Риге в частности, усилились тенденции «политической мимикрии», параллельного существования. На местах, в регионах, жесткость царских и советских законов по отношению к старообрядчеству часто компенсировалась их невы полнением. Это был результат работы защитного механизма, свой ственного культуре как живой /живущей/, стремящейся к продолжению системе.
По сравнению с другими регионами, сильный довоенный за пас культурного, образовательного, гражданского (через общества, шко лы и кружки) и экономического (на индустриальном уровне) ресурса выделял Балтию и Ригу среди других регионов.
Еще один культурный «риск» в воспроизводстве древлего благочестия можно связывать с действием демографического фактора. Оставляя демографам конкретные статистические изыскания, можно отметить основные варианты «демографической» подстраховки моделей старообрядческих культур в разные времена и на разных территориях.
Разумеется, воспроизводство населения связывалось с семьей. Как и в других местностях, в XIX – начале XX вв. в Придунавье значительное распространение имели сложные семейные коллективы, изза не отошедших еще в далекую историю военных действий и трудностей адаптации населения на новых местах был отчасти снижен брачный возраст.14
В Вятской губернии в старообрядческих селениях частичный от ток населения связывался не столько с низкой рождаемостью, сколько с миссионерской деятельностью, когда детей староверов забирали в раннем детстве из семьи в миссионерские школы для соответствующего обучения и планируемой в дальнейшем миссионерской работы в родных местах. Поэтому для должного воспроизводства старообрядческого населения огромное внимание уделялось домашнему воспитанию. Одно из правил воспроизводства
13 Подмазов А. Рижские староверы / Rīgas vecticībnieki / The Old Believers of Riga. Редактор Надежда Пазухина. Рига, 2010. С. 51–52.
14 Пригарин А. А. Формирование старообрядческого населения Придунавья в конце XVIII – начале XIX вв. // Липоване: история и культура русскихстарообрядцев. Вып. 3. Одесса, 2006. С. 15–16.
да же процветало. Как говорится, «до царя далеко…». Однако и в центре страны не все в староверии подвергалось разрушению. Хозяйственная инициатива развивалась с определенной свободой, прикрытая, как зонтиком, в эпицентре территории государственного влияния. Результат этого – расцвет старообрядческого купечества в Москве, деятельность Рогожской общины, семей Рябушинских, Морозовых и др.
Политический фактор выполнял свою особую роль в ситуациях конфронтации имперских интересов. Как при решении некоторых балканских проблем между европейскими империями южнославянские народы пытались утвердить свою государственность, так и благодаря соперничеству Германии и России балтийские старообрядцы использовали возможность жить в тех регионах, где за отсутствие политических репрессий они расплачивались с властью экономическими достижениями.
Среди страниц политической истории старообрядчества в первой половине XX в. – в разных территориях СССР сложились новые контакты с «исторической родиной», охваченной социалистическими переменами. Здесь действие политических «рисков» было связано с секуляризацией старообрядческой жизни. Среди многочисленных примеров этому характерно закрытие в 1946 году Белокриницкого монастыря. В письме архиепископу Иринарху иноки этого монастыря писали: «Наш мужеский Белокриницкий старообрядческий монастырь закрывают и жителей с монастыря выселяют в деревню... 24 февраля, по старому стилю, сего года прибыл председатель Глубоцкого райисполкома Черновицкой области в наш сельсовет, и меня вызвали, говорят, чтобы монастырь закрыть и монахов выселить всех в другое место…»12
По советскому законодательству были национализированы как здания и «излишки» земли Церкви, так и денежные накопления ре лигиозных общин. Политические репрессии обрушились и на староверов, был установлен атеистический порядок, вся надежда связывалась с неофициальными духовными центрами староверия,
12 «Наш мужеский Белокриницкий монастырь закрывают…» (из исто рии Белой Криницы второй половины 1940х годов // Во время онó… История старообрядчества в свидетельствах и документах. Приложение к журналу «Церковь». Вып. № 3, 2006. С. 83.
142 143
Минимизация рисков в старообрядчестве как системе достигается некоей мимикрией, повышенной «детностью», максимально полно сохраняющейся социализацией. Этничность воспроизводится через толерантность, принижение роли одних явлений во имя сохранения главных, этнически и конфессионально маркирующих группу. Обычно результаты временны ́ х, размывающих иден тичность влияний поразному проявляются через два, четыре и т. д. поколения жизни общин в разных местностях. Должное образование призвано нивелировать такие разрушения.
Обращает на себя внимание то, что семья в латвийском староверии – это не просто часть общины. По сравнению с культурными моделями в других регионах положение семьи изза включения в общину делается основательнее потому, что старообрядческая община здесь – некий прототип гражданского общества. Как известно, его роль в рыночном обществе должна увеличиваться. По этому старообрядческие общественные организации в Риге и в Латвии в наши дни результативно работают, имея весомый опыт соответствующей общественной деятельности в первой половине XX в.
Таким образом, в результате рассмотрения культур посредством системного подхода, в них выявляется много новых нюансов и механизмов реакции на культурные «риски», а также алгоритмы их преодоления. В основе этих алгоритмов – экономическое благополучие, уровень образования, внутренняя сила гражданского сообщества.
Показательно, что многие положительные характеристики модели сохранения и воспроизводства культуры староверия фиксируются в истории Гребенщиковской общины, объясняя причины силы, жизненности этого конфессионального, экономического и культурного сообщества.
Историкосравнительные построения выявляют, что г. Рига и Гребенщиковская община в ней была сильным центром староверия в созвездии региональных моделей староверческой культуры. Системный потенциал в ней настолько велик, что позволяет воспринимать ее как центр старообрядчества и в будущем, с полным набором экономических, культурных и образовательных функций для других регионов, очагов древлеправославия в России и в Европе.
культуры в дальнейших поколениях гласило: «бабушка должна ви деть свою внучку».15 То есть, культурная идентичность населения сельской местности при большой хозяйственной занятости родителей полно и качественно передавалась детям именно через их бабушек. Здесь проявляется и некоторый гендерный аспект – именно бабушка, а не дед, и именно внучке, а не внуку. Вероятно, так обозначается большая степень сохранения женщинами в повседневном быту этнокультурной самобытности. Следует отметить, что в вятских старообрядческих селениях сирот, обездоленных детей никогда не отдавали в приюты.
Что касается демографического среза с исторической ситуации в г. Риге, в балтийском регионе вообще, то воспроизводство через семью здесь дополнялось такими институтами, как сиротский при ют, больница, школа. Своеобразный духовный иммунитет эта модель старообрядчества получила, выжив после жестких мер цар ского правительства. Передача моленных в 1830х годах в православное духовное ведомство, денежные поборы, запрет наследования старообрядческими детьми отеческого имущества без записи в единоверческой или «никонианской» церкви, запрет венчаний по старообрядческой традиции и в связи с этим – циркулярное распоряжение о крещении детей от «раскольниц» в официальное православие, распоряжение зачислять детей староверов в военные кантонисты, а девушек отдавать в монастыри, запрет наследования детьми купеческих привилегий родителей и др.16 Пройдя через эти трудности, местное староверие не «распылилось демографически», а приобрело стойкий иммунитет. Важное обстоятельство – складывалась система старообрядческого образования, включающая не только обучение дома, но и образовательные учреждения – школы и даже училище. Так воспроизводство староверия осуществлялось не только в плане рождаемости, но и в плане воспитания и получения соответствующего образования. Этот опыт преодоления трудностей Гребенщиковской общиной представляется весьма ценным для других регионов.
15 ВИЭА, Кировская область, 1990–2009 гг.16 Заволоко И. Н. О старообрядцах г. Риги. (Исторический очерк). Ри
га, 1933. С. 14–15.
II
Vecticībnieku etnokonfesionālās identitātes biogrāfiskā dimensija
Биографическое измерение этноконфессиональной
идентичности староверов
Irina tRuškoVa
Vecticībnieku draudžu pēctecības saglabāšanas sistēmfaktori: Grebenščikova draudze
kultūrvēsturisko salīdzinājumu kontekstā
No sistēmteorijas pozīcijām rakstā analizēta vecticībnieku kultūra kā kultūras modelis, kas spēj pastāvēt ne tikai standartsituācijās, bet arī krī žu apstākļos. Autore salīdzina vecticībnieku tradīciju pēctecības sagla - bāšanas pieredzi dažādos reģionos – Baltijā, Piedunajā (Ukrainas, Mol-do vas un Rumānijas teritorijā) un Krievijā (Vjatkas guberņā), raksturojot dažādu – ģeogrāfisko, ekonomisko, politisko, kultūrsociālo – faktoru ie-tekmi vecticībnieku kultūras attīstībā.
Faktoru kompleksa analīze parādīja, ka vecticībnieku kultūrā izveido-jās savdabīgie algoritmi, kuri spēj novērst „risku” ietekmi. Šie mehānismi ir saistīti ar ekonomiskās labklājības uzturēšanu, izglītības nodrošinājumu un kopienas saliedētības nostiprināšanu. Rīgas Grebenščikova draudzei šajā ziņā ir nopietns sistēmiskais potenciāls arī nākotnē saglabāt savu cen tra statusu ar ekonomiskām, izglītības un kultūras funkcijām Eiropas un Krievijas vecticības kontekstā.
147
василий БаРановСкИЙ
«в законе Господнем поучался день и ночь...»к 135-летию со дня рождения М. а. власова1
Господь и Царь всея Вселенной,Создатель неба и земли!Услыши голос мой смиренный,И помощь мне свою пошли!
Максим Мокеев (1913–1991), старовер-стихотворец
В 2010 году староверческое сообщество в Литовской Республи ке отметило 300летие Древлеправославной Церкви Литвы. Точкой отсчёта принято полагаемое, исходя из имеющихся сведений, основание на территории современной Литвы первого староверческого храма. «Дегуцкий летописец» свидетельствует: «В сем 1710 го ду моленная в Пущи, яже есть Кревенская, устроися в начале XVIII столетия, до Рижского взятия, в царствование Петра Алексеевича Iго, при ней настоятельство благословением Афанасия Те рентьевича».2 ПущанскоКревенский храм на землях Великого княжества Литовского устроили духовные отцы из Курляндии, а точнее, из Лигинишкского древлеправославного центра (ныне – окраина Даугавпилса). Наставничество в Пуще благословил упомянутый Афанасий (Антоний) Терентьевич – лигинишкский пастырь, сын непреклонного приверженца староверия славного отца Терентия, пришедшего в Курляндию «из страны Московские» в са не священника дониконовского рукоположения.
В 1775–1807 годах в Пущанском храме, отстоявшем от Лигинишек примерно на 60 вёрст, служили наставники Стефан Афанасьевич и Иван Степанович, наречённые «общими пастырями Курляндии и Литвы».3
1 Прим. ред. Статья написана в 2010 году.2 Древлехранилище Пушкинского Дома. Материалы и исследования.
Л., 1990. С. 190.3 Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: крат
кий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 46–47.
148 149
Продолжительное время М. Власов отечествовал в Прейль ской общине. В статье «Известные староверы Прейльского края» председатель Славянского культурнопросветительского общества Т. Г. Колосова писала: «на Прейльской земле раскрыл свой талант духовный отец Михаил Александрович Власов».8 В Прейли прошли последние годы его жизни. В более чем 30летнем служении бы ли и радости, и скорби, но главное – была строго понимаемая отцом Михаилом ответственность Божьего слуги, призванного все часно и совестливо исполнять свой долг.
Вступив на стезю пастыря зрелым, умудрённым жизнью человеком, отец Михаил с первых дней пользовался уважением и признательностью верующих. В сентябре 1928 года состоялось торжественное освящение Новостроенского храма в Даугавпилсе, возведение которого прерывалось Первой мировой войной, послевоенными трудностями. Многолюдный праздник возглавили 30 на ставников, на торжество прибыли председатель Центрального Ко митета старообрядцев Латвии Иларион Колосов, депутаты латвийского Сейма Мелетий Каллистратов и Григорий Елисеев. С про никновенным приветствием к собравшимся обратился отец Михаил.9
Участником различных событий в общинах М. Власов становился часто. Стоит привести сообщение из «Старообрядческого календаря» на 1939 год: «16 октября 1938 года совершалось поставление в наставники Лиепайской общины Петра Михайловича Егорова. Для совершения чина поставления в Лиепаю прибыли рижский наставник отец Л. Мурников, прейльский наставник отец М. Власов, староста Рижской общины Д. Михайлов».10
Лиепайская община своим созданием, постройкой в 1906–1907 годах храма обязана Антипу Ивановичу Михайлову (1866–1956) – основателю общины, члену Совета старообрядческих соборов и сьездов в Латвии (1929–1934). Вероятно, Власов и Михайлов знали
8 Колосова Т. Г. Известные староверы Прейльского края // Поморский вестник, 2005, № 1(16).
9 Гузик А., Жилко А. Старообрядческие храмы Даугавпилса. Даугавпилс, 1999. С. 3638.
10 Цит. по: Поморский вестник, 2006, № 19. С. 36–37.
Спустя столетие после основания ПущанскоКревенский храм был перенесен в деревню Бобришки. Примечательно, что именно вблизи местечка Кревно (ныне – посёлок Кряунос Рокишкского района Литвы), в местах высоких свершений подвижников староверия, 22 сентября 1875 года родился будущий известный духовный деятель и учитель Древлеправославной Церкви Латвии Михаил Александ рович Власов. Его родина – овеянное легендами литовсколатвийское пограничье, живописный край голубых озёр и зелёных сосновых рощ.
Биография М. А. Власова в староверческих изданиях представлена, к сожалению, скупо. Некоторые вехи его жизненного пути обо значены в посвящении Иоанна Ваконьи, напечатанном в «Старообрядческом церковном календаре» к 80летию маститого наставника. Сообщалось, что детство и раннюю молодость М. Власов провёл на родине. Здесь окончил народную школу, а «с 1905 г. жил в Риге в качестве ремесленника и усиленно занимался духовным самообразованием, начало которому было положено ещё в юные годы. Будучи страстным любителем литературы, он обзавёлся цен ной личной библиотекой до 600 томов». 4
Любовь к книге, всесторонняя начитанность обогатили знания М. Власова не только в области богословия, но и в вопросах русской истории, общественных отношений. Безусловно, первостепен ным было углубление в премудрость вероучения. Имея в виду то, что Михаил Александрович с неизменной полнотой руководствовался каноническими книгами, И. Ваконья в вышеупомянутом приветствии отметил, что: «... он в Законе Господнем «поучается день и ночь», и посему всегда готов дать ответ вопрошающим о христианском уповании».5
С 1926 года до своей кончины в 1958 году М. А. Власов нёс пастырское служение. Благословение на отечество он получил от тро их наставников в Застенковской общине – одной из 25 староверческих общин, существовавших на тогдашней территории Дау гавпилсского уезда.6 По численности прихожан община относилась к средним и насчитывала 1200 душ.7
4 Старообрядческий церковный календарь на 1956 год. С. 114. 5 Там же.6 Календарьсправочник, 1923. С. 117.7 Русские в Латвии. Вып.3. Из истории культуры староверия. Редак
торсоставитель Ил. И. Иванов. Рига, 2002. С. 388.
150 151
совершенства, сознаём это, но разве это отражается на чистоте веры?»12
В сложной обстановке военного времени под редакцией Л. Мур никова и И. Ваконьи в Гребенщиковской общине вышел «Старообрядческий церковный календарь» на 1943 год. Вводная статья «Наши задачи» гласила: «Будем дружно работать по укреплению наших духовных начал. Календарь уже есть... На очереди старообрядческий журнал...» 13
Летом 1943 года увидел свет религиознопросветительский жур нал «Путь духовный». Скромное 8страничное издание, сохранившееся в единичных экземплярах, сегодня является библиографической редкостью. Среди авторов статей: «Путём духовным», «Святой великий князь Владимир», «Город Псков» и др., – предположительно был и М. Власов.
На рубеже ХХ–ХХI веков в Гребенщиковской общине отдельными книжками были изданы работы М. Власова «Канон Второму пришествию Христову» и «Почему у староверов нет видимого причастия». Остановимся на последней работе. Её содержание, осо бенности предмета исследования, необходимость прямого разговора объяснены в главе «От издателя». Что касается достоинств сочинения, то нельзя не отметить выразительного литературного слога, четкости изложения, весомости доказательств, несомненного знания источников, на которые ссылается автор. Всё это свидетельствует не только о богословской образованности, но и, бесспорно, о литературных способностях М. Власова, о его владении точным и образным письменным словом, пером публициста.
Рассматривая вынесенный в заглавие книги вопрос, отец Михаил называет причины и условия, в силу чего богослужения у ста роверов не содержат видимым образом таинства св. Причащения. Однако отсутствие видимого Причастия не означает, что оно не совершается вообще. «... Во времена гонений, при оскудении учителей, сам Господь, духом Своим препитает верующих в Него.
12 Власов М. Наш ответ на статью «Соль земли» // Старая вера, 1933, № 4. С. 16–19.
13 Власов М. Наши задачи // Старообрядческий церковный календарь на 1943 год, 1942. С. 71.
друг друга. По крайней мере, оба были выходцами из Новоалександровского уезда Ковенской губернии.
Два периода – в 1930–1934 и 1939–1943 годах – М. А. Власов являлся одним из наставников Рижской Гребенщиковской общины. Второй период пришёлся на военное лихолетье. Отец Михаил делил с другими духовными отцами и прихожанами выпавшие нелегкие испытания. Летом 1941 года община похоронила на риж ском Ивановском кладбище красноармейцев, погибших при вторжении немецких войск в Ригу. Гребенщиковцы также отстояли позолоченную кровлю, которую немецкие оккупационные власти намеревались снять с колокольни.
Староверию М. Власов ревностно служил и до непосредственного исполнения наставничества. Начиная с 1910 года, он участвовал во многих диспутах с миссионерами Русской Православной Церкви, с баптистами, выражая свои взгляды и убеждения. Среди староверов СевероЗапада, целого ряда мест Сибири и Алтая он прослыл толкователем Священного Писания, говоря поцерковному – экзегетом. Разъяснение сущности староверия, его защиту Михаил Александрович предпринимал не только в устных выступлениях, но и в печати. При его участии в 30е годы минувшего века в Риге выходили староверческие журналы: «Наставник», «Златоструй», «Старая вера», на страницах которых он публиковал полемические статьи.11
Вот один из доводов, адресованных единоверческому священнику Григорию Дрибинцеву: «Не удержался применить единоверческий миссионер излюбленный выпад – сколько, мол, дроблений на толки существует в староверии. С тяжёлым чувством отвечаем, что наличие различных толков и согласий в старообрядчестве – не доказательство несоблюдения нами мира, Спасителем завещанного, а наследие времён гонений на нас, когда жестоко расправлялась с инакомыслящими правительственная церковь. ... Единоверческий иерей коснулся вопроса о расхождении чистоты учения с самой жизнью христиан (часто себя лишь только именующих); к глубокому сожалению, и жизнь наших старообрядцев далека от
11 Пашинин М. Старообрядчество и просвещение в Латвии // Старообрядческий церковный календарь на 1992 год, 1991. С. 47.
152 153
староверия ХIХ–ХХ столетий: Дионисия Батова, Льва Пичугина, Андрея Надеждина. Автор статьи считает, что как начётчик проявил себя также Иоанн Заволоко. Думается, отец Михаил Власов также имеет прямое отношение к данному роду духовной деятельности.
Обращение к печатному слову, умелое владение пером позволяет назвать М. Власова богословомпублицистом. Это, казалось бы, непривычное, редко употребляемое понятие применимо к некоторым современникам отца Михаила, не говоря уже о предшественниках. Публицистом, приверженным церковной тематике, был вы ше упомянутый И. Н. Заволоко (1897–1984), смолоду неустанно засевавший не слишком богатое поле староверческой печати. Непосредственное детище его трудов – журнал «Родная старина». На протяжении двух последних десятилетий своей жизни он постоян но сотрудничал в «Старообрядческом церковном календаре». Один из образцов богословской публицистики – статья И. Заволоко о сущности и значении «Поморских ответов».17
Богословское содержание несли печатные выступления отца П. Ф. Фадеева (1904–1964), наставника, издателя журнала «Старая вера». Достаточно сослаться на его сочинение «О спасении человеческом», исполненное душевных призывов неуклонно следовать Христовым заповедям.18 Как и отец Михаил, обладавший природным даром и способностью к литературной работе, Порфирий Федорович путём самообразования развил и закрепил врождённые качества.
Уроки пастырской деятельности М. А. Власова заключаются в том, что сегодня знание и толкование священных текстов – краеугольных камней вероучения – непременное условие деятельности наставника более, чем когдалибо раньше. Ввиду стремительно меняющегося времени, невиданного прежде воздействия на прихожанина окружающей среды, предельно обострилась необходимость действенного сочетания в духовном наставнике основательной богословской подготовки и светской образованности.
17 Заволоко И. Н. Поморские ответы и их значение для старообрядчества // Старообрядческий церковный календарь на 1973 год, 1972. С. 3–5.
18 Фадеев П. Ф. О спасении человеческом // Старая вера, 1933, № 4.
И мы, старообрядцы, не имея ныне видимого таинства св. Причащения и совершителей таковаго, получаем всё же возможность по вере в Исуса Христа причащаться духовно согласно слов св. Афанасия Александрийского и св. Григория Богослова. Это духовное приобщение к Телу и Крови Господним происходят и при посредстве познания слова Божия... В настоящем веке мы имеем только то единственное благо, если питаемся Плотию Его и пием Кровь Его не только в таинстве (евхаристии), но в чтении Писаний, ибо истинное брашно и питие, которое приемлется из слова Божия, есть знание Писаний».14
В заметке к 130летию со дня рождения отца Михаила он именуется начётчиком, апологетом староверия.15 Понятие «начётчик» ныне употребляется редко, хотя в начале ХХ века именно начётчики составляли действенную силу в распространении древлеправославного вероучения, являлись ведущими носителями и проводниками старой веры, обогащаемой их ревностным внушением. Традиции начётничества пришли из Выговского общежительства, существовавшего на территории Карелии с конца XVII до середины XIX вв. К сожалению, в настоящее время они во многом утрачены. Данное обстоятельство нередко становится темой обсуждения на страницах староверческих изданий.
«Начётничество в Древлеправославной Поморской Церкви» – под таким заглавием была опубликована статья духовного наставника Невской Поморской общины (СанктПетербург) отца Владимира Шамарина в рижской газете «Меч духовный».16 Основной тезис статьи состоит в том, что, по словам о. Владимира, начётничество – это форма образования, глубокое знание апологетической литературы, свободное её цитирование, умение убедительно передавать догмы вероучения в устном и письменном виде и таким же образом защитить их в случае необходимости. В пер вом ряду начётчиков отец Владимир видит выдающихся деятелей
14 Власов М. Почему у староверов нет видимого причастия. Рига, 2003. С. 38–40.
15 Поморский вестник, 2005, № 3 (18). С. 5.16 Шамарин В. Начётничество в Древлеправославной Поморской Церк
ви // Меч духовный, 2006, № 20, апрельиюнь. С.3.
154
Заслуги М. А. Власова на ниве служения Старой Вере и христианского просвещения значительны, его труды должны стать предметом обстоятельных исследований наряду с выявлением и изу чением фактов биографии этого незаурядного человека.
Vasilijs BaRanoVSkIS
„Dieva likumā mācīts dienu un nakti...”Mihaila Vlasova 135. dzimšanas dienas piemiņai
Raksts ir veltīts vecticībnieku garīgā tēva, ievērojamā vecticības apolo-ģēta Mihaila Vlasova (1875–1958) dzīves gājumam. 20. gadsimta sākumā M. Vlasovs vairākkārt piedalījās dažādos disputos par ticības pamatiem, 1930. gados, jau kā vecticībnieku garīgais tēvs, aktīvi iesaistījās Latvijas vecticībnieku draudžu dzīvē. Vecticībnieku vidē viņš guva atzinību kā Baz nīcas kanonu un Svēto Rakstu pazinējs, arī kā senkrievu grāmatnie-ku tradīciju turpinātājs, vērtīgas mājas bibliotēkas īpašnieks.
1930.–1940. gados M. Vlasovs publicēja polemiskus rakstus Rīgā iz-do tajos vecticībnieku periodiskajos izdevumos. Vairāki viņa darbi nav zaudējuši aktualitāti un tiek atkārtoti publicēti arī mūsdienās. 1926. ga-dā uzsākto garīgo kalpošanu vecticībnieku draudzēs (Daugavpils rajonā, Rīgā, Preiļos) viņš turpināja līdz savai pēdējai dienai.
Труды М. Власова, как и богословские сочинения Гавриила Фролова, Симеона Егупёнка, Иоанна Заволоко – безусловный вклад в духовное, историкокультурное наследие староверия. Будет ли это наследие умножено, зависит от понимания нынешними и завтрашними пастырями своего предназначения, умения проповедать ценности древлеправославия, от их готовности «всегда дать ответ вопрошающему», быть на высоте своего положения. Речь идёт о судьбе Староверческой Церкви, дальнейшем её существовании.
Как известно, древнерусская письменность, книжность, культура зарождались в монастырях. Ныне, в условиях упразднения в странах Балтии русских школ, маяками и очагами сохранения рус ского языка и культуры призваны стать храмы, общественные центры при них. Наставник в данном случае – личность, призванная воспитывать в прихожанах интерес и уважение к своему культурному наследию.
В 1931 году Гребенщиковская община издала сборник «Слово о современной жизни», включивший и статью М. Власова «Все так делают...». Недавно она была переиздана в «Поморском вестнике».19 Сочетая в себе свойства поучения и проповеди, богословскую весомость и глубокое изложение, статья носит злободневный характер, ибо её автор был провидцем судеб староверия.
Приведем выдержки: «... Среди современного народа имеется почти для всех одно лестное, обманывающее человека и его душу оправдание, которое годится для всякого рода проступков, для всякого греха, для всяких дурных и неразумных привычек. Это оправдание звучит так: «Так принято», «Не мы одни так поступаем», «Все так делают»... Нам нельзя и не нужно считаться с тем, что и как принято, с другими расхожими бездумными фразами: «не мы одни так поступаем», «все так делают», а неуклонно делать и делать только то, что угодно Богу. А угодно Ему, чтобы человек делал всё, чем Господь прославляется по слову Святого Евангелия: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного» (Мф. 5,16: зач.11).20
19 Власов М. А. «Все так делают ...» // Поморский Вестник, 2010, № 22–23. С. 4–5.
20 Там же. С. 5.
156 157
Особое место в его жизни заняла подробная разработка и издание Церковного Богослужебного Устава. В 1935 году Даниил Да выдович разрабатывает и издаёт «Устав Церковной Службы (старообрядческий) на 1936 год. Воскресные и праздничные дни».5 В этом Уставе Даниил Давыдович Михайлов подробно описывал всю структуру Богослужения. Повторно этот труд был переиздан, но уже более сжато, два года спустя, в 1938 году, в Эстонии.6
Даниил Давыдович также разработал и издал общую структуру Древлеправославного Богослужебного Устава (этот материал был признан настолько значимым, что позднее был неоднократно переиздан в старообрядческих церковных календарях). В этом типовом Уставе предусмотрено и подробно расписано совмещение воскресных служб с четверичными, шестиричными и полиелеосными святыми, служба воскресная и храмовому святому, воскресная и Богородичная служба, служба воскресная и предпраздненству Господских и Богородичных праздников, служба попраздненству и отданию двунадесятых праздников в неделю. Этот материал яв ля ется большим подспорьем для уставщиков при составлении современного Богослужебного Устава. Именно к нему при возникновении спорных вопросов в церковной службе обращаются уставщики.
В 1941 году Даниил Давыдович принял приглашение Двинских староверцев и благословляется на наставничество в Даугавпилсскую Новостроенскую старообрядческую общину.7 С неутомимой энергией он отдаёт свои силы наставническому служению.
Необходимо сказать ещё об одном поле деятельности Даниила Давыдовича Михайлова – духовном подвиге – переписке и восстановлении из небытия богослужебных книг. Отец Даниил из своих личных средств «возвращал к жизни» потрепанные и беспощадно изорванные древние книги. Многие он переписывал сам. Пожалуй, реставрация и переписка книг была одним из самых любимых его занятий.
5 Устав церковной службы (старообрядческий) на 1936 год. Воскресные и праздничные дни. Составил уставщик Рижской Гребенщиковской общины Д. Д. Михайлов. Рига: Издание РГСО, 1935. 195 с.
6 Древлеправославный Устав Богослужебния. Составил Уставщик Риж ской Гребенщиковской общины Д. Д. Михайлов по Церковному оку. Тарту: Издатель наставник Л. С. Мурников, 1938. 71 с.
7 Старообрядческий церковный календарь на 1973 год, 1972. С. 76.
о. Иоанн ЖИЛко
даниил давыдович Михайлов: к 125-летию со дня рождения1
Всем нам хорошо известны имена маститых поморских староверцев: Льва Сергеевича Мурникова, Ивана Ульяновича Ваконья, Иосифа Ивановича Никитина, Лаврентия Силовича Михаилова, Ивана Исаевича Егорова, Ивана Никифоровича Заволоко. Каждый из них достоин памяти и почитания, каждый из них оставил яркий след в истории староверия. Но среди этих достойных имён нами, к сожалению, почти уже забыто имя ещё одного яркого труженика староверия, духовного наставника Даниила Давыдовича Михайлова. В 2010 году исполнилось 125 лет со дня его рождения.
Родился Даниил Давыдович 24 декабря 1885 года в городе Двинске (ныне Даугавпилс). С раннего детства он посещал храм Гайковской староверческой общины. С десяти лет стал причетником. Рано потеряв отца, Даниил Давыдович трудился вначале на кафельном заводе, а затем в Двинском железнодорожном депо. Но тяготы жизни не охладили пыл в вере. Путём самообразования и под присмотром церковных учителей Даниил Давыдович постиг азы церковной грамоты, выучил церковный устав и знаменное пение.2
В 1927 году, после смерти матери, он переехал в Ригу, где поступил в штат Гребенщиковской общины в качестве ведущего канонарха. Уже через два года ему поручили руководить уставом службы и исполнять обязанности певческого старосты. Кроме служения Богу, Даниил Давыдович тесно сотрудничал с кружком «Ревнителей русской старины», писал статьи в журналах «Наставник»3 и «Родная старина»4.
1 Прим. ред. Статья написана в 2010 году. 2 Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: крат
кий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 243.3 См. публикации Д. Д. Михайлова: Наставник. Рига: Издание Совета
Рижской Гребенщиковской общины, 1937, № 1. С. 14–16; № 2. С. 12–14; № 3. С. 4–7.
4 Например, см.: Михайлов Д. Д. Андрей Дионисович // Родная старина, 1929, № 7. С. 10–11.
158 159
Емельяновны, Миропия Емельяновна Ершова передала настоящую книгу «Песнопений» в моё – Даниила Давыдовича Михаилова, личное распоряжение. Книга оказалась сильно потрёпанной во время неоднократных военных бомбометаний. Но в основе своей чудесно сохранившейся. По исправлении ея, не желая пользоваться ею, в своё время написанной и поднесенной как дар, я решил настоящий свой труд вторично внести как пожертвование Двинской старообрядческой Новостроенской общине. В память незабвенности Никиты Кириловича Шалкина, Комиты Емельяновне Портновой, уроженки Ершовой, сестры ея Антонине Емельяновне Ершовой и Константина Романовича Портнова. Да будет настоящий мой труд, посвященный памяти моих друзей, постоянным напоминанием для тех, кои будут возносить свои молитвы к Всевышнему Творцу, о суетности сего жития, и о неисповедимости судеб Божиих, постигающих всякого человека в мире живущаго. Аз же многогрешный потрудившийся написанием сей книги Д. Д. Михаилов, прошу и молю всех братий о Христе, любителей Божественного пения, не забудьте и меня грешнаго, в своих молитвах, по отшествии моем от сея жизни. Да по неизреченным Своим милостям, Любвеобильный Владыка Господь дарует мне, грешному и недостойному труженику, списавшему сию книгу, Свои великия милости на Своем Святом и праведном Страшном Судищи, и неосужденна мя сподобит великих Своих Благ… Бог же мира да будет со всеми нами, всегда и безконечныя веки. Аминь.
1947 года, 15 августа, в день Преславнаго Успения Пресвятыя Богородицы. Наставник: Д. Д. Михайлов».9
В этой записи сформулирована вся философия христианской жизни. Кратко её можно изложить так – искреннее служение Богу, любовь к ближнему (братьям во Христе) и забота об умерших.
Как правило, все книги Д. Д. Михайлов дарил в храмы. В книжнице Рижской Гребенщиковской общины выделяются две книги, подаренные Д. Д. Михайловым – «Апостол» 10 и «Триодь»11.
9 Рукописная книга «Праздники». Рукопись Даниила Давыдовича Ми хайлова.
10 Апостол (Деяния святых апостол списана святым апостолом и евангелистом Лукою). Москва, 1564. Книжница РГСО.
11 Рукописная книга «Триодь». Рукопись Д. Д. Михайлова. 1945–1946 гг. Книжница РГСО.
В коллекции Даугавпилсской Новостроенской общины сохранилась тетрадь с подробным описанием освящения восстановленного храма: «Сия тетрадь составлена и написана в 1943 году. Ко дню освящения старообрядческаго храма в городе Двинске на Но вом строении, пострадавшего от пожара бывшаго в 1941 году, в начале войны с гитлеровцами. Освящение храма происходило в 1943 году 8 февраля в воскресенье в неделю Блуднаго сына. Устав службы составлен по книге: Большой потребник по чину Освящение «Церкви», наставником Даниилом Давыдовичем Михаиловым. Под его же руководством происходило и само освящение храма».8 Чуть более полутора лет понадобилось для восстановления крупнейшего храма Латгалии. В этой же тетради на последних листах есть подробное описание устава на освящение храма в 1965 году, когда был произведён внутренний капитальный ремонт.
В Новостроенском храме до сих пор пользуются певческими рукописями отца Даниила. Это и Ирмосы, написанные им в 1945 году, два Обихода, написанные в 1945 и 1946 годах. Это и книга «Праздники» с уникальной дарственной записью, которую необходимо привести полностью: «Во славу Святыя и Живоночальныя и Неразделимыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Написана сия святая книга: «Собрание Божественныхъ Песнопений» на праздники Господских и Богородичных, и нарочитых святых, в городе Риге, в 1929 году. И принесена как дар, от имени написавшего сию святую книгу Даниила Давыдовича Михаилова, «Девичьему любительскому хору», состоявшему при Рижской Гребенщиковской общине, в день его десятилетняго существования. Означенный «Девичий любительский хор», в течение своего десятилетнего существования, находился под руководством, покойной памяти, головщика Гребенщиковской общины Никиты Кириловича Шалкина и учительницы Комиты Емельяновны Ершовой. Оба они по неисповедимым судьбам Божиим окончили свою жизнь преждевременно. Н. К. Шалкин в 1936 году, а К. Е. Ершова в 1943 году. И «Девичий хор», за отсутствием руководителей, почти прекратил своё существование. В 1945 году 30 июня, сестра покойной Комиты
8 Рукописная тетрадь из библиотеки Даугавпилсской Новостроенской общины.
160
имя великого труженика староверия – отца Даниила Давыдовича Михайлова. Его трудами мы пользуемся и поныне, ими будут пользоваться и наши потомки. Имя отца Даниила Давыдовича Ми хайлова не должно угаснуть в нашей памяти, не должно быть предано забвению.
tēvs Ioans ŽILko
Daniils Mihailovs: 125. dzimšanas dienas piemiņai
Daniila Mihailova (1885–1973) vārds šodien ir nepelnīti aizmirsts. Rak sta autors sniedz šā vecticībnieku garīgā tēva izvērstu dzīves gāju- ma izklāstu, apkopojot kā publicētus, tā arī līdz šim nepublicētus avotus. D. Mihailova aktivitātes bija saistītas ar dažādām jomām: viņš pētīja un sistematizēja vecticībnieku dievkalpojuma tradīcijas, vecticībnieku izde-vumos publicēja rakstus par Baznīcas un vecticības vēsturi, kolekcionēja, restaurēja un pārrakstīja senkrievu rokrakstu krājumus.
Rakstā apkopoti dati par D. Mihailova restaurētajām dievkalpojuma grāmatām un pārrakstītajiem rokrakstu krājumiem, kuri atrodas Dau - gavpils Jaunbūves vecticībnieku draudzes kolekcijā un Rīgas Gre benšči-kova vecticībnieku draudzes grāmatu krātuvē.
«Апостол» Ивана Фёдорова (1564 года издания) Михайлов с большой любовью привёл в порядок. Он каждый лист оклеил бумажной «рамкой», дописал недостающие листы, собственноручно переплёл и за собственные средства заказал для верхней обложки образ «Сошествие Святаго Духа». Этому изданию «Апостола» несколько лет назад была посвящена конференция в Даугавпилсе. И именно этот «Апостол» раз в год, на Светлый праздник Пасхи, читается в СвятоУспенском храме Гребенщиковской общины.
Другая книга из книжницы Рижской общины – рукописная «Триодь» имеет следующую запись: «Триодь постная, части I и II (полная). Божиею помощию написал сию святую книгу Триодь постную, с переложением устава на БЕЗСВЯЩЕННОСЛОВНОЕ уло жение (Безпоповщинское), двинский наставник Новостроенского храма Даниил Давыдович Михаилов, в лето от Рожества Хрис това 1945 и 1946». Объём книги составляет 458 листов, а так же 17 листов дополнения с подробным уставом полного круга службы Благовещению Пресвятыя Богородицы. И это лишь малая толика книг, которые спас от уничтожения Д. Д. Михайлов.
Забота о своей пастве, работа с книгами и неимоверная нагрузка подорвали здоровье отца Даниила, и в 1960 году он ушел на покой. На пенсии, которую ему платила Новостроенская община, он прожил недолго. 4 января 1973 года отца Даниила Давыдовича Ми хайлова не стало. Закончился его жизненный путь. Погребён отец Даниил на старообрядческом кладбище города Даугавпилса.
В некрологе, который был опубликован в «Старообрядческом Церковном календаре на 1973 год», написано: «Рукописные труды Даниила Давыдовича Михайлова, обладателя солидной библиотеки, составленный им Устав церковной службы, его глубоко содержательные статьи в Старообрядческом календаре и журналах, будут служить доброй памятью об этом выдающемся, благочестивом, широко эрудированном старце, у которого можно было многому поучиться».12
Много известных имён и достойных личностей в балтийском староверии. Помнить о них – наша святая обязанность. Но из этого числа, хочется верить – изза досадного недоразумения, выпало
12 Старообрядческий церковный календарь на 1973 год, 1972. С. 76.
162 163
влюбился и заслал в семью девушки сватов. Поженились и обратно, уже вдвоем, уехали в СанктПетербург.
Манефа Лукьяновна хоть и была моложе мужа, но оказалась мудрой женщиной. Позже она рассказывала родственникам о муже и своей жизни: «Он был добрый и надежный человек, с ним было легко, хорошо. Богатства большого не нажили, но были счастливые. Никогда не пожалела, что вышла за него замуж».3
Во время революции, как рассказывала Ирина Семеновна, семья оставалась в России, некоторое время жила даже в Варшаве. По воспоминаниям Манефы Лукьяновны, они с супругом были легкими на подъем, сменили почти 30 мест жительства, их сыновья – Семен и Артем – погодки, родились в Двинске (Даугавпилс) в 1905 и в 1906 гг.
В начале 1920х годов семья Дорофеевых вернулась в Даугавпилс. В 1926 году были предприняты работы по завершению строи тельства храма Новостроенской общины. Деньги на их проведение выделило латвийское правительство по ходатайству известного староверского деятелядепутата Сейма Латвии М. А. Каллистратова (1896–1941). Была образована особая строительная комиссия, в которую входил и И. В. Дорофеев.4
В Старообрядческом календаре на 1928 год сообщается, что в Даугавпилсской Новостроенской общине 1259 прихожан, наставник – А. И. Екимов, а председатель – И. В. Дорофеев.
В мае 1930 года «Двинский голос» писал, что на общем собрании самой крупной в Даугавпилсе старообрядческой общины, как обычно, избирался исполнительный орган общины – Совет; в не го были переизбраны депутат Сейма Г. С. Елисеев (1896–1967) и И. В. Дорофеев.5 В подписи к фотографии членов Совета И. В. Дорофеев назван «бывшим долголетним председателем общины» (фото 2). В эти же годы Игнатий Владимирович был и причетником Даугавпилсской Новостроенской общины.6
3 Там же.4 Старообрядческий календарь на 1928 год. Под редакцией наставни
ка А. И. Екимова, Даугавпилс, 1927. С. 81–82.5 Газета «Двинский голос» от 7 мая 1930 года. Цит. по: Жилко А. Н.
90 лет храму Рождества Пресвятой Богородицы и Святителя Николы в городе Даугавпилсе. Даугавпилс, 1999. С. 21.
6 Старообрядческий календарь на 1931 год. Издание председателя Ду ховной Комиссии старообрядцев Латвии, наставника А. И. Екимова. Дау гавпилс, 1930. С. 81.
Илларион Иванов
Игнатий владимирович дорофеев: страницы биографии
Игнатий Владимирович Дорофеев (1876–1951) – духовный наставник и председатель Сове та Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины. И. Н. За волоко назвал его апологетом ста рообрядчества и толкователем Священного Писания, соби рателем старинных книг и рукописей (фото 1).1
Родился И. В. Дорофеев в Лат галии 29 января 1876 года в старообрядческой семье. Известно, что у него был брат Савин, ко торый жил в то время в Санкт Петербурге. Достигнув трудо способ ного возраста, к нему перебрался Игнатий. Очевидно, получив образование, он стал ра
ботать там же на Северозападной железной дороге. В архиве его внучки, Ирины Семеновны, хранится удостовере ние железнодорожного служащего № 21008. Судя по надписи на фотографии 1914 года, возможно, Игнатий Владимирович был машинистом.2
В один из своих приездов в Латгалию Игнатий увидел девушку Манефу, которая была на 12 лет моложе его (1888 года рождения),
1 Заволоко И. Н. О старообрядцах г. Риги и Земгалии (1660–1760–1960). Машинопись. Хранится в библиотеке Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины.
2 Здесь и далее из воспоминаний Ирины Семеновны Рипы – внучки И. В. Дорофеева. Записано автором, Рига, Дарзциемс, июль 2012 г.
1. И. В. Дорофеев. Конец 1940-х гг. Архив И. С. Рипы
164 165
Завершился, может быть, самый лучший период в жизни латвийского староверия. Приближались трагические 40е годы, и все невзгоды этих лет выпали на долю Л. С. Мурникова, И. В. Дорофеева, причт, Совет и прихожан Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины. Нужно было проявить мудрость, стойкость, веру, чтобы сохранить общину, ее имущество, сохраненные предками духовные и культурные ценности – иконы, древние книги и рукописи – и жизни самих людей. 1940–1941гг. – национализация имущества, репрессии: арест и гибель В. Г. Кудрячева (1869–1941), арест и ссылка И. Н. Заволоко (1897–1884), убийство М. А. Каллистратова…
1941–1944 гг. – немецкая оккупация: захоронение советских солдат, погибших в Риге летом 1941 года, установка в следую щем году памятника на их могилах, последовавшие за этим репрессии; защита от захвата нацистами золота с купола колокольни и других ценностей.8 Расстрел К. Р. Портнова как одного из акти вис тов по сбору средств на памятник. Вторая половина 40х
8 Емельянов А. Т. Акт христианского долга и гражданского мужества // Поморский Вестник, 2005, № 2(17). С. 11–12.
В конце 1930х годов наставник Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины Л. С. Мурников (1882–1945) пригласил Игнатия Владимировича в Ригу. Нелегко было решиться ему перебраться на постоянное жительство и работу в Гребенщиковскую общину. Над миром нависла угроза войны и связанные с ней потрясения были вполне реальны. А у Игнатия Владимировича еще не зажила тяжелая рана – преждевременная трагическая кончина младшего сына Артема. К счастью, был старший сын – Семен. Его семья и появившиеся внуки – Слава и Ира – были его утешением (фото 3). И они с Манефой Лукьяновной решились на переезд в Ригу. 7
7 Емельянов А. Т. О. Игнатий Владимирович Дорофеев // Поморский Вестник, 2005, № 3(18). С. 39–41.
2. Фотография из Старообрядческого церковного календаря на 1931 г. Совет I Двинской старообрядческой общины
на Новом Строении, 1930 г.Сидят слева направо: член совета Малафей Леонтьевич Сидоров,
член совета Игнатий Владимирович Дорофеев (б. долголетний председатель общины), тов. председателя Филимон Савельевич Куприянов, председатель общины Самсон Еремеевич Щербаков,
член совета Тимофей Леонтьевич Сидоров, член совета, депутат Сейма Григорий Савельевич Елисеев, староста храма
Полиект Ларионович Данилов.Стоят слева направо: член совета Михаил Дмитриевич Фильков,
секретарь общины Терентий Никитин и тов. секретаря Авксентий Маркиянович Балабкин. Отсутствует казначей общины
Акинф Полиектович Данилов
3. Семейный снимок. 1949 г. Архив И. С. Рипы
166 167
странение было приостановлено властями.10 Этот номер называли «нелегальным» или пробным. К подготовке и изданию этого календаря о. Игнатий Дорофеев приложил много сил и взял на себя немалую ответственность.
На долю И. В. Дорофеева выпало много испытаний, это не могло не повлиять на его здоровье: последние два года своей жизни о. Игнатий Владимирович тяжело болел. Скончался он 14 июня 1951 года, похоронен на Ивановском кладбище в Риге, рядом с ним покоится Манефа Лукьяновна, почившая 23 января 1979 года.
О. Игнатий Дорофеев оставил о себе добрую память. Манефа Лукьяновна после смерти мужа, разбирая комод в его келье, обнаружила пачку квитанций о перечислении денег нуждающимся староверам. Игнатий Владимирович обладал немалым собранием книг и рукописных материалов. После его смерти часть этого собрания поступила в РГСО, – в нем насчитывается 10 рукописей и 72 печатные книги, среди которых есть издания XVII в., редкие старообрядческие сочинения (издания подпольных типографий XVII в., варшавские и львовские издания), труды по палеографии, иконописанию, крюковому пению и другие. 11 Однако большинство материалов, собранных И. В. Дорофеевым, попало в руки рижских коллекционеров.
10 Поташенко Г. Старообрядческий церковный календарь // Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши. Вильнюс, 2005. С. 393.
11 Заволоко И. Н. Собрание рукописей и старопечатных книг Д. Н. Пер шина и И. В. Дорофеева в Рижской Гребенщиковской общине // Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы. Т. XVI. М.Л., 1960. С. 567–569.
годов – продолжение национализации имущества религиозных организаций и передача храмов в долгосрочную аренду; перерегистрация общин, сопровождавшаяся закрытием многих общин и изъятием храмов.
Однако именно в эти 40е годы издаются старообрядческие календари на 1943 и на 1944 год. В 1943 году выходит единственный номер журнала «Путь духовный». В 1945 году покидает земную жизнь старший наставник и председатель Совета РГСО Лев Сергеевич Мурников. Отца Игнатия Владимировича избирают председателем Совета общины, и он полностью оправдал надежды членов РГСО и нес свой крест с честью и достоинством до са
мого последнего вздоха.9 В 1946 году о. Игнатий Дорофеев, сам вы ходец из Даугавпилса, приглашает в РГСО своего давнего друга Лаврентия Сило вича Михайлова (1913–1985). В эти годы И. В. Дорофеев – не только наставник и председатель Совета РГСО, но и кандидат в члены Президиума Высшего старообрядческого Совета (ВСС) в Литовской ССР. ВСС в Литовской ССР являлся органом управления Старообрядческой Поморской Церкви между Соборами на всей территории СССР с октября 1944 по март 1990 года (фото 4).
В 1948 году ВСС в Литовской ССР не получил разрешения от властей на издание календаря. Но, несмотря на запрет, в 1949 году РГСО выпустила номер церковного журнала с календаремуказателем церковных праздников и постных дней, однако его распро
9 Протокол № 1 заседания Совета Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины от 29 июля 1945 г. Архив РГСО.
4. О. Игнатий с причетниками РГСО. Слева направо стоят: Л. С. Михайлов, П. Ф. Фадеев, А. Д. Макеев. 1948 г., август. Архив И. С. Рипы
169
кристина новИкова
наставники Рижской Гребенщиковской общины в период «хрущевских гонений»
Наставники являются духовными руководителями общины. Они выбираются из достойнейших староверов и благословляются на службу в общине. Избрание и благословение отца духовного на служение Церкви возводит наставника на почетное и первенствующее место в общине. Часто именно авторитет наставников сохранял и укреплял староверческую общину.
Эпоха правления Никиты Сергеевича Хрущева была одной из самых сложных для религиозных конфессий Советского Союза. В этот период гонения на религию, Церковь и верующих приобрели идеологический характер. Во времена правления Сталина Церковь играла важную роль во внешней политике государства, поэтому отношение властей к религиозным общинам было достаточно лоя льным. В период правления Н. С. Хрущева Церковь стала рассматриваться в качестве идеологического врага, преграды для построения коммунизма. Стремление правительства Н. С. Хрущева создать общество без религии привело к упадку и даже ликвидации многих религиозных общин.
Несмотря на неблагоприятные политические условия, Рижская Гребенщиковская старообрядческая община продолжала активно развиваться и во времена правления Н. С. Хрущева. РГСО была центром старообрядчества в Балтии, хранительницей традиций и устоев староверия. Важную роль в поддержании активной жизни и деятельности общины играли прихожане, члены общины и наставники, которые, вопреки давлению со стороны атеистической власти, продолжали оставаться верными своей Вере и своей общине.
Наставники были ответственны за духовную жизнь членов общины, следили за соблюдением церковных канонов, совершали бо гослужения и требы. Несмотря на тяжелое для религиозных общин время, количество богослужений в Рижском СвятоУспенском
Illarions IVanoVS
Ignatijs Dorofejevs: biogrāfijas lappuses
Ignatijs Dorofejevs (1876–1951) ir vecticībnieku garīgais tēvs, seno grā - matu un rokrakstu krājējs un pazinējs. No 1920. gadu sākuma viņš ak-tīvi iesaistījās Daugavpils Jaunbūves vecticībnieku draudzes darbībā, bija arī šīs draudzes ilggadējs priekšsēdētājs. 1930. gadu beigās kopā ar sievu viņš pārcēlās uz Rīgu un kļuva par Grebenščikova draudzes garīgo tēvu, bet 1945. gadā tika ievēlēts par draudzes padomes priekšsēdētāju. I. Dorofejevs aktīvi piedalījās izdevējdarbībā un draudzes dzīvē, it īpaši smagajos 1940. gados. Viņa uzkrātās grāmatu un rokrakstu kolekcijas daļa atrodas Grebenščikova draudzē, taču daudz grāmatu „aizceļoja” uz Rī gas bibliofilu plauktiem.
170 171
Это было время кардинальной смены состава наставников общины – за один год вместо привычных прихожанам наставников духовной жизнью общины стали руководить неизвестные до тех пор Евлампий Григорьевич Кругляков и Евстихий Мокиевич Трошков.5
Отец Трофим Афанасьевич Каштальянов родился в 1888 году в деревне Шпаки, Режицкого (Резекненского) уезда. Он был с детства связан со старообрядческими традициями и уже с ранних лет выполнял обязанности чтеца в местном храме, а в 16летнем возрасте стал служить в нем же головщиком. С РГСО жизнь отца Трофима Афанасьевича Каштальянова была связана с 1932 года, когда он поступил в штат общины певчим. В последующие годы он выполнял также обязанности помощника наставника, однако пост наставника занял только в 1951 году. На этом посту он прослужил 12 лет. В 1963 году он был вынужден по состоянию здоровья оставить службу в общине.6
Если отец Трофим Афанасьевич Каштальянов занимался в боль шей мере вопросами духовной жизни общины, то наставники Порфирий Феодорович Фадеев и Иван Иулианович Ваконья внесли большой вклад также и в развитие культурной жизни.
Порфирий Феодорович Фадеев родился в 1904 году в глубоко верующей семье и с ранних лет воспитывался в традициях древлеправославной веры. В причт РГСО он поступил в 19летнем возрасте и вскоре стал головщиком Успенского храма.7
Уже с этого времени Порфирий Феодорович Фадеев активно участвовал не только в духовной, но и в культурной жизни общины, занимался также хозяйственными вопросами. Его культурная деятельность началась на посту руководителя хора Кружка ревнителей русской старины. В последующие годы он возглавлял Певческое староверческое общество Латвии, создал отделения этого общест ва при Нидеркунской, Стародворской, Москвинской и др. общинах.
5 Дубовская Е. Духовные наставники Рижской Гребенщиковской общины (1760–2005) // Поморский Вестник, 2005, № 3 (18). С. 55.
6 LVA, ф. 1419, оп. 1, д. 47, л. 79.7 Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: крат
кий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 421.
храме во времена Хрущева не уменьшилось: если в 1951 году в храме было проведено 468 богослужений1, то в 1963 году их число возросло до 7742.
Стойкость, сила духа, ответственность наставников гораздо в большей мере проявлялись в годы гонений, нежели в спокойные времена. В Латвийской ССР все вопросы, связанные с деятельностью религиозных общин, решались в Совете Уполномоченного по делам религии. В условиях тотального контроля именно наставники были теми, кто защищал интересы общины перед Советом Уполномоченного по делам религии. От отношений между на ставником и председателем Совета Уполномоченного по делам религии зависело очень многое. Хорошие отношения были залогом предоставляемой материальной помощи, в которой общины в послевоенные годы очень остро нуждались, плохие отношения могли привести к снятию наставника с регистрации, т. е. к запрещению ему совершать богослужения, к репрессиям против общины и ее членов. Во времена наставничества Льва Сергеевича Мурникова, которые пришлись на довоенный – военный – послевоенный период, а, точнее, с 1935 года по 1945 год, была заложе на основа достаточно хороших отношений с председателем Совета Уполномоченного по делам религии Юлием Францевичем, которые продолжались также и во времена правления Н. С. Хрущева.3
В годы правления Н. С. Хрущева наставниками РГСО были отец Иван Иулианович Ваконья, отец Трофим Афанасьевич Каштальянов и отец Порфирий Феодорович Фадеев, однако последний про служил в РГСО лишь до 1954 года, когда был направлен в качестве наставника на службу в Елгавскую старообрядческую общину.4 Отец Иван Иулианович Ваконья и отец Трофим Афанасьевич Каш тальянов прослужили в РГСО до 1963–1964 года, когда по состоянию здоровья были вынуждены отказаться от наставничества.
1 Latvijas Valsts Arhīvs (Латвийский Государственный архив, далее LVA), ф. 1448, оп. 1, д. 29, л. 3.
2 Там же, д. 211, л. 119.3 Там же, д. 90, л. 3.4 Там же, ф. 1419, оп. 1, д. 47, л. 133.
172 173
Отец Иван Иулианович Ваконья активно участвовал в образовательной и культурной жизни староверия, опубликовал много статей в «Старообрядческом церковном календаре», основной темой которых было стремление объединить различные направления староверия.13 И отец Иван Иулианович Ваконья стремился под держивать хорошие отношения с аппаратом Уполномоченного по делам религии Латвийской ССР, так как это играло важную роль в решении различных хозяйственных вопросов: в выдачи на ставникам разрешений на поездки, в поставке материалов для ремонта храма и т. п.
Длительное время эти три наставника служили в РГСО вместе, но при этом каждый занимался своей областью деятельности: почтенный и уважаемый отец Т. А. Каштальянов больше занимался духовными вопросами; активный, целеустремленный отец Порфирий Феодорович Фадеев – финансовыми и хозяйственными вопросами, отец Иван Иулианович Ваконья – вопросами культуры и управления. После того, как в 1954 году Порфирий Феодорович Фадеев ушел с поста наставника, вплоть до 1963 года в общине служили только два наставника.
Следует сделать вывод, что именно благодаря верности наставников своему долгу, их огромному желанию сохранить активную жизнедеятельность общины, стало возможным успешное развитие общины в столь нелегкое для староверия время.
13 Михайлов Л. С. Памяти наставников И. У. Ваконья и Т. А. Каш тальянова // Старообрядческий церковный календарь на 1967 г. С. 154–155.
Разумеется, наибольшие достижения в области культурной жиз ни общины были достигнуты в предвоенный период. Во времена советской власти Порфирий Феодорович активно участвовал в издании «Старообрядческого церковного календаря», написал в календарь много статей.8
Принимая во внимание его заслуги перед общиной, Совет общины в 1951 году предложил Порфирию Феодоровичу Фадееву занять место наставника РГСО. В течение ряда лет, служа в качестве наставника, он успешно занимался решением самых важных, насущных вопросов. В 1951 году благодаря его встрече в Москве с председателем Совета Уполномоченного по делам религии СССР, был отменен непосильный для общины государственный налог9, Порфирий Феодорович Фадеев предлагал также открыть в общине производство свечей, чтобы избежать затрат на их транспортировку из Москвы и упростить процесс их закупки.10 В качестве наставника РГСО отец Порфирий Феодорович прослужил всего 3 года. В 1954 году он был переведен в Елгавскую старообрядческую общину.
Большой вклад в развитие РГСО внес вероучитель, видный дея тель Древлеправославной Церкви Иван Иулианович Ваконья. Он родился в 1883 году и с самого детства был связан с РГСО, где получил свое первое образование, а с 11ти летнего возраста уже состоял в причте РГСО. Дальнейшая его жизнь была связана с Елгавской общиной, а также с рядом даугавпилсских общин.11 В 1950 году Ваконья вернулся в Ригу, и в этом же году стал наставником общины, а в следующем – 1951 году – стал ее председателем.12 Иван Иулианович Ваконья был любим в общине, взрослые уважали и ценили его за отзывчивость, порядочность, честность, за его постоянную готовность помочь нуждающимся, дети любили его за доброту и щедрость.
8 Памятные даты. 40летие со дня смерти о. Порфирия Феодоровича Фадеева (1904–1964) // Поморский Вестник, 2004, № 2 (14). С. 42.
9 LVA, ф.1448, оп.1, д. 90, л. 10.10 Там же, л.14. об., л. 15.11 Михайлов Л. С. Памяти наставников И. У. Ваконья и Т. А. Кашта
льянова // Старообрядческий церковный календарь на 1967 г. С. 154–155.12 LVA, ф. 1419, оп. 1, д. 47, л. 86.
175
kristīna noVIkoVa
Rīgas Grebenščikova draudzes garīgie tēvi „hruščova vajāšanu” laikā
Ņ. Hruščova valdības deklarētais mērķis izveidot ateistisku sabiedrī bu pastiprināja asu ideoloģisko cīņu pret visām reliģiskajām konfesijām Pa-domju Savienībā. Šādā sarežģītā situācijā Rīgas Grebenščikova draudze turpināja darbību, saglabājot savu autoritāti vecticībnieku vidē ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.
Raksta mērķis ir aizpildīt robus pagaidām tikai fragmentāri pētītajā Grebenščikova draudzes padomju perioda vēsturē. Balstoties uz līdz šim nepublicētiem Latvijas Valsts arhīva fondu materiāliem, rakstā ana - lizēta triju vecticībnieku garīgo tēvu – Ivana Vakoņjas (1883–1965), Tro - fima Kaštaļjanova (1888–1966) un Porfirija Fadejeva (1904–1964) – dar-bība 1953.–1964. gados.
елена ЮХИМенко
Иван никифорович заволоко и выговская культура
Выдающийся деятель староверия XX в., Иван Никифорович За волоко был глубоким знатоком древнерусской и старообрядческой культуры. В этом человеке удивительно гармоничным образом соединились верность древнему православию и стремление к научному знанию, духовное наставничество и археографические поиски. Драматическая личная судьба не лишила его неподдельного интереса к жизни и способности к широким душевным порывам.
Зная неспокойную, полную перемещений юность Ивана Никифоровича, можно только удивляться, как быстро и основательно молодой старообрядец стал разбираться в истории, иконописании, книжном и музыкальном наследии. Детство в Двинске, учеба в рижской гимназии (1905–1918), недолгое обучение в московской ПетровскоРазумовской сельскохозяйственной академии в Москве (1918–1919), возвращение в Ригу, отъезд в Прагу, где И. Н. Заволоко пять лет (1922–1927) провел в плодотворной среде русской эмиграции. Исключительное значение этого периода для становления личности Ивана Никифоровича и приобщения его к подлинной научной школе – школе академика Никодима Павловича Кондакова, убедительно, на новых архивных материалах показано в статье Михаила Ржоутила в 4м выпуске сборника «Старообрядчество в России».1
Вернувшись из Чехословакии, Иван Никифорович полностью погружается в жизнь рижского старообрядческого общества: создает Кружок ревнителей старины, начинает выпускать журнал «Родная старина». Именно на страницах этого издания появляются первые статьи И. Н. Заволоко о выговской культуре.
1 Ржoутил М. Иван Никифорович Заволоко в Праге: Штрихи к биографии // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.) / Отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко. Вып. 4. М., 2010. С. 349–385.
176 177
Филиппова (в том числе из главы 43 «О преставлении Андрея Дионисиевича»).
Для этого номера И. Н. Заволоко написал статью «История Выгорецкого монастыря», в которой дает сжатый очерк начального периода становления Выга. Автор особо подчеркивает заслуги Анд рея Денисова: «Но не было долгое время духовного центра, объ единяющего староверство. Для этого нужен был человек, который объединил бы староверство живым словом, воодушевил раз розненные силы»2. И. Н. Заволоко говорит о закрытии общежительства в 1857 г. и, опираясь на текст доклада Ф. А. Каликина Второму Всероссийскому собору христианпоморцев 1912 г., описывает остатки монастыря. Заключительный абзац И. Н. Заволоко обращает к своим современникам: «Тяжелое раздумье вызывает эта картина разорения и забвения. Если разрушена обитель людьми, «не ведавшими, что творили», то вина забвения падает целиком на потомков ревнителей древлего благочестия. Не находим ли мы следов «мерзости запустения» на многих староверческих свя тынях и обычаях? Не является ли все это внешним отражением того духовного оскудения, которое начинает развиваться у старо верцев?»3.
К этой статье близок по духу биографический очерк Даниила Давыдовича Михайлова «Андрей Дионисович», который содержит емкую характеристику настоятельских трудов старшего Денисова, его писательских и ораторских дарований и также завершается при зывом к читателям: «Очнемся, братие, от спячки! Сбросим с себя иго врага рода человеческого, станем достойными потомками наших предков. Начнем с большей бережностью относиться к богатому наследию своих благочестивых отцов»4.
Стремясь всесторонне представить вклад Выга в культуру старообрядчества, И. Н. Заволоко поместил в 7м номере журнала статью, подписанную инициалом «О», «Выгорецкий монастырь – хранитель церковной старины»5 (этому же автору принадлежит, к примеру, заметка в 1м номере «Древнейшие иконы гребенщиков
2 Никифоров Ив. История Выгорецкого монастыря // Родная старина. Рига, 1929, № 7. С. 153 [репринт].
3 Там же. С. 154.4 Там же. С. 159.5 Там же. С. 155–156.
Исследователи отмечали, что выпуски «Родной старины» являлись по сути тематическими сборниками. Это, безусловно, так. Но следует обратить внимание еще на один важный момент, который становится очевиден, если обратиться к предпринятому М. Пашининым репринтному переизданию всей подборки целиком. Приступая к выпуску журнала, И. Н. Заволоко – недаром он окончил Пражский университет и посещал Семинарий Кондакова – имел продуманную программу и, исходя из этой программы, он формировал очередной номер. Стержневой линией периодического из дания стала история и культура Древней Руси и староверия в их исторической последовательности: Андрей Рублев и древнерусское деревянное зодчество, протопоп Аввакум, боярыня Морозова, древнерусский монастырь, история Соловецкого монастыря и Соловецкое сидение, история Выгорецкого монастыря, Ряпина мы за, Преображенское кладбище. К этим материалам добавляются отдельные тематические статьи и хроника, но вместе с тем читателю исподволь предлагается именно исторический подход.
Таким образом, уже эти ранние работы И. Н. Заволоко свидетельствуют о том, что их автор рассматривал Выговскую пустынь не внеисторично, а в тесной связи с предшествующей историей старообрядчества, видел в ней наследницу и продолжательницу тра диций первых учителей древлеправославия, считал ее самым главным центром староверия.
Материалы по истории ВыгоЛексинского общежительства помещены в 7м и 8м номерах «Родной старины». На первой странице обложки 7го номера воспроизведен заглавный лист рукописи «Поморских ответов» XVIII в. из собрания книг Рижской Гребенщиковской общины. Глубинное содержание номера рождается из соединения оригинальных исторических материалов с публикацией собственно выговских текстов. Открывают журнал фрагмент из 19й главы «Истории Выговской пустыни» Ивана Филиппова о духовной пользе почитания наставников и «Слово» Андрея Денисова «о девстве», восхваляющее добродетель девственной жизни. Далее публикуются два духовных поморских стиха («Стих пус тынножителей» и «Стих о киновиарсе Выгорецкаго общежительства Андрее Дионисовиче»), два отрывка из «Истории» Ивана
178 179
не раз выступал в Пушкинском До ме «в качестве авторитетного консультанта по крюковым (певческим) и поморским ру кописям»10.
И. Н. Заволоко посчастливилось найти уникальную рукопись, происходящую из Выговского архива, – «Выговский Чиновник», сборник подлинных соборных постановле ний и распоряжений вы говских киновиархов первой половины XVIII в. В нас тоящее время этот памятник издан факсимильно Глебом Валентиновичем Маркеловым с посвяще нием свет лой памяти Ивана Никифо ровича.11 Сам И. Н. Заволоко прекрасно понимал ценность своей находки. Он писал в письме В. И. Малышеву в ноябре 1967 г.: «Спешу сообщить Вам приятную новость. Последние 2 года были для меня весьма удачными. В результате моих поездок… у меня собралось свыше 40 рукописей. Есть довольно редкие: Октай XV в., Лицевое поморское Евангелие, Поморский сборник с автографами всех выдающихся деятелей Выгореции»12. В апреле 1974 г., после принятия решения о переда че в дар в Древлехранилище Пушкинского дома своего рукописного собрания, Иван Никифорович отправил в Ленинград три самые ценные рукописи: «Выговский Чиновник» и две роскошно украшенных певческих рукописи лексинского письма.13
Глубокий интерес к выговской культуре побудил И. Н. Заволоко обратиться к иконописцу, реставратору и коллекционеру Федору Антоновичу Каликину (фото 1), посетившему выговские места
10 Малышев В. И. Иван Никифорович Заволоко (К 75летию со дня рождения) // ТОДРЛ. Т. 27. Л., 1972. С. 462.
11 Выгорецкий Чиновник: Факсимильное воспроизведение рукописного сборника из Древлехранилища Пушкинского Дома, коллекция И. Н. Заволоко, № 3 / Изд. подг. Г. В. Маркелов. В 2 т. СПб., 2008.
12 Цит. по: Маркелов Г. В. Из истории собрания И. Н. Заволоко // ТОДРЛ. Т. 35. Л., 1980. С. 442.
13 Там же. С. 444.
ского молитвенного дома в Риге»). Автор указывает на существование особой, «поморской» школы в книгописном, иконописном, изобразительном и музыкальном искусстве. Из текста статьи очевиден интерес старообрядца, скрывшегося за литерой «О», к выговским иконам и лицевым рукописям. Сам Иван Никифорович опубликовал материал, посвященный поморской лицевой нравоучительной рукописи «Зерцало души».6
Две статьи выговской тематики перешли в следующий, 8й номер: сделанное И. Н. Заволоко изложение работы В. Г. Дружинина «Поморские палеографы» (под названием «Андрей Денисов – первый русский палеограф»)7 и фрагменты из книги Павла Григорьевича Любомирова «Выговское общежительство» (Саратов, 1924)8.
Всесторонний характер опубликованных в «Родной старине» ма териалов, посвященных Выговскому общежительству, прямое участие И. Н. Заволоко в их подборке и написании указывают на несомненный интерес молодого старообрядца к этой теме. Однако по уровню его собственных статей, все же компилятивных, чувствуется, что это только первое приближение Ивана Никифоровича к выговской тематике. В опубликованных материалах мы находим отсылки на поморские рукописи из собрания Гребенщиковской общины, А. И. Воловича, В. Г. Кудрячева и староверческого наставника в Латгалии.9 Тем самым ничто не указывает на то, что сам И. Н. Заволоко в 1927–1933 гг. имел в собственном владении такого рода памятники. Возможно, работа над журналом как раз и стимулировала собирательский интерес Ивана Никифоровича. Известно, что к 1940м гг. им уже была собрана первая коллекция рукописных книг, позже пропавшая.
Второй этап постижения Иваном Никифоровичем выговско го наследия начался в середине 1950х гг., когда он вернулся в Ригу и под влиянием Владимира Ивановича Малышева увлекся археографической работой. Этот интерес имел уже прочный фундамент прежних исторических работ и практического знакомства с выговскими рукописями. В. И. Малышев отмечал, что И. Н. Заволоко
6 Там же. С. 166–170.7 Родная старина. № 8. С. 184–185.8 Там же. С. 186–189.9 Родная старина. № 7. С. 150, 152, 156, 168.
1. Федор Антонович Каликин. Фотография И. Н. Заволоко.
1960-е гг.
180 181
письмо руки настоятеля Федора Петровича Бабушкина) и много различного формата тетрадок с отдельными писанными в этих тетрадках канонами разными почерками, но в поморском стиле (каноны различным святым), как потом выяснилось, как маленькие, т. е. краткие, синодики, а также и каноны – это келейные старушекскитниц синодики и каноны, тех, кои уже не могли ходить на общую молитву в часовню, они по ним молились дома. Изо всего этого книжного «богатства» Выгореции, уцелевшего к 1909 году, я, как теперь помню, отобрал (отложил) 2 синодика, большой и средний, и обгорелые святцы, что и купил у Николая Ник. Николай Николаевич сам был человек не книжный, но хорошо грамотный, в обращении приветливый и гостеприимный, мягкого и уживчивого характера, «незлобивого». Кроме указанных вещей – книг, за первый мой приезд на Выг у Лубакова мной не было куплено ни чего».15
И на Лексе, и в Данилове Ф. А. Каликин посетил староверские кладбища: «Единственная память от бывшего Лексинского монасты ря осталась, это три (кладбища) мертвые горки, но и они уже становятся пустыми (не от покойников, а от памятников), т. к. все
15 Там же. Л. 2 об.3.
еще в начале XX в., с просьбой рассказать подробно о тех поезд ках. Ответное письмо от 2 мая 1961 г. сохранилось в коллекции И. Н. Заволоко (Древлехранилище ИРЛИ. № 226).
Этот ценный эпистолярный источник содержит важные сведения не только о состоянии поморской обители после «Мамаева разорения» середины XIX в., но также об обстоятельствах находки и изучения некоторых памятников выговской культуры.
Ф. А. Каликин вспоминал, главным образом, о своей первой поездке 1909 г. Сначала он два дня провел на Лексе и ничего старинного («досюльного») там не обнаружил: у псковских поселенцев таких предметов не было. Потом поехал в Данилов:
«И вот, наконец, я попадаю в «Данилов», это небольшое селение с погостом и волостным правлением, остановился по рекомендации старика Филимонова на земской станции. Вот здесь, как только вошел в указанную мне комнату, я сразу почувствовал дыхание Выгореции: в комнате была не просто божничка для одной – двух икон, а полка во всю стену с иконами и писанными, и медными, т. е. меднолитыми».14
В Данилове Ф. А. Каликин познакомился с последним выговским большаком Николаем Николаевичем Лубаковым (из подписи на одной из фотографий в архиве Заволоко следует, что именно он запечатлен на фотографии 1892 г. – крайний слева) (фото 2).
«И вот я в келье, которая на плане значится «Большакова», я ее сразу признал, меня провели в моленную, в которой молились часы несколько старушек и один старичок, когда окончили службу, я познакомился с Ник. Ник. Лубаковым, последним большаком уже не существовавшего общежительства, и когда я коротко высказал цель своей поездки, то он: «хорошохорошо, пойдемте чай пить и обедать, а эти разговоры потом». <…> Ник. Ник. охотно показывает моленную и находящиеся в ней иконы и книги, но их, к сожалению, было немного, богослужебныя: это Часослов печатный, общая Минея, праздничн. Минея, Трефолой и 2 Триоди и Канонник, Псалтырь и уставчик со святцами, а затем несколько синодиков, один из них большой и писанные полууставом красивым почерком Святцы в 4ку полуобгорелые (как потом выяснилось,
14 ИРЛИ. Древлехранилище. Колл. Заволоко. № 226. Л. 1.
2. Вид Данилова (слева направо): монастырские ворота, келья «большакова», полуразрушенная колокольня, кладбище. 1892 г.
182 183
полка на высоте груди среднего человека и на этой полке стояло много (15–20) намогильничков – крестов вырезных разных форм и разного размера, (фото 4) эти намогильнички были врезаны в столбики и стояли на могилах, затем столбики подгнили и упали на землю и крестики от столбиков, в свою очередь, тоже выпали, и вот имито и была заставлена вся полка. Оказывается, как потом я узнал, Николай Николаевич имел обыкновение в каждую субботу утром, летом и зимою входить в эту «часовенку» и перед вырезными крестикаминамогильничками петь литию заупокойную с кадилом. За одной такой литией присутствовал и я, тогда Ник. Никем даже был прочитан самый краткий, «келейный», синодичек, упоминавший преставившихся настоятелей и старшей братии».17
Интересно описание въездных ворот Выговского мужского об ще жительства: «В первую поездку в Данилове главные ворота в бывшую ограду были еще хотя и покосившиеся, но целы и над ними были 3 иконы: Деисус с внешней стороны и икона Пресв. Бо гор. Тихвинской со стороны общежительства, главные ворота бы ли со стороны Выга неподалеку от кельи «большакова» и над
17 Там же. Л. 45.
намогильные кресты, столбики и голубцы были деревянные, то подгнили и попадали и остались очень немногие, за которыми раз в лето приходят люди из деревень и немного поправляют, но и их уже очень немного, остались лишь деревья, которых еще никто не рубит. (Это было в 1909 году, а теперь уже и этого нет, все срублено и горки распаханы.) А от монастырских построек не осталось и следа».16
О Данилове: «Побывал я и на «горках» – 2 кладбища: одно из них действующее, а другое для погребения закрытое, это горка, на которой покоятся тела бывш. настоятелей и киновиархов и всех первых насельников Выгорецкого общежительства, вся горка пред ставляет собой высокую рощу соснового леса, в центре этой рощи стояла часовня – не часовня, а нечто в виде сруба с крышей без потолка, без дверей и пола, до нее была занесенная снегом как будто тропа, вот по нейто я туда и добрался; в часовенке и вокруг нее оказалось много прислоненных к стенам (фото 3) разного вида и формы намогильных памятников – столбиков, очевидно подгнивших и упавших на землю, затем кемто поднятых и приставленных к стене часовни. На противоположной стене от входа имелась
16 Там же. Л. 1 об.
4. Резные иконы, упавшие с намогильничков в д. Тагозеро. Фотография Ф. А. Каликина 1913 г.
3. Намогильнички на кладбище с. Данилова. Фотография Ф. А. Каликина 1913 г.
184 185
и заставило нас с Вас. Григ. поставить вопрос: а не выгорецкое ли это литье? Но ответ был нами получен немного позднее»19.
Разыскивая для В. Г. Дружинина иконы с въездных ворот, Ф. А. Каликин поехал в Ярославль: «И вот за эту поездку в Ярославль мной были куплены в антикварном магазине складни 9ки, датированные 1719 годом, приобретение которых и дало нам основание их и им подобные считать поморским – выгорецким литьем. После чего решено литые медные иконы: складни, створы и Распятия с предстоящими собирать, т.е. приобретать, и уже к концу 13го года у В. Гр. было солидное собрание поморского литья, и уже было видно на собранном материале, как оно начиналось (первые отливки) и на чем оно кончилось (последние отливки), но привес ти все это в желаемую систему и обнародовать все это так и не удалось. Сначала война, потом революция, ссылка В. Гр, а затем и его смерть чуть не привели к потере всего его собрания, но часть вещей и очень ценных, в смысле их исторического значения, все же исчезли безвозвратно, а остальное по частям удалось мне приобрести и устроить в Отд. истории русск. культуры Эрмитажа».20
В конце письма Ф. А. Каликин замечал: «Следующие поездки ничем не отличались от первой, лучшие рукописи, как древние, так и поморские, были найдены в Поморье, т. е. в селениях на берегу Белого моря, а меднолитые иконы – это Выг и Заонежье (Шуньга, Толвуя, Кузаранда). А лучшее по качеству литья и цвета эмали были найдены и куплены на Выге, Ярославль и РомановБорисоглебск, и даже здесь, в Ленинграде. А в Поморье меднолитых икон почти совсем нет».21
Таким образом, благодаря настойчивости И. Н. Заволоко мы рас полагаем теперь письменными свидетельствами очевидца, видевшего состояние Выга в начале XX в. Особую ценность письму Каликина придает также то обстоятельство, что в следующую поездку, зимой 1912/1913 гг. им были выполнены фотографии остатков Выгореции. Этот ценный фотографический материал в максимальной полноте сохранился также в архиве И. Н. Заволоко.
19 Там же. Л. 34.20 Там же. Л. 78.21 Там же. Л. 10.
воротами была одна главка, крытая лемехом с крестиком, а когда я приехал с фотоаппаратом, то уже ни икон на воротах и крыши над ними не было, она рухнула, а иконы были сняты и увезены в Ярославскую область. Вас. Григ. решил их приобрести и послал меня их разыскать и приобрести»18 (фото 5).
Рассматриваемое письмо Каликина содержит также и важные сведения по истории собирания и изучения выговского литья: «Нужно заметить, что за первую поездку на Выг ни в Данилове, ни в его ближайших окрестностях мной не было приобретено ни одной меднолитой иконы, а были таковые куплены (приобретены) мной уже в отдаленных местах от Выга и куплены только потому, что они своим видом заставили меня ими заинтересоваться, качество их литья вызвало во мне к ним большой интерес, т. к. я с московскими меднолитыми старообрядческими иконами был знаком, а здесь я увидел меднолитые иконы чистой и четкой, и мягкой в пластике отливки с прекрасной по чистоте цвета выемчатой эмалью. Первые приобретения были: это небольшие двухстворчатые складни девятки (9ть лиц изображений). Вот этото качество
18 Там же. Л. 67.
5. Въездные главные («Святые») ворота мужского общежительства с. Данилова. Фотография Ф. А. Каликина 1913 г.
186 187
В 1964 г. Иван Никифорович составил большой фотоальбом под названием «Выгореция. Памятники древнерусского искусства на Выге». Ныне он хранится в Древлехранилище Пушкинского Дома, коллекция Заволоко, № 353 (фото 6).
Фотографии подписаны (обратим внимание на важность этого обстоятельства!) и систематизированы по разделам. Первый – «Зодчество» (фото 7). Сюда вошли фотографии не только Выга и Лексы, но и окрестных скитов.
Второй раздел – «Иконопись». Здесь помещены фотографии, вы полненные в 1913 г. в Данилове; иконы, на них изображенные, по всей видимости, безвозвратно исчезли.
Три других раздела содержат иллюстрации, главным образом, более позднего времени и отражают принцип комплексности, которым руководствовался И. Н. Заволоко в изучении выговского культурного наследия.
В раздел «Орнаменты рукописей» (фото 8) вошли фотографии с рукописей из собрания самого И. Н. Заволоко и В. Г. Дружинина. Представлены, главным образом, роскошные выговские заставкирамки.
Далее следует раздел «Резьба по дереву». Сюда И. Н. Заволоко помещает как фотографии со своих резных деревянных икон, так и снимки Ф. А. Каликина, запечатлевшего остатки выговского и лексинского кладбищ в 1913 г.
Последний раздел – «Литье» (фото 9). Здесь мы находим фотографии с вещей самого Заволоко, а также разрезанные хромолитографированные листы, выполненные в начале 1920х гг. в качестве иллюстрации к исследованию В. Г. Дружинина о медном литье. По всей вероятности, эти листы были получены Иваном Никифоровичем от Ф. А. Каликина.
Как показывает представленный материал, интерес к выговской культуре сопровождал Ивана Никифоровича Заволоко на протя жении всей его жизни. Глубинной основой этого интереса являлся тот факт, что для всего старообрядчества, вне зависимости от позднейших разделений, выговское наследие было общим и самым ценным, высочайшим образцом духовных устремлений и профессионального мастерства. Соприкосновение со школой 9. Лист из альбома
«Выгореция»
6. Титульный лист фотоальбома «Выгореция. Памятники древнерусского искусства на Выге», составленного И. Н. Заволоко. Рига, 1964 г.
7. Лист из альбома «Выгореция»
8. Лист из альбома «Выгореция»
189
Михал РЖоУтИЛ
Переписка И. н. заволоко с Семинарием им. н. П. кондакова(на материале пражских архивов)
В своей долгой и непростой жизни выдающемуся деятелю бал тийского староверия, археографу, коллекционеру и педагогу Ивану Никифоровичу Заволоко (1897–1984)1 пришлось пройти не один тернистый путь – арест, войну, исправительнотрудовой лагерь, сибирскую ссылку... Но перед этими мытарствами была и другая жизнь. Временем становления Заволоко как ученого, безусловно, можно считать его пребывание в Праге с 1922 по 1927 год.
Tема переписки Ивана Никифоровича Заволоко с членами Семинария имени Никодима Павловича Кондакова тесно связана с темой пражского «пятилетия» юного Заволоко, исследованной нами в уже изданной статье2, поэтому просим принять ниже приведенные заметки в качестве небольшого дополнения к этой работе.
Итак, по своим собственным словам3, Иван Никифорович в Пра ге регулярно посещал заседания самого авторитетного гуманитарного научного учреждения российской эмиграции – «Семинария»
1 См.: Мекш Э. Б. И. Н. Заволоко – подвижник старообрядчества в Латвии // RES. 1997. T. 69. Fasc. 1/2. С. 89–98; Памяти Заволоко Ивана Никифоровича. Сборник статей и материалов, посвященных 100ле тию И. Н. Заволоко. Рига 1999; Духовный собеседник: Светлой памяти И. Н. Заволоко: Фотоальбом. Рига, 2002; Мекш Э. Б., Пазухина Н. В. Заволоко Иван Никифорович // Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 175–181; Пономарёва Г. М., Шор Т. К. Г. Е. Фролов и И. Н. Заволоко: история духовного общения (1927–1930) // Русские старооб рядцы: язык, культура, история: Сборник статей к ХIV Международному съезду славистов. М., 2008. С. 268–279; Агеева Е. А. Заволоко Иван Никифорович // Православная Энциклопедия. Т. 19. М., 2009. С. 478–480.
2 Ржоутил М. Иван Никифорович Заволоко в Праге: Штрихи к биографии // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.). Отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко. Bыпуск IV. M., 2010. С. 349–385.
3 Пазухина Н. В. И. Н. Заволоко: вехи жизненного пути // Памяти Заволоко Ивана Никифоровича... С. 50.
Н. П. Кондакова побудило И. Н. Заволоко к рассмотрению выговской культуры во всей совокупности ее разнообразных проявлений, к собиранию и изучению не только рукописей, но и икон, главным образом, меднолитых и резных деревянных. Причастность к этому научному миру подвигла Ивана Никифоровича пожертвовать собранные им ценнейшие памятники «на благо науки». Думается, этот выбор был для него, в прошлом наставника общины, очень трудным.
Jeļena JuhIMenko
Ivans zavoloko un Vigas klostera kultūra
Par Vigas klosteri (1694–1856), kam bezpriesteru vecticībnieku virzie-na vēsturē ir īpaša loma, Ivans Zavoloko (1897–1984) interesējās visa sa - va mūža garumā. Klostera vēsturi un tā iemītnieku darbību viņš pētīja plašākā vecticības vēstures kontekstā. Būdams nopietns senkrievu māk-slas un grāmatniecības pazinējs, I. Zavoloko augstu vērtēja Vigas klostera kultūras mantojumu. Viņa kolekcijā ir daudz rokrakstu krājumu, kuru izcelsme ir saistīta ar Vigas literāro tradīciju.
Īpaša uzmanība rakstā pievērsta Ivana Zavoloko un ievērojamā vec - ti cības kultūras pētnieka, restauratora Fjodora Kaļikina sarakstei par Vi-gas klostera vēsturi. Pēc I. Zavoloko uzdotajiem jautājumiem F. Kaļikins ir pierakstījis atmiņas un sistematizējis uzkrātos materiālus par saviem Vigas klostera apmeklējumiem 20. gadsimta sākumā. 1910.–1920. ga-du fotogrāfijas, kuras I. Zavoloko kā dāvinājumu ieguva no F. Kaļikina, 1964. gadā viņš apkopoja albumā „Vigorecija”, kuru vēlāk uzdāvināja Krievu Literatūras institūta (Puškina nama) arhīvam.
190 191
Института (Семинария) и частным лицам, входившим в состав участников сессий Института, а также несколько финансовых отчетов о продаже присланных из издательства Института книг, репродукций икон, открыток и т. п. 7
Cохранилось всего 15 писем Заволоко: три письма к казначею кружка, известному иконописцу княгине Наталии Григорьевне Яш виль (1861–1939), два письма к секретарю Дмитрию Александровичу Расовскому (1902–1941), по одному письму – заместителю директора Николаю Петровичу Толлю (1894–1985) и директору Института Александру Петровичу Калитинскому (1880–1940), а так же 4 письма без определенного адресата.8 Отдельно, в коррес пон денции ученого секретаря Семинария Николая Михайловича Беляева (1899–1930), сохранилось еще четыре письма Ивана Никифоро вича второй половины 1929 г.9 Иван Никифорович вел эту переписку вначале от своего имени, а позднее – от имени исторического вестника «Родная старина».
Переписка свидетельствует не только об интенсивном сотрудничестве Заволоко с Семинарием, но может послужить и дополнительным источником сведений о деятельности Ивана Никифоровича в Латвии, об издании журнала «Родная старина», а также о работе рижского «Кружка ревнителей русской старины».
Общеизвестно, что с самого своего начала старообрядческое дви жение было пропитано любовью к церковному искусству. Хо тя старообрядцы всех толков и направлений проявляли особое уважение к старине, среди староверов довольно быстро возникали собственные художественные приемы, причем не без влияния
7 Архив Институтa истории искусств Академии Наук Чешской Республики (AИИИ АН ЧР, Archiv Ústavu dějin umění AV ČR). Отд. документации. Фонд Института имени Кондакова, KI17. Корреспонденция Заволоко. В корреспонденции имеется также открытка, присланная Заволоко в Институт из Эстонии (дер. Ряпино) от 8 ноября 1930 г., в которой молодой старообрядец сообщает пражским коллегам о намерении провести в этом месте археологические раскопки.
8 AИИИ АН ЧР. Датировка писем: княгине Н. Г. Яшвиль – 7. 10. 1929, 1./14. 11. 1929, 1./14. 8. 1930, Д. А. Расовскому – 25. 8. 1930, 16. 2. 1931, Н. П. Толлю – 7./20. 11. 1929, А. П. Калитинскому – 3. 6. 1930, в Институт – 8. 1. 1930, 15. 2. 1930, 24. 12. 1931, ноябрь 1934 г.
9 AИИИ АН ЧР. KI31. Датировка писем: 21. 6. , 25. 7., 9./22. 9., 8. 10, все – 1929 г.
(с 1931 г. – Археологического института им. Н. П. Кондакова), осно ванного после смерти Никодима Павловича в апреле 1925 года его учениками. Руководили Семинарием Г. В. Вернадский и А. П. Ка литинский, в его состав входили М. А. Андреева, Н. М. Беляев, В. Н. Лосский, Т. Н. Родзянко, Д. А. Расовский, Н. В. Толль, Н. П. Толль, княгиня Н. Г. Яшвиль и др.4 Именно благодаря этим ученым зародился интерес Заволоко к древнерусской культуре, к ее научному изучению.
Иван Никифорович поддерживал отношения с Семинарием и после своего возвращения в Латвию. В списках лиц и учреждений, присылавших свои издания в Институт, можно найти фамилию Заволоко и название издаваемого им журнала «Родная старина».5 О контактах наглядно свидетельствуют также страницы самого журнала рижских староверов «Родная старина»6. Не только незаурядный уровень содержания этого журнала, но также высокое типографическое и полиграфическое качество этого издания позволяют, на наш взгляд, увидеть следы книжного дела пражского Семинария.
В депозитарии пражского Института Истории искусств (Ústav dějin umění), в котором находится архив бывшего Археологическoгo Институтa имени Н. П. Кондакова, хранятся письма И. Н. За волоко, отправленные в период 1929–1934 гг. из Риги в адрес
4 См.: Skálová Z. Das Prager Seminarium Kondakovianum, später das Archäologische KondakovInstitut und sein Archiv (1925–1952) // A Thousand – Year Heritage of Christian Art in Russia. Gent, 1990. C. 21–43; Roháček J. Nikodim Pavlovič Kondakov a jeho pražské dědictví // Dějiny a současnost 17/ № 2. Praha, 1995. C. 34–38; Rhinelander L. H. Exiled Russian Scholars in Prague The Kondakov Seminar and Institut // CSP, 1974. XVI, № 3; Беляев С. А. Из истории становления Семинария имени академика Н. П. Кондакова // Русская эмиграция в Европе. 20е – 30е годы XX века. М., 1996. C. 3–34; Басаргина Е. Ю. Археологический институт им. Н. П. Кондакова (Seminarium Kondakovianum). По материалам архивов Праги // Мир русской византинистики: материалы архивов СанктПетербурга. Ред. И. П. Медведева. СПб., 2004. С. 766–811.
5 Сборник статей по археологии и византиноведению, издаваемый Институтом имени Н. П. Кондакова. Т. V. Прага, 1932. C. 346. (Родная ста рина); T. VI. Прага, 1933. C. 249. (Заволоко); T. VII. Прага, 1935. C. 276. (Заволоко).
6 См. Родная старина. Староверческий исторический вестник. № 1. Рига, 1927. С. 16–17; № 5/6. Рига, 1928. С. 22; № 11/12. Рига, 1932. С. 275.
192 193
интересного. В одной рижской старообрядческой общине свыше 500 икон, правда, главным образом, поморского «скитского» письма, но есть и оригиналы новгородского письма. В Режице у меня зарегистрировано довольно много икон весьма древних (XV–XVI). Словом, буду ожидать с нетерпением Вашего приезда».12 Несмотря на успех лекций, прочитанных Беляевым в Риге, научной дружбе не дано было продолжиться. 23 декабря следующего года Николай Михайлович попал под трамвай на площади св. Вячеслава (Václavské náměstí) в Праге и трагически погиб. Судя по публикации в журнале «Родная старина», 13 января 1931 г. в рижском «Кружке ревнителей русской старины» состоялось траурное заседание по случаю кончины ученого, на котором Заволоко прочел краткое жизнеописание покойного, память которого была почтена вставанием.13
Переписка с членами Семинария дает также представление о некоторых затруднениях и хлопотах, связанных с изданием журнала «Родная старина». В письме Наталии Григорьевне Яшвиль от 14 ноября 1929 г. Заволоко писал: «Теперь, слава Богу, дела начинают поправляться. Выставка наряду с художественным успехом принесла около 25 000 латв. рублей (100 амер. долларов) чистой прибыли. В связи с этим продолжаем издание «Родной старины». Очередной номер будет посвящен церковному шитью».14 В следующем письме княгине, от 14 августа 1930 г., оптимизма уже гораздо меньше: «Теперь распространяется журнал туго. Пока воздерживаюсь издать 10 выпуск». Через год с небольшим в письме Семинару от 24 декабря 1931 года, И. Н. Заволоко снова сообщил об ухудшении условий издания: «Сейчас мое положение настолько затруднительное, что почти все мое скромное жалование (около 500 кч.15 в месяц за уроки Закона Божия) уходит на покрытие старых долгов местным кредиторам, в частности, по изданию журнала «Родная старина» (фактически я не только редактор, но и издатель, т. к. уже два года тому назад принял все дело издания на свою
12 Там же. Письмо от 25 июля 1929 г.13 AИИИ АН ЧР. KI17. Письмо Д. А. Расовскому от 16 февраля 1931 г.14 Там же. Письмо от 1/ 14 ноября 1930 г.15 Кч – кроны чехословацкие, денежная единица Чехословацкой Рес
пуб лики.
тогдашних модных течений. Иван Никифорович в этом смысле был преемником не только лучших традиций староверческого собирательства, но и проявлял глубокий интерес к новому церковному искусству. Письма к княгине Наталии Григорьевне Яшвиль свидетельствуют именно об этой грани его увлечений. Княгиня имела в Праге небольшую иконописную мастерскую, занималась также церковной вышивкой. Иван Никифорович просил прислать изделия ее мастерской в качестве образцов на выставку «Рус ская Икона», предлагал содействие в этой области: «Нам будет приятно и радостно иметь Ваши работы на выставке. В свою очередь, готовы будем и Вам помочь при устройстве выставки в Праге, ес ли понадобятся экспонаты нашего музея и мои личные (г. о. вы шивки)».10 Княгиня не отказала в помощи, и посетители выставки в Риге смогли любоваться (и купить) ее «Жития святых» и открытки.
Повидимому, именно в те годы Заволоко передал свои контакты с пражскими любителями иконописи другому выдающему деятелю балтийского староверия, Пимену Максимовичу Софронову. Переписка причудского изографа с княгиней Яшвиль постепенно перешла в научную дружбу, и Пимен Максимович позднее, в 1932, 1935 и 1936 г. вел курсы «иконного дела» в Праге.11
В связи с подготовкой выставки «Русская Икона» в Риге осенью 1929 г. Иван Никифорович интенсивно общался со знатоком древ нерусского, сербского и македонского искусства Николаем Михай ловичем Беляевым. Заволоко пригласил Беляева во время вы ставки прочитать лекции, и тот согласился. По поводу иконы новгородского письма «Благовещение Пресвятой Богородицы», обнаруженной им в храме Рижской старообрядческой общины, у Заволоко и Беляева также завязалась научная переписка. Заволоко предлагал пражскому ученому изучить иконы, хранящиеся в рижской и латгальских старообрядческих общинах: «В Риге (а если позволит время, то съездим и в Латгалию) Вы найдете много
10 Там же. Письмо от 7 октября 1929 г.11 См. Ржоутил М. «...Желание мое и попечение в том, чтобы не погиб
ло и не ушло в историю правильное иконописание». Письма иконописца П.М. Софроновa княгине Н.Г. Яшвиль 1930х гг. // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.). Отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко. Bыпуск V. M., 2013. С. 518–585.
194 195
Последнее письмо И. Н. Заволоко в Институт им. Н. П. Кондакова от ноября 1934 г. из Риги. АИИИ АН ЧР. Публикуется впервые
Фотография И. Н. Заволоко. Прага. 28 апреля 1922 г. АН ЧР
Письмо И. Н. Заволоко Н. М. Беляеву от 8 октября 1929 г.
АИИИ АН ЧР. Публикуется впервые
196
книги.19 Из этого можно заключить, что во время своего пребывания в Праге Заволоко выучил чешский язык настолько, что мог даже несколько лет спустя после возвращения в Латвию переводить научные тексты. Следовательно, можно предположить, что круг его общения и интересов в Праге не ограничивался только сре дой русских эмигрантов.
Таким образом, материалы пражских архивов и, прежде всего, письма в Семинарий им. Н. П. Кондакова наглядно свидетельствуют о том, что Иван Никифорович Заволоко являлся важным связующим звеном в научных контактах деятелей чешской, латвийской и русской культуры 1920х – 1930х годов.
Mihals RŽoutILS
I. zavoloko sarakste ar n. kondakova semināru (Prāgas arhīvu materiāli)
Rakstā analizēta Ivana Zavoloko (1897–1984) sarakste ar Prāgas Ni-ko dima Kondakova vārdā nosaukto semināru (vēlāk – Arheoloģijas insti-tūtu). Čehijas Republikas Zinātņu akadēmijas Mākslas vēstures institūta depozitārijā, kurā atrodas semināra arhīvs, ir saglabājušās 15 Ivana Za-voloko vēstules, rakstītas laika posmā no 1929. līdz 1931. gadam.
Vēstuļu saturs atklāj jaunas ziņas par I. Zavoloko un viņa vadītā Krie vu senatnes cienītāju pulciņa aktivitātēm šajā laikā. Sarakste liecina par I. Zavokolo ciešajiem kontaktiem ar semināra dalībniekiem, starp ku riem bija ievērojami zinātnieki – krievu emigrācijas pārstāvji. Vēstulēs skartās tēmas ir saistītas arī ar I. Zavoloko rediģētā žurnāla „Rodnaja starina” izdošanas jautājumiem, kā arī ir runa par Prāgas semināra iz-de vumu izplatīšanu Rīgā.
19 Там же. Письмо в адрес Института от 15 августа 1930 г.
ответственность). Каждый номер журнала дает около 1200–1500 кч. убытку. Этим объясняется временный перерыв издания».16 Таким образом, каждый выпуск исторического вестника «Родная старина» не только в идейном, но также и в материальном плане полностью зависел от сил и возможностей Ивана Никифоровича.
Судя по всему, Заволоко взял на себя миссию распространения изданий Семинария не только в Латвии, но по всей Прибалтике. Постоянным заказчиком книг Семинария являлся, например, видный рижский старообрядец Иван Ферапонтович Юпатов (1865–1944). Хорошая осведомленность в издательских делах Семи нария позволила И. Н. Заволоко постоянно заказывать из Праги книги, альбомы и другие материалы. В 1930 году в рамках II Балтийского археологического съезда в сотрудничестве с известным рижским издательством «Валтерс и Рапа» („Valters un Rapa”) оборудовал витрину изданий Семинария.17
Но эта деятельность приносила Ивану Никифоровичу и много хлопот. Экономическое положение Латвии в целом, самого Заволоко и его заказчиков, в частности, периодически ухудшалось. Поэтому он был вынужден сдавать книги на продажу в крупное латвийское издательство «Валтерc и Рапа», а иногда даже возвращать обратно часть заказов. Проблематичными являлись и денежные переводы в кронах. В Латвии они не осуществлялись, поэтому средства надо было переводить из Подкарпатской Руси, в ту пору – территории Чехословацкой Республики.18
Впрочем, ни дороговизна, ни затруднения, не препятствовали Заволоко в покупке книг, тематика которых его интересовала. Он заказывал также издания Чешской Академии Наук на чешском языке. В письме Семинару им. Н. П. Кондакова от 15 августа 1930 г. говорилось об отказе гна Юпатова купить монографию „Byzantské emaily Závišova kříže ve Vyšším Brodě”, изданную в Праге в том же году, поскольку она была на чешском языке. «Я изъявил готовность дать русский перевод, но это дела не поправило. Книга лежит пока у меня». В другом месте этого же письма Иван Никифорович писал, что «перевел и отпечатал» текст на таблицах вышеупомянутой
16 AИИИ АН ЧР. KI17. Письмо в адрес Института от 24 декабря 1931 г.17 AИИИ АН ЧР. KI17. Письмо Д. А. Расовскому от 25 августа 1930 г.18 Там же. Письмо в адрес Института от ноября 1934 г.
198 199
вопросы реконструкции собрания
К сожалению, не сохранились ни полный библиографический указатель, ни картотека всего книжного собрания, подготовленные самим Иваном Никифоровичем.
Для реконструкции библиотеки важно обозначить признаки этой коллекции. Есть книги, которые принадлежали Заволоко, а за тем были переданы в Пушкинский Дом. Есть книги, которые находятся в музее и книжнице Гребенщиковской старообрядческой общины. По отзывам членов «Кружка ревнителей старины», некоторая часть собрания Ивана Никифоровича хранилась у родст венников, у самих членов «Кружка ревнителей русской старины», у его друзей. И поныне книги, находившиеся в библиотеке Заволоко, иногда появляются у букинистов, в антикварных магазинах.
В последнее время стали появляться каталоги больших личных библиотек. Это происходит не только потому, что в каталогах фик сируются редкости, но и потому, что некогда весьма читаемые книги утрачиваются. Кроме того, по составу книг в личном собрании можно судить об интересах самого книжника, можно через личную библиотеку увидеть отсветы истории того времени. В свою очередь, каталоги таких знаменитых книжников, как Смирдина, СмирноваСокольского, Минцлова, Лесмана, Ульянинского служат букинистам, аукционистам, библиофилам, книговедам и прос то заинтересованным читателям прекрасными путеводителями в книжном мире.
Не менее интересно было бы реконструировать и основу книжного собрания Ивана Никифоровича Заволоко, создать роспись хотя бы известной части этой коллекции. В этой работе необходимо было бы обратить внимание на некоторые особенности, некие указатели на принадлежность книг именно И. Н. Заволоко. Самым достоверным указателем на принадлежность к библиотеке Заволоко являются маргиналии, автографы и пометы собирателя, тем более, что почерк Ивана Никифоровича очень своеобразен, легко узнаваем. Были книги с наклейкой книжного знака – экслибриса, выполненного в 1934 году художником Алексеем Юпатовым «Из книг
анатолий РакИтянСкИЙ
круг чтения И. н. заволоко: к вопросу о составе личной библиотеки
О важности библиографии как науки и фиксации состава не только государственных библиотек, но общественных и личных книжных собраний, особенно таких, каким было собрание И. Н. За волоко, споры, очевидно, неуместны. Проблема в другом: несмот ря на то, что ядро коллекции находится в разных хранилищах, до настоящего времени никто не пытался составить каталог книг И. Н. Заволоко с их аннотацией.
Нам неизвестен полный состав библиотеки Ивана Никифоровича Заволоко до его ареста в 1940 году и после возвращения его из заключения и ссылки. Вернувшись семнадцать лет спустя, после своего пребывания в Сибири, в Ригу он обнаружил пропажу личного архива. Он не нашёл большей части того собрания, той коллекции старопечатных книг, книг по истории, фольклору, рукописей, которые служили ему основой публикаций в журнале «Родная старина», еженедельнике «Двор», газетах «Слово» и «Сегодня», других периодических изданиях. Правда, некоторую часть архивных материалов, фотографий ему удалось спрятать в укромном месте в Латгалии и таким образом сохранить.
Очертить круг интересов Ивана Никифоровича, его круг чтения, можно сейчас по некоторым воспоминаниям людей, знавших его, прослеживая его публикации после возвращения из Праги, в начале 20х годов, а также на основе его рабочей тетради. Разумеется, с годами увлечения и интересы менялись, однако практически всегда его интересовала история и русская старина в целом. Так было в его студенческие годы в Праге, так было и в другие периоды его жизни.
200 201
Иоанна Никифорова Заволоко» (фото 1).1 Есть книги, переплетённые для Заволоко с тиснённой монограммой «И.Н.З.» на корешке тома (фото 2). Таково, например, собрание сочинений Д. С. Мережковского «Христос и антихрист» в 5 томах.2 Следующим признаком является овальный штамп «Книжница Кружка ревнителей старины при Ове Гребенщиковское училище». Такая печать, например, стоит на книге Д. С. Мережковского «Царство антихриста».3
круг чтения заволоко
Хотя нет каталога личной библиотеки 20–30х годов XX ве ка, утра ченной в результате ареста Заволоко, не зафиксировано и позднее книжное собрание, однако по косвенным признакам круг чтения собирателя можно наметить. Прежде всего можно выделить устные и письменные свидетельства его современников – Ю. И. Абызова, Б. Ф. Инфантьева, А. А. Завариной, Е. Н. Антимо новой, В. Г. Брюсовой и др. Так, Юрий Иванович Абызов отмечал, что на книжных полках И. Н. Заволоко было много изданий русских классиков XIX века. Это подтверждается программными статьями Заволоко «О русской мо лодёжи» и «Всем сёстрам по серьгам», опубликованными в 1921 го ду в молодёжном альманахе «Отклик»4 (фото 3) и составленным им «Календаремсправочником о русских писателях», где упоминаются более шестидесяти имён русских писателей.
Много подробных деталей к биографии И. Н. Заволоко можно найти в публикациях Б. Ф. Инфантьева5 и Б. А. Равдина6 в журнале
1 Ракитянский А. / Алексей Юпатов. 1911–1975/. Книжные знаки. Каталог. Рига, 2001. С. 7 (№ 8).
2 Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений. Т. 1–5. Москва: Тип. Тва И. Д. Сытина, 1914.
3 Мережковский Д. С. Царство антихриста. München: Drei Masken Ver lag, 1922. 255 с.
4 Отклик. Альманах русской молодёжи. Рига, 1921 год. 20 с. / Илл. Георгия Рыковского/.
5 Инфантьев Б. Странички воспоминаний об Иване Никифоровиче Заволоко // Даугава, 1998, № 4. С. 105–122.
6 Равдин Б. И. Н. Заволоко: от биографии к биографии // Даугава, 1998, № 4. С. 123–145.
4. Страница из записной тетради И. Н. Заволоко со списком книг
1. Книжный знак И. Н. Заволоко. Художник Алексей Юпатов
2. Инициалы И. Н. Заволоко на корешке книг из библиотеки
Заволоко
3. Обложка журнала «Отклик», основан И. Н. Заволоко
202 203
10. Чешихин Е. В. Крат/кая/ история Приб/алтийского/ края. 1894 г. 11. Меттих К. Илл/юстрированный/ путеводитель по Риге. 1901 г.12. Ветринский Ч. Среди латышей. 1901 г. 13. Самарин Ю. Общ/ественное уст/ройст/во Риги. Сочинения. Т. 7 14. Трусман?. Введение христ/ианства/ в Лифляндии. СПб. 1884.15. /Автор – нрзб/. Осада Риги царём Ал/ексеем/ Мих/айловичем/
в 1656 г. 16. Материалы для хроники Риги в 17971810 гг. Собр/анные/ Буль
мерингом. Риж/ский/ вестник. 1872. С. 151166. 17. Ясинский А. Н. Причины падения древней Ливонии. Юрьев
1898 г.18. Чешихин Е. В. Сборник материалов и статей по истории Приб/
алтийского/ края. Рига. 4 т. 19. Меттих К. /Mettich / Geschichte der Stadt Riga. 1897.
Уже по этому небольшому списку книг видны тематические прио ритеты И. Н. Заволоко. Некоторые наиболее интересные темы и содержание некоторых книг он прокомментировал в тетради. В свою очередь, говоря о других книгах, он указал на допущенные в них неточности. Так, например, на странице 15 тетради он заметил: « /В/ Примечаниях о городе Риге. М. 1798, /печатано/ в Университетской Типографии у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия (из музея Щукина). Исторический обзор. Много ошибок». И далее он отметил некоторые несуразности, допущенные в этой книге: то, что жара и морозы в Риге якобы гораздо сильнее, чем в Германии, овощи созревают поздно, осени почти не бывает, деревья не выдерживают северных морозов, а в лесах нет оленей, лосей и т. д. и т. п.
Удостоилась внимания Заволоко книга П. Г. Пшеничникова «Рус ские в Прибалтийском крае», работа А. А Завариной, довольно подробного комментария удостоился сборник материалов по истории Лифляндии, составленный Е. В. Чешихиным.
Составление росписей и каталогов частных библиотек очень трудоёмкая работа, однако, если бы такое издание было подготовлено, оно обязательно привлекло бы внимание исследователей раз ных специальностей, деятелей русской культуры.
«Даугава». Однако, как в этих статьях, так и в других работах практически не затрагивается весь состав книжного собрания библиофила и исследователя русской старины.
Сохранилась рабочая тетрадь Ивана Никифоровича, в которую он заносил названия книг, прочитанных им или же необходимых для работы в какойто конкретный период времени. К некоторым из этих книг он записал некоторые примечания или комментарии (фото 4). Сама тетрадь издана в 1975 году, а записи в ней датируются, вероятно, концом 70х – началом 80х годов ХХ века, когда Заволоко был уже в преклонном возрасте, поэтому его своеобразный почерк вызывает определенные трудности для прочтения, а местами просто не читаем. Книги из тетрадных записей указывают на интересы Заволоко, причем можно с большой вероятностью утверждать, что упоминаемые в тетради книги находились на его книжной полке. Некоторые из этих изданий публикуются ниже в транскрипции автора записей. Шесть изданий воспроизведены на обложке тетради, остальные взяты с 3й и 4й её страницы (порядковые номера книг в тетради отсутствуют).7
Список книг из рабочей тетради И. н. заволоко:
1. Новосёлов Ю. В старой Риге. СПб, 1906. 2. Пшеничников П. Г. Русские в Прибалтийском крае. Р., 1910.3. Заварина А. А. Семья и семейный быт русского старожильче
ского населения Латгалии во второй половине Х1Х – начале ХХ веков. Автореферат дисс. канд. ист. наук. Москва. 1955.
4. Пестель Б. В. Примечания о городе Риге. Изд. Московский Университет. 1798.
5. Нольде Б. Э. Юрий Самарин и его время. Париж. 1926. 6. Пасхалия. Выписка из энциклопедического словаря Брокгауза и
Эфрона. Т. /неразборчиво/. 1897. 7. Чешихин Е. В. История Ливонии с древнейших времен. Р. 1885.8. Са(п)унов А. Ре/к/а З/ападная/ Двина. Витебск. 1893. 9. Бордонос Н. Н Основы позем/ельных/ отношений в Лифл/янд
ской/ губ/ернии/. 1904 г. 7 Рабочая тетрадь И. Н. Заволоко. Рукопись. 24 с. /1975–1984?/.
205
Макcим ПашИнИн
врач и христианин И. М. Рошонок: пример жизненного пути
латвийского старовера в ХХ веке
История Старообрядческой Церкви в первую очередь складывается из истории ее приходов, моленных, судеб наставников и при четников. Но также неотъемлемой частью ее истории являются судьбы представителей старообрядческой диаспоры, чья жизнь уже много столетий переплетена с историей Латвии.
Выбор личности доктора Рошонка как представителя старообрядческой диаспоры одновременно объективен и субъективен. Субъективной причиной, отчасти, является то, что 20 сентября 2011 года отмечался 100летний юбилей со дня рождения Ивана Мат веевича. Также причиной является и то, что автор этих строк со школьных лет был дружен с семьей доктора Рошонка и когдато, будучи еще очень юным молодым человеком, получил из рук Ивана Матвеевича Евангелие с мудрым советом обязательно прочитать эту книгу. Через многие годы этот совет имел конкретные «последствия»: Рижская Гребенщиковская община пригласила уже выпускника Московского Историкоархивного института создать в Риге Старообрядческое издательство.
Предки Ивана Матвеевича Рошонка происходили из Белоруссии, изначально фамилия звучала как Рощенков. Из семейных пре даний известно, что прадед Матвей начинал работать в Риге дворником на постоялом дворе, был рачительным и бережливым, вскоре купил лошадь и сам стал заниматься извозом. Его сын Сте пан приумножил состояние и имел уже несколько лошадиных по возок, на которых работали наемные кучера и грузчики. Отец же Ивана Рошонка Матвей стал купцом Рижской гильдии, имел в Риге несколько домов и торговых заведений типа чайнаястоловая, мечтал купить себе большое сельскохозяйственное угодье, но разразилась Первая мировая война.
anatolijs RakItJanSkIS
I. zavoloko lasāmviela: jautājumi par personiskās bibliotēkas krājumu
Ivans Zavoloko bija viens no ievērojamākajiem Latvijas bibliofiliem, reto grāmatu un manuskriptu pazinējiem un kolekcionāriem. Tomēr jo - projām trūkst viņa personīgās bibliotēkas bibliogrāfiskā apraksta, jo lie-lākā viņa pirmskara kolekcijas daļa pazuda viņa aresta un izsūtījuma laikā, bet 1970. gados vērtīgāko no savas jaunās grāmatu kolekcijas viņš uzdāvināja Krievu Literatūras institūta (Puškina nama) arhīvam un ci tām bibliotēkām gan Rīgā, gan Maskavā un Sanktpēterburgā (toreiz Ļe ņingradā).
Tomēr ir iespējams rekonstruēt gan viņa 1920.–1930. gadu kolekcijas grāmatu katalogu, gan arī pēckara laikā izveidotās bibliotēkas saturu. Balstoties uz mutvārdu atmiņām, Rīgas bibliofilu norādēm un paša I. Za - voloko darba burtnīcām un melnrakstiem, ir iespējams izveidot viņa per-sonīgās bibliotēkas anotēto katalogu, kas būtu noderīgs gan mūsdienu grāmatu kolekcionāriem, gan visiem, kurus interesē krievu kultūras un grāmatniecības vēsture.
206 207
метов, организацией учебного процесса. Большинство учеников, русские по происхождению или из смешанных браков, воспитывались быть патриотами Латвии, быть лояльными латвийскому го сударству, но вместе с тем, воспитанники от души любили свою этническую родину – Россию.
Революция в России, свержение царя и установление коммунистической диктатуры привели русский народ в состояние нищеты и угнетения. Так считали и преподаватели, и ученики гимназии. Здесь сформировались общественнополитические взгляды Ивана Матвеевича. Поэтому неудивительно, что вскоре после гимназии он и его друзья (как он вспоминал, у него было пять сердечных друзей, один из них – Александр из знатного рода фабрикантов Кузнецовых) поступили в русское гимнастическое общество «Сокол», известное своими антибольшевистскими настроениями.
Иван Рошонок увлеченно постигал медицинскую науку. В то время готовили врачейуниверсалов, врач должен был уметь делать все: и операции, и принимать роды, и назначать курс лечения. Он готовил себя быть врачом в Латгальском предместье Риги, где в основном проживала бедная часть населения, особо нуждающая ся в помощи. В то время в Латвийском университете преподава ли многие известные медики, профессора бывшей СанктПетербургской военномедицинской академии, в том числе знаменитый про фессор Василий Николаевич Клименко (1868–1941).1
Летом, во время каникул, Иван Рошонок вместе со своим другом, в будущем – известным рентгенологом Владимиром Косинским (1908–1959)2, для повышения уровня профессиональных зна ний уезжали стажироваться в клиники Австрии. В то же время студент Рошонок находил возможность и для путешествий с друзьями по Латвии. Увлекался фотографией. У родных сохранились замечательные по художественной и исторической ценности снимки латышских и русских деревень, колоритных персонажей, латвийской природы. Находил студент Рошонок время и силы для занятий спортивной греблей.
1 Персоналии. Василий Клименко // http://www.russkije.lv/ru/lib/read/vasilyklimenko.html
2 Персоналии. Владимир Косинский // http://www.russkije.lv/ru/lib/read/vkosinsky.html
С юных лет маленький Ваня приучился каждое воскресенье ходить в моленную. Грамоте обучался, как и многие староверские дети, по азбуке и церковным книгам. В семье были еще дети, но два брата умерли во младенчестве, осталась сестра Зинаида. Когда Иван учился еще в начальной школе, и ему было только 11 лет, от тяжелой болезни умер его отец. Матвей Степанович всей душой желал, чтобы сын получил хорошее образование и составил завещание таким образом, чтобы Иван смог выбиться в люди. Как рассказывала его мама, вначале Ваня учился плохо, его даже оставили на 2ой год, но никто не мог понять, почему так происходит. Оказалось, у него было плохое зрение, и он не видел, что пишут на доске. Когда же ситуация была исправлена, он проявил большую тягу к знаниям и учился хорошо.
Во время учебы в Рижской Русской правительственной гимназии (Ломоносовской) особое влияние на него оказал преподаватель Н. И. Колосов (впоследствии – член Латвийского Географического общества). По словам Ивана Матвеевича, он был врожденный педагог, прививал ученикам любовь к книгам, разрешал пользоваться своей домашней библиотекой, учил конспектировать прочитанное, что в будущем Иван Матвеевич делал всю жизнь. Учитель Николай Иванович Колосов рассказывал ребятам правду о том, что тогда происходило в коммунистической России. По воспоминаниям Ивана Матвеевича, он говорил: «Латвия – место, где вы родились, она – ваша родина, а Россия – ваше отечество, и вы должны стараться стать сильными и умными, чтобы быть способными, когда понадобится, защищать как одну, так и другую».
В гимназию приходили православные священники, проводили занятия. Но учениковстароверов не принуждали посещать новообрядческие службы. Все эти годы Рошонок посещал староверскую моленную.
В 1929 году Иван Рошонок закончил Русскую гимназию и на лето уехал в латышскую деревню, чтобы в совершенстве выучить латышский язык. Это помогло ему поступить на Медицинский фа культет Латвийского университета.
Всю жизнь с благодарностью вспоминал Иван Матвеевич о Ломоносовской гимназии, восхищался уровнем преподавания пред
208 209
все тело. Как врач, он понимал, что жить осталось недолго. По его воспоминаниям, настал момент, когда он уже внутренне попрощался с жизнью и буквально выполз из барака, чтобы в последний раз увидеть небо. И тут снова ангелхранитель заступился за доктора Рошонка. Проходящий мимо зэк Янис Озолиньш буквально споткнулся об умирающего и с удивлением узнал в нем своего земляка Рошонка. Он привел его в санчасть и рассказал о том, что на зоне есть доктор.
В то время на зоне остро нужны были врачи, голод и болезни косили заключенных. Работа в медсанчасти спасла жизнь доктору Рошонку. Также и он сам, будучи врачом, спас жизнь многим заключенным ГУЛАГа.
Впоследствии доктор Рошонок рассказывал с улыбкой, что лагерь стал его «академией». Там, на зоне, он увидел цвет русской ин теллигенции, людей, которых, наверное, он никогда бы в жизни не увидел. Там были профессора, академики, писатели, поэты, специалисты в разных областях знаний, которые, несмотря на каторжный труд, продолжали интеллектуальное и духовное общение. Помогать и спасать товарищей по несчастью Иван Матвеевич счел своим долгом, как врач и христианин. С некоторыми, кто выжил, остались друзьями на всю жизнь: это профессор, биолог Василий Лаврентьевич Циопкало, знаменитый экономист, профессор Марков, врач Будников, Николай Амосов, профессор Чижевский и другие.
Примечателен случай, который произошел с племянником известного русского писателя Владимира Набокова – Платоном Набоковым. Уже будучи в другом спецлагере для политзаключенных (примерно с 1952 года), в Тайшете, в Сибири, Иван Матвеевич помог новопоступившему больному подольше остаться в санчасти, затем пристроил его там же санитаром, и тем самым спас ему жизнь. Их дружба, потом уже семьями, продолжалась многими де сятилетиями. Многие годы дружбы связывали Ивана Матвеевича и с другими бывшими узниками лагерей.
Самым неожиданным подарком судьбы и ГУЛАГа уже на исходе срока заключения стала встреча доктора Рошонка с его будущей супругой. Мирдза Авотыня попала в лагерь гораздо позже, после войны. Она была студенткой 2го курса Медицинского факуль тета Латвийского университета, входила в группу радикальной
В 1934 году Иван Матвеевич успешно окончил университет и стал врачом при Больничной кассе Московского предместья. Эта работа требовала самоотверженности. Прием в родовом доме на улице Ерсикас порой длился с утра до ночи. Кругом проживало много староверов и им он отказать не мог. Доктор Рошонок старался использовать народные средства: лекарственные травы, лече ние пчелами, пиявками и т. д. Многие его лекарства стоили значительно дешевле, чем у других врачей. Вскоре доктор Рошонок обзаводится семьей, до войны рождаются две дочери: Ксения и Анастасия (названы в честь погибших дочерей Николая II).
Еще со времен учебы в университете Иван Матвеевич вступил в студенческую корпорацию «Фратернитас Арктика», она объединяла студентов в некое братство, требовавшее от ее членов обязательной взаимоподдержки и соблюдения корпоративной этики. Чле ны корпорации отличались тем, что их дружба и взаимовыручка сохранялась в течение всей жизни.
Членство в обществе «Сокол» и корпорации «Фратернитас Арктика» стали роковыми для доктора Рошонка. Их идеал «За Бога, царя и отечество» был несовместим с советской реальностью, тем более, что Иван Матвеевич никогда и не скрывал своих взглядов. После установления советской власти в Латвии он в июне 1941 года был арестован. Можно сказать, ему «повезло», он был одним из последних, кого отправили по этапу из Рижской Центральной тюрьмы. Началась война, наступали немцы, и всех остальных заключенных тюрьмы расстреляли, ныне они лежат у Белого Креста на Первом Лесном кладбище. Из его друзей трое в 1944 году уехали на Запад (в том числе Александр Кузнецов), уехала и сестра Зинаида. Один друг погиб в Курземе в рядах Латышского легиона, другой после пыток чекистов умер в сумасшедшем доме.
В застенках тюрьмы в городе Владивостоке Ивана Матвеевича обвинили в шпионаже в пользу Германии, били, чтобы называл сообщников. Чтобы избавиться от пыток, называл фамилии уже умерших людей. Так «повезло» еще раз: дали не «вышку», а 15 лет лагерей, по статье 58, 1А.
Он был отправлен в особо секретный режимный лагерь Джезказган. Там царил голод и холод. От непосильного труда и истощения у Ивана Матвеевича начали опухать уже не только ноги, но и
210 211
я видела и знаю, как Вы заботитесь о своих больных, лишь бы им было хорошо и они выздоровели. Я настолько верю в Вас, что не представляю для себя другого врача. Конечно, это слишком эгоистичная мысль, потому что на Вас рассчитывают более тяжкие больные, чем я. Неправда, что у Вас «черствое» сердце, как Вы сказали мне, когда я еще лежала на столе после установки сердечного ритма. У Вас, доктор, чудесное, понимающее сердце, которое сочувствует любому страждущему. Я о Вас много хорошего слышала уже в Лиепае, но не думала, что когдато попаду к Вам. Всетаки у меня и в несчастье оказалось счастье».3
Он был врачом от Бога, это признавали и те, кто разделял его убеждения, и те, кто был его ярым противником. Доктор Рошонок очень уважительно относился к медперсоналу, ценил нелегкий труд медсестер. Для него не существовал регламент рабочего дня, тяжелых больных он контролировал и среди ночи. Отличительной чертой доктора был интерес к другим областям медицины, в том числе, к восточной дыхательной гимнастике, лечению голодом и т. д. Все эксперименты, в первую очередь, он проводил на себе.
Иван Матвеевич, пройдя испытания сталинских лагерей, не боялся высказывать своих взглядов. В доме Рошонков можно было обсуждать любые темы. Читали рассказы Шаламова о ГУЛАГе, по ночам передавали друг другу страницы, потому что машинописный текст давали только на одну ночь. На письменном столе стоял портрет Солженицына. В красном углу, как положено, была родительская икона с лампадой.
Доктору Рошонку часто приходилось выезжать по срочному вы зову по ночам в спецбольницу для коммунистовветеранов. Он не отказывал, помогал всем, независимо от убеждений и национальности. Приходилось лечить и партийных бонз и их родню, членов ЦК КПЛ Латвии, в том числе Рубениса и других. Но это давало ему внутреннюю свободу, он мог не бояться репрессий.
Втайне от семьи, дабы родные не боялись за последствия, участвовал в сборе пожертвований в помощь академику А. Д. Сахарову, когда тот попал в ссылку.
3 Архив семьи И. М. Рошонка.
молодежи – противников советской власти. Ее арестовали в 1947 году. Прокурор требовал смертной казни, но поскольку ей было толь ко 19 лет, дали «всего» 10 лет лагерей. Дальше – лагеря, лесоповал.
После 1953 года, когда умер Сталин, жестокость режима несколько ослабла, заключенных стали лучше кормить. Но появилась другая беда – болезни, кишечный энтеровирус. Требовались врачи. Поскольку после войны не хватало рабочей силы, зэков стали лечить. В 1954 году в Тайшетском лагере был устроен семинар по борьбе с энтеровирусом. Там Мирдза Авотыня узнала о докторе из Риги. Встреча объединила их судьбы. Вскоре Иван Матвеевич добился, чтобы М. Авотыня была переведена в его больницу как медсестра. В 1955 году вышел указ об освобождении Мирдзы, но ГУЛАГ еще 2 года не отпускал доктора Рошонка, хотя он жил уже на поселении. Заменить его как специалиста (главврач больницы на 1000 ко ек) было некем. В 1956 году его даже не отпустили на похороны лю бимой матери.
Наконец, 1957 год стал долгожданным годом освобождения. Иван Матвеевич вернулся в Ригу в телогрейке, с деревянной ложкой и щенком Джеком, сибирской лайкой. На руках были часы с сибирским временем (7 часов разницы), которые он не переводил всю оставшуюся жизнь. Вскоре доктор Рошонок создал новую семью, и в счастливом браке родились дочка Татьяна и сын Петр, крещенные в Рижской Гребенщиковской общине.
Первоначально, по личному требованию министра здравоохранения, доктора Рошонка собирались отправить подальше в провинцию. Но за него заступился известный врач, профессор Страдынь, и вскоре Иван Матвеевич стал крупнейшим специалистом кардиологомревматологом в больнице Страдыня. Но как бы ни рос его опыт и знание, он никогда не поддавался рутине, не позволял себе формально, небрежно относиться к чему бы то ни было. Миссия врача была для него частью христианского долга.
Вот что писала ему в 1969 году пациентка из Лиепаи: «Не знаю почему, но, находясь в 26м отделении, у меня было такое чувство защищенности, будто со мной ничего не может случиться. Всетаки какое большое значение имеет то, если ты видишь самоотверженность врачей, их жертвенность и порой даже любовь к больному. Особенно это относится к Вам. Потому что в 26м отделении
212 213
а Твой дед. Спасибо, что крестишься широким, размашистым крестом, тем крестом, каким крестились и крестятся русские уже 1000 лет, тем крестом, который помогал нашему народу вынести и княжеские междоусобицы и татарское иго, выгнать с нашей земли и турок, и поляков, и немцев, и шведов, и французов, помогал снести крепостное право и революцию, уничтожившую лучших лю дей с обеих сторон, и раскулачивание, уничтожившее русского крестьянина, и ужасы мясорубки, устроенной кликой Атиллы ХХго века, «отцом, вождем и учителем». Какое чувство гордости в душе у меня и какая радость в душе стоящих в храме, когда Ты, взойдя на клирос, крестишься как положено и кладешь свещу к иконе за счастье всех людей на свете. Я Тебе показал икону Николы Чудотворца, кому ставлю свещу за себя, Божьей Матери – за нашу семью и Христу – за наших, ушедших от нас близких».5
К сожалению, сын Петр умер в расцвете лет (1961–1996). Но род не прервался, остались дочери, внуки, правнуки.
Иван Матвеевич всегда много работал, и, как казалось, был неутомим, но неожиданная тяжелая болезнь прервала его земное су ществование на 72м году жизни. 28 января 1982 года доктора Рошонка не стало. Погребение совершил отец Лаврентий Михайлов в Гребенщиковской моленной, похоронили Ивана Матвеевича в родовой могиле на Ивановском кладбище.
Прошедшие 30 лет не стерли память о нем не только среди родных и близких, но и среди всего рижского староверия. В судьбе доктора Рошонка преломились основные вехи жизни как староверов, так и всего латвийского народа в ХХ веке. Это подъем, возмужание и становление периода Первой республики, испытания времен Второй мировой войны и сталинских лагерей. И последующее постепенное возрождение и стремление принести поль зу людям, несмотря на суровый пресс советской эпохи. Личность доктора Рошонка интересна, в первую очередь, тем, что в нем гармонично и естественно сочетались любовь к своей Церкви, к далекой отчизне – России, и любовь к своей многострадальной родине – Латвии. И, что очень важно, эта любовь никогда не провозглашалась, не была декларативна, она была сутью его жизни.
5 Архив семьи И. М. Рошонка.
В архиве И. М. Рошонка сохранилась часть переписки с известным биологом и генетиком, профессором А. А. Любищевым, опальным в те годы последователем академика Н. И. Вавилова, который боролся с лысенковщиной и деградацией селекционной науки. По ражает круг интересов двух друзей: это и генетика, и проблемы истории Древнего Новгорода, философия Тейара де Шардена, анализ творчества Сервантеса, и, конечно, проблемы современного общества.4 То были недолгие годы хрущевской оттепели.
Казалось, дверь в дом Рошонков никогда не закрывалась, здесь всегда можно было встретить представителей как русской, так и латышской интеллигенции, зачастую противоположных взглядов. В этом доме гостили известные светила латвийской медицины: про фессор Богоявленский, профессор Ильинский, нередко сам Иван Матвеевич гостил у профессора Страдыня, дружил с семьей профессора Рудзитиса, список можно продолжить.
Но, конечно, гостили и староверы. С конца 1970х годов Иван Матвеевич становится членом двадцатки Рижской Гребенщиковской общины, в советское время это была дополнительная ответственность и нагрузка. Вместе с детьми он ходил на службы, у каждого было свое место в храме. Старался помогать всем болящим. В шутку его называли личным врачом Гребенщиковской общины. Долгие годы хорошие отношения его связывали с настоятелем РГСО отцом Лаврентием Силовичем Михайловым и с Иваном Никифоровичем Заволоко. Последний, в силу возраста, особо нуждался во врачебной помощи.
Но, наверное, самым частым гостем у Рошонков был Петр Иванович Алексеев, старейший прихожанин и причетник Гребенщиковского храма, неисчерпаемый кладезь историй и рассказов о старообрядчестве, о самых разных областях истории. Их объединяла любовь к своей Церкви, к истории, к книгам.
Великолепный врач, Иван Матвеевич был талантлив также своим бескорыстием и своей верой. Среди писем, в семейном архиве, хранится его письмо сыну Петру: «Мой сын! Мой единственный, самый лучший, со всеми Твоими фокусами, которого не променяю на самого лучшего без фокусов!.. Спасибо за то, что вместе со мной стоишь на том месте (в храме – М. П.), где стоял мой отец,
4 Архив семьи И. М. Рошонка.
III
Vecticības vēstures un garīgā mantojuma pētījumi:
etnokonfesionālās identitātes tapšanas jautājumi
Исследование истории и духовного наследия староверия:
вопросы становления этноконфессиональной
идентичности
Иван Матвеевич всегда верил, что справедливость восторжествует, и Латвия снова обретет независимость. В разговорах с родными признавался, что есть у него заветная мечта, если Первая Республика восстановится, то ему хотелось бы стать послом Латвии в России…6 Но и другая мечта была у доктора Рошонка в последние годы – оставить свое поприще и поступить на клирос в Гребенщиковский храм, но, увы, этому не суждено было сбыться.
Maksims PašIņInS
Ārsts un kristietis I. Rošonoks: 20. gadsimta Latvijas vecticībnieka
dzīves gājuma piemērs
Rakstā ir aplūkots vecticībnieku vidē pazīstamā ārsta, rīdzinieka, vec- ticībnieka pēc izcelsmes, Ivana Rošonoka (1911–1982) dzīves gājums. I. Ro - šonoka panākumiem un dramatiskiem notikumiem bagātais liktenis ap-lūkots plašākā kultūrvēsturiskā kontekstā, pievēršot uzmanību gan viņa zinātniskajai un profesionālajai darbībai, gan viņa dalībai Grebenščikova vecticībnieku draudzes dzīvē. I. Rošonoka personība raksturota, parādot viņa attiecības ar ģimeni, tuviniekiem, draugiem, pacientiem un līdz-cilvēkiem.
I. Rošonoka biogrāfija atspoguļo gandrīz visus 20. gadsimta vēstures līkločus – Rīgā pavadīto bērnību un jaunību, veiksmīgu profesionālās dar bības sākumu Latvijas brīvvalstī, arestu 1941. gadā, izsūtījumu – Sta- ļina nometnēs pavadītos 15 gadus, atgriešanos Rīgā un intensīvu darbu medicīnā – un liecina par cilvēka pašapziņu un uzticību stingriem ga-rīgiem orientieriem. Tādējādi šī individuālā dzīves pieredze pārtop par vispārinātu vecticībnieka dzīves gājuma piemēru 20. gadsimta Latvijā.
6 Устные воспоминания Мирдзы Авотыни (вдовы И. М. Рошонка), Вик тора Авотыньша, о. Алексия Жилко.
217
кирилл коЖУРИн
Старообрядческие духовные центры русско-польского пограничья в XVII–XX вв.
В 1699 году произошло событие, которое сыграет в дальнейшем колоссальную роль в истории старообрядчества как России, так и стран Балтии и Польши: духовный лидер новгородских старообрядцевбеспоповцев Феодосий Васильев, спасаясь от гонений церковных и гражданских властей, переехал вместе со своей семьей за «польский рубеж». «За ним множество христиан от градов, весей и сел, потекоша во след его, желающе древлецерковное святое Православие не мятежно соблюсти», – говорится в его житии. С разрешения польских властей на землях пана Куницкого близ деревни Русановой Кропивенской волости Невельского уезда были устроены две обители: мужская и женская. Всего собралось в обителях Феодосия «мужеска пола до 600, девиц же и жен до 700». Однако материальное процветание общины привело к участившимся набегам польских солдат, что вынудило Феодосия Васильева в 1708 г. вернуться обратно в Россию. По приглашению покровительствовавшего ему князя А. Д. Меньшикова он поселился недалеко от польской границы – в Вязовской волости, на меньшиковских землях. В Вязовской волости были устроены две общежительные обители – мужская и женская – по образцу прежде бывших невельских. Но в этих местах федосеевцам пришлось прожить недолго. Изза неурожаев и эпидемии моровой язвы, истребившей в 1710 г. значительное число насельников, наступило «великое оскудение и нужда», и Феодосий начинает поиски более удобного места.
Через четыре года, в продолжении которых переселенцы исправно платили князю оброк, «по указу Великого Государя» и по приказанию Меньшикова, они переведены были в Ряпину мызу, Дерптского уезда (сейчас – Эстония). Это произошло уже после 1711 года – мученической смерти Феодосия в новгородской тюрьме. Однако в 1719 г. и этот духовный центр федосеевского согласия был
218 219
По официальным данным, в 1823 г. в Невельском уезде значилось 540 старообрядческих семейств. Из них беспоповцев – 1548 душ мужского пола и 1848 женского, поповцев – 124 души мужского пола и 141 женского2. В 1826 г. «безпоповщины молящейся за царя и приемлющих брак» значится 163 души мужского пола и 172 женского – разных сословий, 1185 душ мужского пола и 1368 женского – помещичьих крестьян; «старообрядцев приемлющих священство» – 122 души мужского пола и 136 женского (помещичьих крестьян).3 Относительно духовных центров старообрядчества в официальных документах того времени содержатся следую щие сведения. В рапорте невельского земского исправника витебскому губернатору от 6 октября 1826 г. сообщается: «Во исполнение предписания Вашего Превосходительства от 26го минувшаго сентяб ря № 322, честь имею почтеннейше донести, что в Невельском уезде состоит пять часовень, в которых совершается старообрядцами Богослужение, а именно в имении Серутях помещика маиора Матиаса одна, по михельсоновскаго имению в Колошинской части одна, помещика Вилимбахова в деревне Репище одна, имение княжны Радзивилловой в деревне Лутно одна и в имении помещика КардоСысоева в деревне Пружинцах одна»4.
В «Ведомости о расколах разных сословий и сект, находящихся в Невельском уезде за 1841 г.» перечисляются три старообрядческих согласия, существовавших на территории уезда: «1я секта без поповщина мужиковщина молящаяся за царя и приемлющая браки» (1001 душа мужского пола и 1049 – женского), «2я секта поповщина молящаяся за царя и приемлющая браки» (194 мужского пола и 185 – женского) и «3я секта безпоповщина молящаяся за царя отвергающая браки» (516 мужского пола и 488 – женского). Всего по Невельскому уезду числится 3433 старообрядца различных согласий.5
Относительно старообрядчества Себежского уезда местный зем ский исправник 2 октября 1826 г. доносил Витебскому губернатору:
2 См.: Национальный исторический архив Беларуси (далее – НИАБ), ф. 1430, оп. 1, д. 429.
3 См.: НИАБ, ф. 1430, оп. 1, д. 674.4 НИАБ, ф. 1430, оп. 1, д. 478, л. 19–19 об.5 Там же, д. 51589, л. 66–69 об.
разгромлен петровскими солдатами, и духовный руководитель об щины, сын Феодосия Васильева, Евстрат Васильев снова был вынужден переселиться в Речь Посполитую, где продолжил проповедь староверия. Часть его сподвижников последовала за ним, а часть переселилась в Стародубье и иные места, благодаря чему федосеевское учение распространилось не только по всей России, но и далеко за ее пределами. «В 1720х –1760х годах федосеевские общины в северовосточной части Речи Посполитой – в Ступилишках (Лифляндия), Балтруках (Курляндия), в Давыдово (позже Себежский уезд Витебской губернии), в Гудишках и др. – сделались одними из видных руководящих центров раннего федосеевства за границей. Между этими зарубежными и федосеевскими (также поморскими) общинами в России поддерживалась связь, происходила оживленная переписка и иногда проводились собеседования».1
Интересно проследить дальнейшую судьбу первых духовных центров федосеевского согласия на территории русскопольского пограничья – как с русской, так и с польской стороны, а также выявить связи местных староверов со своими единоверцами, жившими на территории современной Латвии и, в частности, в Риге. В Национальном историческом архиве Республики Беларусь в Минске сохранилось немало любопытных материалов, касающихся жизни староверов интересующей нас местности. Благодаря близости границы и той легкости, с какой ее можно было преодолеть, в конце XVII–XVIII вв. на территории русскопольского пограничья (конкретнее – Невельский и Себежский уезды) складывается семь локальных групп старообрядцев со своими духовными центрами (две группы в Себежском и пять в Невельском уезде). Сейчас этот живописнейший регион с сотнями больших и малых озер обычно называют Псковским Поозерьем. Этот регион интересен еще и тем, что непосредственно граничит с Латгалией, достаточно плотно населенной староверами, и, несомненно, между псковскими и латгальскими староверами существовали как духовные, так и хозяйственные связи.
1 Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: Краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 59.
220 221
один кум у мужа и жены и вместе жить не велеть. Что касается но воженов, венчавшихся в еретической церкви или сошедшихся без венчания, смешанных браков (половинок), когда один из сожителей не принадлежал к федосеевщине, то положено таковых на покаяние не принимать, детей не крестить, на службу не пускать, совместно с ними не пить, не есть. Запрещение распространялось и на окрещенных детей новоженских до тех пор, пока они «отцов своих неотстанут», исключение по крещению делалось при болезни детей, однако родители при этом давали обещание разойтись, приходящих же «от мира», которые покинут своих сожителей и вновь вступят в сожительство, положено крестить только после развода и впредь «им вкупе жити невелеть». Под страхом отлучения духовным отцам в случае нарушения постановлений запрещено принимать на исповедь и крестить детей».8
Известно, какую важную роль в истории федосеевского согласия сыграл знаменитый Польский собор, однако до сих пор среди исследователей нет единого мнения по поводу места и даты этого собора. Недоразумение, на наш взгляд, заключается в том, что неверно истолковано упоминание о соборе в «Дегуцком летописце». Там говорится под 7259 (т. е. 1751) годом: «в Гудишках соборные статьи писаны». Далее идет следующая дата: 7260 – и прочерк. Видимо, автор «Дегуцкого летописца» сомневался по поводу места проведения Польского собора и не успел уточнить, где именно он проходил, хотя место оставил. Но то же самое написано и по поводу Варковского собора: «Лето 7337. Написаны Варковские статьи», а далее – «Лето 7340… бысть Собор духовных отец в Варковой мызе…» и еще: «Лето 7341… Написаны Варковские статьи…» То есть «написание соборных статей» можно перевести на современный язык как «предсоборное совещание», «предсоборная комиссия» и т. п. Из истории старообрядчества мы знаем, что нередко так и делалось – первоначально готовился проект решений, а потом уже он обсуждался и принимался на более представительном уровне.
8 Цит. по: Никонов В. В. Староверие Латгалии: очерки по истории староверческих обществ Режицкого и Люцинского уездов (2я половина XVII – 1я половина XX вв.). Резекне, 2008. С. 129–130. В. В. Никонов ссылается на рукопись «Отеческих завещаний», составленную С. Гнусиным.
«В Себежском повете состоят две старообрядческия моленныя в коих оне совершают Богослужение. 1е. Князя Константина Огинскаго в деревне Яковлеве; 2е. помещика Ивана Потриковскаго в деревне Обителях и 3я часовня на кладбище близ деревни Жалобна помещика Александр<а> Молля»6. Что касается самого Себежа, то, по донесению себежского городничего, в городе нет старообрядческих моленных, «потому что в обществе города Себежа ни одного старообрятца не состоит».7
Один из духовных центров старообрядцев на территории региона – это уже упоминавшаяся Русановская обитель в Крапивенской волости Невельского уезда. Впоследствии (до середины XX в.) здесь находилась старообрядческая деревня Обитель (сейчас урочище Обитель на территории Новосокольнического района Псковской области). Обительская моленная существовала до начала XIX века. Затем, уже в начале XX века, была построена новая моленная, просуществовавшая до 30х годов. Также в 1907 году была построена моленная в располагавшейся неподалеку деревне Молотовке. В 2007 году на территории первой федосеевской обители участниками молодежного лагеря Древлеправославной Поморской Церкви был установлен памятный Крест.
Другой центр – обитель близ деревни Давыдово. В 1739 году в деревне Давыдово Себежского уезда состоялся собор, на котором присутствовало тридцать духовных лиц, множество книжных и простолюдинов. «Практически все положения собора касались во проса о браке. По сути, это было подтверждение установлений собора 1694 года о запрещении духовном жить в «келиях наединении с зазорными лицы, и с духовными дочерми, и с девицами, и с женами нежить и со старейшими, и с применицами». Впрочем: «Такоже учинить и простым человеком… А тем житием чтоб заскверну душ своих не погубить». Собор положил избирать на послужение либо «старейших жен», либо лиц мужского пола. Людям духовным молодых же «жен и девиц» в стряпухах и за келейниц не держать. За несоблюдение сего установления положено отлучать. Положил собор разводить и тех, кто окажется в родстве духовном –
6 Там же, д. 478, л. 14–14 об.7 Там же, л. 13.
222 223
собор за Рубежем, в Польше, в Себежском уезде во обители в лето 7260е октября 1го дня»10. Известно, что ПокровскоНорский монастырь был основан выходцами из Гудишек, и уж онито непременно должны были знать, где происходил Польский собор, и если бы он действительно происходил в Гудишках, они так бы и написали. В деревне Обитель (Себежская, или Заполоцкая Обитель) на протяжении XVIII–XIX вв. существовал крупный духовный центр старообрядчества с общественной моленной, построенной до 1826 года и потому избежавшей закрытия в самые мрачные гонительные времена царствования Николая I.
Наконец, третий крупный центр русскопольского пограничья – деревня Большой Пружинец, неподалеку от озера Язно, служившего в XVIII в. границей Речи Посполитой с Россией. Первые документальные сведения о Пружинской моленной относятся к 1826 г., однако по ряду косвенных данных она существовала еще в XVIII столетии.
Земли Невельского и Себежского уездов по первому разделу Речи Посполитой (1772) были присоединены к России. Память о том, что земли эти когдато принадлежали Польше сохранялась среди местных староверов вплоть до недавнего времени, что отразилось в самоназвании: жители деревень, располагавшихся на юг от озера Язно, которое некогда служило границей двух государств, продолжали называть себя «поляками», в противоположность своим северным соседям, которых именовали, как и всех псковичей, «скобарями». После присоединения земель Невельского и Себежского уездов к Российской империи жизнь местных староверов изменилась. Теперь они разделяли судьбу всех российских староверов, которая зависела от прихотей того или иного правителя.
В уже упоминавшемся выше Польском соборе 1752 года, несомненно, участвовали и местные староверы. У нас нет пока возможности идентифицировать, кто именно из невельских и себежских отцов участвовал в Польском соборе, но зато точно известны имена участников Варковского собора 1832 года. Из 35 наставников и начетчиков, участвовавших в Варковском соборе, трое были из Себежского и Невельского уезда. Это наставники Гавриил Антропьевич
10 Цит. по: Никонов В. В. Староверие Латгалии.... С. 130.
Таким образом, «польские статьи» могли быть составлены в Гудишках, а приняты – на соборе в Давыдовской обители.
В сборнике, составленном в 1785 году известным витебским куп цомстаровером, писателем, краеведом и собирателем древностей Иваном Ивановичем Собольщиковым (1763–1836) говорится о «Колпинском собрании» – собрании 17 наставников старообрядцевбеспоповцев, состоявшемся 1 октября 1752 г. в пределах деревни Колпино (впоследствии в составе Себежского уезда Витебской губернии). В заключительном документе говорилось: «... было у нас общее собрание в Польше, во обители, о церковных вещах. Присовещали общим отеческим и братским советом подтверждение нашея христианския веры, дабы нам последовати прежним страдальцам и чтителям». На собрании рассматривались вопросы ре лигиознонравственного характера, были приняты 48 правил. Сре ди участников собрания был основатель Рижской Гребенщиковской общины, знаменитый федосеевский наставник Ф. Н. Саманский.
Один из первых историков старообрядчества в Витебской губернии единоверческий священник Василий Волков (Волкович) писал в середине XIX в.: «Указание в предисловии на обитель, как на место, где 1го октября 1752 года был собор Федосеевцев, дает нам полное право заключать, что собор тот был действительно в Витебской губернии, в Себежском уезде, внутри нынешнего Колпинского православного прихода, в 10ти верстах от самой церкви, во обители, которая по разным политическим и местным обстоятельствам, с того времени, в течении ста с лишком лет, потеряла свой характер и сделалась почти деревнею, но и доныне носит имя обители и населена Федосеевцами обоего пола более 60ти душ. Обитель эту в настоящее время окружают деревни: Стай ки, Жолобно, Анишково, Поддача, Голубово, Сеньково, Давидово и Островно. Во всех этих деревнях Федосеевцев, относящихся к обительскому наставнику, как духовнику на всю окружность, обоего пола до 400 душ, кроме жителей самой обители».9
Более того, о том, что данный собор проходил именно в Себежском уезде, говорит и злынковская рукопись 1834 г.: «Егда бысть
9 Волков В. Сведения о начале, распространении и разделении раскола и о расколе в Витебской губернии. Витебск, 1866. С. 47–49.
224 225
сентября 1845 г. священник Киселевской церкви Феодор Русаков, и 3 и 27 сентября того же года священник Езерищенской церкви Алексей Трубковский. Однако старообрядческие духовные отцы увещеваний не послушали. Дело затянулось до 1850 года.
В 1851 году было открыто новое дело по поводу наставника За хара Смарыгина о новом «совращении в раскол». Как выяснилось в ходе следствия, влияние местных духовных наставников распространялось не только на Себежский уезд, но и на соседние с ним Невельский уезд Витебской губернии (наставники известных в округе Пружинской и Репищанской моленных исповедовались у обительского наставника), Опочецкий и Великолуцкий уезды Псковской губернии. 20 мая 1852 г. Витебский генералгубернатор А. М. Голицын, основываясь на доносе новообрядческого священника из деревни Заволочье Опочецкого уезда Михаила Красноумова, сообщал, что в приход Заволочья «выезжают раскольнические наставники: Невельского уезда, деревни Пружинца, крестьяне Спи ридон Макарьев и Федор Федоров и Себежского уезда из какойто их обители или могильщины, которые исправляют у раскольников все требы и этим самым явный подают повод к усилению ереси»12. Выяснилось, что в Опочецкий уезд для исправления там треб регулярно выезжали наставники Гавриил Антропьев Могилянцев и Захар Смарыгин, при этом они останавливались в деревне Туришине у купцовстароверов Поярковых.
27 июня 1852 г. с наставника Гавриила Могилянцева себежским исправником была взята подписка о невыезде и о непринятии на моление «никаких людей в особенности других уездов, кроме издавна сей моленной принадлежащих». В дальнейшем также открылось, что Гавриил Антропов обучал грамоте «не только детей раскольников, но и детей православных», что также могло быть интерпретировано как «совращение в раскол». В «Алфавите духовном» Василия Золотова (автора знаменитого «Дегуцкого летописца») указана дата смерти «пастыря древлеправославных хрис тиан» Гавриила Антропова – 7 января 1857 года, хотя по ошибке деревня Яковлево, где он был наставником, отнесена к Динабургскому уезду. О смерти обительского настоятеля Захария Смарыгина
12 НИАБ, ф. 1416, оп. 1, д. 1334, л. 76 об.
Могилянцов из деревни Яковлево (Себежский уезд), Захарий Леон тович Смарыгин из деревни Обитель (Себежский уезд) и Самуил Васильевич Карпелев из деревни Репище (Невельский уезд). Присутствовали также еще двое представителей псковских староверов – Тит Никитич из Новоржевского и Никифор Егорьев из Опочецкого уездов.
О себежских и невельских наставниках сохранились достаточно интересные сведения в Национальном историческом архиве Республики Беларусь. Упомянутый выше В. Волков называет в числе лучших местных старообрядческих наставников, с которы ми он был лично знаком, Самуила Карпеля (из Репищ), Федора Андреева (из Маево), Федора Федорова и Спиридона Макарьева (из Большого Пружинца), Григория Сотникова (из Торчилово). 10 декабря 1864 г. в наставники Витебской общины были выбраны крестьянин из Подберезино (близ Витебска), Блоха Ефим Чистобаев и пришелец из Невельского уезда, из крестьян Меллина, Михей Мокиевич Барковский, бывший до того наставником в Динабургском уезде (умер в 1865 году).
Остановимся на личностях наставников, участвовавших в Варковском соборе. В 1844 году было открыто дело о наставниках Гаврииле Антропове и Захарии Леонтовиче Смарыгине (настоятелях соответственно Яковлевской и Обительской моленных Себежского уезда) по обвинению в «совращении будто бы ими людей православной веры в раскольническую ересь». 29 сентября 1844 г. Витебской палатой уголовного суда дело было решено. Обвиняемые «не повинились в совращении» и были от суда и взыскания оставлены свободными. По решению Комитета министров (на котором об этом деле докладывал лично министр внутренних дел) 29 мая 1845 г. было определено: наставников «подчинить в отношении веры и образа жизни надлежащему надзору местного полицейского начальства, которому поставить в обязанность не дозволять сказанным Антропову и Смарыгину отлучаться кудалибо иначе, как по письменным видам и для законных только надобностей»11. Яковлевского и обительского наставников пытались «увеще вать», склоняя к принятию новообрядчества или единоверия – 8 и 23
11 НИАБ, ф. 1416, оп. 1, д. 1334, л. 10 об.
226 227
как «полоцкий мещанин», но в более ранних документах он именуется «ригским (или рижским) мещанином», а в некоторых – «рижским наставником». Известно также, что этот Иван Архипов был наставником в Полоцке и в моленной деревни Яковлево Себежского уезда (выстроена в 1808 году) до самой своей смерти (в 1827 году).
На царствование императора Александра III (1881–1894) приходятся некоторые послабления по отношению к старообрядцам. 3 мая 1883 г. вышел новый закон о старообрядцах, который, несмотря на то, что еще продолжали оставаться в силе многие ограничения в отношении сторонников древлего благочестия, явился немаловажной вехой в истории староверия. Согласно этому закону старообрядцы получали ряд гражданских прав: они могли заниматься промышленностью и торговлей, получать паспорта на общих основаниях. Кроме экономических свобод, им разрешалось совершать «общественные богомоления и богослужения», в том числе, в специально устроенных молитвенных домах, открывать новые молитвенные здания, но с разрешения оберпрокурора Синода и министра внутренних дел; ремонтировать старые, с разрешения губернатора, но запрещалось возводить колокольни.
Вместе с тем проповедь староверия на Руси была попрежнему запрещена. Закон 1883 года указывал на опасность распространения «раскола»: «Пользуясь благоприятными условиями действова ния среди темной, невежественной массы раскольников, под густым покровом тайны, вне всякой гласности, вожаки раскола, с одной стороны, держат в деспотических руках всю духовную паству, а с другой стороны, являются пред лицом православного духовенства опасными соперниками, желающими на равных правах конкурировать с ними в делах духовного руководства русским народом»16. В этой связи признавалось, что старообрядчество – серьезная сила против деятельности правительства по «воссоединению с Православной Церковью заблудших и совратившихся в раскол». За старообрядческими духовными лицами (наставниками и руководителями) закон не признавал их духовных званий,
16 Цит. по: Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период. 1700–1917. М., 2003. С. 226.
известно из особого донесения от 14 ноября 1858 г., которое написал Витебскому гражданскому губернатору архиепископ Полоцкий и Витебский Василий (Лужинский): «Бывший коновод раскольников в Колпинском приходе живущих Захарий Смарыга умер 9 августа и до 17 августа неизвестно почему не был зарыт; 17 же августа Смарыга погребен, погребение совершал могильнянский яковлевский коновод Иван Герасимов Романовский с какимто дру гим из Невельского уезда…»13.
Другой участник Варковского собора, наставник из деревни Репище Невельского уезда Самуил Васильев (Карпель) в 1835 году был отослан в Невельскую городскую тюрьму, однако пользовался известной свободой, «шатался по городу Невелю и имел общение с последователями своими раскольниками»14 и даже исполнял для них требы и совершал богослужение совместно с другим заключенным наставником Феодосием Сотниковым из деревни Торчилово. В 1836 году оба наставника были сосланы в Витебский острог, где провели какоето время. О Самуиле Карпеле сохра нились следующие сведения (из дела о «совращении в раскол» от 1857 года): «Холост, раскольник безпоповщинского толка. На исповеди бываю ежегодно у витебскаго мещанина Захара Леонова Сморигина, живущаго в деревне Обители Себежскаго уезда. Живет в деревне Репищах в избе, построенной обществом раскольников для житья раскольничьих наставников. Ни земледелием, ни ремеслами не занимается, но питается от треб. В наставниках лет 40. Право получил на это имя и на исправление треб от полотскаго мещанина Ивана Архипова (ныне уже умершаго). Прихожан имею душ до пятисот»15. Умер Самуил Карпелев в последних числах декабря 1857 года.
Любопытно, что, как следует из документов, многие местные наставники были благословлены на отечество упомянутым выше Иваном Архиповым – яковлевский Гавриил Антропов, репищский Самуил Карпелев, пружинецкий Спиридон Макаров и др. В ряде документов середины XIX века этот Иван Архипов фигурирует
13 НИАБ, ф. 1416, оп. 1, д. 1291, л. 1.14 См.: НИАБ, ф. 1416, оп. 3, д. 6760.15 НИАБ, ф. 1416, оп. 1, д. 1266, л. 155155 об. НИАБ, ф. 1416, оп. 1,
д. 1266, л. 155155 об.
228 229
являлась моленная в Пружинцах, поэтому ее чаще называли Пружинской. Моленная, которая после Манифеста 1905 года приобрела вид церкви, возвышалась на берегу небольшого Пружинского озера, отражаясь в его водах. Звон чугунного била, подвешенного на улице под специально устроенным навесом, был слышен далеко вокруг, призывая богомольцев из окрестных деревень на службу. Старожилы до сих пор вспоминают о красоте богослужения и богатом убранстве моленной. В моленной было редкое собрание старопечатных и рукописных книг, а также писаных и меднолитых икон. Во время службы наставники и служители стояли на двух крылосах. На праздники зажигали большое медное паникадило. В 1906 году в Рыкшинской волости значились два наставника: 1) Марусенок Иван Богданович, избранный на должность наставника Пружинской старообрядческой общиной (федосеевское согласие), крестьянин Ровенского сельского общества, ратник го су дарственного ополчения I разряда, и 2) Пашуков Михаил Савельевич, избранный на должность наставника Видусовской старообрядческой общиной («семеновское толкование»), мещанин города Невеля, ратник государственного ополчения I разряда.17 В 1914 году Пружинскую общину беспоповцев федосеевского согласия возглавлял наставник Иван Спиридонович Спиридонов, живший в деревне Петраши. Старожилы вспоминают наставников Логина, Диомида, Максима Илларионовича Малышева (род. 1888, д. Пружинец)18, а также «морковского попа» Емельяна (из деревни Морково). На протяжении всего XX века Пружинская община продолжала оставаться крупнейшим духовным центром староверия на юге Псковщины.
Революция 1917 года положила конец «золотому веку», а последовавший за ней период воинствующего атеизма и коллективи за ции сумел достичь того, чего не удавалось открытым гонениям царского времени. Многие староверы стали отходить от веры сво их отцов. Были уничтожены целые социальные слои, традиционно служившие опорой русского старообрядчества (купцы,
17 Согласно рапорту невельского уездного исправника витебскому губернатору от 21 марта 1906 г. (НИАБ, ф. 1430, оп. 1, д. 47162, л. 37).
18 Яковлева Т. И. Старообрядцы – хранители Руси // Вперед, № 71, 10. 09. 2008. С. 3.
вследствие чего им запрещалось публично проповедовать свою веру. В официальном органе Синода «Церковном Вестнике» откровенно заявлялось: «Если раскольникам разрешить действовать беспрепятственно, повсеместно открывать свои храмы, то древлее православие тогда расширится, а настоящее православие сузится, ограничится в своем объеме, и, чего доброго, займет подобное положение, какое оно занимает в наших западных окраинах».
Как действовал закон 1883 года на практике, хорошо видно из «Дела о доставлении сведений о раскольнических моленных в деревнях Самринихе и Пружинце», тянувшемся на протяжении нескольких лет. Чтобы получить официальное разрешение на простой ремонт ветхой крыши моленной, староверам деревни Большой Пружинец понадобилось пять лет!
В начале XX века российскому староверию суждено было пережить самый настоящий расцвет. 17 апреля 1905 г. император Николай II издал долгожданный Высочайший Указ «Об укреплении начал веротерпимости», коренным образом изменивший положение последователей Старой Веры, а 17 октября 1906 г. вышел еще один закон о старообрядцах – Высочайший Указ правительствующему Сенату о порядке образования и действия старообрядческих общин. Последний закреплял право староверов образовывать общины с признанием их юридических прав, право самим вести метрические книги, право проповеди своего учения. Очень важным был пункт образования и регистрации общин в явочном порядке (т. е. по факту заявления). Это защищало староверов от чиновничьего беспредела – в отличие от «разрешительного» принципа регистрации общин, т. е. с разрешения местного начальства. Законы 1905 и 1906 гг., несмотря на наступившую впоследствии в стране реакцию и ограничение многих свобод, дали мощный толчок развитию старообрядческой жизни. Начался «золотой век» русского старообрядчества. Созидательная сила, столетиями копившаяся внутри наиболее притесняемой части русского народа, получила выход и реализацию в церковном строительстве.
18 апреля (1 мая) 1907 г. Витебским губернским правлением была официально зарегистрирована Рыкшинская старообрядческая община федосеевского согласия. Центром Рыкшинской общины
230 231
деревню Копылок. Местные староверы продолжали молиться в деревне Петраши в доме последнего наставника Пружинской общины Якова Андреевича Кожурина. Отец Яков поддерживал связи с братскими старообрядческими общинами страны, посещал старообрядческие общины Невеля и Ленинграда. Особенно сильное впечатление на него произвело посещение им в 1960е гг. Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины. После смерти Якова Андреевича местные староверы собирались на молитву в доме его дочери, Агафьи Яковлевны Уликовой (1929–1998). Сюда приезжали староверы из разных мест. Агафья Яковлевна крестила, принимала на исповедь, провожала покойников, до последних дней своей жизни исполняя обязанности духовного наставника. Со смертью Агафьи Яковлевны церковная жизнь в здешних краях фактически угасла, да и жителей в окрестных деревнях почти не осталось. Однако в последние годы в этих местах, тесно связанных с историей староверия, в деревне Подмолодье Невельского района начали проводиться ежегодные молодежные лагеря. Со временем эти молодежные лагеря Древлеправославной Поморской Церкви стали международными. В них участвовали староверы из Латвии, Литвы, Польши, Украины, Беларуси и Молдовы. Участниками лагеря было установлено несколько памятных крестов (в том числе, на месте Обители Феодосия Васильева и на месте взорванной немцами во время войны моленной в деревне Репище). В самом Подмолодье построена моленная, планируется организация христианского общежительства. Хочется надеяться, что эти семена, по сеянные в древнюю Невельскую землю, политую кровью и потом наших благочестивых предков, принесут добрые плоды.
промышленники, кустари, мелкие предприниматели, кооператоры, крепкое крестьянство, казачество). Как отмечает историк Б. П. Кутузов, «полное разрушение быта и общественных связей в подсоветской России самым трагическим образом сказалось на состоянии старообрядчества»19. Не прошли все эти перемены и мимо староверов Вязовщины. Многие зажиточные староверы в годы коллективизации были раскулачены, уничтожались староверческие хутора и целые деревни – в целях «укрупнения» колхозов. 22 декабря 1937 г. был арестован наставник Пружинской общины Максим Илларионович Малышев. Он был осужден «тройкой» УНКВД Калининской области 21 марта 1938 г. по ст. 5810 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы. Однако власти пока не трогали Пружинскую моленную, и службы в ней продолжались. После ареста отца Максима наставником в Пружинскую моленную был приглашен Яков Андреевич Кожурин (род. 1895, д. Хлупикино – ум. 1971, д. Петраши). Он переехал в Петраши вместе со своим отцом, женой и детьми из деревни Викентьево. После того, как в 1941 году Псковская область была оккупирована немцами, о. Яков Анд реевич вместе с семьей и другими односельчанами был угнан в Латвию. Здесь петрашевские староверы батрачили на помещика и смогли вернуться в родную деревню только после освобождения Латвии советскими войсками.
Уже в послевоенный период в Петраши вернулся о. Максим Илларионович Малышев (реабилитирован 13 августа 1965 г.). Моленная в Большом Пружинце просуществовала до 50х гг. XX в., когда была разорена властями во время очередных гонений на веру. Вся ценная церковная утварь (в том числе, медное паникадило) была увезена на грузовике, повидимому, в областной центр, а большая часть старинных книг и икон погибла в пламени костра20. Сама деревянная моленная была разобрана и перевезена в
19 История Русской Православной Церкви. От восстановления патриаршества до наших дней. Том I: годы 1917–1970. СПб., 1997. С. 719.
20 Удалось сохранить лишь несколько старопечатных и рукописных книг, а также две большие храмовые иконы, находившиеся в доме Я. А. Кожурина и пожертвованные его наследниками в возвращенный властями и восстановленный храм Знамения Пресвятыя Богородицы на Тверской улице в СанктПетербурге.
233
Inese Runce
Valsts attieksme pret vecticībnieku draudzēm Latvijā (1918–1940)
Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados netradicionālās reliģiskās konfesijas iedalīja netradicionālajās kristīgajās konfesijās un netradicionālajās nekristīgajās konfesijās. Šis dalījuma modelis bija pārmantots no Krievijas impērijas laikiem.
Par netradicionālajām kristīgajām konfesijām Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados uzskatīja vecticībniekus, adventistus, baptistus, metodistus u. c. konfesijas un „sektas”, kurām bija noteikta saikne ar kristīgo mācību. Netradicionālo nekristīgo konfesiju skaits bija salīdzinoši neliels: Mozus ticīgie, budisti, musulmaņi, kā arī dievturu draudzes. Visas netradicionālās reliģiskās konfesijas atradās Iekšlietu ministrijas Garīgo lietu pārvaldes pārziņā. Likumā par baznīcām un reliģiskām organizācijām bija noteikts, ka pastāv pilnīga ticības un tās propagandas, dievkalpošanas brīvība visām reliģiskām organizācijām, izņemot tās, kuras sludina nemorāliskas, pretvalstiskas mācības vai arī piekopj netikumīgu kultu.1 Latvijas valsts likumdošanā nebija plašāka un izsmeļošāka ju ridiska skaidrojuma par netradicionālajām konfesijām.
Pēc Pagaidu valdības 1920. gada 12. novembra rīkojuma visas reliģisko sektu, draudžu un baznīcu zemes, kustamie un nekustamie īpašumi bija jānodod pēc demokrātiskiem principiem ievēlēto draudžu padomju pārziņā un apsaimniekošanā, bet, ja tādas padomes nebija, tad īpašums uz laiku – līdz padomes ievēlēšanai – pārgāja valsts īpašumā.2 Tā bija ļoti strikta prasība, kas visiem vienlīdz stingri bija jāievēro un atlaides nevienai konfesijai netika dotas.
Visām „sektām” un reliģiskajām konfesijām bija jāreģistrējas un jāievēl sava pārvaldes institūcija, kas atbilstu valsts noteiktajām likumdošanas normām. Valsts šo procesu stingri uzraudzīja un kontrolēja. Netradicionālo reliģisko konfesiju pārvaldē bija iecelts oficiāls valsts
1 Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA), 3235. f., 1/22. apr., 474. l., 1. lp.
2 LVVA, 1370. f., 1. apr., 194. l., 21. lp.
kirils koŽuRInS
Vecticībnieku garīgie centri krievijas un Polijas pierobežā no 17. līdz 20. gadsimtam
Pirmās vecticībnieku draudzes Polijas teritorijā, netālu no Krievijas robežas, parādījās jau 17. gadsimta beigās, kad šeit ieradās Novgorodas bezpriesteru vecticībnieku garīgais līderis Feodosijs Vasiļjevs un viņa se - kotāji. Balstoties uz Baltkrievijas Nacionālā Vēstures arhīva fondu doku-men tiem, rakstā analizēts bezpriesteru vecticībnieku draudžu veidošanās process pierobežas joslā gan Krievijas, gan Polijas pusē. Neveļas un Se-bežas apriņķos kopumā izveidojās septiņas vecticībnieku lokālās grupas ar saviem garīgajiem centriem.
Arhīva materiāli sniedz iespēju ne tikai lokalizēt vecticībnieku ciema-tu atrašanās vietu, bet apzināt dažu vecticībnieku garīgo tēvu biogrāfijas, kā arī kontaktus, kas izveidojās starp pierobežas vecticībniekiem un vi-ņu ticības brāļiem Latvijas teritorijā. Rakstā detalizēti aplūkota vecti-cībnieku dzīve šajā reģionā 19. gadsimtā, kā arī sniegts ieskats 20. gad-simta notikumos.
234 235
Viena no skaitliski lielākajām kristīgajām konfesijām bija vecticībnieku kopiena (pomorieši), kas Latvijā pastāvēja kopš 17. gadsimta. Teo rē tiski vecticībniekus, balstoties uz Krievijas impērijas likumdošanas parauga, uzskatīja par sektu, bet praktiski viņi baudīja tādas pašas priekšrocības, kādas bija tradicionālajām kristīgajām konfesijām, t. i., – laulību un civilstāvokļa aktu reģistrācijas atļauja, valsts pabalstu saņemšana, ticības mācības pasniegšana skolā u. c. Salīdzinot valsts attieksmi pret vecticībniekiem un pareizticīgajiem, jāteic, ka valsts ierēdņi un drošības iestādes vecticībniekus nekad neierindoja ailē „potenciāli bīstami vai nelojāli”, neskatoties uz to, ka vecticībnieki, atšķirībā no pareizticīgajiem, bija tīri krieviska reliģiskā grupa. Vecticībnieki baudīja, nereti pretēji pareizticīgo pieredzei, valdības simpātijas un uzticēšanos, bet valdība saņēma viņu atbalstu. Vecticībniekus mēdza dēvēt par Latvijas vai „Latgales krieviem”, tā simboliski norādot viņu atšķirību no pā rējiem krieviem, galvenokārt pareizticīgajiem.
1920. gada 10. novembrī Rēzeknē notika pirmais Latvijas vecticībnieku draudžu pārstāvju kongress,7 kurā tika izveidota Latvijas vecticībnieku lietu Centrālā komiteja (Центральный комитет по делам старообрядцев Латвии), kas kļuva par vecticībnieku draudžu augstāko pārvaldes orgānu. Latvijas vecticībnieku kopienas vēsturē tas bija pirmais precedents, kad tika izveidota vienota pārvalde, kura varēja dar boties neatkarīgi, bez spiediena no ārienes un lemt kopienai svarīgus jautājumus. Par Centrālās komitejas priekšsēdētāju ievēlēja F. Pavlovu.8 Uzrunājot kongresu, F. Pavlovs uzsvēra, ka Latvijas valdība ļoti labvēlīgi attiecas pret vecticībniekiem un sniedz viņiem iespēju brīvi veidot savu iekšējo dzīvi saskaņā ar vecticības tradīcijām.9
Jau 1921. gadā vecticībnieku draudzēm tika piešķirti pirmie valsts finansiālie pabalsti baznīcu un lūgšanu namu remontiem.10 Šis jautājums īpaši svarīgs bija Latgales laukos, kur dzīvoja visvairāk vecticībnieku un kur ekonomiskā situācija bija sarežģītāka. Valsts labvēlīgā nostāja rosināja vecticībniekus uzsākt plašas reliģiskās aktivitātes – veidot organizācijas un apvienības, izdot reliģiska satura grāmatas, kalendārus,
7 Аноним. Колонка редактора // Сегодня, 1920, № 247.8 Старообрядчество в Латвии без прикрас, 1920–1940: сборник доку
ментов. Сост. Балевиц З. Рига, 1961. С. 47.9 Аноним. Колонка редактора // Сегодня, 1920, № 247.
10 Старообрядчество в Латвии без прикрас... С. 46.
pār stāvis (ierēdnis), kas kontrolēja notiekošo.3 Par nelikumību uzskatīja faktu, ja pārvaldes sapulces bija rīkotas bez valsts varas pārstāvju klātbūtnes. Garīgo lietu pārvalde sadarbībā ar policiju kontrolēja reliģisko organizāciju pārvaldes institūciju vēlēšanu procesu un to, kādi cilvēki tajās ievēlēti. Ievēlamajiem par galvenajiem kritērijiem tika izvirzītas šādas prasības: Latvijas Republikas pavalstniecība, lojalitāte pret valsti (ar to vairāk izprotot, vai konkrētais cilvēks ir darbojies Niedres vai Stučkas valdībā, – vai „lielinieku kustības laikā nav piedalījies un arī vācu piekritējs nav”),4 kā arī tika pārbaudīts, vai kandidātam nav bijušas sodāmības.5
Lai oficiāli darbotos, atsevišķiem netradicionālo konfesiju slu dinātājiem un misionāriem bija jāsaņem atļauja no Iekšlietu ministrijas. Tā dēvētās „sektantu draudzes” neuzstājās ar sevišķām pretenzijām pret Latvijas valsti – politiskām vai konfesionālām, jo par galveno uzskatīja brīvību un piešķirto iespēju darboties, tādējādi izrādot valstij savu lojalitāti. Arī šo konfesiju prasības pret valsti un tās attieksmi bija visai nepretenciozas. Piemēram, Septītās dienas adventistu draudžu Sa ei ma, nosūtot apsveikuma vēstuli Ministru prezidentam 1920. gada aprīlī, uzsvēra, ka „saskaņā ar rakstiem mēs ticam, ka valdība iecelta no Dieva, lūdzam par to un dodam tai meslus, muitu, bijāšanu un godu”.6 Līdzīga reakcija bija arī citām netradicionālajām reliģiskajām konfe si jām – baptistiem, anglikāņiem u. c. Netradicionālās konfesijas par vienīgo no sacījumu izvirzīja prasību par pilnīgu Baznīcas šķiršanu no valsts, nedodot nevienai ticībai priekšrocības vai arī finansiālus pabalstus, ta ču šī prasība netika īstenota. Netradicionālo reliģisko konfesiju lielākā da ļa valsts līdzekļus nesaņēma, izņemot Mozus ticīgos, vecticībniekus un 20. gadsimta 20. gadu beigās – baptistus, jo, iekļūstot Saeimā baptistu mācītājam E. Rimbeniekam, valsts nostāja mazliet mainījās un baptistu draudzēm piešķīra līdzekļus no valsts budžeta.
Latvijas valdība soli pa solim izstrādāja un pieņēma noteikumus par katru netradicionālo reliģisko konfesiju, lai arī šis process ievilkās vairāku gadu garumā, tomēr iztika bez strīdiem un abu pušu neapmierinātības.
3 Turpat, 2. lp.4 Turpat.5 Turpat, 56. lp.6 LVVA, 1370. f., 1. apr., 194. l., 229. lp.
236 237
14. februāra likums paver vecticībniecībai plašas iespējas auglīgai reliģiskajai un kulturāli izglītojošai darbībai.”14
Netradicionālās konfesijas un reliģiskās apvienības pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma saskārās ar dažāda veida tīšiem un striktiem ie robežojumiem, kas izmainīja un traucēja to reliģisko darbību. Pēc 1935. ga da 8. marta izdotās instrukcijas par reliģiskām apvienībām un savienībām mazskaitlīgāko reliģisko organizāciju skaits saruka trīskārtīgi.15
Garīgo lietu pārvalde bija tiesīga stingri kontrolēt visu netradici onālo konfesiju darbību. Lai atļautu svinēt dievkalpojumus vai veikt noteiktu reliģisku darbību, no Iekšlietu ministrijas bija jāsaņem ikreizēja atļauja, kā arī jāsamierinās ar to, ka pasākumus rūpīgi novēroja policijas iecirkņa darbinieki. Netradicionālām konfesijām līdz pat 1940. gadam par savu darbību bija regulāri jāatskaitās Iekšlietu ministrijai. Ar 1939. ga da 17. oktobra grozījumiem likumā par reliģiskām organizācijām un to savienībām visa kontrole pār reliģiskām organizācijām ar atšķirīgu reliģisko kultu tika koncentrēta Iekšlietu ministrijā, bet Iekšlietu ministrijai bija tiesības atcelt no amata draudžu sludinātājus un amatpersonas.16
Lielā birokratizācija un stingrā kontrole neveicināja šo konfesiju aktivitātes, taču, mēģinot rast arī „sektantu” simpātijas, K. Ulmanis bieži vien veica taktiskus gājienus. Tā, piemēram, 1939. gadā valsts pabalsts baptistu draudzēm bija 500 Ls liels, ko valsts prezidents ziedojis Kaltenes baptistu draudzei lūgšanu nama remontam.17 Šajā aktā tika uzsvērts, ka piešķirtā naudas summa nav valsts, bet gan prezidenta personīgie līdzekļi. Šādu piemēru, kad prezidents piešķīra personīgos līdzekļus „sek tantiem”, bija samērā daudz. Tā Vadonis centās nodrošināt lojalitāti savam režīmam.
Vecticībnieki, psiholoģiski pieraduši būt izolēti un piedzīvojuši daudz pāri nodarījumus savas Baznīcas pastāvēšanas vēsturē, K. Ulmaņa apvērsumu uztvēra mierīgi, cerot, ka attieksme no valsts puses nemainīsies. Vecticībnieku aprindās bija vērojama zināma uzticēšanās jaunajam režīmam, kā arī K. Ulmanim personīgi. Drīz pēc apvērsuma vecticībnieku delegācija devās pie K. Ulmaņa un izteica atbalstu jaunajām
14 Turpat.15 Balevics Z. Baznīca un valsts buržuāziskajā Latvijā. 1920–1940. Rīga, 1964.
90.–91. lpp.16 Turpat, 94. lpp.17 LVVA, 1370. f., 1. apr., 1979. l., 6. lp.
organizēt svētdienas skolas utt. Īpaši aktuāls vecticībniekiem bija jautājums par skolu atvēršanu, īpaši Latgalē, kur bija salīdzinoši zems izglītības līmenis.
Tomēr arī vecticībnieku kopiena Latvijā nebija pasargāta no politizēšanās tendencēm. Jau LR I Saeimas vēlēšanās Saeimā iekļuva „Vecticībnieku saraksts”, kuru pārstāvēja deputāts M. Kaļistratovs.11 II Saeimā no vecticībnieku saraksta atkārtoti iekļuva M. Kaļistratovs un I. Jupatovs, taču vēlāk šis bloks sašķēlās. Ap 1928. gadu vecticībnieku aprindās iezīmējās iekšējā šķelšanās, kas daļēji balstījās politiskajās interesēs. 1928. ga da augusta sākumā Rēzeknē notika Latvijas vecticībnieku kongress. Lai gan vairākums runātāju uzstājās par vienota pareizticīgo un vecticībnieku saraksta nepieciešamību, domstarpības starp „labajiem” un „krei sajiem”, starp S. Kirilova un M. Kaļistratova piekritējiem, plānus pārsvītroja.12 Domstarpību risināšanā uzvarēja „kreisie”, bet mazākumā palikušie „labējie” atstāja kongresu. Vienota pareizticīgo un vecticībnie ku vēlētāju bloka izveidošana Saeimā tā arī palika ieceres līmenī, jo vecticībnieku aprindās bija notikusi šķelšanās. Svarīgs bija arī fakts, ka vecticībnieki, ņemot vērā vēsturisko pieredzi un iepriekš piedzīvotās vajāšanas, pilnībā nespēja uzticēties pareizticīgajiem.
III un IV Saeimas laikā vecticībnieku intereses pārstāvēja „kreisās” aprindas un to deputāti – M. Kaļistratovs un T. Pavlovskis, bet „labējo” vecticībnieku līderis S. Kirilovs Saeimā neiekļuva.
1934. gada 14. februārī Ministru Kabinets pieņēma „Likumu par vec ticībnieku kopienām Latvijā”, kas beidzot noregulēja vecticībnieku juridisko statusu valstī. Vecticībniekiem likumā, gluži tāpat kā Mozus ticīgajiem, „nāca pretī, sniedzot iespēju algot sekretārus mācītājiem, kuri neprata latviešu valodu un kuriem nebija vidējās izglītības”.13 Skolās, kurās bija vecticībnieku skolēnu vairākums, ar likumu tika atļauts svinēt reliģiskos svētkus pēc vecā stila. Valsts piešķīra līdzekļus vecticībnieku reliģisko kursu organizēšanai, jo vēsturisko apstākļu dēļ ilgus gadsimtus vecticībniekiem bija liegtas plašākas izglītošanās iespējas. Kā rakstīja vecticībnieku Baznīcas vēsturnieks I. Zavoloko: „1934. ga da
11 Feigmane T. Krievi Latvijā un Saeimas vēlēšanas. 1920–1934 // Latvijas Arhīvi, 1995, Nr. 3. 29. lpp.
12 Turpat, 31. lpp.13 Заволоко И. История Церкви Христовой. Рига, 1990. С. 159.
238
Инесе РУнце
отношение государства к старообрядческим общинам в Латвии (1918–1940)
В статье дана характеристика религиозной политики в Лат-вийской республике в период 1920–1930-х годов, рассмотрены особен- ности механизмов государственного контроля за деятельностью религиозных организаций и конфессий. Несмотря на то, что юри-дически староверы причислялись к нетрадиционным христиан-ским конфессиям, они имели равные с другими конфессиональными группами права и получали государственное пособие на ремонт и содержание моленных.
После переворота 15 мая 1934 года контроль государственных учреждений (в особенности, Управления духовных дел) над рели-гиоз ными организациями усилился. Cтароверы, со своей стороны, стремились демонстрировать лояльность к новому поряд ку и вы- страивать конструктивные отношения со структурами власти.
Публикации в периодических изданиях латвийских староверов свидетельствуют об их готовности проявлять лояльность лат- вийскому государству, сохраняя верность традициям староверия. Государственные учреждения, в свою очередь, не злоупотребляли своими полномочиями в отношении регулирования внутренней жиз ни староверческих общин.
pārmaiņām.18 1935. gadā valdības pieņemtais „Likums par vecticībnieku kopienām” nostiprināja kopienu vadītāju garīgo un laicīgo autoritāti.19 Neapšaubāmi, šīs strukturālās pārmaiņas vecticībnieku aprindās netika uztvertas viennozīmīgi, bet šāda veida modelis bija diezgan tuvs vecticībnieku patriarhālajam kopienas modelim, tādējādi daudzi vecticībnieku kopienas ticīgie lūkojās bez liela uztraukuma uz šādu lietu kārtošanas gaitu. Neapmierinātie mēģināja atdalīties un izveidot neatkarīgas vecticībnieku draudzes, kas nepakļautos valsts diktātam, taču valsts nostājas dēļ tas nebija iespējams. 1935. gadā izdotais likums pilnībā novērsa vecticībnieku kopienas šķelšanās teorētiskās un praktiskās iespējas.
Pēc valsts apvērsuma 1934. gada 15. maijā tika atlaista Centrālā vecticībnieku padome, taču drīz pēc tam 1934. gadā tika atļauts veidot jaunu, pārveidotu organizāciju, bet nu jau ar valsts kontrolētu vēlēšanu procesu. Vadošos garīgos un laicīgos amatus vecticībnieku kopienās varēja ie ņemt tikai tās personas, kas bija uzskatītas par valstiski uzticamām un kuru kandidatūras bija apstiprinājusi Garīgo lietu pārvalde.20 Taču vēlākā vecticībnieku izteikti apolitiskā nostāja pret K. Ulmaņa valdību nekādus sarežģījumus apstiprināšanas procesā neradīja. Arī Iekšlietu ministrijas Politiskās pārvaldes aģentūras materiāli neliecina, ka drošības dienestiem būtu bijusi sevišķa interese par vecticībnieku aprindām.
Šajā laikposmā vecticībnieku presē vispārēju autoritārisma ideju ie tekmē bija vērojama izteikta tendence veidot vecticībnieku valstisko apzi ņu: „Vecticība ir neapšaubāmi visas Latvijas tautas sastāvdaļa. Tādē jādi tā ir aicināta dzīvot, strādāt un domāt vienā nolūkā – savai valstij.”21 Valstiskās apziņas veidošana tika sapludināta kopā ar vecticībnieku ciešāku integrāciju Latvijas sabiedrībā. Neapšaubāma lojalitāte attieksmē pret valsti kopā ar dedzīgu kalpošanu vecticībai veidoja vecticībnieku kopienas pamatmērķus, kas norādīja uz vecticībnieku kopienas un valsts labvēlīgajām attiecībām. Vecticībnieki, jeb kā tos bieži tautā dēvēja „Latvijas krievi”, dzīvoja noslēgti, bet ne izolēti gadsimtiem ilgi šajā sabiedrībā, cieši identificējot sevi ar šo zemi un sabiedrību, arī kārtējās pārmaiņas uztvēra mierīgi, bet jaunā valdība, redzot šo attieksmi, kontroli nepastiprināja.
18 Старообрядчество в Латвии без прикрас, 1920–1940: сборник документов. Сост. Балевиц З. Рига, 1961. C. 57.
19 Аноним. Колонка редактора // Наставник, 1936, апрель.20 Аноним. Колонка редактора // Наставник, 1936, июль.21 Аноним. Колонка редактора // Наставник, 1936, апрель.
240 241
Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ, фонд 6991, описи №№ 1–10).
Фонд является уникальным собранием документов и материа лов самого различного характера, наиболее полно и разносторонне отражающим религиозную жизнь в Советском Союзе, деятель ность конфессий и духовенства, межрелигиозные отношения внутри стра ны, связи «советских» религиозных организаций с зарубежными центрами и объединениями, кроме того – практическую деятельность государства и его органов управления (центральных, региональных, местных), а также партийноидеологических инстанций, общественных и научных организаций в отношении к религиям, церквам и верующим.
К сегодняшнему дню исследователям, в разное время работавшим с документами этого фонда, едва ли удалось «освоить» 10–15 % от его общего объема, который составляет более 100 тысяч документов. Сказывается тот факт, что десятилетиями фонд был в значительной части на «секретном» и «совершенно секретном» хранении, малодоступен для советских ученых и вовсе недоступен представителям религиозных организаций и зарубежным исследователям. Необходимо подчеркнуть ещё одну причину идеологического свойства: для официальной партийной исторической науки вовсе и не требовался поиск и разработка доступной в те годы части архивного фонда, ведь ответ на все вопросы уже содержался в решениях и документах ЦК КПСС, и учёные в своём подавляющем большинстве просто переписывали и пересказывали партийную точку зрения, не удосуживаясь проверять её на историческую истину. Особенно наглядно это проявлялось в диссертациях, защищенных по специальностям «научный атеизм; теория и история атеизма и религии».
Ещё одним, технологическим препятствием, на пути освоения фонда является отсутствие справочного аппарата и путеводителей по данному морю документов. Не спасают и вышедшие в последние годы «Путеводители по архивным фондам ГАРФ», поскольку они содержат в себе лишь общее описание фондов, а имеющиеся в недрах архива аннотированные указатели к части фонда Совета недоступны исследователям.
Михаил одИнцов
архивный фонд Совета по делам религиозных культов при СМ СССР (1944–1965)
как источник изучения политики советского государства в отношении старообрядческих общин и других религиозных объединений
Без опоры на объективные материалы трудно надеяться на вос становление истории, каковой она была, а не казалась. При изу че нии вероисповедной (конфессиональной, религиозной, церковной) политики государства, т. е. его усилий, направленных непосредственно на религиозные объединения, можно выделить следующие составляющие такой политики:
• концептуальное обоснование действий государства в сфере мировоззренческих свобод;
• правовая база – в виде законодательства о свободе совести и деятельности религиозных объединений;
• организационно-административные структуры (специализированные или общей юрисдикции).
Последняя, третья составляющая, и является объектом внимания данной статьи. Применительно к военной и послевоенной истории Советского Союза в числе специализированных управленческих структур по «религиозным вопросам», образованных при СНК (СМ) СССР, были:
• Совет по делам Русской Православной Церкви (1943–1965)• Совет по делам религиозных культов (1944–1965)• Совет по делам религий (1965–1991)Все они имели сравнительно небольшой (50–60 человек) цен
тральный аппарат и своих представителей (уполномоченных) в со юзных и автономных республиках, краях и областях. За почти полувековую деятельность вышеуказанных организаций сло жился огромный комплекс документов, ныне объединенных в единый фонд «Совет по делам религий при СМ СССР». Он хранится в
242 243
– постановления Совета Министров СССР, относящиеся к деятельности Совета,
– протоколы заседаний Совета, – докладные записки отделов,– циркулярноинструктивные письма Совета уполномоченным,– переписка с уполномоченными,– переписка с центральными и местными органами власти и
партийноидеологическими инстанциями, министерствами и ведомствами,
– записи приемов руководителями и сотрудниками Совета слу жителей культа и верующих, членов зарубежных религиозных делегаций и представителей общественности, справки о пребывании иностранных церковных деятелей в СССР и религиозных делегаций из СССР за рубежом,
– материалы, отражающие финансовохозяйственную и управленческую деятельность центрального аппарата Совета;
• Справочно-информационные материалы, подготовленные сотрудниками Совета и сформированные в тематические архивные дела (за разные годы):
– сведения о религиозных организациях в СССР и за его пределами,
– статистические сводки и сведения за 1944–1965 гг. о молит вен ных зданиях, религиозных объединениях, монастырях, ду ховных учебных заведениях, служителях культов и заявлениях граждан об открытии молитвенных зданий, совершенной религиозной обрядности, как в целом в СССР, так и отдельно по каждой из союзных республик, собранные сотрудниками Совета,
– материалы проведенного в 1961 году единовременного учета религиозных объединений (зарегистрированных и фактически действовавших), зданий, служителей культов в республиках, краях и областях Советского Союза;
• Конфессиональные материалы:– документы, представленные в Совет религиозными организ а
циями (записи бесед, выступлений на молитвенных собра ни ях, справки о приёмах иностранных делегаций, отчеты о по езд ках по СССР и за рубеж на межрелигиозные, миротворческие
Во второй половине 90х годов ХХ века был подготовлен каталог фонда (5 выпусков). Он явился первым шагом на пути создания справочноинформационной базы, помогающей исследователям, обращающимся к документам фонда Совета по делам религий. Он появился благодаря финансовой поддержке Фонда Сороса и впервые был опубликован в журнале «Исторический архив» (редактор А. А. Чернобаев).
Каталог включает в себя описание 468 архивных дел, занесенных в опись № 4 и относящихся к деятельности Совета по делам религиозных культов при СМ СССР (1944–1965). Каталог строится по следующему принципу: вначале указывается номер архивного дела и его название согласно описи, затем последовательно описываются все хранящиеся в деле документы. Заголовок содержит в себе указания на разновидность документа, автора и адресата, краткое содержание. Поскольку номер фонда и описи один и тот же для всех документов, то каждый заголовок сопровождается архивной легендой, в которую входят лишь указание на дату, номера листов, подлинность документа. Если документ имеет приложение, то это указывается. Должности авторов и адресатов документов указываются при их первом упоминании. Если у одного и того же лица за время, охваченное каталогом, менялась должность, то новая должность также указывается.
Опись № 4 включает в себя несекретную часть архива Совета. Понятно, что при архивировании поступивших дел из Совета, которое было нацелено на сохранение, прежде всего, документов, отражающих «союзный характер» деятельности Совета, огромная часть «документов с мест» навсегда утеряна. Вот почему при изу чении деятельности Совета важно сопоставлять фонд ГАРФа с фондами уполномоченных Совета на местах, которые сохранили в себе переписку по вопросам «местного характера» и которые сегодня доступны для исследования в региональных архивах России.
Можно выделить три группы документов, описанных в каталоге, представляющих ценность для исследователей:
• Документы, относящиеся непосредственно к деятельности центрального аппарата Совета как органа управления, сформированные в тематические архивные дела (за разные годы):
244 245
и иные общественные мероприятия, переписка с зару бежными религиозными центрами),
– переписка Совета с религиозными центрами, действовавшими в разные годы в СССР.
Понятно, что каждый исследователь, приступая к поиску, стремится найти материалы, относящиеся к интересному для него региону. И здесь он сразу же сталкивается с трудностью. Дело в том, что лишь незначительная часть архивных дел в своем наименовании имеет указание на регион, большинство же из них сформированы по конфессиональному признаку, то есть, содержат в себе названия тех церквей, течений, движений, объединений, документы о которых собраны в архивном деле.
В рамках данной статьи нас интересует Прибалтика как географический регион распространения и деятельности староверческих, а также и иных религиозных объединений.
По первой группе требуется тщательный просмотр каждого из дел, указанного в каталоге, и тогда выясняется, что, к примеру:
• на заседаниях Совета обсуждался вопрос «О состоянии и деятельности религиозных культов на территории» Литовской ССР, Эстонской ССР и Латвийской ССР (Д. 19.1947), доклад уполномоченного Совета по Латвийской ССР Рестберга и план его работы (Д. 24.1949);
• имеются записи бесед сотрудников Совета с представителями старообрядческих общин по таким вопросам, как положение дел в старообрядческих обществах в Литовской, Белорусской, Украинской республиках; издание старообрядческого календаря и отношения с Русской Православной Церковью; органи зация Всесоюзного старообрядческого Совета (с участием представителей старообрядческих обществ Литвы, Латвии, Мос квы) и предоставление ему помещений в Москве; участие Старообрядческих Церквей в миротворческой деятельности; поездки лидеров староверия СССР как по Советскому Союзу, так и за рубеж (например, Д. 20.1947).
По второй группе поиск несколько легче, поскольку в наименовани ях архивных дел указываются административнотерриториальные единицы (например, дело № 287. Материалы единовременного учета религиозных объединений в Латвийской ССР; дело
№ 291. Ма териалы единовременного учета недействующих молитвенных зданий в Латвийской ССР; дело № 434. Сведения о фактически действующих религиозных объединениях и о совершенной рели гиозной обрядности верующими в Латвийской, Литовской и Эстонской союзных республиках).
По третьей группе может выручить только поиск в делах, сформированных по конфессиональному принципу, отталкиваясь от наличия в перечне названия «нужных» исследователю церквей на территории изучаемого региона. Например, дело № 7. Перепис ка и связи Всесоюзного Совета евангельских христианбаптистов, старообрядцев и адвентистов седьмого дня с религиозными объединениями и разными лицами за границей (за разные годы); дело № 52. Материалы о деятельности московской старообрядческой архиепископии и старообрядческих центров всех толков (за разные годы); дело № 187. Материалы о зарубежных связях Евангелическолютеранской и Методистской Церквей СССР; дело № 188. Материалы о зарубежных связях Римскокатолической Церкви СССР (1965).
В некоторых случаях помогает имеющийся в каталоге (по каждому выпуску) указатель имён, встречающихся в тексте государственных, общественных и религиозных деятелей.
Каталог передан в крупные библиотеки России, его можно найти в Интернете. Относительно недавно (2005) он издан полностью в виде диска в Электронной христианской библиотеке (История евангельского движения в Евразии), издающейся в Украине. Тематические выборки из каталога, посвященные таким религиозным объединениям, как Церковь Евангельских христианбаптистов, Церковь христиан веры евангельской (пятидесятники), Церковь христианадвентистов седьмого дня опубликованы в ежегодном издании Российского объединения исследователей религии «Свобода совести в России: исторический и современный аспекты» (Выпуски 1–7. М., 2004–2009).1
Конечно, работа над составлением аналогичных представленному каталогу иных справочноинформационных изданий по фонду Совета нуждается в продолжении. Ценность их в том, что они
1 См. сайт Российского Объединения исследователей религии: http://www.rusoir.ru/
247
дают надёжный ориентир для поисковой и публикаторской деятельности учёных, специализирующихся на проблемах изучения истории религиозной жизни в СССР, политики государства в отношении религиозных объединений и государственноцерковных отношений второй половины XX века.
Mihails oDIncoVS
PSRS MP Reliģisko kultu lietu padomes arhīva fonds (1944–1965) kā avots pētījumos par
padomju valsts politiku vecticībnieku draudžu un citu reliģisko apvienību jautājumos
Padomju valsts politiku reliģijas jomā īstenoja speciāli izveidotās cen-trālās pārvaldes iestādes, kuras tika pakļautas PSRS Tautas komisāru pa domei (Ministru padomei). Sākot ar 1940. gadu vidu, tās bija: Krievu Pareizticīgās baznīcas lietu padome (1943–1965), Reliģisko kultu lietu pa-dome (1944–1965) un Reliģiju lietu padome (1965–1991).
Šo iestāžu gandrīz pusgadsimta ilgā darbība atspoguļojas plašā do-ku mentu kompleksā, kas šodien veido PSRS MP Reliģisko kultu lietu pa-domes fondu Krievijas Federācijas Valsts arhīvā (6991. f., apr. 1–10). Līdz šim pētnieki ir apguvuši tikai 10–15 % no visa dokumentu apjoma, jo ilgu laiku šie materiāli tikpat kā nebija pieejami speciālistiem.
1990. gadu otrajā pusē tika sagatavots fonda katalogs (5 sējumi) ar 468 arhīva lietu (ap 10 000 dokumentu) aprakstiem. Lietas ir sistematizē-tas pēc konfesionālā iedalījuma, tādēļ informācija par reliģisko dzīvi PSRS republikās ir „izkaisīta” daudzās mapēs. Raksta autors, balstoties uz kataloga izpēti, sniedz to dokumentu pārskatu, kuri atspoguļo reli-ģisko dzīvi Baltijā un padomju valsts attieksmi pret vecticībnieku un citu kon fesiju draudzēm šajā teritorijā.
надежда БеЛякова
о попытке создания организационной структуры у старообрядцев-беспоповцев
Прибалтики в 1940-е гг.1
После включения прибалтийских республик в состав СССР в 1940–1945 гг. союзное руководство начинает постепенно распространять на них систему ограничения активности и вытеснения религиозных институтов из общественного пространства, отрабо танную в «старых» республиках СССР. Однако на новых территориях действовало множество Церквей и общин разных христианских конфессий, со значимостью которых, в том числе и на международной арене, власть не могла не считаться. В целом, в послевоенный период, в отличие от Западной Украины и Западной Белоруссии, религиозная политика в Прибалтике носила более мягкий характер и элемент прагматичного использования предшествующего опыта государственноцерковных отношений всегда присутствовал.
В отношении множества общин старообрядцев, действовавших на присоединенных территориях, новая власть занимала скорее нейтральную и выжидательную позицию. В свою очередь, и прибалтийские старообрядцы в своих письмах и документах подчеркивали поддержку «политике Советского правительства на общее благо нашего родного Отечества».
Совет по делам религиозным культов (СРК) в середине 1940х гг. собирал через уполномоченных подробную информацию о количестве, возрастном составе и степени активности членов старообрядческих общин в масштабах всей страны. Эти материалы отложились в фонде Совета. Вот как характеризовал СРК для Совета
1 Исследование выполнено при поддержке Программы фундаменталь ных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в исто рии и культуре» и гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК2012, в рамках Программы фундамента льных исследован ий секции истории ОИФН РАН «Нации и государств о в мировой истории».
248 249
Народных Комиссаров ситуацию в стране со старообрядцами 7 де кабря 1945 г.: «Беспоповцы – наиболее многочисленное и обособленное ответвление старообрядчества. В настоящее время учтено 200 общин в Литовской ССР и Латвийской ССР. Все остальные, довольно многочисленные общины на Урале, в Сибири, в По волжье и на Украине, формально прекратили свое существование, но многие из них фактически существуют по сегодняшний день, чему способствует компактное поселение старообрядцев, представляющих собой чрезвычайно замкнутые группы в быту.
Централизация движения, достигнутая после преодоления ряда трудностей в 1909 году, в последующие годы, особенно после Октябрьской революции, ослабела и распалась»2.
К 1947 г. СРК насчитывал в СССР около 300 учтенных и зарегистрированных общин старообрядцевбеспоповцев. В справке об истории старообрядцевбеспоповцев сообщалось, что «из 300 учтенных беспоповских общин в СССР, 84 падает на Латвийскую СССР, 74 – на Литовскую, 35 – на УССР, 33 – на БССР, около 50 – на РСФСР и др. Следует сказать, что довольно значительная часть общин (особенно в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, в Казахстане) уклоняется от учета и существует на полулегальном положении».3 История попытки создания организационных структур для находящихся в СССР общин беспоповцев в 1940е гг. в российской историографии не получила освещения. Находка в архиве Совета по делам религиозных культов комплекса документов о попытках объединить общины беспоповцев под одним централизованным руководством в середине 1940х гг. интересна и как свидетельство о процессах внутри старообрядческого сообщества, их отношении к советской власти, и как прояснение механизмов участия и логики власти в оформлении управления религиозными конфессиями в стране. Одновременно это и свидетельство о расхождении стратегических целей церковных лидеров и советских чиновников.
В первой половине 1940х гг. на территории СССР оформляются новые организационные структуры крупнейших конфессий. Судя по всему, перелом в государственной политике в отношении
2 ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 10, л. 135.3 ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 47, л. 26.
конфессий наступает еще в 1939–1940 г. с включением в состав СССР западных Украины4 и Белоруссии5, а также трех прибалтийских республик, на территориях которых существовали, в отличие от РСФСР, многочисленные религиозные общины. Власть предприняла попытку сменить церковное руководство на лояльных и зависимых от власти лиц, параллельно стремясь к минимизации влияния Церкви на общество.
Очевидно, что создание новых организационных структур для религиозных конфессий во время войны не только курировалось, но и было санкционировано советскими «инстанциями» и происходило при государственной поддержке, в первую очередь, административной и материальной. Однако, в силу недостатка источников, на сегодняшний день сложно говорить о том, каким образом на практике были созданы новые структуры, какие были поставлены перед ними цели, как происходил кадровый подбор нового церковного руководства.
История легализации Русской Православной Церкви (РПЦ) этого периода изучена несколько лучше6, чем, например, Всесоюзного Совета евангельских христианбаптистов (ВСЕХБ) и организационного устройства других деноминаций. Российскими исследователями была проанализирована и мотивация советского
4 См. исследования Пащенко В. Православ’я в новiтнiй iсторiї України. Полтава. Частина друга. Полтава, 2001; Пащенко В. Грекокатолики в Українi вiд 40х рокiв XX столiття до наших днiв. Полтава, 2002. Пащен ко В. В. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 – початок 1990х років. Полтава, 2005.
5 Ярмусик Э. С. Католический костел в Беларуси в 1945–1990 годах. Гродно, 2006.
6 Чумаченко Т. А. Советское государство и РПЦ (история взаимоотношений 40е – первая половина 1950х гг.). М., 1994; Шкаровский М. В. РПЦ и советское государство в 1943–1964 гг. От «перемирия» к новой вой не. СПб., 1995; Шкаровский М. В. РПЦ при Сталине и Хрущеве (государственноцерковные отношения в СССР в 1939–1964 гг.). М., 1999; Чумаченко Т. А. Государство, православная церковь, верующие: 1941–1961. М., 1999; Якунин В. Н. Положение и деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945. Самара, 2001; Маслова И. И. Эволюция вероисповедной политики советского государства и деятельности РПЦ (1953–1991). М., 2005; Беглов А. В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР. Издательский Совет РПЦ, 2008.
250 251
руководства, которая стала превалировать в 1940е гг.: предпочтительна легальная структура с лояльным руководством, которое будет играть значительную роль во внешней политике Советского государства.7 Следует напомнить, что уже на переговорах об открытии Второго фронта поднимался вопрос о положении религии в СССР. О. Ю. Васильева считает, что перелом в государственной политике в 1948–1949 гг. в отношении к религиозным объединениям также произошел после «неудачи» руководства РПЦ на внешнеполитической арене: не удалось реализовать запланированный в советских кабинетах план по созданию в Москве всеправославного центра («московского Ватикана»). Эта перемена произошла и в контексте общего ужесточения курса государственной политики внутри страны.8
Тем не менее, к концу Второй мировой войны в СССР функционировали жесткоцентрализованные церковноадминистративные структуры. Кроме хорошо известной структуры Русской Православной Церкви, включившей в себя все православные епархии (а затем и насильственно присоединенные грекокатолические), действовавшие на территории всего СССР, была также создана структура, призванная объединить все позднепротестантские объ единения. Речь идет о Всесоюзном Совете евангельских христиан баптистов (ВСЕХБ), который должен был объединить и по возможности унифицировать различные позднепротестантские течения в СССР. ВСЕХБ на протяжении 1940х гг. последовательно включал в себя, кроме евангельских христиан и баптистов, пятидесятников, дарбистов, вольных христиан (смородинцев), а позднее и братских меннонитов.9
7 См. обобщающее исследование: Болотов С. В. Русская Православная Церковь и международная политика СССР в 1930е – 1950е годы. М., 2011.
8 Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943–1948 гг. М., 2001; Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь и Второй Ватиканский Собор. М., 2004.
9 Заватски В. Евангельское движение в СССР после Второй мировой войны. М., 1995; Решетников Ю., Санников С. Обзор истории евангельскобаптистского братства в Украине. Богомыслие. Одесса, 2000; Савинский С. Н. История евангельских христианбаптистов Украины, России, Белоруссии. Т. 2. 1917–1967. СПб., 2001; Toivo Pilli. Evangelical ChristiansBaptists of Estonia: The Shaping of Identity, 1945–1991. University of Wales.
В 1945 г. Совет по делам религиозных культов (далее – СРК) предполагал и дальше создавать централизованные управленческие структуры для отдельных конфессий или реорганизовать существующие. В записке СРК в Совет Народных Комиссаров (СНК СССР) от 7 декабря 1945 г. речь шла о поддержке создания организационных центров старообрядцев Белокриницкой иерархии10, беспоповцев, о создании всесоюзного управления мусульман, все союзного административнорелигиозного центра иудейского ис поведания. СРК планировал также коренное переустройство Евангелическилю теранских Церквей Латвии и Эстонии11. Создание ад ми нистративного центра старообрядцевбеспоповцев вполне вписывалось в общую концепцию деятельности Совета по делам религиозных культов. Забегая вперед, необходимо отметить, что именно это направление деятельности Совета – легализация или создание централизованных иерархических структур для при зна ваемых конфессий – вызвало наибольшую критику во время смены курса религиозной политики в 1957–1959 гг.
В фонде Совета по делам религиозных культов хранится комплекс документов, содержащих сведения о попытке оформле ния ор ганизационной структуры для старообрядцевбеспоповцев в середине 1940х гг. Здесь отложились следующие материалы: пись ма уполномоченного СРК по Латвийской ССР; ответы и инструктивные рассылки уполномоченным, направленные Советом; материалы Высшего старообрядческого Совета Литвы; письма руководства Гребенщиковской общины Риги.
International Baptist Theological Seminary. Prague, 2007; Пiзнiй протестантизм в Українi (п’ятдесятники, адвентисти, свiдки Егови / Iсторiя релiгiї в Українi. Т. 6. за ред. проф. П. Яроцького. Київ – Дрогобич, 2007; Никольская Т. В. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 годах. СанктПетербург, 2009; Бєлякова Н. Способи державного ре гулювання дiятельностi євангельського спiвтовариства в пiзньому СРСР // Украïньске релiгiєзнавство. №58. Вiтчизняний Євангельський протестантизм: iсторiя, досвiд, проблеми. Зб. наукових ст. Київ, 2011. С. 148–161.
10 Актуальность этого вопроса была связана с попыткой создания старообрядческого центра в Васлуй (Румынии) во главе с митр. Тихоном Качалкиным.
11 Записка СРК в СНК от 7.12.1945 М12728с Молотову В. М. ГАРФ, ф. Р.6991, оп. 3, д. 10, л. 129–141.
252 253
На основании отложившихся документов попробуем реконструировать ход создания административной структуры старообрядцевбеспоповцев.
По сообщению Высшего старообрядческого Совета Литвы (ко торый существовал и в межвоенное время), в октябре 1944 г. с санкции «Правительства Советского Союза» началась координация деятельности старообрядцев в Литве.12 Были проведены старообрядческие Соборы в Каунасе и Вильно (Вильнюсе). На пост председателя Высшего старообрядческого Совета в Литовской ССР был избран инженер Иван Федорович Романов. Совет в октябре 1945 г. обратился к старообрядческим общинам Прибалтики и объявил им, что он – Высший старообрядческий Совет Литвы (далее – ВСС) – «принял в свое ведение (подчеркнуто Н. Б.) старообрядческие общины Латвийской, Эстонской и Белорусской ССР и с настоящего момента приступает к их духовному окормлению». Своей задачей ВСС видел ускорить приближение того дня, «когда многомиллионное русское старообрядчество в свободном Советском Союзе примет полную форму организации церковной жизни и создаст стройный Храм ДревлеПравославной Церкви на незыблемом фундаменте исповедании веры Христовой во славу нашего дорогого отечества». Первым делом ВСС начал сбор средств со старообрядческих общин для издания церковного календаря, созыва Духовного суда и организации духовных курсов. В обращении к старообрядческим общинам в апреле 1945 г. говорилось: «председатель В.С.С. инж. Иван Федорович Романов, в сопровождении инспектора Совета Ивана Исаевича Егорова, посетил Совет по де лам религиозных культов при СНК СССР в Москве и вручил председателю сего Совета проект восстановления Всероссийской Старообрядческой Церкви, не имеющей духовной иерархии, и утверждения ее во всех правах наравне с прочими Церквами Советского Союза. Предложенный проект рассматривается Правительством, и о том последует в ближайшем времени его положительное решение».13
Не дожидаясь решения правительства, ссылаясь на санкцию Совета по делам религиозных культов, председатель Высшего ста
12 ГАРФ, ф. Р.6991, оп. 3, д. 19, л. 116 и др. 13 ГАРФ, ф. Р.6991, оп. 3, д. 19, л. 120.
ро обрядческого Совета Литвы сделал попытку взять под свое «по печение» старообрядческие общины соседних республик. В октябре 1945 года (точнее невозможно определить, поскольку на документе отсутствует дата) ВСС провел съезд некоторых старообрядческих наставников в Вильно, а, главное, направил в старообрядческие общины Прибалтики, и, видимо, Белоруссии, целый комплект бумаг.
Кроме сообщения о включении общин в «духовное окормле ние» и настойчивых просьб о финансовой поддержке, ВСС разослал регистрационные анкеты для общин и для духовных наставников. Судя по всему, ВСС собирался провести регистрацию старообрядческих общин в государственных органах в «юрисдикции» Высшего старообрядческого Совета. Более того, от имени ВСС было даже предложено уполномоченным СРК не регистрировать духовных наставников общин старообрядцевбеспоповцев без получения на то соответствующих документов из ВСС. Например, в письме ВСС №1385 от 17.11.1945 на имя уполномоченного СРК Латвийской ССР было написано: «В настоящее время В. С. Совет приступил к выдаче соответственных удостоверений тем дух. наставникам, которые отвечают каноническим требованиям или были в свое время уже утверждены управлениями Старообрядческой Церкви. По получении соответственных данных от общин, президиум намерен созвать на территории ЛССР Духовный Суд для решения накопившихся духовных дел, а также для проверки и утверждения сомнительных духовных наставников.
Принимая во внимание вышеизложенное, президиум просит Вас воздержаться от выдачи регистрационных справок тем дух. на ставникам, которые не получили надлежащих удостоверений от В. С. Совета, избежать случаев регистрации духовных наставников, не соответствующих требованиям Старообрядческой Церкви не имеющей духовной иерархии».14
Видимо, тогда же (на документах ВСС, отложившихся в фон де СРК, как правило, отсутствуют даты) Романов выслал программу своих действий в СРК с просьбой «выдать свое письменное согласие на принятие В. С. Советом Лит. ССР в свое ведение
14 ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 19, л. 117–118.
254 255
и обслуживание старообрядческих общин Прибалтики (Латвии, Эстонии и Белоруссии) и известить о том соответственных Уполномоченных Совета по республикам». Судя по этой программе, кроме организационноадминистративных мероприятий ВСС плани ровал собрать сведения по всем направлениям деятельности общин, рас смотреть вопрос регистрации наставников и др. Программой предусматривалось:
«1. Оформить дух. наставников и церковных служителей путем выдачи им соответственных удостоверений и зарегистрирования как В. С. Советом, так и уполномоченными по делам религиозных культов при СНК СССР. Проверить и утвердить Дух. Судом ново-поставленных дух. наставников, исполняющих временно свои обя-занности.
2. Обслуживать старообрядческие общины Прибалтики в рели-гиозном отношении, изыскивая для них необходимые предметы Куль та как: иконы, богослужебные книги, церковные свечи, ладан, учебные пособия, нательные крестики и т. п.
3. Вести религиозно-нравственную воспитательную работу как среди молодежи, так и старшего поколения путем чтения лекций, обучения небольшими группами и создания при общинах религиоз-но-просветительских библиотек».15
К сожалению, невозможно установить, к каким устным договоренностям пришли в Москве представители СРК и И. Ф. Романов. Очевидно, что процитированные выше пункты программы никак не могли выйти изпод пера советских чиновников. Они показывают, каким старообрядческому руководству представлялся путь по организационному укреплению и административной защите наставников в условиях советского атеистического государства. Когда процитированные выше документы попали в СРК, предста вители СРК подчеркнули красным карандашом в обращении (программе) Высшего старообрядческого Совета и отметили вопросительными знаками места, которые вызвали у СРК сомнения или недовольство. Вопервых, вопрос вызвал факт проведения совещания представителей литовского старообрядчества с московскими староверами. Вовторых, утверждение о том, что в
15 ГАРФ, ф. Р.6991, оп. 3, д. 19, л. 119.
ближайшее время последует положительное решение советского правительства.
Очевидно, что И. Ф. Романов в октябре 1945 года действовал с санкции СРК, поскольку в фонде отложилась рассылка СРК уполномоченным от 29 сентября 1945 г., в которой сообщалось об ини циативе руководителей Высшего старообрядческого Совета в Литве создать Всесоюзный центр старообрядцевбеспоповцев, который должен «объединить все старообрядческие беспоповские толки, за исключением безусловно тех, которые придерживаются так называемого «краснодраконовского», т. е. явно антисоветского направления».16 Давая характеристику старообрядческому движе нию, СРК предлагал уполномоченным активно включиться в подготовку к созданию Всесоюзного старообрядческого центра. От упол номоченных требовалось до 15 ноября 1945 г. проделать следующую работу:
1) Выявить все фактически существующие объединения старообрядцев. «Выявление надо производить не только при помощи рай онных и сельских советских органов, но и широко прибегая к беседам с отдельными деятелями беспоповцев, старообрядцев других «согласий» и привлечению имеющихся по этому вопросу материалов у отдельных представителей русской православной церкви».
2) «Собрать исчерпывающие материалы, характеризующие от дельные общины беспоповцев: а) компактность расселения; б) осо бенности быта, в) степень влияния духовных наставников и начетчиков, г) порядок и особенности проведения богослужений и выполнения обрядов, д) отношение к колхозу и работа в нем и на производстве, е) политические настроения в массах и отношение к массовым кампаниям, ж) связь отдельных общин между собой, з) взаимоотношения общин, принадлежащих к разным «толкам», и) характеристика руководящих деятелей».17
12 ноября СРК отправил резкую «отповедь» уполномоченному Совета по Латвийской ССР В. Я. Шешкену. В письме ему сообщалось, что «согласие Совета на создание временного центра беспопов цев в Прибалтике является переходной ступенью к образованию
16 Там же, д. 11, л. 31.17 ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 11, л. 32–32 об.
256 257
Всесоюзного центра с местопребыванием его в Москве. Этому мероприятию Совет придает серьезное значение, и поэтому всякое сопротивление ему, тем более обусловленное несерьезными сооб ражениями местнического порядка, должно быть преодолено». Шешкену предлагалось вызвать для беседы протестующих латвийских старообрядцев и указать им на «необоснованность их сопротивления».18
И в отчетах высшим инстанциям СРК демонстрировал свою заинтересованность в существовании централизованной структу ры старообрядцев. В аналитической записке в СНК СССР на имя В. М. Молотова от 7 декабря 1945 г. (М12728с) открыто выражалась поддержка действиям И. Ф. Романова. В записке сообщалось, что в среде старообрядцевбеспоповцев «возобновилась тяга к центра лизации и организационному упорядочению движения, при чем инициатором этого явился Высший старообрядческий Со вет Литовской ССР. Его представители, с разрешения Совета по делам религиозных культов, ведут работу, содействующую выявлению и организационному оформлению фактически существующих общин».19
Однако на протяжении июнядекабря 1945 г. в СРК из Латвийской ССР поступил целый ряд документов, ставящий своей целью дискредитировать деятельность представителей литовских старообрядцев. Эти материалы поступили из аппарата уполномоченного по Латвийской ССР В. Я. Шешкена и содержали критические отзывы самого уполномоченного. Первым письмом, датированным 12 июня 1945 г., Шешкен сообщал об активности в Латвии инспектора Высшего старообрядческого совета Литвы Ивана Исаевича Егорова, давал ему отрицательную характеристику20 и настойчиво
18 ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 19, л. 111.19 Там же, д. 10, л. 135–136.20 Уполномоченный пересказывал свою беседу с Егоровым следую
щим образом: «...в этой беседе мне пришлось этому литовскому делегату крепко вправлять мозги, правда в весьма культурной форме, потому что путаница в его голове носит чрезвычайно вредный характер. Разговор наш носивший совершенно непринужденный характер, расположил его к откровенности и он говорил совершенно свободно.
Разглагольствуя о том, что 20ки совершенно никчемная и ненужная вещь и что они их у себя создавать не собираются, так как не знают их
просил СРК «категорически запретить уполномоченному Литвы посылать коголибо на гастроли, а иначе их назвать нельзя, к нам в Латвию <...> Имею смелость утверждать, что если нужна будет координация таких вопросов как подбор делегатов и членов во Всесоюзные объединения от Латвии, то с этим вопросом мы справимся и без делегатов от Литвы»21.
Позднее уполномоченный переслал в союзный центр документы, разосланные общинам ВСС, а также развернутую записку с анализом ситуации, написанную на имя уполномоченного по Латвийской ССР Шешкена членом причта Гребенщиковской общины Порфирием Федоровичем Фадеевым.
Согласно записке П. Ф. Фадеева22, позиция Гребенщиковской общины заключалась в следующем: община поддержала идею создания Всесоюзного старообрядческого Совета с центром в Москве и с отдельным подразделением для Прибалтики (с центром в Риге или Вильно). Однако община высказала категорическое несогласие с перспективой «духовного окормления» со стороны ВСС Литвы, о чем было объявлено на съезде наставников: «все (члены Рижского старообрядческого Совета – Н. Б.) единодушно выразили несогла - сие на вступление под управление В.С.С. в Лит.С.С.Р. и поручили мне (Фадееву – Н. Б.) и наставнику И. В. Дорофееву обратиться к Вам (уполномоченному СРК Шешкену – Н. Б.) с просьбою Вашего со-действия в деле организации аналогичной Виленской, В.С.С. в Лат. С.С.Р. с центром в г. Риге, ибо в Лат.С.С.Р. имеется 83 старообр.
назначения, он мне задает вопрос, почему служитель культа не может войти в 20ку. Я ему разъяснил что сначала создается 20ка как ядро прихода, а затем уже сам приход, с последующим появлением служителей культа и т.д. Тогда он заявляет, а вот нам в Москве, в Совете по делам культов, на этот вопрос ответить не сумели, они сами не знают <подчеркнуто карандашом – Н. Б.>. Были и другие перлы. Например они в Литве убеждены, что до войны в СССР религия подвергалась гонениям, и передает рассказы, слышанные в Москве, от тамошних старообрядцев, что и молится нельзя было, так как за это можно было жестоко поплатится, или такое: в Литве старообрядцы больше не хотят заботится об украшении храмов, не дарят икон, не строят новых храмов, так как говорят, для чего это делать, если все равно это будет принадлежать государству, а не им». Орфография сохранена. Там же, д. 18, л. 79–80.
21 Там же, д. 18, л. 80.22 Там же, д. 19, л. 109–110 об.
258 259
общины и Рижская община среди них пользуется полным доверием и известным авторитетом как самая большая из всех старообр. общин Прибалтики. И, побуждаемая чувствами морали и своего самосознания, Рига не желает сделаться провинцией Вильно и в дальнейшем иметь порицание от старообр. общин Лат. С.С.Р. за свою бездеятельность» (в цитате сохранен авторский стиль – Н. Б.). Далее в записке приводился целый ряд аргументов в пользу создания в Латвийской ССР старообрядческого Совета, аналогичного в Литовской ССР.
Уполномоченный по Латвийской ССР, в свою очередь, переслал записку П. Ф. Фадеева в СРК СССР. Параллельно, 25 ноября 1945 г., он направил в СРК письмо, в котором подверг СРК критике за отсутствие четких директив по старообрядцам Латвии. Такая ситуация, по его мнению, дает литовцам право «на поползновения к пол ному хозяйничанию в Латвии», поскольку у литовских старообрядцев в руках находятся все инициативы. Уполномоченный обвинял И. Ф. Романова в нарушении территориальных границ республик, созыва съезда старообрядцев без санкции Уполномоченного по Латвийской ССР. По мнению Шешкена,23 в плане действий Романова содержится пункт («вести религиознонравственную воспитательную работу как среди молодежи, так и старшего поколения путем чтения лекций, обучения небольшими группами, и создавания при общинах религиознопросветительных библиотек»24), который откровенно противоречит советскому законодательству о культах и, по сути, полностью дискредитирует Романова. Далее уполномоченный подробно излагал, на каких условиях он согласен работать с Романовым.
23 В письме содержалась и резкая критика действий И. Ф. Романова: «После этого первого делового разговора с Романовым мое мнение о нем, изложенное в прошлых докладных записках, не изменилось, хотя оно и противоречит мнению Совета, расценивающего его как положительную фигуру. Пусть это мелкий, но характерный штрих для инженера, каким является Романов помимо того, что он председатель Совета. Я говорю о штампе на командировочном удостоверении, где Романов свой старо об рядческий Совет считает при СНК Лит.ССР. Для человека с высшим образованием это не ошибка, а система в работе, отсюда его и панибрат ство на словах с нашим Советом» (ГАРФ, ф. Р.6991, оп. 3, д. 19, л. 12–14).
24 ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 19, л. 231.
8 декабря 1945 г. СРК разразился гневным письмом в адрес уполномоченных по Литовской и Латвийской ССР. В письме отмечалось наличие ряда ошибок в деятельности «инициативной группы» литовских старообрядцев, которой «было запрещено вести в настоящее время другую какуюлибо работу, кроме организационной» (подчеркнуто мной – Н. Б). В ее документах появился откровенно противозаконный программный пункт, который был категорически отвергнут СРК. Кроме того, инициативная группа предложила провести съезд на территории другой республики (без разрешения правительства этой республики) и позволила в ряде своих документов совершенно безответственные ссылки на СРК. Ответственность за эти нарушения была возложена на Уполномоченного по Литовской ССР А. А. Гайлявичуса, который «недостаточно активно включился в эту работу и не регулировал дея тельность указанной группы». Он был вызван в Москву для личного инструктажа.
Досталось и Уполномоченному по Латвийской ССР Шешкену, которому СРК вновь предложил преодолеть «ничем неоправданные позиции сепаратизма» латвийских старообрядцев по отношению к инициативной группе. СРК подчеркивал, что объединение старообрядцев Прибалтики имеет временный характер и является переходным этапом к оформлению всесоюзного центра.25
Дальнейшие документы, в которых речь идет о создании Всесоюзного центра старообрядцев, относятся уже к 1947 году. 13 ян варя 1947 г. Совет по делам религиозных культов документом на имя заместителя Председателя Совета Министров СССР К. Е. Воро шилова предложил поддержать идею создания старообрядческого религиозного центра (Управления) в Москве и принятия единого Устава старообрядческой Церкви, не имеющей духовной иерархии. В документе назывались лица, вошедшие в инициативную группу: бывший член Высшего Духовного Совета Поморской Церкви ин женер Хвальковский (Москва), Председатель Высшего старообрядче ского Совета Литовской ССР инженер Романов (Вильнюс), Председатель Московской общины старообрядцев«поморцев» Ге ра симов (Москва), Председатель Рижской старообрядческой общи ны
25 Письмо СРК от 8 декабря 1945 г. № 384 с. ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 19, л. 120.
260 261
Дорофеев (Рига), духовный наставник Егоров (БССР), духовный наставник Мурников (Эстонская ССР), Корсаков (Рязанская область), Тарасов (Курская область), Серов (Владимирская область).
СРК считал, что создание духовного центра старообрядцевбеспоповцев: «а) позволит выявить, учесть и легализовать фактически существующие, но в силу инерции, обусловленной вековыми гонениями в прошлом, законспирированные беспоповские общины; б) ускорит слияние, ныне разобщенных старообрядческих беспоповских групп («поморцев», «федосеевцев», «спасово согласие», «филипповцев» и др.), религиозную деятельность которых можно будет направить в единое, поддающееся регулированию русло; в) будет расценено сотнями тысяч старообрядцевбеспоповцев как акт государственной справедливости, уравнивающий старообрядцев в правах с прочими религиозными культами; г) при наличии за рубежом старообрядческих поселений вызовет рост симпатий к СССР со стороны народов тех стран, где ныне расселены старообрядцы и, возможно, вызовет при соответствующей деятельности бес поповского религиозного центра, желание воссоединиться с ним».26
В случае положительного решения советского правительства СРК предлагал «создать» Временный Высший Совет русской Старообрядческой Церкви, не имеющей духовной иерархии, в составе 15 человек, который на предполагаемом Соборе Старообрядческой Церкви в 1948 г. должен был получить статус постоянно действующего органа. Местом резиденции Высшего Совета должно было стать Преображенское кладбище в Москве, где к тому времени уже были зарегистрированы общины поморцев, федосеевцев и филипповцев.
Однако этому проекту не суждено было реализоваться. В религиозной политике СССР наметился новый поворот, и советское руководство по всей стране прекратило регистрацию религиозных общин. На цитированном выше обращении СРК в Совет Минист ров СССР перьевой ручкой была сделана следующая запись: «20.02.47 звонил т. Иванов П. И. и сообщил, что после согласования вопроса в необходимых инстанциях было составлено распоряжение, разрешающее Совету дать согласие представителям беспоповцев
26 ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 47, л. 22.
на образование центра. Но тов. Ворошилов распоряжения не под-писал, предложил подождать. Ю. Садовский». Идея создания централизованной структуры старообрядцевбеспоповцев реализована не была. Деятельность И. Ф. Романова была остановлена, затем он был репрессирован и лишен возможности активного участия в жизни Старообрядческой Церкви.27 В Латвии также не была создана централизованная структура старообрядцевбеспоповцев.
Проанализированные документы продемонстрировали прин ци пы и схемы, по которым советская власть в 1940е гг. стремилась, в случае политической необходимости, формировать организационные структуры для различных религиозных конфессий: создавалась инициативная группа, которая получала административные полномочия от представителей государственной власти (для выявления общин, их актива, духовного руководства, для ротации кад ров духовных лидеров путем их регистрации). При этом законность или «каноничность» создаваемого религиозного центра не являлась для общин безусловной, она могла действовать лишь при поддержке государственной власти. В дальнейшем «инициатив ная группа» на Соборе или съезде должна была получить легитимность. При этом создаваемый религиозный центр не мог «помогать» общинам проводить религиозную, воспитательную, образователь ную работу, а должен был ограничиваться исключительно «адми нистративной»
27 Согласно данным интернетпроекта «Религиозные деятели русского зарубежья», со ссылкой на книгу В. Барановского и Г. Поташенко (Ба рановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 336, 102, 104), И. Ф. Романов «в 1948 г. был вынужден уйти с поста председателя Выс шего Старообрядческого Совета в Литовской ССР. Работал начальником Инвентаризационнотехнического бюро в г. Аникшчяй. В январе 1950 г. арестован и осужден Особым совещанием при МГБ СССР на 10 лет Исправительнотрудовых лагерей с конфискацией изъятых у него ценностей. Официально обвинен в том, что во время оккупации Литовской ССР немцами проводил «антисоветскую работу, направленную на оказание помощи фашистской Германии в борьбе против Советского Союза, а пос ле изгнания немцев из Литовской ССР вел среди своего окружения антисоветскую агитацию <...>». Отбыв срок, вернулся в Литву и жил в Вильнюсе. Работал в строительных и др. организациях. Изза судимости в советский период не мог принимать активного участия в жизни Старообрядческой Поморской Церкви. Скончался в Вильнюсе 24 мая 1976 г. По хоронен на Вильнюсском старообрядческом кладбище».
263
работой. Создание для старообрядцевбеспоповцев центрального управления не имело для советской власти стратегического значения. Этот процесс был свернут в связи с кардинально изменившимся курсом государственной политики. Стремление ру ководства ВСС Литвы, используя кратковременную заинтересованность советской власти, развернуть работу по укреплению старообрядческого движения, получило категорический отпор, было приостановлено, а затем и жестко наказано.
nadežda BeļakoVa
Par mēģinājumiem izveidot Baltijas bezpriesteru vecticībnieku organizācijas
struktūru 20. gadsimta 40. gados
Pēc Baltijas republiku inkorporācijas PSRS sastāvā padomju vadība pakāpeniski sāk ieviest tajās reliģisko institūciju aktivitāšu ierobežošanas un apspiešanas stratēģiju, kas jau bija aprobēta „vecajās” PSRS republikās. Tomēr jaunajās teritorijās darbojas daudzas dažādu konfesiju reliģiskās organizācijas, kuru lomu un nozīmi – arī starptautiskā mērogā – vara nevarēja ignorēt.
Jautājumā par vecticībnieku draudzēm Baltijas republikās jaunā vara ieņēma drīzāk neitrāli nogaidošu pozīciju. Arī Baltijas vecticībnieki sa-vās vēstulēs un dokumentos pauda neitrāli diplomātisku nostāju politikas jau tājumos.
Balstoties uz PSRS MP Reliģisko kultu lietu padomes arhīva fonda do - kumentiem, raksta autore analizē mēģinājumus izveidot „no augšas” bez priesteru vecticībnieku draudžu centralizēto pārvaldes struktūru, kas aptvertu vecticībnieku draudzes visā PSRS teritorijā. Arhīva dokumenti uzskatāmi raksturo padomju varas stratēģiju, veicot reliģisko organizāciju darbības kontroli, kā arī vecticībnieku draudžu līderu izpratni par valsts lomu baznīcas organizācijas procesā.
Juris PaIDeRS
Latvijas vecticībnieku skaita un ģeogrāfiskā izvietojuma novērtējums
Šā pētījuma uzdevums bija novērtēt vecticībnieku telpiskā izvietojuma izmaiņas un vecticībnieku ticīgo skaitu Latvijā, kā arī to cilvēku skaitu, kam ir vecticībnieku izcelsme.
Vispirms ir jādefinē, ko mēs saucam par ticīgo. Vadoties no cilvēka attieksmes pret reliģiju un reliģisko rituālu un tradīciju ievērošanas obli gātumu un publisku demonstrēšanu, izšķir šādus ticīgo tipus. Vispirms būtu jānosauc aktīvie ticīgie (A), tie ir draudžu locekļi, kas ievēro attiecīgajā reliģijā noteikto formālo prasību minimumu. Ikviena draudzes vadība, Baznīcas vadība principā zina, vai var novērtēt savas konfesijas aktīvo ticīgo skaitu.
Otra grupa būtu ticīgie (T) – tie, kuri sevi uzskata par piederīgiem attiecīgajai reliģijai. Šī attieksme nav atkarīga no tā, piemēram, vai drau dzes vadība atzīst šā cilvēka piederību attiecīgai reliģijai. Praksē cilvēks sevi var uzskatīt par piederīgu reliģijai, bet var neapmeklēt dievkalpojumus un nepildīt nekādas formālas un publiskas darbības, kas apliecinātu viņa piederību attiecīgajai reliģijai. Parasti tiek ievērots zināms ētisko prasību minimums, piemēram, atturēšanās kritizēt vai noliegt attiecīgo Baznīcu vai tās svētumus, tiek ievērots gavēnis, bet ne afišējot to. Šāds ticības modelis izveidojās padomju laikā, kad publiska reliģiozitātes demonstrēšana varēja izraisīt nepatīkamas sekas ticīga jam – piemēram, atbrīvošanu no darba, ja atklājās, ka skolotājs vai pa sniedzējs ir ticīgs un to publiski pauž. Tā sekas varēja būt ne tikai atbrīvošana no darba, bet arī jebkādas karjeras iespēju zaudējums pedagoģijas un daudzās citās jomās. Turklāt reducēts ētisko un ritu ālo prasību minimums (lūgšanas u.c. ārpus baznīcas) veicināja kristīgo konfesiju ekumenizāciju. Attiecīgais prasību minimums sākotnēji visai atšķirīgām konfesijām bija tik līdzīgs, ka neveidoja reliģisku ētisku pretrunu un radīja apstākļus starpkonfesionālām laulībām un konfesionālai integrā cijai un tolerancei.
264 265
Piederība reliģijai pēc izcelsmes (R). Šaurā nozīmē – tie ir tie iedzīvotāji, kuri ir noteiktas ticības pārstāvju pēcteči, bet kuru reliģisko piederību nosaka tikai viņu izcelsme, šie cilvēki sevi nevar uzskatīt par ticīgajiem vai nevar sevi tieši identificēt ar savu vecāku vai vecvecāku reliģiju. Plašā nozīmē – tie ir cilvēki, kuriem vismaz viens vecāks vai vecvecāks bija attiecīgās konfesijas pārstāvis. Izvēli uzskatīt sevi par konkrētajai reliģijai piederīgo apgrūtina starpkonfesionālās laulības un izcelsme, kad vecāki ir no dažādām reliģiskām konfesijām. Daudziem Latvijas iedzīvotājiem dažkārt ir ētiski problemātiski identificēties ar vienu konkrētu konfesiju, un šīs grupas ticīgie izvairās un atturas definēt savu konfesi onālo piederību, bet viņi var apmeklēt divu vai pat vairāku konfesiju dievnamus un identificēties ar divām vai pat trim konfesijām. Baltkrievijā mūsdienu reliģisko procesu analīzē lieto apzīmējumu kristieši, kas nav definējuši noteiktu konfesiju. PSRS laikā daudzi ticīgie apmeklēja jeb kuru baznīcu, bet dažādas konfesijas lietoja viena dievnama telpas da žādos laikos.
Aplūkojot ticīgo iedalījumu kā matemātiskas kopas, varam uzrakstīt sakarību:
kur, A – aktīvo ticīgo kopa, T – ticīgo kopa, R – tādu iedzīvotāju kopa, kuriem vismaz viens vecvecāks bija attie
cīgās reliģijas ticīgais, L – visu Latvijas iedzīvotāju kopa. Matemātiski vērtējot cilvēku skaitu katrā kopā, var iegūt sakarību:
A < T < R < L.Latvijas pirmās republikas statistika dod pietiekami korektu priekš
statu gan par vecticībnieku telpisko izvietojumu, gan par skaitliskajām izmaiņām vecticībnieku kopienā. Savukārt gan PSRS laikā, gan pēc neatkarības atjaunošanas tautas skaitīšanas un oficiālajā dokumentācijā netika iekļauts jautājums par piederību reliģiskai konfesijai. Lai vērtētu procesus PSRS laikā un pēc neatkarības atjaunošanas, ir jāizmanto konfesiju sniegtā informācija par bēru ceremoniju, kristību vai laulību skaitu, kā arī reģistrēto draudžu skaitu, dievnamu skaitu, reģistrēto laulību skaitu (Civillikuma 51. panta kārtība) u.c.
Latvijas vecticībnieki Latvijas teritorijā ieceļoja jau 17. gadsimta otrajā pusē. 1920. gados vecticībnieki veidoja iedzīvotāju vairākumu Daugavpils apriņķa Maļinovas pagastā un Rēzeknes apriņķa Rozentovas un Ozolmuižas pagastā. 1925. gadā gandrīz puse Grīvas pilsētas iedzīvotāju bija vecticībnieki. Vecticībnieki veidoja 25–50% iedzīvotāju 12 pagastos. Savukārt Rīgā 1925. gadā vecticībnieki bija 2,5 % no iedzīvotāju kopskaita.1 Latvijā 1925. gadā vecticībnieki veidoja 4,85% no Latvijas iedzīvotāju skaita.2 1930. gadā Latvijā dzīvoja 91092 vecticībnieki,3 kas bija aptuveni 4,82–4,83% no iedzīvotāju skaita. Ja mūsdienās Latvijas iedzīvotāju skaits ar vecticībnieku izcelsmi ir tieši proporcionāls vecticībnieku īpatsvaram pirms Otrā pasaules kara, tad Latvijā 2010. gadā būtu jādzīvo vismaz 110 000 iedzīvotajiem ar vecticībnieku izcelsmi.
Tomēr vecticībnieku kopienas skaitlisko lielumu ir ietekmējuši gan notikumi pēc PSRS karaspēka ienākšanas 1940. gadā, gan Otrais pasaules karš, kā arī procesi un notikumi PSRS periodā un atjaunotajā Latvijā. Autors uzskata, ka Otrā pasaules kara un vācu okupācijas ietekme uz vecticībnieku kopienu nepārsniedza to proporcionālo mirstības pieaugumu un dzimstības samazināšanos, kāda bija vērojama visām Latvijas nacionālajām vai reliģiskajām grupām.
Padomju varas sākuma periodā (aptuveni līdz 1970. gadam), vadoties no Latvijas PSR Reliģijas lietu pārvaldes pārskatiem par visām konfesijām, kuras publicēšanai sagatavoja katoļu bīskaps Jānis Cakuls,4 no tika ievērojams vecticībnieku ticīgo skaita pieaugums. Padomju laika statistiku nevar lietot aritmētiski, jo PSRS laika atskaites sniedz informāciju par formāli reģistrēto darbību uzskaiti. Daudzos gadījumos kris tības notika slepeni, neinformējot par to varas iestādes, jo tas varēja radīt problēmas bērnu vecākiem. Turklāt PSRS laika ideoloģijas spiediena apstākļos dažādu konfesiju pārstāvji atšķirīgi piekopa formālās reliģiskās ceremonijas un darbības. No Latvijas PSR Reliģijas lietu pārval des atskaitēm var secināt, ka vecticībnieki formālos reliģiskos rituālus
1 Skujenieks M. Latvija. Zeme un iedzīvotāji. Ar J. Bokaldera nodaļu par lauksaimniecību. Rīga, 1927. 326. lpp.
2 Turpat, 320. lpp.3 Skujenieks M. Latvija. Nacionālās minoritātes // Latviešu konversācijas
vārdnīca, 11. sēj. Rīga, 1930. 21194 sl. 4 Cakuls J. Latvijas Romas Katoļu Baznīcas vēstures materiāli: XX gad
simts. Rīga, 2001.
266 267
ievēroja proporcionāli daudz vairāk nekā citu konfesiju piederīgie, īpaši luterāņi.
1964. gadā vecticībniekiem bija reģistrētas 1065 kristības, bet visi Lat vijas luterāņi kopā reģistrēja tikai 981 kristības.5 Tomēr no šāda fakta nevar secināt, ka ticīgo luterāņu 1964. gadā bija vairāk nekā ticīgo vecticībnieku. Tomēr PSRS laikā līdz 1970. gadam var novērot, ka reģistrētās vecticībnieku kristības ievērojami pārsniedz bēru skaitu pēc vec ticībnieku tradīcijām. Vērojot vecticībnieku telpisko izvietojumu, ir jāsecina, ka 1965. gadā (1. un 2. attēls) vecticībnieku lielākā daļa dzīvoja savā tradicionālajā izplatības areālā Latgalē – Preiļu, Daugavpils un Rēzeknes rajonā, kā arī Rīgā un Daugavpilī. Tomēr jau ir aizsākusies vecticībnieku migrācija uz Latvijas lielākajām pilsētām.
Vērtējot vecticībnieku telpisko sadalījumu 1982. gadā (3. un 4. attēls), ir jāsecina, ka reģistrēto kristību un bēru ceremoniju skaits ievērojami samazinājās, bet vecticībnieku telpiskais areāls palielinājās, un, piemēram, Jūrmalā vecticībnieki jau veidoja zīmīgu kopienu. Var secināt, ka jau no 20. gadsimta astoņdesmitajiem gadiem Latvijas iedzīvotāju lielākā daļa ir pieņēmusi tādu reliģiskās uzvedības modeli, kurā, lai uzskatītu sevi par piederīgu kādai konfesijai, formālas un publiskas piederības darbības nav obligātas.
PSRS laika uzskaite ļauj secināt par vecticībnieku kopienas lielu ma izmaiņām. Ticīgo vecticībnieku skaita maksimālais novērtējums gan 1965., gan 1982. gadā varētu būt 10% no iedzīvotāju skaita, Preiļu rajonā un Daugavpilī pat sasniedzot 30% no ticīgo skaita. Tomēr uz visu iedzīvotāju skaitu (kopā ar neticīgajiem un tiem, kas slēpa savu ticību) vecticībnieku veiktās kristības un bēres variēja 3–7% lielumā no visu iedzīvotāju skaita.
1990. gadā – pirms PSRS sabrukuma – maksimālais vecticībnieku skaita novērtējums nepārsniegtu 10% no Latvijas iedzīvotāju kopskaita, bet minimālais novērtējums būtu ne mazāks par 3% no iedzīvotāju kopskaita.
Vērtējot ticīgo skaitu mūsdienās, ir jāņem vērā, ka pēc neatkarības atjaunošanas tautas skaitīšanās netika iekļauts jautājums par ticību un tādējādi vērtējums ir jāsniedz pēc fragmentāriem un neregulāriem pētījumiem vai aptaujām.
5 Turpat, 732. lpp.
1. attēls. Reģistrēto vecticībnieku kristību skaita teritoriālais sadalījums 1965. gadā procentos no visu
reliģiju kristību skaita attiecīgajā teritoriālajā vienībā
2. attēls. Reģistrēto vecticībnieku bēru skaita teritoriālais sadalījums 1965. gadā
268 269
No 1997. gada jūlija līdz 1998. gada maijam, lai lemtu par kara kapelānu ieviešanu Latvijas armijā, notika jauniesaucamo aptauja par kon fesionālo piederību.6 Aptaujāti tika vīrieši jauniesaucamo vecumā. Vecticībnieku īpatsvars šajās aptaujās bija robežās no 0 līdz 7,5% ar vidējo lielumu 3,2%, no visu jauniesaucamo skaita. Taču, lai novērtētu šo lielumu, ir jāsaprot, ka vidēji 55% jauniesaucamo uzskatīja sevi par neticīgajiem vai nepiederīgiem kādai konkrētai reliģijai.
Ja aptaujā iegūtie dati ir relevanti visai Latvijas iedzīvotāju kopai, tad ticīgo vecticībnieku skaits Latvijā no 1997. līdz 1998. gadam bija 73 tūkstoši. Tomēr statistiski aptauja ir attiecināma tikai uz tiem Latvijas iedzīvotajiem, kas ir dzimuši laika posmā starp 1975. un 1980. gadu. Attiecībā uz tiem, kas dzimuši pirms 1940. gada, tomēr būtu jālieto vērtējums 4,85%, bet – dzimušajiem 1945.–1970. gadā, kad, vadoties pēc Latvijas PSR Reliģijas lietu pārvaldes pārskatiem, notika ievērojams vecticībnieku skaita pieaugums, vecticībnieku īpatsvars varētu būt 6–7% robežās no visu šīs vecuma grupas iedzīvotāju kopskaita.
Koriģējot vecticībnieku skaitu pēc vecuma grupām un pieņemot, ka neticīgo un ticīgo bez konfesijas definējuma kopskaits ir 55% liels, var
6 Cakuls J. Latvijas Romas Katoļu Baznīcas vēstures materiāli: XX gadsimts. Rīga, 2001. 736. lpp.
3. attēls. Reģistrēto vecticībnieku kristību skaita teritoriālais sadalījums 1982. gadā procentos no visu
reliģiju kristību skaita attiecīgajā teritoriālajā vienībā
4. attēls. Reģistrēto vecticībnieku bēru skaita teritoriālais sadalījums 1982. gadā
5. attēls. Reģistrēto vecticībnieku kristību un bēru skaits 1964.–1995. g. (Par gadiem, kuri nav attēloti diagrammā, dati nebija pieejami.)
270
vērtēt, ka vecticībnieku skaits Latvijā ir robežās starp 75 un 110 tūkstošiem. Šis skaitliskais vērtējums sakrīt ar Irinas Šurmeļas veikto vērtējumu, ka vecticībnieku skaits Latvijā ir lielāks par 70 000.7
Lai precīzi noteiktu to Latvijas iedzīvotāju skaitu, kuriem ir vecticībnieku izcelsme, būtu jāzina vecticībnieku skaits, kas slēdza starpkonfesionālas laulības laikā no 1940. līdz 2010. gadam, kā arī šajās laulībās dzimušo bērnu skaits. Zināmus statistikas apkopojumus ir publiskojuši katoļi. Kā liecina Katoļu Baznīcas uzskaites dati par 1996. gadu,8 aptu veni 5% no visiem katoļticīgajiem, kas kristīja savus bērnus katoļu baznīcā, bija precēti ar vecticībniekiem, bet šajās starpkonfesionālajās ģimenēs bērni tika kristīti katoļu baznīcās. 1996. gadā 264 vecticībnie ku – katoļu ģimeņu bērni tika kristīti katoļu baznīcā. Šis skaitlis veido aptuveni ceturto daļu no ik gadus kristīto vecticībnieku bērnu skaita. Lai gan autoram līdzīgi pētījumi par pareizticīgo Baznīcu nebija pieejami, ir pamats domāt, ka vēl lielāka pāreja no vecticības pareizticībā notikusi jauktajās pareizticīgo un vecticībnieku ģimenēs.
Pieņemsim, ka katoļu statistikas skaitlis (5% no visām laulībām ir slēgtas ar vecticībniekiem) ir reprezentatīvs un attiecināms uz visu Lat vijas precēto ļaužu kopu (arī uz neticīgajiem un iedzīvotājiem bez noteiktas konfesionālas piederības). Tā kā 20. gadsimta deviņdesmito gadu vidū precēto kopskaits pārsniedza 1 miljonu cilvēku, tad aptuveni 50 000 neticīgo un citu konfesiju piederīgo bija precēti ar vecticībniekiem. Tas nozīmē, ka mūsdienu Latvijā, pieņemot, ka vecticībnieku un citu konfesiju ģimenēs atražošanas koeficienti ir līdzīgi Latvijas vidējiem rādītājiem, dzīvo vismaz 200–250 tūkstoši vecticībnieku izcelsmes iedzīvotāju. Par to, ka šis skaitlis varētu būt arī lielāks, liecina arī dati par to, kā tika piešķirta LR pilsonība. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2000. gadā Latvijā dzīvoja 1,1 miljons krievu, ukraiņu un baltkrievu, bet nepilsoņu skaits nedaudz pārsniedza 0,5 miljonus. Vēl pirms sākās masveida naturalizācija, LR pilsonību, balstoties uz izcelsmi no LR pilsoņiem, ieguva 600 000 krievu, ukraiņu un baltkrievu. Vec ticībnieku izcelsme vismaz viena vecvecāka līmenī bija pamats pil
7 Шурмель И. Староверов в Латвии более 70 тысяч // Поморский Вест ник, 2010, № 22/23. C. 27–28.
8 Cakuls J. Latvijas Romas Katoļu Baznīcas vēstures materiāli: XX gadsimts. Rīga, 2001. 738. lpp.
sonības iegūšanai, jo 1940. gadā praktiski visi Latvijas vecticībnieki bija Latvijas pilsoņi.
Tātad vecticībnieku skaits Latvijā ir robežās starp 75 un 110 tūkstošiem. Mūsdienās Latvijā dzīvo vismaz 200–250 tūkstoši iedzīvotāju ar vecticībnieku izcelsmi vecvecāku līmenī. Precīzākā ticīgo skaita noteikšana un precīzi novērtējumi būs iespējami, ja tautas skaitīšanās tiks iekļauts jautājums par reliģisko piederību vai arī tiks veikti reprezentatīvi pētījumi ar tautas skaitīšanai līdzīgu ievirzi.
Юрис ПаЙдеРС
оценка численности и географического распределения латвийских староверов
Цель представленного исследования – оценить изменения, про - изошедшие в географическом распределении латвийских старове- ров, а также в численности староверов и выходцев из старовер-ческих семей, в период с 1920-х годов до сегодняшнего времени.
Критически анализируя статистические данные по отдель - ным десятилетиям, автор оценивает их фактическую релевант-ность. Рассмотренные источники позволяют сделать вывод о том, что численность староверов в Латвии на сегодняшний день колеб-лется в пределах от 75 до 110 тысяч. В целом, приблизительно у 200–250 тысяч латвийских жителей староверы имеются в род ст-ве через поколение.
272 273
Guna šeVkIna
Vecticībnieku lūgšanu namu arhitektūra austrumlatvijas pilsētās:
periodizācijas jautājumi
Sakrālā arhitektūra ir viena no būtiskākajām kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļām.1 Nozīmīgi Latvijas, bet īpaši Austrumlatvijas arhitektūras pieminekļi ir vecticībnieku lūgšanu nami. Jau vairāk nekā trīssimt gadu vecticībnieku kopienas piedalās reģiona specifiskās kultūrpolitiskās un sociālekonomiskās vides veidošanā, tomēr Austrumlatvijas vecticībnieku sakrālā arhitektūra līdz šim ir maz pētīta. Uzmanību veltot vecticībnieku sakrālajiem priekšmetiem – ikonām un grāmatām, nereti tiek piemirsts pats lūgšanu nams ar tam piemītošām arhitektoniskām un mākslinieciskām vērtībām.
Laika gaitā ievērojami vecticībnieku kultūras un reliģijas centri, kā arī mūsdienās nozīmīgākās un lielākās vecticībnieku kopienas Austrum latvijā ir izveidojušās šī reģiona vienpadsmit pilsētās – Jēkabpilī, Līvānos, Daugavpilī, Ilūkstē, Subatē, Krāslavā, Dagdā, Ludzā, Rēzeknē, Viļānos un Preiļos. Katrā no tām atrodas viens lūgšanu nams, izņemot Dau gavpili, kurā ir seši vecticībnieku dievnami.
Vecticībnieku lūgšanu nami Austrumlatvijas pilsētās veido multikonfesionālo sakrālās arhitektūras kopainu un ir nozīmīgi pilsētbūvniecības objekti, atspoguļojot vecticībnieku sakrālās arhitektūras vēsturi, kuru, pēc autores ieskatiem, var iedalīt vairākos periodos.2
Pirmajā periodā no vecticībnieku ienākšanas brīža 17. gadsimta vi dū3 līdz 1772. gadam Latgalē un 1795. gadam Kurzemē uz vecticībnie
1 Kaminska R., Bistere A. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Dau gavpils rajonā. Rīga, 2006. 6. lpp.
2 Šie periodi saistīti ar konkrētu likumdošanu, kas ietekmēja lūgšanu namu uzbūves principus, plānojumu un arhitektonisko kompozīciju.
3 Informācija par pirmajiem vecticībniekiem Austrumlatvijā atrodama t. s. Degutas hronikā, kurā parādīta vecticībnieku kopienu vēsture no 17. gs. vidus līdz 1850. gadam. Degutas hroniku 19. gs. 40. gados sastādīja Vasilijs Zolotovs. Apkopojot senajos rokrakstos, publicētajos avotos un atmiņu stāstījumos eso šo informāciju, V. Zolotovs sniedza plašu vēsturisko notikumu panorāmu,
kiem neattiecās Krievijas impērijas likumdošana, tādēļ pastāv iespēja, ka pirmie vecticībnieku dievnami Latvijas teritorijā parādījās bez jebkādu celtniecības aizliegumu korekcijas. Pirmo priekšstatu par lūgšanu na mu iespējamo arhitektonisko kompozīciju ļauj gūt koka sakrālā arhitektūra Krievijā līdz 17. gadsimta vidum, jo līdz ar vecticībniekiem Latvijā nonāca ne tikai liels skaits unikālu senkrievu sakrālās kultūras priekšmetu – ikonas, liturģiskās grāmatas un kulta piederumi –, bet arī dievnama uzbūves pamatprincipi. Visticamāk, ka pirmie lūgšanu nami Austrumlatvijā bija klētsveida (клетские) tipa dievnami, kuru forma aizgūta no dzīvojamās istabas (изба) vai klēts ar priekšnamu (клеть c сенями).4
1795. gadā visu Latvijas teritoriju pievienoja Krievijas impērijai, aizsākot otro periodu vecticībnieku sakrālās arhitektūras vēsturē un atsākot vecticībnieku vajāšanu – bija aizliegts remontēt lūgšanu namus un celt jaunus, noturēt kopīgus publiskus dievkalpojumus.5 Daudzus esošos dievnamus slēdza, lai vēlāk pēc dažiem gadiem varētu nojaukt kā novecojušas ēkas.6 Tā kā publiski dievkalpojumi nebija atļauti, vecticībnieki pulcējās galvenokārt privātās dzīvojamās mājās, kur viena istaba bija iekārtota dievkalpojumu vajadzībām. Protams, dzīvojamās telpas lielums bija ierobežots, tādēļ nereti draudzes reliģisko funkciju pildīšanai
Kur ze mes un Lietuvas vecticībnieku draudžu vēsturei atklājoties saistībā ar visas vecticības un Krievijas vēsturi, jo hronika tika sarakstīta tādā sociālā vidē, ku rā vecticībnieki turpināja uzturēt dzīvu saikni ar Krieviju. Sk.: Юхи менко E. Духовная жизнь староверческoй общины и летописание: ВыгоЛексин ский и Дегуцский летописцы // Cтароверие Латвии / Cост. И. Ива нов. Рига, 2005. C. 88–94.
4 Klētsveida dievnamiem raksturīgi nelieli izmēri, to centrā ir lielāka četrstūra guļbūve, kuras rietumu un austrumu pusē ir nelielas piebūves – priekšnams un altāris. Visas trīs dievnama daļas sedz divslīpju jumti kā dzīvojamai istabai, tādēļ vienīgā atšķirība starp sakrālo un profāno būvi ir jumta korē esošais kupols ar krustu. Kupolam ir dekoratīva, bet ne konstruktīva nozīme un to no jumta atdala un balsta tamburs (sk.: Грабарь И. О русской архитектуре. Москва, 1969. C. 172). Klētsveida baznīcas līdz pat 18. gs. īpaši izplatītas bi ja Krievijas centrālajos rajonos (sk.: Пилявский В., Тиц А., Ушаков Ю. История русской архитектуры. Москва, 2003. C. 37).
5 Зимова З. Старообрядцы Екабпилса. Люди. Годы. События. XIX– XXI вв. Рига, 2003. C. 10.
6 Piemēram, 1847. gadā aiztaisīja un 1851. gadā slēdza pirmo Jēkabpils vecticībnieku lūgšanu namu (sk.: Зимова З. Старообрядцы Екабпилса... C. 11).
274 275
īrēja atsevišķas mājas.7 Visbiežāk privātās dzīvojamās mājas vienā daļā atradās mācītāja dzīvoklis, bet otrā – lūgšanu telpa.8 Viens šāds privātais lūgšanu nams ir pašreizējais Jēkabpils vecticībnieku dievnams9 – 1878. gadā Jegors Kitovs vienu savu dzīvojamo māju10 Viestura un Jaunās ielas krustojumā ziedoja vecticībnieku kopienai lūgšanu nama vajadzībām.11
1883. gadā noslēdzās otrais un sākās trešais vecticībnieku lūgšanu na mu celtniecības vēsturiskais periods, kas ilga līdz 1905. gadam. 1883. gadā vecti cībniekiem tika dotas tiesības uzstādīt virsdurvju ikonas un krustus, atklāti noturēt dievkalpojumus, no jauna atvērt slēgtos lūgšanu na mus, tomēr ēkas joprojām nedrīkstēja atgādināt pareizticīgo baznīcu.12 Privātie lūgšanu nami daļēji tika legalizēti, un daudzām privātmājām, kurās atradās lūgšanu telpas, uzcēla piebūves un mainīja iekšējo plānoju mu, piemēram, 1888.–1889. gadā Jēkabpilī Kitova mājai piebūvēja no sar kaniem ķieģeļiem veidotu lūgšanu telpu.13
Avoti liecina, ka līdz 1905. gadam jau pastāvēja Jēkabpils, Daugavpils Vecās forštates, Rēzeknes un Daugavpils Gajoka vecticībnieku dievnami, kas vizuāli līdzinājās vienkāršām dzīvojamām mājām. Aizlieguma būvēt zvanu torņus un kupolus dēļ pie Daugavpils Vecās forštates un Gajokas lūgšanu namiem bija uzcelti brīvi stāvoši koka zvanu torņi, bet Jēkabpils dievnama pagalmā bija t. s. zvanu dēļi (звонные доски) jeb skandenis (било)14.
7 Turpat, 17. lpp.8 Turpat, 74. lpp.9 Rakstā apskata ērtības dēļ vecticībnieku dievnamiem nav doti pilni no
saukumi, bet gan izveidoti saīsinātie. Nosaukumu veido pilsēta, kurā atrodas lūgšanu nams, piemēram: Jēkabpils Vecticībnieku lūgšanu nams; Daugavpils gadījumā to papildina arī mikrorajona nosaukums, piemēram: Daugavpils Nīderkūnu vecticībnieku lūgšanu nams.
10 Valsts zemes dienests, Vidusdaugavas reģionālā nodaļa, Jēkabpils birojs, lieta Nr. 3003.
11 Зимова З. Старообрядцы Екабпилса... C. 18–19.12 Turpat, 75. lpp.13 Turpat, 17. lpp.14 Vārdam било atbilstošākais vārds latviešu valodā būtu “skandenis” – tāds,
kas rada skaņu. Nelielā un ļoti vienkāršā koka konstrukcijā bija iekārti koka dēlīši, pa kuriem sitot ar āmuriņiem, tika radītas skaņas. Skandenis ir zvanu torņu priekštecis, kas krievu koka arhitektūrā parādījās vienlaicīgi ar galve no dievnamu tipu izveidošanos, krietni pirms 17. gadsimta. (Sk.: Грабарь И. О рус ской архитектуре... С. 218.)
1905. gada 17. aprīlī izdotā Krievijas cara pavēle par iecietību ticības lietās atcēla visus iepriekš pastāvošos vecticībai saistošos aizliegumus. Vecticība tika legalizēta, un kopienas uzsāka līdzekļu vākšanu jaunu lūg šanu namu būvniecībai vai arī jau esošo ēku un telpu pārbūvei. Pārbūves visbiežāk bija saistītas ar zvanu torņa piebūvēšanu un lūgšanu nama būvķermeņa palielināšanu. Pirmais pasaules karš radīja grūtības ieceru realizēšanai līdzekļu trūkuma dēļ, tādējādi daudzi lūgšanu nami tika uzcelti pēc kara un ar jaundibinātās Latvijas Republikas finansiālu atbalstu.15
Ceturtajā periodā, kas ilga līdz Otrajam pasaules karam, uzcelta lie lākā daļa mūsdienās zināmo Austrumlatvijas vecticībnieku lūgšanu namu gan lauku reģionos, gan pilsētās. Līdz Pirmajam pasaules karam bija uzcelti Subates, Daugavpils Maļutku un Nīderkūnu vecticībnieku lūgšanu nami. Bija uzsākta Daugavpils Jaunbūves dievnama celtniecība, bet to pabeidza celt tikai pēc Pirmā pasaules kara. Laikposmā starp abiem pasaules kariem iesvētīja vēl trīs lūgšanu namus – Ludzā, Viļānos un Daugavpils Grīvā.
Legālai vecticībnieku dievnamu celtniecībai bija nepieciešama at tie cīga dokumentācija, un līdz šim saglabājušies projekti sniedz infor māciju par to autoriem, kuri galvenokārt bija vietējie speciālisti.16 Profesionālu arhitektu un būvinženieru izstrādātie dievnamu projekti atspoguļo zināmu līdzību ar koka un mūra krievu sakrālo arhitektūru – tajos ir redzams Ziemeļkrievijas seno arhitektūras motīvu pārfrāzējums un pa reizticīgo sakrālās arhitektūras neobizantiskās tradīcijas ietekme.17 Krie vu viduslaiku koka un mūra arhitektūrai raksturīgais sīpolveida kupols kļuva par raksturīgu vecticībnieku lūgšanu nama vai nagojošu elementu.
15 Piemēram, no 1921. gada valsts budžetā vecticībnieku vajadzībām piešķīra 200 tūkstošus rubļus. (Sk.: Podmazovs A. Vecticība Latvijā. Rīga, 2001, 116. lpp.)
16 Piemēram, Rēzeknes pilsētas mērnieks Nikolajs Sergejevs izstrādājis pro jektus Voinovas, Ismeras, Makarovas un Krutovas lūgšanu namiem. Bet Rēzeknes pilsētas arhitekts Pāvels Pavlovs projektējis Viļānu un Skangaļu lūgšanu namus. (Sk.: Никонов В. Староверие Латгалии: очерки по истории ста роверческих обществ Режицкого и Люцинского уездов (2я половина XVII – 1я половина XX вв.). Резекне, 2008. C. 260, 334.
17 Kaminska R., Bistere A. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā... 9.–10. lpp.
276 277
Daugavpils pilsētas vecticībnieku lūgšanu namu specifiska iezīme ir to arhitektonikā un dekoratīvajā plastikā plaši izmantotais ķīļveida arkas motīvs – tipiska Krievijas sakrālās arhitektūras pazīme. Piemēram, Jaunbūves lūgšanu namam ķīļveida arka kalpo par ierāmējumu logailām un durvju ailām, kā arī ķīļveida arkas formas frontoni18 noslēdz div stāvīgos dievnama portālus.
Par nozīmīgu lūgšanu nama sastāvdaļu kļuva zvanu tornis dievnama rietumu pusē, ko var saistīt ar pareizticīgo19 un citu konfesiju sakrālās arhitektūras paraugu ietekmi.20 Šie paraugi ietekmēja arī lūgšanu nama iekštelpas struktūru, par kuras būtisku komponentu līdz pat mūsdienām kļuvusi otrā stāva līmenī izvietotā lukta. Jaunie lūgšanu nami tika projektēti ar zvanu torņiem un luktu, bet pie jau esošajiem Daugavpils Gajoka un Vecās forštates lūgšanu namu būvķermeņiem piebūvēja zvanu torņus. Savukārt Rēzeknes vecticībnieku dievnams ieguva piebūvi ar luktu, virs kuras paceļas zvanu tornis.
Otrais pasaules karš un Latvijas teritorijas iekļaušana Padomju Savienības sastāvā aizsāka piekto periodu, kurā vecticībnieku kopienas un to dievnami tika pakļauti neskaitāmām represijām. Laikposms no Ot rā pasaules kara līdz 1991. gadam ir vecticībnieku sakrālās arhitektūras pagrimuma laiks, kad draudzēm atņēma piederošo zemi apkārt lūgšanu namiem, daudzus dievnamus slēdza vai pat nojauca, piemēram, 1982. gadā izlaupīja un nopostīja Ilūkstes vecticībnieku dievnamu.21
18 Ķīļveida arkas formas frontons citos avotos tiek dēvēts par šķelta sīpolveida kupola frontonu. (Sk.: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Pieminekļu dokumentācijas centrs, inv. Nr. 52131.)
19 Jaunuzceltie vecticībnieku lūgšanu nami pilsētās bija garenplāna ēkas, kuru rietumu pusē atradās zvanu tornis. Šāds zvanu torņa novietošanas veids saistāms ar Krievijas sakrālo arhitektūru pēc 1653. gadā patriarha Nikona iesāktām reformām: 17. gs. otrajā pusē notika pirmie mēģinājumi apvienot baznīcu un zvanu torni vienā kopējā kompozīcijā. 18. gs. mūra sakrālajā arhitektūrā dievnama un zvanu torņa apvienošana jau kļuva ierasta – visbiežāk tā bija garenplāna „kuģveida” baznīca ar zvanu torni būvķermeņa rietumu pusē. Bet tikai 19. gs. sākumā šī kompozīcija no mūra arhitektūras ienāca koka arhitektūrā. (Sk.: Грабарь И. О русской архитектуре... C. 222.)
20 Piemēram, Pāvels Pavlovs projektējis ne tikai vecticībnieku, bet arī citu kon fesiju dievnamus – Jezupovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcu un Medumu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcu. (Sk.: Kaminska R., Bistere A. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā... 87., 195. lpp.)
21 Котова Ф. Bозрожденный храм // Поморский Вестник, 2001, № 8. C. 9.
Draudzēs samazinājās locekļu skaits, vienlaicīgi saruka arī finansiālie līdzekļi dievnamu uzturēšanai, un tie ar laiku bez atbilstošiem remontdarbiem krietni novecoja. Vairāki dievnami, palikdami bez draudzes un tās uzraudzības, tika slēgti un gāja bojā.
Situācija sāka mainīties 20. gadsimta 80. gadu nogalē, bet krass pavērsiens notika 1991. gadā, kad vienlaicīgi ar Latvijas neatkarības atjaunošanu to atguva arī vecticība. Lai gan būvniecības aktivitāte nebija tik liela kā pēc 1905. gada, tomēr daudziem dievnamiem tagad vairs nedraud sabrukšana. Vecticībnieku kopienas katra savu finansiālo iespēju robežās remontē un labiekārto lūgšanu namus un apkārtējo teritoriju. Šajā pēdējā un pašreizējā periodā lielākā daļa dievnamu cietuši no zādzībām, tādēļ draudzes vispirms risina ar drošību saistītus jautājumus – lūgšanu namus aprīko ar signalizācijas sistēmām, tiek mainītas durvis un logi, kā arī modernizētas apkures sistēmas. Taču nereti pati draudze neapdomīgos remontdarbos lūgšanu namā neatgriezeniski zaudē nozīmīgas kultūrvēsturiskas vērtības. Jauni vecticībnieku dievnami uzbūvēti Preiļos un Krāslavā, kā arī uzceltas kapelas blakus Daugavpils Jaunbūves un Vecās forštates lūgšanu namiem. Bet Ilūkstes un Dagdas lūgšanu namu vajadzībām pielāgotas jau esošās ēkas. Zvanu tornis virs dievnama būvķermeņa rietumu pusē pēc 1932. gada projekta uzbūvēts Jēkabpils vecticībnieku dievnamam, bet pēc 1928. gada projekta veiktas kapitālas pārbūves Viļānu lūgšanu namam. Daugavpils Vecās forštates koka lūgšanu nams nojaukts un tā vietā uzsākta jauna ķieģeļu dievnama celtniecība.
Par vecticībnieku sakrālās arhitektūras pieminekļiem var runāt pēdējo 150 gadu kontekstā, jo vecākais dievnams no pētījumā apskatītajiem vecticībnieku lūgšanu namiem, kas saglabājies līdz mūsdienām, datējams ar 19. gadsimta 60. gadiem. Šīs arhitektūras īpatnība – tās pasūtītājs, bū vētājs un lietotājs ir viena un tā pati persona, proti, vecticībnieku kopiena. Vecticība nekad nav bijusi oficiālās varas īpaši stimulēta, lai gan mūsdienās tā ir ceturtā lielākā konfesija Latvijā. Tādēļ šo arhitektūru var uzskatīt par savdabīgu tautas celtniecības paradigmu, ko veido pašu vecticībnieku priekšstati par to, kādam jābūt viņu dievnamam, kā arī katras kopienas finansiālās iespējas.
Analizējot Austrumlatvijas pilsētu vecticībnieku lūgšanu namus, kā visiem tiem kopīgo iezīmi var konstatēt taisnstūrveida garenplānu ar
278
no teiktu iekštelpas struktūru: trīsdaļīgs divu telpu plānojums – priekštelpa un lūgšanu telpa ar austrumu daļā novietotām ikonām kā altārdaļu. Šo vecticībnieku lūgšanu namu trīsdaļu plānojuma principu var skatīt kā tradīciju, kura saglabājusies no klētsveida dievnama – senkrievu koka sakrālai arhitektūrai raksturīgā un senākā dievnamu tipa, bet strukturālo paņēmienu kopumu, kuri izveidojās laika posmā no 1905. gada līdz Otrajam pasaules karam, var skatīt arī kā vecticībnieku sakrālās arhitektūras tradīciju.
Jāsecina, ka vecticībnieku lūgšanu nami Austrumlatvijas pilsētās ir unikāla sakrālā arhitektūra, kas, apvienodama vecticībnieku garīgās un materiālās vērtības, ir būtisks konfesijas kultūras komponents. Austrum latvijas pilsētu vecticībnieku lūgšanu nami ir nozīmīga kul tūrvides un sakrālās arhitektūras mantojuma sastāvdaļa ne tikai Latvijas teritorijā, bet, ņemot vērā faktu, ka Latvijā ir vislielākā vecticībnieku kopiena Eiropā, kura galvenokārt koncentrējusies Austrumlatvijā, – arī Eiropas mērogā.
Гуна шевкИна
архитектура старообрядческих моленных в городах восточной Латвии:
вопросы периодизации
Неотъемлемой частью сакрального культурного наследия Лат-вии, и в особенности Восточной Латвии, являются староверческие моленные. На протяжении более трехсот лет общины староверов оказывают серьезное влияние на формирование культурно-поли-тической и социально-экономической среды этого региона.
Культурные и духовные центры староверов исторически фор-мировались на этой территории, и сегодня в 11 городах Восточной
Латвии (в Екабпилсе, Ливаны, Даугавпилсе, Илуксте, Субате, Крас-лаве, Дагде, Лудзе, Резекне, Виляны, Прейли) расположены крупные староверческие общины. В каждом из городов находится по одной моленной, а в Даугавпилсе – 6 староверческих храмов.
В статье дан хронологический обзор истории строительства и особенностей архитектуры староверческих храмов на террито-рии Восточной Латвии, начиная с периода появления первых об- щин староверов (2-я полови на XVII века) до сегодняшнего дня.
280 281
валерий ПЛотнИков
культурно-историческое наследие староверов Латгалии: староверские кладбища
Современные старообрядческие поморские группы, обозначенные в научной литературе как этноконфессиональные, имеют четкое представление о себе, отделяясь и противопоставляясь «мирянам», а также и другим старообрядческим согласиям. У них есть в наличии все черты четкой коллективной идентичности: группа людей, объединенных общей историей, верой и культурой, они обладают коллективной памятью, из которой черпают истоки своего существования. Без осознания общих прошлых исторических корней и вечных ценностей истинного христианства было бы невозможно формирование идентичности старообрядческих групп. Ярким проявлением особенностей старообрядческого самосознания является тот факт, что даже при разрыве межпоколенных связей в силу исторических обстоятельств (в основном, в результате воздействия советской антирелигиозной пропаганды), потомки староверов, бывшая советская молодежь, по достижению пенсионного возраста обычно желают вернуться к религии своих предков, найти «своих», влиться в «свое» согласие, группу, к которой принадлежали их отцы, матери и деды. Подобная устойчивость идентичности, возможно, и объясняет факт существования староверия до наших дней вопреки прогнозам о его скорой гибели как религиозного оппозиционного течения.
Этноконфессиональная группа – это обособившаяся часть народа, культурнобытовые и другие особенности которой являются следствием историкогеографической (обычно долговременной) изоляции на религиознокультурной основе. И отсюда следует очень важный вывод: для существования этой группы одинаково важны обе составляющие – и конфессиональная, и этническая. По теря любой из них ведет к исчезновению группы.
Культурное наследие – объекты и явления материальной и духовной культуры народов, имеющие особую культурноисториче
скую (в т. ч. религиозную), художественную (эстетическую) и на учную ценность для обеспечения социальнокультурной преем ственности поколений. Уникальными составляющими материаль но го культурного наследия староверов являются староверские храмы, иконы, древние богослужебные книги, объекты жилого де ревянного зодчества, староверские кладбища.
И в наше рациональное время у каждого из тех, кто хоть раз в жизни сталкивался со словосочетанием «старообрядческое клад бище», возникает ощущение нечто большего, чем то, что подразумевается в этих словах. И дело не только в том, что понятие кладбища часто обозначало духовный центр Старой Веры. Само староверское кладбище в расхожем понимании представлялось и чувственно, и зримо отличающимся от обычного. В людском воображении возникали картины таинственных кладбищ Выга и Керженца или нежданно открывшееся в глухой чащобе скопление деревянных старинных крестов вперемешку с замшелыми камнями, испещренными непонятными непосвященному знаками.
Между тем, посетитель многих современных старообрядческих кладбищ, особенно новых городских, не сразу и разберется в их конфессиональной принадлежности. На могилах – стандартные пли ты советского образца производства, большую часть поверхности которых занимают различные тексты и даже портреты усопших. И среди всего этого, в уголке плиты, скромно приютившийся крестик как оправдание права поместить этот памятник на данном кладбище. Деревянные кресты и вовсе оказались не в чести, и это при нынешнем уровне развития технологий обработки и сохранности дерева как материала! Место дерева занял железобетон. Но даже эти относительно дешевые, изготовленные из нетрадиционного материала, однако имеющие традиционные пропорции кресты, по нашему мнению, предпочтительнее стандартных плит. В том или ином количестве они присутствуют на всех кладбищах, но особенно в Межаре (Екабпилский район), Стеки (Прейльский район), Балтмуйжа (Даугавпилсский район).1
А ведь нашедшие приют на латгальской земле, изгнанные со своей этнической родины русские староверы принесли с собой
1 Здесь и далее местонахождение кладбищ указывается согласно принятому в советский период административному делению.
282 283
и обряд погребения, и принятые в их родной местности обычаи внешнего обустройства могилы погребенного. Правила, в частности, обязывали: могила на староверских кладбищах должна быть ориентирована вдоль линии «восток – запад». Гроб устанавливается (опускается в могилу) ногами на восток, и в ногах устанавливается восьмиконечный староверский (древлеправославный) намогильный крест. Как гласят многочисленные эпитафии, «в надежде общего воскресения» и духовного облегчения оного. Отметим, что памятники с эпитафиями чаще встречаются на городских кладбищах (Даугавпилс, Резекне) и на больших и богатых сельских (Володино, Москвино, Ковалево). Изначально установка креста имела сакральное, духовное значение. По народным верованиям, в день Страшного Суда, когда мертвые восстанут из гробов, крест явится и опорой, и возможностью воздать благодарение Господу. Кстати, обычай ставить деревянные кресты на свежую могилу по завершению обряда погребения сохраняется и до нынешнего времени. Затем временный деревянный крест может быть заменен постоянным традиционным памятником, но это не должно произойти ранее сорокового дня.
Человечество живо памятью своею. И со временем сакральный намогильный крест приобретает свойства памятника, т. к. на нем стали появляться памятные записи, относящиеся к конкретному человеку или конкретным людям. Первоначально это были записи имени усопшего и года его погребения, но со временем надписей становилось все больше. И сейчас, осматривая намогильные памятники даже середины XIX века, можно многое узнать о жизни усопшего, о его благосостоянии, социальном статусе и другие интереснейшие сведения.
Можно с уверенностью утверждать, что к середине XIX века у местных староверов полностью сложились представления о типах памятников, отвечающих и строгим правилам Церкви, и, в то же время, обладающих достаточной степенью индивидуальности и ху дожественного исполнения. Вне зависимости от формы памятников (крест, стела, композиция) и материалов (дерево, камень, металл, сочетание материалов), из которых изготовлены эти памятники, традиционно должны были быть соблюдены следующие условия:
• главное – доминантой композиции памятника должен быть староверский восьмиконечный крест, т. е. памятник либо должен быть в виде креста, либо, если он выполнен в виде стелы, крест на ней должен быть главным изображением;
• пропорции креста должны строго соответствовать церковным правилам, хотя на старинных «саморезных» стелах и камнях имеются и отклонения;
• на поверхности креста недопустимы какие-либо таблички и слова, кроме изображаемых на кресте буквиц и титлов распятия, которые должны соответствовать канонам изображения креста в Древлеправославной Поморской Церкви (досадные ошибки наблюдаются уже в период после Первой мировой войны, но особенно в наше время – в Екабпилсе и Стеках довелось видеть даже «ИС» вместо канонического «IC»);
• все записи и эпитафия должны находиться либо на обратной стороне памятника, либо на пьедестале креста, либо под нижней перекладиной креста при изображении его на стеле;
• применительно к сегодняшнему времени, на памятнике с крес - том неуместны фотографии и портреты, в исключительных случаях таковые допустимы на отдельных от креста стелах или плитах, входящих в единый ансамбль памятника.
Причина всех вышеперечисленных требований проста – памятник сохраняет сакральные функции. На крест молятся пришедшие почтить усопшего, перед крестом периодически исполняются принятые в старообрядчестве поминальные требы. Моление же на фотографии – кощунственно.
Старобрядческие погребальные обычаи допускали кроме установки индивидуального памятника (обычно креста) и установку общего памятника для семьи или ее части и даже всего рода.
Интересно проследить эволюцию надписей на памятниках и эпитафий. Самые ранние из найденных гласят: «на сем месте погребе но тело раба Божия (Имярек)». Причем даже раб Божий – всего лишь раб, и отчества и фамилии ему не полагается иметь по чину. Но в дальнейшем появляются и фамилии, и эпитафии, и много иных записей. Нагляднее всего этот переход обозначен на знаменитом Андреевском мемориале в Бикерниеках Даугавпилсского района.
284 285
Еще одна распространенная ранняя форма эпитафии начинается словами: «В надежды общего воскресения и жизни вечныя молю вас любезная моя братия и сестры помолитеся о мне грешном...». Встречаются и другие эпитафииобращения. На городских же кладбищах Резекне и Даугавпилса, на богатых памятниках начала ХХ века помещены обширные лирические эпитафии.
Старообрядческие кладбища в Латгалии, как правило, обособлены. Даже в комплексе больших городских кладбищ их территория выделена особым образом. Бесспорно, это обстоятельство значительно облегчает поиски. Почти все кладбища можно охарактеризовать как лесные или лесопарковые (в черте поселков и городов), многие расположены на холмах. Скорее всего, это отличительная особенность всех кладбищ в Латвии. Крупные кладбища огорожены; малые, принадлежавшие исчезнувшим общинам, в луч шем случае когдато были обвалованы (Горбуновка, Красное, Рудушки, Трошки).
С великим сожалением следует отметить факт разрушения мно гих, возможно бесценных с исторической и художественной точки зрения, памятников. В ужасающем состоянии находятся кладбища в Горбуновке, в Ломах. Практически исчезает Калкунское кладбище в Даугавпилсе. Осквернено Юпатовское кладбище в Резекне. Печально смотреть на разбитые вандалами кресты на Даугавпилсском Новостроенском. Поэтому так важно привлечь внимание широкой общественности (прежде всего старообрядческой) и органов самоуправлений к проблеме сбережения хотя бы наиболее ценных памятников. Ведь только элементарное незнание, потеря исторической памяти и преемственности, а также безразличие общества привели к тому, что подчас сами «старообрядцы» относятся к своим святыням лишь как к досадной помехе при обустройстве собственного кладбищенского надела.
Какие же другие памятники из сохранившихся до наших дней мы бы отнесли к категории носителей старообрядческих традиций и нуждающихся в особо бережном отношении? Конечно же, прежде всего это восьмиконечные старообрядческие кресты:
• большие деревянные кресты с «крылышками» и без оных, стоящие непосредственно в земле или на пьедестале (подножии)
из камня. Сегодня на старообрядческих кладбищах в Латгалии такие кресты – большая редкость. Лишь в некоторых мес тах, например, в Екабпилсе, любителиэнтузиасты их реставрируют. Кстати, в народном православии такие древние кресты иногда особо почитаемы, ибо, по поверьям, обладают особой жизненной энергией и силой. В Екабпилсе долго стояли прислоненные к старой березе останки древнего креста, к которому не зарастала тропа исцеляющихся;
• старинные цельнокаменные неполированные кресты, высеченные из единой глыбы песчаника или даже гранита. Высота отдельных крестов достигает трех метров. Кресты эти воздвигались на цельнокаменные пьедесталы, некоторые из них отличаются аскетичной гармонией скромной отделки. Эти пьедесталы воспринимаются как естественное основание крес та. Нередко на них имеется небольшая информация об усопшем или эпитафия. Такие кресты, в основном, устанавливались до Первой мировой войны на кладбищах Екабпилса, Гривы, Володино;
• полированные гранитные кресты. Появляются в последние де сятилетия XIX века и устанавливаются до сего дня, чаще всего на очень богатых захоронениях. Пьедестал, как правило, также изготовлен из полированного гранита и часто содержит пространную эпитафию. Особенно выделяется такими памятниками Резекненское кладбище;
• литые металлические кресты. Их не так много, видимо, из-за дороговизны и нетрадиционности материала. Отливались «под заказ» с вылитыми записями по обе стороны креста. Устанавливались с последней трети XIX – в начале XX века на каменные и даже бетонные подножия (Екабпилс, Резекне, Даугавпилс, Кривошеево, Москвино).
Наибольшее количество традиционных памятников, достойных изучения и сохранения, выполнены в виде вертикально установленных цельнокаменных плит (стел) с изображением креста:
• ранние, начала XIX века (и позднее) «примитивные» цельно-каменные, грубой кустарной обработки, стелы. Сейчас надземная их часть составляет от 0,5 до 1,2 метра. Обычно их
286 287
воздвигали без фундамента. Кресты на них, выполненные в технике низкого рельефа, занимают большую часть площади стелы. Письменная, информационная часть находится на обратной стороне или ниже креста. Поскольку памятники по став лены без фундамента, то со временем большая часть записей, нанесенных на стеле ушла под землю. Однако это обстоятельство в определенной мере способствует сохранению информации и затрудняет неподобающее с ней обращение;
• цельнокаменные, часто родовые стелы середины XIX – начала XX веков. Неполированные, из светлого песчаника, часто высотою в человеческий рост, эти стелы зачастую поражают мастерством камнерезов. Кроме того, несмотря на строгое соответствие канонам, почти все они имеют индивидуальные отличия. Одна из наиболее характерных отличительных черт – количество изваянных крестов на лицевой стороне стелы. «Парные» кресты типичны для семейных стел, установленных на могилах супругов. Однако нередко встречаются и стелы с изображением двух, трех и даже четырех крестов разной величины (Кривошеево, Красное, Даугавпилс). Редчайшие – со стилизованным изображением душ почивших (Кривошеево, Макаровское, Королевщина), сходные изображения присутствуют на памятниках в виде парочки голубей (там же и Дегутское кладбище в Литве) (фото 1, 2, 3);
• полированные «монументальные» стелы с крестами. С начала XX века встречаются на богатых захоронениях и даже в качестве памятников лицам духовного звания. Часто на них вырезались специальные ниши для медных иконок и лампад, и помещались пространные эпитафии, нередко вполне светского содержания.
Кроме вышеперечисленных, наиболее распространенных типов старообрядческих памятников, на старообрядческих кладбищах встречаются и памятники не совсем традиционной формы, но тем более достойные сохранения ввиду своей уникальности, исторической, общественной или художественной ценности:
• древнейшие деревянные намогильные сооружения Северной Руси – так называемые домовины. В Латгалии их пока найдено
1. Памятная стела с символическим изображением душ почивших. Макаровское старообрядческое кладбище (Даугавпилсский район). Фото: архив общества «Беловодие». 2007 г.
2. Памятник с изображением пары голубей. Кривошеевское старообрядческое кладбище. Фото: архив общества «Беловодие». 2005 г.
288 289
только четыре, и все – в Резекне. Два из этих памятников, бывших в очень плохой сохранности, в настоящее вре мя реставрированы. До мо вины известны с очень давних времен, но сохранившиеся в Резекне относятся к восьмидесятым годам XIX века и к началу XX века;
• редко встречающиеся необработанные камни с едва намеченными крестами, а также камни примитивной крестообразной формы. Такие памятные знаки достаточно сложно найти, в полевых условиях установить время их изготовления практически невозможно;
• памятники, памятные ансамбли и склепы, изготовленные про- фессиональными скульпторами. Они, несомненно, обла дают высокими художественными достоинствами. В абсолютном большинстве это памятники на городских кладбищах. С горечью надо отметить, что за время советской власти многие
из них были умышленно варварски исковерканы, и все это былое величие ныне стоит постыдно униженное и часто неухоженное (Даугавпилс, Юпатовское кладбище в Резекне);
• общенародные святыни, в том числе: памятник павшим старообрядцам за свободу Латвии в Екабпилсе, памятный мемо риал павшим старобрядцам в Первую мировую войну в Даугавпилсе, мемориал павшим во Вторую мировую войну односельчанам в староверских Бикерниеках – Кривошееве, памятный крест староверам – первым жителям Якобштадта (Екабпилс) (фото 4);
• памятники выдающимся старообрядческим духовным лицам, меценатам, деятелям культуры и подвижникам: И. Н. Заволоко и И. П. Синицину (Резекне), просветителям А. Ф. Китову и Т. Ф. Макарову (Екабпилс), староверским подвижникам М. А. Каллистратову и А. С. Михайлову (Даугавпилс), В. М. Хра пунову – построившему Прейльский храм, Н. А. Рыжакову, сохранившему Володинское кладбище – своеобразный музей под открытым небом, хранящий староверскую мемориальную культуру. Иногда эти памятники по тем или иным причинам излишне скромны, например, – выдающемуся духовному наставнику А. И. Екимову. Тем не менее, они есть неотъемлемая часть нашей памяти и должны сохраняться как культурное достояние;
• древнейшие по времени установки памятники каждого отдельно взятого старообрядческого кладбища. Их сохранность – залог сохранения сведений об истории данного края. Иног да достопримечательностью кладбища может стать памятник с интереснейшими надписями и эпитафиями.
Как ни сложна проблема сохранения отдельных памятников, но в идеале наиболее древние части отдельных кладбищ следовало бы сохранять как заповедные зоны. Сегодня еще возможно это осуществить на кладбищах Даугавпилсского района – в Бикерниеках (Кривошееве), в Субате, в Мирном (Володине), в Вой тишках. Для этого вполне достаточно иметь всего лишь общий заинтересованный взгляд на проблему сохранения культурноисторических святынь как староверских общин, так и самоуправлений и, не в
3. Никита Архипович Рыжаков у сохраненной им памятной стелы. Володинское старооб ряд-ческое кладбище (Даугав пилсский район). Фото: архив общества «Беловодие». 2005 г.
4. Памятный крест староверам – первым жителям г. Екаб пилса.
Екабпилсское старообрядческое кладбище. Фото: архив общества
«Беловодие». 2012 г.
290
последнюю очередь, – уполномоченных лиц по охране памятников культуры. Ибо памятники эти являются ценными и малоизученными хранителями важных сведений о старообрядче стве Латвии, пособием по изучению развития мемориального искусства народа Латвии. Кроме того, при желании, эти памятники могут послужить основой развития небезвыгодного для самоуправ лений сакрального туризма, поскольку кладбища являются своеобразными музеями под открытым небом, а часть из них представляет собой не только историческую и этнографическую, но и большую художественную ценность.2
Изучение лучших образцов и древнего, и современного мемориального искусства, выполненных в духе древних традиций, надеемся, будет способствовать сохранению этих памятников (особенно древнейших из них) как интереснейшей составной части нашего культурноисторического наследия. Надеемся мы и на ин терес со стороны профессиональных исследователей. Ведь они по лучат возможность прочтения неведомых страниц из книги общей истории старообрядчества и, конечно, истории староверия Латгалии.
Valerijs PLotņIkoVS
Latgales vecticībnieku kultūrvēsturiskais mantojums: vecticībnieku kapsētas
Vecticībnieku kapsētas, līdztekus lūgšanu namiem, ikonām, dievkal-pojuma grāmatām, ir neatņemama vecticībnieku kultūras mantojuma da ļa. Senas vecticībnieku kapsētas Latgalē liecina par vecticībnieku apbe - dīšanas tradīciju īpatnībām, kuras ir saistītas ar vecticībnieku reliģiska-j iem priekšstatiem.
2 Тема сохранения культурноисторических памятников старообрядческих кладбищ (и не только) подробно освещена на домашней странице староверского общества «Беловодие» – www.belovodije.com
Balstoties uz lauka pētījuma materiāliem, rakstā analizētas izmai - ņas, kādas gadsimtu gaitā notikušas kapa krustu un kapa pieminekļu estētikā, kā arī sniegts tradicionālās vecticībnieku kapa pieminekļu sim-bolikas raksturojums. Autors pievērš īpašu uzmanību 19. gadsimta otrās puses – 20. gadsimta sākuma posmam, kad vecticībnieku vidē izveidojās noturīgi priekšstati par kanoniskiem noteikumiem, kas reglamentē kapa krustu un kapa pieminekļu ārējo veidolu, vienlaikus saglabājot iespēju izmantot mākslinieciski izteiksmīgu noformējumu.
292 293
владимир нИконов
к истории Саманской моленной
Занимаясь поисками архивного материала по истории староверия Латгалии в Государственном архиве Псковской области, мне удалось обнаружить ряд документов по Саманской моленной, которые и послужили основой для данной публикации.
Деревня Самани расположена неподалёку от современного го рода Зарасай, что на территории Литовской республики. Там бла го словением духовных отцов Антония Терентича и Фёдора Ники форовича, вошедшего в историю под именем Саманского и ставшего впоследствии основателем Рижской Гребенщиковской об щины, в 1735 году «устроилась» моленная.1 Эту же дату указывают и Дегуцкий летописец и выдержки из «увещания», опубликованные И. Н. Заволоко в «Родной старине».2
Судя по сохранившимся документам, первое столетие существования моленной прошло относительно спокойно. Главные неприятности начались в конце 1830х годов. И связаны они были с назначением в 1836 году в НовоАлександровскую церковь нового иерея Ивана Лукьянова, который начал активно проводить в жизнь политику светских и духовных властей. С июля 1837 года начал он «творить увещания к присоединению» в самом Но воАлександ ровске, причём следует заметить – совершенно безрезультатно. К концу года Лукьянов взялся и за окрестные моленные.3
Уже 3 ноября последовал донос Полоцкому и Виленскому епископу Исидору, что в селе Саманях в четырех верстах от НовоАлександровска находится выстроенная в 1835 году моленная,
1 Золотов В. Алфавит духовный, в нем же сущее содержание, бытейское воспоминание. Рукопись, конец 1850х годов. БАН, собрание Дружинина, № 229. Л. 5.
2 Родная старина, 1927, октябрь / ноябрь. С. 12.3 Маркелов Г. В. Дегутский летописец // Древлехранилище Пушкин
ского дома: Материалы и исследования. Л., 1990. С. 212.
которую «раскольники» Виленской губернии поставляют в «пример неприкосновенности».4 Между официальными лицами завя залась переписка, из которой можно почерпнуть некоторые инте ресные детали. Так, Курляндский и Лифляндский генералгубернатор барон М. Пален, ссылаясь на информацию местных властей, указывает, что моленная не новая, существует со времён герцога Бирона, однако по причине ветхого состояния перестраивалась в 1820 и 1833 годах. Далее следует её описание: «Впрочем, эта моленная перестроена на вид обыкновенного крестьянского дома без колокольни, весьма бедно и без всяких наружных отличий, требы совершал в ней Артамон Анкудинов, избранный обществом в наставники за 10 лет тому назад».5 Правда, В. Барановский, ссылаясь на документы, опубликованные в «Старобрядческом цер ковном календаре на 1967 год», утверждает, что в 1820 году моленная была отстроена заново.
После доноса моленную, на всякий случай, сразу опечатали. При этом илукстский гауптман взял обязательство с живущих в этом краю «раскольников», что они не будут общаться с виленскими «раскольниками». Однако, что делать с моленной он не знал: то ли держать опечатанной, то ли открыть. Сомнения разрешил Синод, который своим решением от 13 апреля 1838 года признал перестройки нарушением закона и, следовательно, законность и необходимость опечатывания моленной.6
Переписка даёт представление и о величине Саманского прихода, который на момент запечатывания моленной насчитывал 423 души мужского пола и 249 душ женского. При этом непосредственно в самих Саманях находилось только 8 дворов, остальные прихожане были разбросаны по разным селениям.7
Борьба с расколом опечатыванием моленной не закончилась. Решением Синода от 31 марта 1839 года АльтГринвальдскому священнику Николаю Харламову сроком на один год была вменена
4 Государственный архив Псковской области (ГАПО), ф. 39, оп. 1, д. 7782, л. 1.
5 ГАПО, ф. 39, оп. 1, д. 7782, л. 9.6 Там же, л. 9, 12.7 Там же, л. 14, 34–36.
294 295
миссионерская деятельность в Саманском приходе. На разъезды и работу ему выделили 250 рублей, и каждую треть года он был обязан доносить о своих расходах и достижениях.8
В сохранившихся рапортах конца 1839 – начала 1840х годов о. Николай жалуется, что «раскольники» разбросаны по разным не многолюдным селениям и застать их дома невозможно. Кроме того, управляющий моленной в Саманях Автоном Акиндинович запретил прихожанам общаться с православным священником. Во всех документах Харламов констатирует, что увещание не имеет ни малейшего успеха, что народ здесь самый грубый, зашедший из Центральной России «в старые времена, совершенно истребил понятия о Православной Религии и священстве, живёт, не исполняя почти никаких обрядов». В беседах «раскольники» ссылаются на то, что это установлено с давних пор и что почти во всех городах России позволено их собратьям отправлять свои требы и богослужения, начальство их в последнее время не беспокоило. Особен но указывают на «невозбранно» совершаемые службы Автономом Акин диновичем в Динабурге. Кроме того, существовала моленная в Горбуновке, в трёх верстах от АльтГринвальда, а главные моленные – в Войтишках, Володине и в 12 верстах от АльтГринвальда в Виленской губернии, в деревне Шипалишках. Наставник последней, про званный Шершнем, служит в Илукстском уезде без всяких пре пятствий со стороны полиции.9 Здесь речь идёт об опекуне Дегутской моленной Артемии Ефимыче Шершне (преставился 7. 01. 1846 г.).10
Что касается опечатывания моленной, то оно тоже было не очень эффективным средством. А. Вескинский сообщал в 1860х годах, что закрытие моленных не очень чувствительно, так как беспоповцы не особенно ревнуют по церковному благолепию и богослужения совершают в частных домах.11
В конце 1844 года, по косвенным данным, моленная в Сама нях была возобновлена. Небезынтересно отметить, что принуж
8 Там же, л. 18.9 ГАПО, ф. 39, оп. 1, д. 7782, л. 25, 34–36.
10 Маркелов Г. В. Дегутский летописец // Древлехранилище Пушкинского дома: Материалы и исследования. Л., 1990. С. 228.
11 Вескинский А. Раскол в Западнорусском крае // Православное обозрение, 1865, B3. С. 289.
дённый миссионерствовать священник в течении двух лет не имел церкви.
В 1847 году генералгубернатор Е. Головин дал предписание разобрать моленную в Саманях. Предвидя возможность протеста, он предлагал: «для сохранения спокойствия можно, смотря по надобности, употребить находившуюся там команду донских казаков». Население же предупредили, «чтобы они отнюдь не осмеливались заводить новую моленную или обращать на то домы свои», и 31 декабря 1847 года строение разобрали. Дегуцкий летописец даёт это событие под 7356 годом, однако имеются некоторые разночтения в дате: «Декабря 3(30) дня Саманская моленная до основания разорена и вовсе уничтожена».12
За время существования Саманской моленной там отечествовали:
1. Данила Яковлевич, фундатор,2. Никифор Фёдорович,3. Агафон Алексеич, впоследствии служил в Лигинишках и Ри
ге, преставился в 1803 году,4. Илья Яковлевич,5. Илья Васильич, 6. Михаил Семёныч, преставился в 1823 году, 7. Гурий Афанасьич,8. Автоном Акиндиныч.13
О последнем наставнике стоит рассказать особо. Незадолго до смерти общий пастырь в Литве и Курляндии Тит Антонович Танаев осенью 1819 года благословил своего приемника. Им стал Автоном Акиндинович Мышняков, до 1830 года отечествовавший в Литве, а затем перебравшийся в Динабург.14
С именем Автонома Акиндиновича связано введение в широкий оборот чина бракосочетания. По всей видимости, одним из факторов, способствовавших его введению, стала светская власть. Так, в 1803–1804 годах Белорусский военный губернатор, управляющий по гражданской части в Витебской и Могилевской губерниях,
12 Маркелов Г. В. Дегутский летописец // Древлехранилище Пушкинского дома: Материалы и исследования. Л., 1990. С. 229, 248.
13 Родная старина, 1927, октябрь/ноябрь. С. 12.14 Золотов В. Алфавит духовный... Л. 49.
296 297
И. И. Михельсон по аналогии с Малороссией, обязал старообрядческих наставников вести метрические записи.15 Прививалось это нововведение с трудом, однако в 1823 году Мышняков книги завёл. Затем развил бурную деятельность в Двинске. Около 1829 го да, вместо небольшой старой, была «огромным и великолепным образцом выстроена» новая моленная, кроме того, особый дом для наставника и школа. Он широко практиковал венчания, и к нему ездили из разных мест, в том числе и из Риги. Автоном Акиндинович выдавал даже специальные свидетельства о венчании, указывал при этом на указ Сената от 4 января 1829 года.16 Правда, продолжалось это менее десятилетия. В 1838 году Синод запретил ему это делать.17 Обычай прижился к 1840м годам. Как сообщает Вескинский, к этому времени бракоборческие понятия исчезли почти окончательно, и с тех пор браки освящались повсюду совершением обряда в моленной или простым родительским благословением.
Другим фактором, способствовавшим широкому распространению брака, стало то, что к этому времени многие пришельцы поустроились и приобрели коекакой достаток и, соответственно, брак стал необходимостью для решения наследственных вопросов.18
Деятельность Автонома Акиндиновича в старообрядческой сре де произвела большое смущение: «На Автонома Акиндиновича и прочих за принятие метрических книг и за прочия установления» в октябре 1832 года был созван Варковский собор, где он «поклоны клал и прощение просил» и обещал впредь не вводить своего обычая, однако слова своего он не сдержал. Более того, в 1834 году «умышляет учинить второе разорвание», уравняв в правах новоженов и разрешив совместное моление, питие и ядение. Учение его пользовалось популярностью «... и повинуются ему, яко светильнику и учителю великому».19
15 Латвийский государственный исторический архив (ЛГИА), ф. 754, оп. 1, д. 174, л. 42.
16 ЛГИА, ф. 6546, оп. 1, д. 1058, л. 7.17 Там же, ф. 6546, оп. 1, д. 1061, л. 36.18 Биржевые ведомости, 1871, № 21.19 Сборник, составленный в Норской и Злынской (Стародубской) оби
тели. Рукопись. 1834–1836 гг. С. 50, 53.
Будучи уже в Динабурге, Мышняков до середины 1840х годов продолжал окормлять и Саманский приход, откуда его окончательно «отдалили» братья Блохины.
В 1844–1847 годах в имении Лаунцензе Саманского прихода проживали некто Ермила (Ефим) Блохин (он же Асташев) с братом Иларионом. Будучи большим начётчиком, Ермила сам составлял тетрадки. В результате обширного чтения, дошёл до совершенного отрицания обязательности Св. Писания и св. икон, придя к некоему подобию духоборчества. Своё учение он начал реализовывать на практике. Будучи человеком богатым, он с 1 октября по 1 декабря 1844 года раздал всё свое имущество и стал бедняком.20 В том же 1844 году, в Рождественский сочельник, после службы, Ермила Блохин упросил пономаря объявить, чтобы люди не расходились, после чего лёг у порога и каждый должен был пинать его ногами, потом творить три поклона на иконы и просить у него прощения.21
1 января 1845 года оба брата Блохины пришли в моленную и учинили дебош вплоть до рукоприкладства к Автоному Акиндиновичу, укоряя его в разных послаблениях: и что вино и чай пить учит, есть дрожжевое печенье и т. п. Миряне и горожане поддержали Блохиных. Собрав группу молодёжи, 18 февраля Блохины пошли приступом на дом Автонома, желая отобрать у него книги. И только арест 27 марта прекратил активность Е. Блохина.22
В заключении Е. Блохин пробыл недолго. Видя в нём фанатика, его выпустили на поруки. Ермила бежал, странствовал по Петербургской и Ковенской губерниям. В последней в 1856 году вновь был арестован. На этом известия о его судьбе прерываются, однако в Курляндии и Ковенской губернии у него нашлось немало последователей.23
Однако вернёмся к Автоному Акиндиновичу. Осенью 1850 года его арестовали. Это было время, когда в губернии пытались раз
20 Вескинский А. Раскол в Западнорусском крае // Православное обозрение, 1865, B3. С. 292. Маркелов Г. В. Дегутский летописец // Древлехранилище Пушкинского дома: Материалы и исследования. Л., 1990. С. 220–221.
21 Золотов В. Алфавит духовный... Л. 85.22 Золотов В. Алфавит духовный... Л. 85. Маркелов Г. В. Дегутский ле
тописец... С. 225.23 Вескинский А. Раскол в Западнорусском крае... С. 292.
299
вивать единоверие. Создавались новые единоверческие приходы, для которых необходимо было духовенство, которое пытались вербовать в староверческой среде. Стимулировали процесс перехода и репрессиями. 8 сентября, сидя в остроге, Автоном уклонился в «иноверие» [единоверие – В. Н.] и был рукоположен в Двинскую (Динабургскую) единоверческую Успенскую церковь. Уже 15 сентября «стерянный» он прибыл в Динабург, но, по иронии судьбы, новоявленному иеромонаху Автоному не пришлось сыграть какуюлибо роль в становлении единоверия. В августе 1851 года он преставился. Брат же его Егор Акиндинович продолжал наставничать в Динабурге.24
Vladimirs nIkonoVS
Par Samaņu lūgšanu nama vēsturi
Vecticībnieku lūgšanu nams Samaņos (netālu no Zarasu pilsētas mūs - dienu Lietuvā) ir dibināts 1735. gadā un ir saistīts ar garīgā tēva Fjodora Nikiforoviča, vēlāk Rīgas vecticībnieku draudzes garīgā tēva un lūgšanu nama dibinātāja, vārdu.
Rakstā ir apkopoti jauni fakti par Samaņu vecticībnieku draudzi, balstoties uz Pleskavas apgabala Valsts arhīva fondu dokumentiem, kas raksturo draudzes dzīvi 19. gadsimta 30. un 40. gados, kad pastiprinājās pret vecticībniekiem vērstās varas iestāžu sankcionētās vajāšanas. Anali-zētie dokumenti ļauj izsekot draudzes garīgā tēva, Avtonoma Mišņakova (? – 1851) darbību Samaņos, kā arī diskusijas laulību reģistrācijas jautā-jumā, kuras notika vecticībnieku vidē 19. gadsimta 30. gados.
24 Национальный исторический архив республики Беларусь, ф. 1430, оп. 1, д. 52098, л. 28. Золотов В. Алфавит духовный... Л. 7 об. – 8, 50. Маркелов Г. В. Дегутский летописец... С. 248.
Майя ГРИзане
образ староверов в латвийской прессе 1920–30-х годов
Надо признаться, что пресса не может являться объективным историческим источником. Мнение владельца издания, главного редактора и, наконец, автора статьи может во многом отличаться от действительности, однако пресса интересна как источник ин формации о событиях как таковых; кроме того, пресса демонстрирует те представления, которые бытовали в общественном сознании по отношению к определённой группе общества.
В 20е – 30е годы ХХ века образ староверов не был однозначным: несмотря на то, что Латвийское государство благосклонно относи лось к развитию староверских общин и организаций, в прессе появлялись статьи, показывающие староверов и с отрицательной стороны. В целом, образ староверов в латвийской прессе создавался через их сравнение с другими проживающими в Лат вии народами, особенно с латышами. Следует учесть и то, что в первой половине ХХ века латышское общество строго разделяло русских православных, которых связывало, прежде всего, с чиновничьим аппаратом Российской империи, и староверов, которые к тому времени уже несколько столетий жили рядом с латышами, поэтому латвийские староверы нередко воспринимались как «свои». Авто ры некоторых статей считали староверов «истинными» латвийскими русскими в противовес православным, которые появились на территории Латвии уже после них.1
Для исследования образа староверов в латвийской прессе 20х – 30х годов были взяты следующие латышские и русские издания: „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis”, „Latvijas Kareivis”, „Jaunākās Ziņas”, „Rīts”, „Brīvā Zeme”, „Jēkabpils Vēstnesis” и «Сегодня». Эти издания были одними из самых популярных в межвоенный период, поэтому, несомненно, оказывали влияние на общественное мнение.
1 Etnogrāfs. Seno zemgaļu cīņām – eiropējiskā nozīme // Brīvā Zeme, 10.02.1938.
300 301
Отрицательный образ староверов в прессе создавался на основе двух тем – при обзоре криминальных новостей и на основе стереотипных представлений об особенностях староверского бы та. В периодической печати описывались случаи, когда старове ры под воздействием алкогольного опьянения вели себя неподобающим образом как по отношению к своей общине, так и по отношению к органам власти. Такого рода происшествия описывались так, чтобы можно было убедить читателей в необузданности, дикости староверов, показать их зависимость от алкоголя. Например, 12 марта 1929 года в Виленах старовер К. Быстров якобы «напился и без причины стал бить кулаками проезжающих».2 Приехавший полицейский попытался отвести Быстрова в участок, но на него напали другие староверы, которые «били полицейского по голове, пытаясь освободить Быстрова, что, в конце концов, им не удалось».3 Двоих староверов поместили в тюрьму, остальным удалось сбежать. Статья не даёт возможности объективно оценить данное событие, староверы в ней описаны резко отрицательно.
Если верить статье, напечатанной в Вестнике Министерства внут ренних дел, в ноябре 1928 года, наставника одной общины пой мали на лжи: он якобы утверждал, что за несколько дней до при хода полиции двое мужчин украли из его квартиры 140 латов, однако позднее полиция выяснила, что это не так.4 Статья не поясняет, лгал ли этот наставник специально, чтобы подзаработать, или же просто забыл о том, что уже истратил эти деньги.
Эта статья не единственная, которая показывает староверского наставника как человека, пользующегося своим служебным положе нием. Напоминаем, что Латвийское правительство помогало староверам не только финансово, но и давало возможность приобретать стройматериалы по сниженным ценам, однако эту возможность не всегда использовали для строительства моленных и домов. Так, например, в Екабпилсе (Крустпилсе) в 1930 году весной один старовер отстроил разрушенное во время войны здание, а
2 Vecticībnieki uzbrukuši policistam // Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis, 15.03.1929.
3 Vecticībnieki uzbrukuši policistam // Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis, 15.03.1929.
4 „Moderns” vecticībnieku mācītājs // Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis, 16.11.1928.
затем разрушил его и сложил в хлев брёвна, которые использовал зимой в качестве дров.5
В отдельных статьях журналисты отмечали низкий уровень грамотности староверов. В 1924 года в статье «Дело «япончиков»» автор, выслушав показания староверов, сделал следующий вы вод: «<…> полная безграмотность, полное непонимание закона, послевоенная запуганность, культура проникает к ним в виде грам мо фонов и «радикулей»».6 Автор этой статьи не учитывал того фактора, что так называемая «запуганность» староверов в начале 1920х годов была связана еще с воспоминаниями о недавних отношениях с органами власти Российской империи, а незнание законов и малограмотность были свойственны староверам сельских районов. Тем не менее, отношение староверов к образованию как таковому хорошо известно: образованные люди всегда староверами ценились и уважались. Так, например, летом 1938 года в деревне Пудерова у зажиточного крестьянина Терентия Кононова погиб сын Иоанн в возрасте 14 лет. На 40й день после погребения Т. Кононов организовал поминки, на которые пригласил учителей и учеников всех шести классов местной сельской школы: «для гос тей были накрыты столы из восьми отдельных блюд».7 Кроме того, родители подарили каждому ученику пакетик со сладостями, карандаш и тетрадь, а ученики пятых и шестых классов в придачу к подаркам получили портрет погибшего сына Кононова.8 Учителя также получили подарки. По словам автора статьи, поступок родителей произвёл хорошее впечатление на школьную молодёжь и местное население.
Положительный образ староверов создавали также статьи, в которых говорилось о проявлении лояльности староверов по от но шению к государственной власти. Староверские общины неред ко устраивали специальные богослужения в честь государственных праздников,9 посылали поздравления членам Сейма, которые
5 Garām braucējs. Kur paliek būvkoki? // Jēkabpils Vēstnesis, 28.03.1930.6 Дело «япончиков» // Сегодня, 10.07.1924.7 Īpatna vecāku draudzība ar skolu // Brīvā Zeme, 27.06.1938. 8 Īpatna vecāku draudzība ar skolu // Brīvā Zeme, 27.06.1938.9 Kā provincē svinēs valsts gada svētkus // Latvijas Kareivis, 02.11.1928.;
18. novembra rītā skanēs visu baznīcu zvani // Latvijas Kareivis, 17.11.1935.
302 303
публиковались в газетах. Особенно показателен период после государственного переворота 1934 года, когда публично высказанное мнение приобретало особый смысл. В 1934 году «Староверское общество в Латвии» отправило поздравление министрупрези денту К. Улманису, в котором пожелало ему «наилучших успехов в деле строительства новой Латвии на благо всех жителей Латвии».10 Тогда же К. Улманис получил поздравление и от Рижской Гребенщиковской общины.11
Важное место в формировании положительного образа старове ров занимали статьи о пожертвовании ими средств на т. н. «про екты государственной значимости». Например, по ини циативе президен та К. Улманиса начались масштабные работы по созданию парка Победы и был объявлен всенародный сбор средств на это стро ительство. Староверские общины и организации актив но жертво ва ли деньги, даже устраивали специальные лотереи для сбора средств на парк Победы.12 Во второй половине 1930х годов были опубликованы статьи, в которых К. Улманис поблаго дарил жителей Латвии за пожертвования. В этих статьях давался список жертвователей, среди которых были упомянуты «Старо вер ское общество в Латвии»13, Ковалёвская община14, «Двинское старообрядческое братст во»15, Краславская община16, Гребенщи ков ское Духовное училище17, Резекненская Преображенская об щина18, Рижское Ссудосберегательное старообрядческое обще ство19 и др. Подобного рода сооб ще ния о пожертвованиях также влияли на формирование определённого образа староверов.
10 Vēl vienmēr pienāk jauni tautas sajūsmas apliecinājumi savai valdībai // Latvijas Kareivis, 27.05.1934.
11 Tautas atbalsta apliecinājumi valdībai // Latvijas Kareivis 30.05.1934.12 Laimīgi un lepni, redzot savu zemi izkoptu un daiļu // Rīts, 14.11.1936.13 Laimīgi un lepni, redzot savu zemi izkoptu un daiļu // Rīts, 14.11.1936.14 Neviens lai nepaliek malā // Rīts, 06.02.1937.15 Latvijas zemes bagātie augļi // Rīts, 05.03.1937. 16 Dižā darba talcinieki // Rīts, 13.05.1937.17 Gaišo domu ceļā // Rīts, 14.05.1937. 18 Sirsnīgi pateikdamies // Jaunākās Ziņas, 29.05.1937.19 Krājaizdevu sabiedrības vecina Uzvaras laukuma loterijas biļešu izplatī
šanu // Latvijas Kareivis, 17.11.1937.; Krājaizdevu sabiedrības Uzvaras laukuma talkā // Rīts, 16.12.1937.
Особое место в периодической печати занимали статьи о доброжелательном отношении староверов к латышам и к Латвийско му государству, об их бережном обращении со своими традициями, что вызывало в латышском обществе повышенный интерес и даже восторг.
Латгальские староверские общины выделялись как нечто особенное, самобытное, не соотносимое с российскими русскими, неотъемлемая часть латвийского населения. Так, служащий латвийской армии Я. Чермакс, описывая в 1937 году своё путешествие по Латгалии и вспоминая гостеприимство латгальцев, указывал на близость культур латгальских русских и латышей. Он описывал, как он встретил староверов у города Ливаны, которых назвал «бо родатыми мужами». Они стояли вдоль дороги и раздавали огурцы и яблоки проезжающим мимо латвийским солдатам. Один из ста роверов предложил угощение порусски, однако, услышав благодар ность полатышски, «мило улыбаясь», перешёл на латышский язык. Автор этой статьи пришёл в восторг от общения со староверами и даже сделал предположение, что в их жилах «течёт латышская кровь», а если и нет, то им наверняка «мила латышская армия и эта земля».20 Конечно же, такое впечатление указывает на некий романтический настрой автора статьи, однако и на то, что латгальцы и староверы жили в полном мире и согласии. Таким образом, жители Латгалии рассматривались в прессе как единый народ, которому были свойственны такие качества, как гостеприимство и доверие к соседям, а староверы изображались как неотъемлемая, естественная часть этого сообщества.
Староверов в прессе сравнивали не только с латышами, но и с православными русскими. Нередко подчёркивалось, что старове ры придерживались старого летоисчисления и отмечали праздники по юлианскому календарю.21 В отдельных статьях их так и называли – «старостильниками».22 В 20–30х годах религиозные традиции в среде староверов имели очень большое значение. В прессе это описывалось так: по воскресеньям моленные были полны,
20 Čermaks J. Kaŗa kumeļā // Brīvā Zeme, 03.11.1937.21 См., например: Освящение плодов // Сегодня, 07.08.1925. 22 Рождество у старостильников // Сегодня, 09.01.1925.
304
магазины, базары, мастерские и другие предприятия не работали, на улицах можно было встретить толпу нарядно одетых людей, дома староверов также были украшены.23 Во время празднования Рождества латвийская пресса особо подчёркивала, что староверы следуют «старому стилю» и в конце декабря постятся, не принимая участие в торжествах и дожидаясь праздника по своему календарю.24
Проявление традиций староверов отличалось и во время проведения годовых ярмарок. В статье о проведении в 1937 году ярмарки в Резекне журналист описал прогулки староверской молодёжи по главным улицам города, а также обряд похищения невест, который будто бы «существовал с древних времён».25 Подробнее этот обряд описан в статье „Kā Latgalē „zog” līgavas”, в которой рассказывается о ярмарке в деревне Боровая (Боровка). В 1938 году в этой деревне был поставлен рекорд – было украдено целых 5 невест.26 Автор статьи так описал этот ритуал: «Невесту украсть довольнотаки про сто, но потом взять её в жёны гораздо сложнее. Молодую пару у дома встречает отец обладателя красавицы. Сын падает перед ним на колени и отец читает ему нравоучения. Только после троекратного коленопреклонения сына ему разрешают ввести свою избранницу в дом и представить её родным. Там же ведутся разговоры и о приданом невесты. На следующее утро готовится завтрак – омлет из 15 яиц. За стол садятся в полной тишине. Все взгляды обращены к сыну, которому первому надлежит отрезать кусок омлета. Если он отрезает маленький кусочек, это значит, что искатель невесты неудовлетворён своим выбором. В таком случае украденную невесту ведут обратно к её родителям. Уезжая прочь, ворота дома смазывают дёгтем, чтобы другие искатели невест знали, что эта красавица не отвечает требованиям домохозяйки».27 Таким образом, ещё в первой половине ХХ века в сельской местности латвийские староверы сохраняли традиции, которые своими корнями уходили в далекое прошлое.
23 Рождество у старостильников // Сегодня, 09.01.1925. 24 Рождество у старостильников // Сегодня, 09.01.1925.25 L. Rudens gada tirgus un sievu zagšana // Brīvā Zeme, 22.09.1937. 26 Kā Latgalē „zog” līgavas // Jaunākās Ziņas, 07.02.1938. 27 Kā Latgalē „zog” līgavas // Jaunākās Ziņas, 07.02.1938.
В целом, следует отметить, что староверы имели особый статус в латвийском обществе. На них обращали внимание не только потому, что они отличались от остальных латвийских русских, но и потому, что они своим отношением к труду были похожи на ла тышских крестьян. Однако при этом староверы, прежде всего, старались сохранять свои религиозные и культурные особенности.
Maija GRIzĀne
Vecticībnieku tēls Latvijas presē 1920.–1930. gados
20. gadsimta 20.–30. gados vecticībnieki nonāca sabiedrības uzmanī-bas lokā gan savu reliģisko un kultūras īpatnību dēļ, gan savas aktīvās politiskās darbības dēļ. Latvijas latviešu un krievu preses izdevumi ne ti-kai atspoguļoja, bet arī radīja vecticībnieku negatīvu vai pozitīvu tēlu, tā-dējādi ietekmējot sabiedrības attieksmi pret vecticībnieku draudzēm un to darbību.
Vecticībnieku negatīvais tēls parasti tika saistīts ar divām tēmām – 1) kriminālgadījumi, kuros tika iesaistīti arī citu konfesiju pārstāvji, un 2) vecticībnieku paražu un dzīvesveida savdabīgums un ar to saistītie ste-reotipi.
Vecticībnieku pozitīvais tēls veidojās, pateicoties priekšstatam par vec - ticībnieku labvēlīgo attieksmi pret latviešiem un Latvijas valsti, arī viņu īpašā attieksme pret savām tradīcijām izraisīja lielu interesi un nereti pat sajūsmu.
306 307
Галина ПоноМаРева
Прибалтийские староверы в эстонской прессе
Наряду с архивными источниками периодическая печать – один из важных источников сведений о староверах Эстонии. Но здесь возникает несколько сложных проблем. Газет и журналов, издаваемых самими староверами, в Эстонии никогда не было, поэтому материал рассеян по всем периодическим изданиям. Собрать его воедино очень трудно по ряду причин.
Первая причина – территориальное разделение. Территория Эсто нии до 1917 года была разделена на Эстляндскую и Лифляндскую губернии. Староверы жили, в основном, в южной Эстонии, тогда входившей в Лифляндскую губернию. Поэтому часть материалов исследователи староверия Эстонии обычно ищут в газетах, издававшихся в Риге. Например, в самой известной русской газете «Рижский вестник».
В первом периодическом издании Эстонии, журнале «Радуга», издававшемся в 1832–1833 годах в Ревеле, было приложение «Остзейские записки», но никакой информации о староверах в них нет. Русские газеты в Эстляндской губернии начали выходить только во второй половине ХIХ века, поэтому историки старообрядче ст ва должны учитывать и периодические издания, выходившие в СанктПетербурге. И прежде всего, газету «Северная пчела», так как редактор этой газеты, Ф. В. Булгарин, с конца 1820х годов жил под Дерптом. В газете регулярно появлялись его «Дерптские письма».
Поскольку периодические издания на территории нынешней Эстонии, кроме языков малочисленных национальных меньшинств Эстонии, выходили на трех основных языках: немецком, русском и эстонском, то ученый из Эстонии не может ограничиться изучением газет только на русском языке.
Большие трудности создает и библиография. В Литературном музее в Тарту есть библиография с картотекой, которая размещена
теперь и в Интернете.1 Но статьи в русской периодической печати Эстонии в ней не зафиксированы. Составляя краткий обзор статей о староверах в эстонской периодической печати, я пользовалась картотекой Литературного музея.
Повидимому, первые сообщения о староверах появились в не мецкой периодике Эстонии. В картотеке Литературного музея хранятся данные о том, что в журнале „Der Inland“ в 1836 году были опубликованы статьи о староверах Дерпта и Лифляндской губернии.
Газеты на эстонском языке начали выходить с 1806 года. В эстонской периодике материалы о староверах Эстонии зафиксированы с 1886 года. Сразу же отметим, что, в целом, отношение эстонцев к причудским русским было очень хорошим. Староверы никогда не ассоциировались ни с царской, ни с советской властью, ни с гос подствующей Православной Церковью, отмечалось их хорошее зна ние эстонского языка. В 1991 году оно было в три раза выше, чем у других эстонских русских. Староверы – работящие люди. Они – рыбаки и каменщики. Религиозные разногласия среди русских эс тонцев просто не интересовали. Если сами русские в Эстонии раз деляют себя на старых русских (потомков русских, живших в Эстонии до войны) и «советских», то эстонцы разделяют русских на причудских русских и просто русских. Однако мы прекрасно знаем, что периодическая печать напрямую связана со временем и властью. И есть цензура, которая не пропустит нежелательную информацию. Именно поэтому в эстонских газетах конца ХIХ века староверы фигурируют исключительно как «раскольники».
Поскольку с середины ХIХ века часть эстонцев переходила из лютеранства в православие, то в эстонских газетах конца ХIХ века мы находим значительно больше информации о переходе эстонцев в православие, строительстве православных церквей, основа нии Пюхтицкого монастыря, чем о староверах. Часть таких сообщений относится и к Причудью. Например, 18 августа 1884 года в ревельской газете „Valgus”, издаваемой Якобом Кырвом, сообщается, что священником Муствеэской православной церкви назначен
1 См.: http://www.kirmus.ee/
308 309
господин Баранов.2 Муствеэ – единственное место в Эстонии, где на небольшой территории одновременно находились старообрядческая, единоверческая и православные церкви.
Хотя в конце ХIХ века староверам были сделаны значительные послабления, негативное отношение к ним царского правительства попрежнему сохранялось. В 1886 году сведения о староверах появились в газете „Olevik”. Газета „Olevik” (1881–1915) начала издаваться в Дерпте (Тарту) публицистом, журналистом Адо Гренцштейном. В 1880е годы это издание считалось прогрессивной эстонской газетой. В заметке от 4 января речь шла о том, что раскольники и евреи должны каждый год предоставлять в губернское правление Лифляндской губернии данные о рождаемости и смертности.3 Любопытно, что евреи и староверы ставятся рядом. Следует отметить, что в Дерпте старообрядческое и еврейское кладбище были расположены рядом. Местные власти разрешили открыть вблизи старообрядческой моленной публичный дом, который несмотря на постоянные жалобы староверов, упорно не закрывали.
Староверы были категорически против браков с православными. Но иногда молодые нарушали запрет. В 1899 году в дерптской газете „Postimees” появилось сообщение о том, как староверы на острове Пийриссаар пытались помешать девушке обручиться с православным. В конце ХIХ века на Пийриссааре работал школьным учителем некий Федор Богданов. Он влюбился в дочь местного старовера Матрену Мартынову. Родители девушки были против этого брака, поскольку жених был православным. Тогда молодые без согласия родителей в феврале 1899 года обвенчались в Риге в православной церкви. Когда они вернулись на остров, то их уже ожидали около 100 староверов. Они отобрали у мужа Матрену и держали ее в родительском доме. На подмогу Федору Богданову бы ла вызвана полиция – три урядника. Молодая жена сбежала к мужу зимой босиком и почти без одежды. Новобрачные под охраной полиции были вынуждены уехать с острова.4
2 Valgus, 1884, Nr. 41, 18. aug. Lk. 1.3 Sõnumid Eestimaalt // Olevik, 1886, Nr. 1, 4 jaan. Lk. 2.4 Truun naene Piirisaare // Postimees, 1899, Nr. 54, 6. märts.
Нам теперь трудно представить себе среднего эстонского читателя конца ХIХ века, но, видимо, новообращенных в православие эстонцев, а к 1899 году 13 % эстонцев перешли в православие, вопросы веры, в какойто мере, всетаки волновали. И они старались понять: почему не все русские довольны православной верой? Добавим, что немецкие помещики и лютеранские пасторы крайне плохо относились к православию, называя его «собачьей верой».
В 1909 году в Феллине (Вильянди) в газете „Maleva” появляется заметка об освящении 18 декабря 1909 года, ночью, в деревне Кикита старообрядческой церкви. В заметке объяснялось местонахождение церкви. Автор рассказывал, что освящение длилось целую ночь. Ночью это делалось для того, чтобы православные и лютеране не знали об этом и не смогли прийти, ведь представители других вер для староверов – поганые. Но ктото из иноверцев всетаки пришел. Им разрешили стоять и смотреть, но не разрешили молиться вместе со староверами. Староверы считали, что моление иноверцев могло рассердить Бога. Автор указывает также, что церковь староверов построена в «русском стиле», в ней нет алтаря, как в православных церквях. На строительство церкви пошло очень много денег, так как почти готовая церковь была заново перестроена. Автор заметки называет огромную сумму в 50 тысяч рублей. Автор продолжает, что староверы боятся образования как самого большого врага. Их дети учат в школе наизусть церковные песнопения и учатся читать завет на старославянском языке, и это все. Попытки учителя научить детей писать на современном русском языке или научить читать на современном языке родители считают ересью. Автор не удивляется тому, что даже в наши дни староверы в российской империи сожгли себя в доме во время молитвы. По его мнению, старообрядцев нужно признать самым отсталым элементом во всем государстве.5 Такого рода статьи характерны для русской печати начала ХХ века, однако в 1909 году такая статья выглядит уже архаичной. Но нужно учесть, что опубликована она в провинциальной эстонской газете.
Во время Первой Эстонской республики в эстонских газетах неоднократно появляются статьи и сообщения о местных староверах.
5 Mustveest // Maleva, 1909, Nr. 28, 31. dets.
310 311
Чаще всего такая информация появляется в тартуской газете „Postimees”, поскольку большинство староверов проживало в Тарту и Тартуской волости.
Так, 4 сентября 1931 года в „Postimees” появляется сообщение о том, что стропила при строительстве колокольни Тартуской мо ленной были плохо установлены.6 16 октября в этой же газете было опубликовано сообщение, что тартуские староверы летом пе рестроили моленную и построили новую колокольню, которую на днях приняла городская строительная комиссия.7 К середине октября работы были уже завершены.
В Северной Эстонии старообрядцев было значительно меньше, поэтому сообщения о них реже появлялись в таллиннской газете „Päevaleht”. 5 сентября 1936 года в этой газете была опубликована заметка «Городские староверы требуют место для захоронений». В ХIХ веке у таллиннских староверов было свое кладбище. Но к концу века община изза малочисленности распалась, и кладбище закрыли. В ХХ веке община снова возникла. Умерших хоронили на православном кладбище Св. Александра Невского, но на этом кладбище уже не хватало места. Руководство общины обратилось в городское управление с просьбой отвести им на новом кладбище Лийва 216 мест для захоронений.8 Управление эту просьбу удовлетворило.
29 августа и 30 августа 1935 года в двух эстонских газетах появились заметки о приезде преподавателя (в статье его называют профессором – Г. П.) И. Н. Заволоко с группой детей на экскурсию в Ряпина. В таллиннской газете „Kaja“ в заметке «Остатки монастыря под Ряпинской корчмою» говорилось, что старейшим зданием в Ряпина было бывшее здание корчмы, которое Выруское во лостное правление дало распоряжение снести. При раскопках под зданием были найдены человеческие кости и старинные монеты. Корчма была построена на месте старого кладбища. Ав тор заметки указывает, что именно это здание и заинтересовало
6 Palvemaja kellatornid sarikad halvasti seotud // Postimees, 1931, Nr. 239, 4. sept. Lk. 8.
7 Vanausulised uuendasid palwelat // Postimees, 1931, Nr. 281, 16. okt. Lk. 5.8 Linna vanausulised matmispaika nõutamas // Päevaleht, 1936, Nr. 240,
5. sept.
И. Н. Заволоко, приехавшего с группой экскурсантов в Ряпина. По данным И. Н. Заволоко, полученным в рижских архивах, под зданием почтовой станции находятся остатки старого монастыря. Латвийский ученый также заинтересовался большим памятным камнем в деревне Каукси.9
Объем второй заметки «Древний монастырь в Ряпина», опуб ли кованной в выруской газете „Elu”, значительно больше, ее автор несколько проясняет ситуацию. При сносе здания корчмы было обнаружено кладбище, которое находилось на ее месте и от носится к шведскому времени. И. Н. Заволоко посетил Ряпина в рамках учебной экскурсии для детейстароверов. Заволоко заинтересовался большим камнем с крестом, который находится в деревне Каукси. Как здание корчмы, так и жертвенный камень сфотографировали.10 Судя по всему, этот камень Заволоко фотографировал и раньше. В «Родной старине» (№ 9) помещена фотография каменного креста XVIII века, находящегося в Ряпинской мызе. Понятно, что Заволоко говорил с эстонскими журналистами на русском языке, а они давали информацию в газеты уже на эстонском языке. Поскольку журналисты не были специалистами по истории старообрядчества, то степень достоверности газетной информации необходимо тщательно проверять.
Для этого обратимся к более ранней статье И. Н. Заволоко «Ряпино», опубликованной в № 9 «Родной старины», который вышел в свет в апреле 1930 года. В ней Заволоко пишет о местонахождении Ряпинского монастыря. Сначала он приводит местное предание: «О староверческом монастыре никаких следов в народной памяти не сохранилось. Некоторые старики утверждают, что монастырь какойто был в двух верстах от имения на правом берегу реки у деревни Кукси. (Видимо, Заволоко перепутал название деревни и оно превратилось в Кукси вместо Каукси – Г. П.). На этом месте сохранился массивный каменный крест».11 Но Заволоко сомневал ся в достоверности сообщений старожилов: «Такое предположение
9 Kloostri varemed Räpina kõrtsi all // Kaja, 1935, Nr. 203, 30 aug. 10 Muistne klooster Räpinas // Elu, 1935, Nr. 70, 30 aug. 11 Заволоко И. Н. Ряпино // Родная старина. Сборник, посвященный
вопросам религиознонравственного и национального просвещения. Ре принт. Москва, 1997. С. 206–207.
312 313
вряд ли соответствует истине. Крест никаких надписей не содержит, а насечки в виде четырехугольных крестиков (а не восьмиконечных, как это принято у старообрядцев), скорее говорят, что мы имеем дело с памятником русскошведских войн».12 Более вероятным местонахождением монастыря он считал другое место: «Монастырь находился на месте Ряпиной корчмы у старинной лю теранской кирхи. Здесь часто находят человеческие кости и черепа».13 Заволоко считал, что можно опираться только на точные археологические данные: «окончательный ответ могут дать лишь раскопки в соответствующих местах Ряпинской мызы».14 Если сравнить газетные заметки со статьей Заволоко «Ряпино», то инфор мация в эстонских газетах представляется вполне достовер ной, кроме наименования Заволоко «профессором». И. Н. Заволоко был скромным человеком и вряд ли он сам себя так представ лял. Для Заволоко в Эстонии было важно не только Причудье, его интересовали и другие места, связанные с историей старообрядчества.
Старообрядцы заботились об образовании своих детей. В тартуской газете „Postimees” за 10 апреля 1924 года опубликована просьба местных староверов в Отдел школьного образования разрешать проводить уроки Закона Божьего вне школы в моленной. Это ходатайство связано с тем, что уроки Закона Божьего в русских школах вели православные священники. Министерство образования ответило на эту просьбу отказом.15
В отношениях между староверами и эстонскими властями в 1920–1930годах были и разногласия. Они были вызваны так называемой календарной войной. Эстонские православные приходы легко перешли на новый календарный стиль. Русские православные приходы переходить не хотели, и их переход до начала 1930х годов задерживался. Часть православных священников и епископ Печерский Иоанн (Булин) поддержали простых прихожан. Дольше всех держались староверы. В середине 1930х годов внимание к
12 Там же. С. 207.13 Там же.14 Там же.15 Tartu teated // Postimees, 1924, Nr. 99, 10. apr. Lk. 2.
староверам было привлечено тем, что, несмотря на предписания и денежные штрафы, они упорно отказывались переходить на новый календарный стиль.
Cамой интересной статьей о староверах Эстонии в эстонских газетах в довоенный период самими эстонцами считается статья в таллиннской газете „Päevaleht” за 27 октября 1935 года. На нее постоянно ссылаются эстонские ученые в исследованиях о старообрядцах. Автор статьи должен был объяснить эстонским читателям отношение староверов к новому календарю и рассказать их историю и обычаи. Статью трудно аттрибутировать, поскольку под статьей нет ни имени, ни фамилии автора, а стоят только инициалы. Статья проиллюстрирована двумя фотографиями: группа староверов во главе с наставником и крестный ход вокруг Муствеэского храма. Церковь в Муствеэ была выстроена в годы независимости Эстонии и была самым крупным старообрядческим храмом в Эстонии. В статье говорилось об истории староверов. По словам автора статьи, в Эстонии проживало около 8 тысяч староверов, 7 тысяч из них – приемлющие брак, тысяча – неприемлющие брак. Последние, которых журналист называет фанатами, объединены в две общины, находящиеся в Раюшах и Кольках. Автор статьи отмечает, что старообрядческое богослужение отличается от православного. Староверы называют свои богослужебные помещения, для которых часто используются обычные жилые до ма, моленными. Стены моленных увешаны изображениями святых и «картинами». Автор отмечает, что в некоторых моленных (в деревне Рая) на стенах изображена вся земная жизнь Христа. Среди изображений святых есть и имеющие особую художественную ценность. В моленной отсутствует алтарь. В статье описывается моленная одежда староверов – мужчин и женщин. Объясняется, что при богослужении используется лестовка, а также рассказывается о тех наказаниях, которые накладываются на староверов. Автор также поясняет, что староверам запрещено брить бороды, курить, пить чай, пить и есть из одной посуды с иноверцами, жениться на людях другой веры и др.16 Повидимому, автором статьи был ктото из эстонских ученыхгуманитариев.
16 Vanausulised Eestis // Päevaleht, 1935, Nr. 297, 27. okt. Lk. 2.
314 315
Во второй половине 1930х годов отношения между причудскими староверами и эстонскими властями еще более обострились. Дело доходило до высылок наставников. 8 февраля 1937 года в газете „Postimees” появилось сообщение о старообрядческом наставнике из Калласте Никоне Кукине. Судья из Муствеэ наложил на него наказание – 50 крон штрафа или 25 суток в тюрьме за проведение церковной службы в Рождество не по новому, а по старому календарному стилю. Кукин был выслан из Калласте. Чуть позднее он вернулся и продолжил служить.17
19 января 1939 г. в тартуской газете „Postimees” появилась статья «У староверов заканчиваются праздники». В ней шла речь о Тартуской старообрядческой общине. Статья была проиллюстрирована фотографией старообрядческого хора. На фото также можно увидеть председателя Тартуского старообрядческого кружка молодежи Л. Е. Гришакова и наставника о. Андрея Кабацкого. Со общается, что члены хора – молодые женщины, среди которых есть женщины с высшим образованием. По словам журналиста, в общине около 500 человек. Церковь находится на улице Пыйк. Духовный наставник церкви – о. Андрей Кабацкий. Затем называются отличия староверов от православных. У старообрядческих священников вместо рясы – длинный черный узкий халат. Его мо гут носить и другие члены общины – мужчины. У женщин на голове – черный платок, напоминающий монашеский. У староверов нет дьякона. Духовные песнопения поет хор. Пение старообрядческого хора монотоннее и менее звучно, чем у православных. Староверы во время моления держат в руках лестовку, которой нет у православных.18
Во время Второй мировой войны в период немецкой оккупации информацию о жизни староверов трудно найти как на страницах русских, так и эстонских газет. В начале немецкой оккупации отношение эстонцев к причудским русским ухудшалось. Это связано с тем, что часть из них была мобилизована и воевала в Советской армии, а другая часть эвакуировалась в советский тыл.
17 Vanausuliste preester sai karistada // Postimees, 1937, Nr. 38, 8. veebr. Lk. 6.
18 Vanausulised lõpetavad pühadepidamist // Postimees, 1939, Nr. 18, 19. jaan. Lk. 7.
Из выходивших при немецкой оккупации эстонских газет круп нейшей была таллиннская газета „Eesti Sõna”. В номере за 12 июля 1942 года в статье «Дни сражений в Тарту летом 1941 года» отмечалось, что при объявлении мобилизации 3 июля 1941 года явилась только небольшая часть демобилизованных. «Большинство из них были причудские русские».19 31 июля 1941 года в тартуской газете „Postimees” в статье «На полях сражений на севере Тартуского района» рассказывалось о разрушениях населенных пунктов в результате боев. Из поселений, в которых проживало русское население Причудья, сильнее всего пострадали Муствеэ и Казепяэ. Калласте уцелело. Сравнительно мало пострадали де ревни Рая, Тихеда, Кикита. Но все русские деревни опустели. Жур налист задается вопросом: «Куда пропали их жители?» И сам же отвечает: «Большинство из них бежало в Россию, так как они были русскими. Меньшая часть их вместе с детьми скрывается сейчас в лесах».20 Безусловно, на эстонских журналистов влияло отрицательное отношение немецких властей к русским. Был план всех русских выслать из Эстонии в Россию, а вместо них привезти эстонцев и немцев. Однако постепенно отношение к местным русским смягчалось.
18 апреля 1942 года в газете „Postimees” было опубликовано соболезнование Тартуского старообрядческого общества в связи со смертью долголетнего председателя совета и члена общины Ефрема Яковлевича Гришакова.21 В тот же день в таллиннской газете „Eesti Sõna” появилось второе сообщение о кончине Е. Я. Гришакова, подписанное его родственниками: женой, сыном, внука ми, невесткой и сыновьями, высланными коммунистами.22 Перед смертью покойному пришлось перенести много тяжелых испытаний. До войны он был обеспеченным человеком – владельцем нескольких пароходов и завода. Он много помогал старообрядческой общине. Во время советской власти его имущество было
19 Tartu havingulised päevad 1941a. suvel // Eesti sõna, 1942, Nr. 158, 12. juulil. Lk. 2.
20 Värsketel lahinguväjaladel PõhjaTartumaal // Postimees, 1941, Nr. 12, 31. juulil. Lk. 1.
21 Postimees, 1942, Nr. 93, 18. apr. Lk. 5.22 Eesti Sõna, 1942, Nr. 87, 18. apr.
316 317
конфисковано, а его сыновья, Иван и Тимофей, были арестованы и высланы в Сибирь.23 Летом 1941 года во время военных действий дом Гришаковых сгорел. В это же время здание моленной тоже сгорело и члены общины собирались на богослужения в частных домах.
В послевоенное время религия стала объектом резкой критики со стороны советских газет. В начале 1950х годов в районном центре Калласте выходила газета „Nõukogude küla” («Советская де ревня»).24 Газета с таким названием на русском языке выходила в Нарве в 1940–1941 годах. Поскольку Калласте – город с русским населением, то первоначально предполагалось выпускать газету на русском языке. Но газета на русском языке в Калласте начала выходить только в 1957 году. В газете на эстонском языке было много русских корреспондентов и часть редакторов газет также носили русские фамилии. Местные русские знали эстонский язык и могли читать эту газету. «Письма трудящихся», видимо, писались на русском языке и переводились. Интересно, что все это происходило в начале 1950х годов, в сталинское время, когда в Эстонии усиленно внедрялся русский язык, однако газет на русском языке было очень мало.
13 сентября 1951 года в газете появилась статья руководи теля Отдела образования Калластеского района А. Рейнла «Религия как препятствие народному образованию». В ней цитировалось зна ме нитое высказывание Ленина «Религия – опиум для народа». Автор статьи отмечала, что пережитки религии особенно заметны в деревнях Калластеского района: Варнья, Касепяэ, Колькья, Нина и в городе Калласте. Например, священник города Калласте Ф. Ноев требует беспрекословной веры и покорности. Некоторые родители не разрешают своим крещенным детям играть с некрещенными детьми, детям не разрешают вступать в пионеры и комсомол. Таким образом, родители действуют против партии и правительства. Наблюдается также много суеверий, которые пытаются укоренить и среди учащейся молодежи. На
23 Poliitilised arreteerimised Eestis. Köide 1. Tlan. 1996. Lk. 63–64.24 Пономарева Г. М. Русская и советская культура Западного Причу
дья в русских и эстонских газетах Эстонии (1946–1952) // Дни культуры Причудья. 2008–2009. Таллинн, 2009. С. 52–56.
пример, в городе Калласте на улице Выйду, около дома № 80, находится колодец, из которого можно брать воду только освященным ведром. Автор статьи приводит примеры только из жизни города Калласте и даже близлежащей улицы. Зимой в Калласте брали воду для чая из прорубленной в Чудском озере проруби. Если какоето «неосвященное» лицо, пишет Рейнла с иронией, тоже возьмет из этой проруби воду, тогда прорубались проруби в новом месте и снова происходила церемония освящения воды. Свою статью Рейнла заканчивает словами: «В советском обществе социальные корни религии уничтожены, но она еще встречается у отсталых слоев общества, как пережиток, перенесенный из буржуазного общества. Религиозные пережитки тормозят народное образование, мешают части советских граждан стать активными и сознательными строителями коммунизма».25
Представители советской власти прекрасно понимали, что ста рых наставников им уже не перевоспитать, поэтому упор дела ли на дискредитацию молодых наставников. В 1959 году при Н. С. Хрущеве началась яростная антирелигиозная компания. Среди старообрядческих наставников жертвой был избран наставник Касепяэ ской моленной Лаврентий Ефремович Гришаков. Он был сыном «капиталиста». Его старшие братья были репрессированы, сам он в сталинское время, с 1944 по 1945 годы, сидел в тюрьме. Гришаков был образованным человеком. В 1942 году он окончил Юридичес кий факультет Тартуского университета. Еще в 1930е годы он про являл недюжинные организаторские способности, руководил Тартуским старообрядческим кружком молодежи.26 В конце 1938 года в возрасте 24 лет был избран председателем Совета старообрядческих общин Эстонии. В 1938–1939 годах проходил богослужебную практику в Рижской Гребенщиковской общине.
После войны Лаврентий Ефремович был наставником в Колецкой, а затем Казепельской моленных. В 1960м году против него
25 Reinla A. Religioon kui rahva hariduse takistaja // Nõukogude küla, 1951, Nr. 30, 13. sept.
26 Пономарева Г. Тартуский старообрядческий кружок молодежи (1932– 1940) // Москвино за нами. Прейли. 2008. С. 127–132.
318 319
бы ла развязана целая кампания. 19 февраля 1960 года в газете „Edasi” появилась статья А. Вальдеко «История о «батюшке» Лаврентии».27 В ней рассказывалось о сыне «капиталиста» Лаврентии Гришакове, который до войны вел роскошную жизнь: ходил по ресторанам, пил дорогое вино и т. п. Затем он стал совладельцем, а пос ле смерти отца и владельцем стекольного завода. После войны он потерял все свое богатство. Поскольку Гришаков не мог работать по полученной в Тартуском университете специальности юриста, он стал наставником в деревне Колькья. Но община там была маленькая, приносившая мало доходов. Тогда он стал наставником в деревне Казепяэ, где община была побольше. Здесь Гришаков захотел построить себе на церковные деньги баню и прачечную, однако члены общины были против. Затем он попытался отнять дом у 90летней прихожанки Акилины Каялиной. Верующие заставили его вернуть дом.28 В статье А. Вальдеко Гришаков характеризуется как нечистоплотный человек, который наживается за счет верующих. В Эстонской биографической базе данных, находящейся на сайте Литературного музея, есть сведения, что под псевдонимом «А. Вальдеко» скрывался работник госбезопасности Вальдур Тимуск.29 Он использовал 13 псевдонимов и выступал в нескольких эстонских газетах с разоблачительными статьями.
На этом кампания против наставника Гришакова не кончилась. 13 марта в «Советской Эстонии» появилась статья М. Симоновой ««Отец» Лаврентий». В ней указывалось на то, что в Казепельской общине наставником служит сын капиталиста и стяжатель, который живет за счет верующих: «На средства верующих была отремонтирована его квартира, построен двор для скота, увеличена зарплата, заготовлено топливо».30
И, наконец, 27 мая 1960 года в тартуской газете „Edasi” появилась третья статья того же самого А. Вальдеко «Святая ненависть».
27 Valdeko A. Lugu „isakesest“ Lavrentist // Edasi, 1960, Nr. 35, 19. veebruaril. Lk. 2.
28 Там же. 29 См.: Eesti biograafiline andmebaas ISIK (http://www2.kirmus.ee/biblio
server/isik/index.php?id=3832)30 Симонова М. «Отец» Лаврентий // Советская Эстония, 1960,
13 мар та.
В ней он инсценирует якобы состоявшийся разговор Ирины Афанасьевны Гришаковой с мужем. Лаврентий Ефремович произносит большой монолог, в котором утверждает, что в его руках теперь сосредоточена большая власть, чем в то время, когда он был сыном фабриканта и рабочие ему кланялись. В статье показывалось, что староверы, на которых опирается наставник, на самом деле или уголовники, или алкоголики.31
По словам сына Л. Е. Гришакова, Владимира Лаврентьевича, его отцу удалось тогда отбиться, но позднее его так задавили налогами, что наставнику пришлось уехать из Причудья и больше никогда не заниматься наставнической деятельностью, т. е. власти добились своего.
С середины 1990х годов в Эстонии идет возрождение старооб рядчества. Ремонтируются старообрядческие церкви, реставри ру ют ся старообрядческие книги. Действует несколько старовер ческих музеев. В эстонской печати больше не встретишь недоброжелательных статей о староверах. Проходило много фотовыставок, посвященных староверам. Их авторы – фотокорреспонденты газеты „Eesti Express”, сын писателя Яана Кросса Мяртен Кросс, известный кинорежиссер Арво Ихо и др.
Если в довоенной эстонской прессе и в эстонских советских газетах интервью со староверами практически не было, то в наши дни в эстонской прессе публикуется довольно много интервью с эстонскими староверами. Чаще всего интервью дает председатель Союза Старообрядческих общин Эстонии Павел Григорьевич Варунин, темами бесед становятся, как правило, важные события в жизни староверов – выход новой книги, открытие выставки и т. п. Отметим, что в Эстонии живут два Павла Варунина. Павел Варунин – старовер, живущий в Калласте, член Совета Калластеской общины и Павел Варунинмладший – племянник Павла Варунинастаршего, председатель Совета Старобрядческого общества куль туры и развития. Поскольку у эстонцев нет отчеств, то в печати иногда путают двух родственников.
Другой очень популярный в среде эстонцев человек – бывшая учительница русского языка из Муствеэ Аполлинария Ивановна
31 Valdeko A. „Püha viha” // Edasi, 1960, Nr. 104, 27. mai.
320 321
Репкина. Она хорошо владеет эстонским языком и часто прово дит экскурсии по Причудью. У нее довольно часто берут интервью. В Интернете есть 17 упоминаний о А. Репкиной. Наиболее интересное интервью опубликовано в газете „Sirp”, в котором приведена целая подборка материалов по истории староверов Эстонии.32
Часто интервью берут у З. И. Куткиной из деревни Варнья. Зоя Ивановна – врач, сейчас на пенсии. Раньше была председателем Совета Варньяской старообрядческой моленной. Работала в Колькском старообрядческом музее, обучала детей церковнославянскому языку. В своих интервью Зоя Ивановна часто поднимает и социальноэкономические проблемы: низкая рождаемость, безработица среди староверов и др.
О прибалтийских староверах современные эстонцы знают довольно мало. У обычных эстонцев эти знания, в основном, почерпнуты во время экскурсий или получены на старообрядческих сайтах www.starover.ee или www.starover.eu, где есть информация и на эстонском языке. Например, известная эстонская писательница, журналистка и кинорежиссер Имби Паю в своей статье о староверах упомянула об аресте И. Н. Заволоко в начале 1940х годов, которое произвело тяжелое впечатление на староверов Эстонии. Об И. Н. Заволоко она узнала от экскурсовода А. Репкиной, когда была на экскурсии в Муствеэ.33
Статьи о староверах эстонцы могут прочитать в газете „Postimees”. Любопытно, что эстонские журналисты находят у староверов Причудья эстонский патриотизм. 23 февраля 2005 года в газете „Postimees” появилась статья Юхани Пюттсеппа «Счастье сохраняется в желтом доме у Чудского озера». Герои очерка – пожилая супружеская пара Василий и Устинья Ремецы из деревни Варнья. Василий Акинфьевич – наставник. Журналист пишет о том, что Василий Ремец во время Гражданской войны служил в батальоне эстонского герояпартизана Юлиуса Куприянова, воевавшего про
32 Martinson Marko. Praegu sõltub kõik Peterbuurist ja Mokvast. Intervjuu Apollinaria Repkinaga // Sirp, 2004, Nr. 38, 15. okt.
33 Paju Imbi. Mustvee vanausuliste juures // http: // luup.postimees.ee 8080/leht/96/04/ 16/kultuur.htm
тив красноармейцев, а его братья Федор и Панкрат Ремец служили в эстонской армии. И всегда в их вещевом мешке были маленькие иконы.34
В 2003 году в Тартуском университете была защищена магистерская диссертация Кюлли Эриксон о Гаврииле Фролове и его иконописной мастерской.35 Однако в ее диссертации не рассматри ваются иконы Фролова, находящиеся в Латвии. Но о связи Г. Е. Фролова с Латвией эстонские искусствоведы знают. Так, МариЛийс Паавер в статье «Чистыми глазами. Иконописная школа Фролова – одно из своеобразнейших явлений нашей культуры» пишет: «У отца Фролова была иконописная мастерская в Латвии, в Резекне. Там начинаются первые иконописные попытки».36 В 2006 году в Эстонии работали исследователи из Литвы Н. А. Морозова и Ю. А. Новиков. Благодаря взятым у них интервью, эстонские читатели получили информацию и о староверах Литвы.
В целом, можно сказать, что староверы эстонцами воспринимаются, с одной стороны, как экзотика, как объект туризма. С дру гой стороны, их привлекает духовность староверов, которая, наверное, остается не понятой до конца и которой, возможно, не хватает им самим.
34 Püttsepp J. Õnn püsib Peipsi ääres kollases majas // Postimees, 2005, № 45, 23. veebr. Lk. 28.
35 Külli E. Ikonimaaliija Gavriil Frolov (1854–1930) ja Peipsiäärse Rajaküla ikoonimaalitöökoda. Magistritöö. Tartu Ülikool. 2003.
36 Paaver M.L. Puhta silmaga. Frolovi ikonimaalikoolkond on meie kultuuri üks omapärasemaid nähtusi // Sir, 2004, Nr. 38, 15. okt. Lk. 10.
323
Gaļina PonoMaRJoVa
Baltijas vecticībnieki Igaunijas presē
Rakstā ir aplūkotas publikācijas par Baltijas vecticībniekiem, kas ir atrodamas Igaunijas avīzēs igauņu valodā laika posmā no 1886. līdz 2010. gadam. Šāds pārskats tiek sniegts pirmo reizi. Tā kā igauņu žurnālisti un lasītāji biežāk saskaras ar pareizticīgo baznīcu, vecticību viņi nereti raksturo salīdzinājumā ar pareizticību.
Igauņu autori raksta par Igaunijas vecticībniekiem lielākoties sakarā ar Baznīcas svētkiem, lūgšanu namu remontiem, likumu pārkāpšanu u.tml. Publikācijās parādās tikai viens Latvijas vecticībnieka vārds – tiek pieminēts Ivans Zavoloko. Ir izdevies atrast divus rakstus par I. Zavoloko vizīti Igaunijā 1935. gadā. Mūsdienās ziņas par Igaunijas vecticībniekiem igauņi smeļas galvenokārt no publicētajām intervijām ar vecticībnieku draudžu pārstāvjiem vai no ekskursijām Peipusa ezera vecticībnieku cie-matos.
аркадий неМИнУщИЙ
Между «заветами отцов» и новой жизнью (старообрядчество в романе
П. д. Боборыкина «обмирщение»)
По целому ряду причин староверы на страницах русской литературы были довольно редкими гостями. Если же они появлялись, то чаще всего оценивались негативно, и это было связано с тем, что отношение к старообрядчеству не только в литературе, но и в русской культуре вообще – сюжет довольно болезненный, связанный, с одной стороны, с недостаточным знанием предмета, а с дру гой – с массой предубеждений и невежественных стереотипов. Как известно, долгое время государство и синодальная Церковь вели с так называемыми раскольниками постоянную борьбу, при этом сформировался такой идеологический контекст, что писать о старообрядчестве не только позитивно, но даже просто нейтрально было трудно.
К началу XIX века сформировался специфический антистарообрядческий дискурс, в рамках которого нередко утверждалось, что старообрядцы – изуверствующие фанатики, которые ведут себя двулично и, проповедуя скромность и всяческие ограничения, на деле стремятся к земным благам. Такие обвинения формулировались в публицистике, рассказах и повестях из жизни старове ров, печатавшихся на страницах в основном провинциальных газет или выходивших отдельными изданиями. Хотя Священный Синод сле дил за тем, чтобы в печати не появлялись тексты, откровенно разжигающие межконфессиональную рознь, в первой половине XIX века свет всё же увидели такие произведения, как, скажем, повесть А. А. Орлова «Раскольник, или Веслоухие» (1831), романы А. А. Павлова «Крамольники» (1838) и В. Ф. Потапова «Раскольники» (1848), где старообрядцы были изображены в негативном аспекте.1 Правда надо отметить, что все эти авторы особым авторитетом не
1 См. об этом: Боченков В. В. П. И. Мельников (Андрей Печерский): мировоззрение, творчество, старообрядчество. Ржев, 2008. С. 47.
324 325
пользовались и принадлежали к разряду даже не второстепенных, а третьестепенных литераторов.
Картина несколько изменилась, когда к теме старообрядчества обратились писатели иного уровня, например, И. И. Лажечников и М. Н. Загоскин, но в их сочинениях (например, романах Лажечникова «Последний новик» (1833) или Загоскина «Брынский лес» (1845) старообрядцы хотя и изображены намного более объективно, но всё же являются персонажами эпизодическими и в сюжете занимают скромное место. Чтото подобное можно сказать и о таких русских классиках, как И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский, у которых персонажистароверы присутствуют только на периферии художественного мира.
В середине XIX века понастоящему глубоко и профессионально вопросами староверия начал заниматься П. И. МельниковПечерский. Результатом этой работы стали известные эпические романы о Заволжье «В лесах» (1871–1884) и «На горах» (1875–1881), где жизнь старообрядческих скитов во всей ее полноте стала уже главным объектом изображения. Примерно в то же время начинают появляться и связанные с исследованием жизни «ревнителей древлего благочестия» разного рода сочинения Н. С. Лескова.
Следующим значительным шагом в освоении темы старообрядческой жизни стал опыт почти забытого ныне писателя П. Д. Боборыкина (1836–1921), и, конкретно, его роман «Обмирщение», впервые напечатанный в газете «Русское слово» в 1904–1905 годах и вышедший в свет отдельным изданием в 1912 году.
Прежде чем говорить о своеобразии этого произведения, надо хотя бы коротко охарактеризовать его автора. П. Д. Боборыкин родился в Нижнем Новгороде, был выходцем из древнего дворянского рода. Учился на Юридическом факультете Казанского университета, с 1855 года – на отделении химии Дерптского университета, в 1857 году перешел на Медицинский факультет. В 1860 году, не завершив образования, переехал в Петербург, где в 1861 году в Петербургском университете сдал экзамен на степень кандидата права. Долгое время провел в поездках по Европе, где не только продолжал учебу, но и сам читал курсы лекций. Писать начал еще в гимназии, а к концу жизни был автором без малого двадцати боль
ших романов, среди которых самыми известными стали «Жертва вечерняя» (1868), «Китайгород» (1883) и «Василий Теркин» (1892).2 Вообще, он был фантастически плодовитым писателем (его даже называли «живой пишущей машиной»). Начиная с 70х годов позапрошлого века он усваивает принципы так называемого натурализма с его установкой на максимальную достоверность. Писатель «фотографировал» много таких тенденций русской действительности, которые были важны, но как бы не были «охвачены» высокохудожественным реализмом. Поэтому, например, А. П. Чехов отмечал, что Боборыкин – добросовестный труженник, и его романы дают большой материал для изучения эпохи.3 Имея это в виду и надо оценивать его роман о старообрядцах.
Сам Боборыкин свою цель обосновал в предисловии, в котором упоминает дилогию МельниковаПечерского, хотя сразу отмечает, что у него самого была другая задача: «В те годы, о каких он (МельниковПечерский) повествовал, «дух времени» так не проникал еще, даже в более развитый слой многомиллионного старообрядчества, каким он дает себя знать теперь повсюду. Под воздействием этого духа времени стали складываться и новые стороны быта…».4 И далее Боборыкин формулирует особенность своего подхода: «Мо ей задачей было: схватить все это в самых выдающихся проявлениях, держась, главным образом, того, что представляет собою более культурный класс старообрядчества в крупных центрах нашего отечества» (5–6). То есть, Боборыкин затрагивает всегда значимую для старообрядцев проблему самооценки, ориентации, выработки способов поведения в условиях очень жестких вызовов эпохи и, кроме того, существования не в варианте удаления от мирских соблазнов (как в скиту), а в самом их эпицентре.
Все эти процессы автор большого, в трех частях романа отслеживает очень тщательно, иногда скрупулезно, строит сюжет со
2 Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Москва, 1989. С. 286–289.
3 Кулешов В. И. История русской критики XVIII–XIX веков. Москва, 1972. С. 153.
4 Боборыкин П. Обмирщение. Москва, 1912. С. 5. (Далее цитаты приводятся по данному изданию с указанием соответствующих страниц в скобках за текстом).
326 327
многими ответвлениями и переходами. Но надо при этом учитывать, что «фотографический» стиль Боборыкина все же не превращает роман в абсолютно документальную хронику. Здесь есть и условность художественного произведения, и в некоторых случаях уход от конкретики. И все же Боборыкину удалось создать настоящую панораму жизни старообрядцев в России конца XIX века.
Для того, чтобы оправдать перемещения в пространстве, Боборыкин берет за основу сюжет развернутого во времени путешествия главного героя – молодого учителя старообрядческой школы Никандра Кораблева, который по происхождению связан с поморским согласием, но, не утвердившись в вере вполне, переживает вре мя некоторых сомнений и критического анализа отдельных устоев. В диалоге с одним из персонажей он с пониманием и сочувствием выслушивает фразу своего визави: «хочу сохранить веру отцов», но и «прийти к истине еще и другим путем» (642). По мысли Кораблева: «Религия не есть упорство и косность. Она должна идти вперед… как и все в мире!» (644).
Проверка этих установок героя и происходит в процессе его знакомства с жизнью разных общин Прибалтийского края, Мос квы, Петербурга и Нижнего Новгорода в условиях «новых времен». Роман Боборыкина можно считать отчасти автобиографическим, поскольку он воссоздает только то пространство, которое хорошо знал, где жил или учился. Не вполне понятно в этой связи, почему он в начале книги, представляя своего героя на прогулке по «штранду» приморского городка, где обитают люди разных наций, сословий и конфессий, не называет место конкретно. В этом топосе с равным успехом можно узнать и Рижское Взморье, и Ревель. Однако по ряду косвенных признаков можно предположить, что речь идет все же о Риге, а значит, в том числе, о жизни Рижской Гребенщиковской общины. Испытание старой веры на прочность автор демонстрирует в разных аспектах: на уровне бытового уклада, духовных ценностей и в формате многочисленных споров и прений, участником или свидетелем которых становится Никандр Кораблев. Достаточно важно и то, что он именно молодой человек, к тому же влюбленный в дочь своего покровителя – фабрикантастарообрядца Филиппа Артусова, а это вводит еще и в той
или иной степени всегда актуальную для старообрядцев проблему устройства брачных отношений. Боборыкин не раз признавался в том, что для усиления достоверности повествования предпочитает изображать события через восприятие персонажа: «Я … пропускаю все … в объективных вещах через психику и умственный язык действующих лиц».5
Роман «Обмирщение» в этом смысле не стал исключением: здесь если не все, то многое пропускается сквозь призму личного восприятия молодого человека, делающего иногда скоропалительные или сомнительные выводы. Но эта особенность дает возможность действительно почти протокольной фиксации того, что можно назвать «натиском нового быта», который проверяет на прочность «заветы отцов». Этот натиск проявляется иногда весьма экзотически: скажем, попечитель староверской богадельни и школы Артусов покуривает «бесовскую траву» в виде дорогих сигар, а свой дом обустраивает вполне поевропейски.6
Наблюдая за богослужением в моленной, Кораблев отмечает все те же приметы нового времени: «Кто же из достаточных или богатых женщин и девушек одет в темносиний старорусский сарафан… Вряд ли хоть одна. <…> И на мужской половине, внизу и на хорах, немецкое платье прямо господствует. Еще старые люди, из купечества и мещанства держатся церковного платья… а остальные кто в чем» (43). Любопытно, что Боборыкин во всех подробностях воссоздает ход богослужения, объясняет, почему молящиеся держат руки скрещенными на груди, что такое «подрушники» и «лестовка». Все это рассчитано, конечно, не на самих носителей старой веры, а на читателя, который мало или совсем незнаком с
5 Чупринин С. И. Чехов и Боборыкин (Некоторые проблемы натуралистического движения в русской литературе XIX века) // Чехов и его вре мя. Москва, 1977. С. 147.
6 Проблему смены характера взаимоотношений старообрядцев с миром и властями рассмотрела в своем, к сожалению, неопубликованном в виде статьи докладе «Проблема противостояния (конец XVII – начало XVIII вв.) и сближения (конец XIX – начало XX вв.) старообрядцев и власти в романах Д. Мережковского «Петр и Алексей» и П. Боборыкина «Обмирщение» Г. М. Пономарева на конференции «История и повествование: рубеж эпох в русской культуре, политике и обществе», состоявшейся 27–30 августа 2003 года в Хельсинкском университете.
328
такими тонкостями. В этом смысле Боборыкин исполняет еще и роль просветителя, который ставит задачу преодоления того самого невежества, которое превращало староверов в изгоев.
Может быть, наиболее заметны продемонстрированные в романе сдвиги в сторону обмирщения на примере появляющихся в поле зрения Кораблева женщин. Так, например, свою коллегуучи тельницу старообрядческой школы, получившую не только духовное, но и светское образование, он встречает на променаде одетой по последней моде: в кофточке с кружевами и шляпке с пером. Эта бытовая конвергенция дополняется появляющейся широтой взглядов: его возлюбленная, дочь старообрядца, спокойно рассуж дает о возможности брака с никонианином, утверждая, что главное – это человеческие достоинства, а не «кличка», как она выражается. Есть в романе Боборыкина и примеры иного качества, но близкие по своей сути. Так, например, жена знакомого главному герою московского доктора, староверка, обучавшаяся в парижском пансионе, не переносит привычки супруга к курению и строго со блюдает положенные ограничения в пост. Собственно о таких про явлениях, но уже на ином, более высоком уровне развернуто и подробно рассуждают или спорят многие персонажи боборыкинского романа. Все тонкости и логику этих вероисповедальных тол кований здесь нет возможности воспроизвести, но чем ближе к фи налу, тем более четко прорисовывается суть авторской позиции.
Боборыкина можно с полным основанием отнести к числу так называемых «русских европейцев», которые были убеждены в том, что Россия должна во всех сферах выбрать для себя путь разумного баланса между сохранением традиций и обновлением. Автор «Обмирщения», конечно, не мог знать работ известного английского историка Арнольда Тойнби, который в середине прошлого века разработал свою концепцию истории. С его точки зрения, при резком изменении условий жизни, которые он называет «вызовом», общество не может дать адекватного ответа, перестроиться и изменить образ жизни. Продолжая существовать и действовать так, как будто «вызова» нет, как будто ничего не произошло, культура движется к пропасти и гибнет. Но некоторые общества выделяют из своей среды «творческое меньшинство», которое осознает «вызов»
и способно дать на него удовлетворительный ответ. При этом начинается формирование дочерней цивилизации, унаследовавшей опыт своей предшественницы, но гораздо более гибкой и многосторонней.7
Разумеется, вводить старообрядчество в категорию глобальных цивилизаций, о которых пишет А. Тойнби, нет оснований, но пафос романа Боборыкина на самом деле близок этой идее. Соглашаться или нет с таким подходом – дело носителей традиционных культур, к которым, несомненно, принадлежит старообрядчество.
arkādijs ņeMInuščIJS
Starp „tēvu baušļiem” un jauno dzīvi (vecticībnieki P. Boborikina romānā „obmirščenie”
[„Laiciskošanās”])
Pjotrs Boborikins (1836–1921), 19. gadsimta beigu – 20. gadsimta sā - kuma krievu rakstnieks, ir viens no nedaudziem autoriem, kuri pievērsa nopietnu uzmanību vecticībnieku dzīvesveida izpētei. Viņa romānā „Ob-mir ščenie” (1912) uzsvērta krievu tradicionālā dzīvesveida eiropeizācijas problēma un parādīts, kā šajā procesā tiek iesaistītas arī vecticībnieku draudzes.
Savas daiļrades vēlīnajā periodā P. Boborikins orientējas uz naturā-lisma estētiku, kas piešķir īpašu, gandrīz hronikālu ticamības dimensiju romānā atspoguļotajām vecticībnieku sadzīves ainām. Raksta autors iz- se ko romāna vēstījuma spilgtākos momentus, kuros atspoguļojas „no bī-des” no ierastās patriarhālās iekārtas un paustas pārdomas par re liģi jas lomu mainīgajā pasaulē.
7 Тойнби А. Постижение истории. Избранное. Москва, 2002. С. 104.
330 331
autori
Viktorija aleksandrova, Mg. art., Grebenščikova garīgās skolas docētāja (Rīga, Latvija)
Vasilijs Baranovskis, krievu rakstnieks, publicists, vecticības pētnieks (Zarasi, Lietuva)
Jeļena Beļakova, vēstures zinātņu kandidāte, Krievijas Zinātņu akadēmijas Krievijas Vēstures institūta Reliģijas un Baznīcas vēstures centra vadošā zinātniskā līdzstrādniece (Maskava, Krievija)
nadežda Beļakova, vēstures zinātņu kandidāte, Krievijas Zinātņu akadēmijas Vispārējās vēstures institūta Reliģijas un Baznīcas vēstures centra zinātniskā līdzstrādniece (Maskava, Krievija)
aleksandrs Gavriļins, Dr. hist., asociētais profesors Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu katedrā (Rīga, Latvija)
Maija Grizāne, Daugavpils Universitātes vēstures studiju programmas doktorante, Latvijas reliģiju pētniecības biedrības locekle (Daugavpils, Latvija)
Illarions Ivanovs, Mg. ing., izdevējs, vecticības pētnieks, Latvijas Vecticībnieku biedrības valdes priekšsēdētājs, žurnāla „Pomorskij Vestnik” galvenais redaktors (Rīga, Latvija)
zoja Jaroševiča-Pereslavceva (zoja Jaroszewicz-Pieresławcew), humanitāro zinātņu doktore, Varmijas un Mazūrijas universitātes Olštinā Vēstures un starptautisko attiecību institūta docente (Olština, Polija)
Vineta Jonīte, Mg. paed. (Rīga, Latvija)
Jeļena Juhimenko, Dr. philol., Valsts Vēstures muzeja galvenā zinātniskā līdzstrādniece (Maskava, Krievija)
Ludmila kļešņina, arhitekte, sakrālās arhitektūras objektu projektu au tore, publicējusi rakstus par Latvijas sakrālā mantojuma saglabāšanas jautājumiem, Grebenščikova garīgās skolas docētāja (Rīga, Latvija)
kirils kožurins, filozofijas zinātņu kandidāts, Ņevas Pomoras vecticībnieku draudzes garīgā tēva palīgs, Senpareizticīgās Pomoras Baznīcas kalendāra galvenais redaktors (Sanktpēterburga, Krievija)
Jevgeņija nazarova, vēstures zinātņu kandidāte, Krievijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta Ziemeļeiropas un Baltijas Vēstures institūta vecākā zinātniskā līdzstrādniece (Maskava, Krievija)
arkādijs ņeminuščijs, Dr. philol., Daugavpils Universitātes asociētais profesors Humanitārās fakultātes Rusistikas un slāvistikas katedrā (Dau gavpils, Latvija)
Vladimirs nikonovs, novadpētnieks, Rēzeknes Vecticībnieku kapu drau dzes padomes priekšsēdētājs (Rēzekne, Latvija)
kristīna novikova, Mg. hist. (Rīga, Latvija)
Mihails odincovs, Dr. hist., profesors, Krievijas Reliģiju pētnieku apvienības priekšsēdētājs (Maskava, Krievija)
Juris Paiders, Dr. geogr., Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents, Latvijas Žurnālistu savienības valdes priekšsēdētājs (Rīga, Latvija)
Maksims Pašiņins, vēsturnieks, vecticībnieku izdevniecības „Tretij Rim” galvenais redaktors, Latvijas Vecticībnieku Baznīcas centrālās padomes loceklis (Maskava, Krievija)
nadežda Pazuhina, Dr. art, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece, Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente (Rīga, Latvija)
333
Valērijs Plotņikovs, novadpētnieks, vecticībnieku kultūrizglītojošās biedrības „Belovodije” valdes priekšsēdētājs (Jēkabpils, Latvija)
Gaļina Ponomarjova, PhD, Tallinas Universitātes docētāja (Tallina, Igaunija)
Grigorijs Potašenko, humanitāro zinātņu doktors, vēsturnieks, Viļ ņas Universitātes Vēstures fakultātes docents (Viļņa, Lietuva)
anatolijs Rakitjanskis, bibliofils, Latvijas Krievu kultūras biedrības valdes loceklis, Krievijas Nacionālās bibliofilu savienības loceklis (Rīga, Latvija)
Inese Runce, Dr. hist., reliģiju pētniece un vēsturniece, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, Latvijas Universitātes docētāja (Rīga, Latvija)
Mihals Ržoutils (Michal Řoutil), PhD, rusists, žurnāla „Parresia” atbildīgais redaktors (Prāga, Čehija)
Irina truškova, Dr. hist., profesore, Vjatkas Valsts universitātes Vispārējās vēstures katedras vadītāja (Vjatka, Krievija)
Guna ševkina, Mg. art. (Rīga, Latvija)
Ioans Žilko, garīgā tēva p.i., Daugavpils MaļutkinasJudovkas vecticībnieku draudzes padomes priekšsēdētājs (Daugavpils, Latvija)
авторы
александрова виктория, магистр искусств, преподаватель Гребен щиковского духовного училища (Рига, Латвия)
Барановский василий Саввич, русский писатель, публицист, исследова тель старо верия (Зарасай, Литва)
Белякова елена владимировна, кандидат исторических наук, стар ший научный сотрудник Центра истории религии и Церкви Института Российской истории Российской академии наук (Мос к ва, Россия)
Белякова надежда алексеевна, кандидат исторических наук, науч ный сотрудник Центра истории религии и Церкви Института всеобщей истории Российской академии наук (Москва, Россия)
Гаврилин александр валентинович, доктор истории, ассоциированный профессор Историкофилософского факультета Латвийского университета (Рига, Латвия)
Гризане Майя, докторант Даугавпилсского университета (програм ма «История»), член Латвийского общества по исследованию религий (Даугавпилс, Латвия)
Жилко о. Иоанн, и. о. духовного наставника, председатель совета Даугавпилсской МалюткинскоЮдовской старообрядческой общи ны (Даугавпилс, Латвия)
Иванов Илларион Иванович, магистр, издатель, исследователь старове рия, предсе датель правления Старообрядческого общества Латвии, главный редактор журнала «Поморский вестник» (Рига, Латвия)
Йоните винета, магистр педагогики (Рига, Латвия)
334 335
клешнина Людмила вениаминовна, архитектор, автор ряда про ектов объектов сакральной архитектуры и публикаций по сохранению сакрального наследия Латвии, преподаватель Гребенщиковского духовного училища (Рига, Латвия)
кожурин кирилл яковлевич, кандидат философских наук, помощ ник наставника Невской старообрядческой поморской общины, главный редактор Календаря Древлеправославной Поморской Церкви (СанктПетербург, Россия)
назарова евгения Львовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра истории Северной Европы и Бал тии Института всеобщей истории Российской академии наук (Москва, Россия)
неминущий аркадий николаевич, доктор филологии, ассоции рованный профессор Даугавпилсского университета, Гуманитарный факультет, кафедра русистики и славистики (Даугавпилс, Латвия)
никонов владимир владимирович, краевед, председатель со ве та Резекненской Кладбищенской старообрядческой общины (Ре зекне, Латвия)
новикова кристина, магистр истории (Рига, Латвия)
одинцов Михаил Иванович, доктор исторических наук, профессор, президент Российского объединения исследователей религии (Москва, Россия)
Пазухина надежда валериевна, доктор искусствоведческих наук, исследователь Института философии и социологии Латвий ского университета, доцент Международной Балтийской акаде мии (Рига, Латвия)
Пайдерс Юрис, доктор географических наук, доцент Факультета географии и наук о Земле Латвийского университета, председатель правления Союза журналистов Латвии (Рига, Латвия)
Пашинин Макcим Борисович, историк, главный редактор старообрядческого издательства «Третий Рим», член Центрального Со вета Древлеправославной Церкви Латвии (Москва, Россия)
Плотников валерий владимирович, краевед, председатель правления старообрядческого культурнопросветительского общества «Беловодие» (Екабпилс, Латвия)
Пономарева Галина Михайловна, доктор филологии, препода ватель Таллиннского университета (Таллинн, Эстония)
Поташенко Григорий владимирович, доктор гуманитарных наук, доцент Исторического факультета Вильнюсского университета (Виль нюс, Литва)
Ракитянский анатолий тихонович, библиофил, член правления Латвийского общества русской культуры, член Национального Сою за библиофилов России (Рига, Латвия)
Ржоутил Михал, доктор философии, русист, ответственный редак тор журнала «Parresia» (Прага, Чехия)
Рунце Инесе, доктор истории, религиовед и историк, ведущий ис следователь Института философии и социологии Латвийского университета, преподаватель Латвийского университета (Рига, Латвия)
трушкова Ирина Юрьевна, доктор исторических наук, профес сор, заведующая кафедрой Всеобщей истории Вятского государственного университета (Вятка, Россия)
шевкина Гуна, магистр искусств (Рига, Латвия)
Юхименко елена Михайловна, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Государственного исторического музея (Москва, Россия)
ярошевич-Переславцев зоя, доктор гуманитарных наук, доцент Института истории и международных отношений ВарминскоМазурского университета в Ольштыне (Ольштын, Польша)