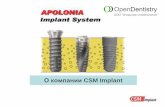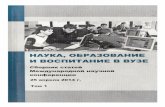О жестикуляционных обертонах
Transcript of О жестикуляционных обертонах
О ЖЕСТИКУЛЯЦИОННЫХ ОБЕРТОНАХ
Е. А. Гришина
1
Устная речь функционирует как речь звучащая — это баналь-ность, очевидная всем и вряд ли заслуживающая упоминания. Го-раздо менее банальным и очевидным является утверждение, что уст-ная речь — это форма существования языка, которая в обязательной порядке сопровождается движением — движением прежде всего го-ворящего. Как проницательно заметила Ж. Кальбрис, если мы изда-лека смотрим на группу беседующих, то мы всегда знаем, кто имен-но из группы говорит в каждый данный момент: говорит тот, кто ак-тивнее всех жестикулирует ([Calbris 2011]). Человек говорящий — это не только человек звучащий, но и человек двигающийся, а речь ориентирована не только на слуховое, но и на зрительное воспри-ятие и представляет собой смысловой континуум, который воплоща-ется в двух материальных континуумах — звуковом (фонетическом и интонационном) и зрительном (жестикуляционном). Именно на этом факте основана сама возможность существования жестовых языков глухонемых, в которых жестикуляционный континуум берет на себя исполнение функций обоих модусов устной речи — звуко-вого и зрительного.
Поскольку оба континуума, и звуковой, и зрительный, сопровож-дают в данном конкретном высказывании один и тот же смысловой ряд, то естественным является предположение о связи между звуко-вой и жестикуляционной сторонами высказывания по своеобразному принципу транзитивности: если звук и движение одновременно ма-териализуют один и тот же смысл, то естественно ожидать локаль-ного сходства между этими двумя модусами речи. И эта связь — между жестикуляцией и фонетической (в широком смысле) состав-ляющей речи — неоднократно отмечалась исследователями, а ее анализ представляет собой одно из перспективнейших направлений в работах по жестикуляционной лингвистике.
Исследования в этой области только разворачиваются, поэтому никакой целостной картины на данный момент предоставить не мо-
Е. А. Гришина 88
гут. В данной статье мы можем лишь перечислить несколько на-правлений, в которых работают исследователи из разных стран.
1) На материале разных языков исследуются корреляции между ударной стадией жеста и интонационными пиками ([De Ruiter 1998], [Nobe 1996]), а также между ударной частью жеста и ударным сло-гом ([Loehr 2007], [Roshet-Capellan et al. 2008]): в ходе эксперимен-тов и полевых наблюдений лингвисты пытаются определить, есть ли связь между структурой/типом жеста и интонационными конструк-циями, а также — как связаны между собой ударные/эмфатические части фразы и структура жеста. Результаты этих исследований неод-нозначны и противоречивы, но, тем не менее, показывают, что ис-комые связи существуют.
2) В работе Ж. Кальбрис [Calbris 2011] показано, что направления жестикуляционного движения рук в вертикальной и горизонтальной плоскости часто бывают изоморфны тоновым движениям. Приведем пример на русском материале. В синтагме Ну второе — смотря на что ты пошёл движение правой руки говорящего полностью повто-ряет тоновое движение фразы:
(1) Ну↑ || второ↓е || смотря→ на || что→ ты по||шё↓л (см. рис. 1):
|| — граница тональных и жестикуляционных движений полужирный курсив — ударная гласная ↑ — движение руки и тона вверх ↓ — движение руки и тона вниз → — относительно ровное движение тона с небольшим падением на
ударной гласной и относительно ровное движение ладони вправо и вниз
Рис. 1
О жестикуляционных обертонах 89
Здесь направление движения руки вправо диктуется, вероятнее всего, ирреальной модальностью фразы (речь идет не о реальном факте, а об одной из вероятностей, возможностей, см. [Гришина 2013а]), но сам рисунок движения ↑↓→→↓ связан, по-видимому, с интонационным контуром синтагмы.
3) В упомянутой выше работе Ж. Кальбрис на французском мате-риале подробно описано, как жестикуляция служит для демаркации синтагм и отдельных лексем в речи — выступая тем самым как ви-зуальный аналог интонационных контуров. Так, по данным исследо-вателя, изменения положения корпуса говорящего маркирует грани-цы периодов; движение взгляда и возвращение жестикулирующих рук в исходную позицию отмечает границы фраз (синтагм); на са-мом элементарном уровне разные этапы осуществления жеста (при-готовительная стадия, ударная стадия, ретракция) коррелируют с разделением синтагмы на словоформы [Calbris 2011: 48]. Вполне ве-роятно, что для русского языка, имеющего фонологическое ударе-ние, базовые жестикуляционного принципы сегментации речевого потока могут быть немного иными: работа Кальбрис выполнена на французском материале, а во французском языке, как известно, фо-нологического ударения нет. В нашей работе [Гришина 2011], сде-ланной на русском материале, мы показали, что моргания в русской речи выполняют функции акцентных диакритик и знаков препина-ния. Сходные результаты получены для русского жестового языка (см. [Прозорова 2009] — в отношении пауз) и для американского английского (см. [Loehr 2007] — в отношении ударений). Аналогич-ные морганиям функции в русской устной речи осуществляют пере-ключения взгляда между зоной коммуникации и внеположенным коммуникации пространством.
4) Широко известен также факт связи амплитуды жеста (его осу-ществление только в центральной зоне vs. в центральной зоне и на периферии) с громкостью речи (см., например, сопоставление жес-тикуляции нью-йоркских итальянцев и нью-йоркских евреев в рабо-те [Efron 1941]).
В ходе систематического исследования русской дейктической жестикуляции ([Гришина 2012а, 2013]) нами была найдена некото-рая статистическая закономерность, насколько нам известно, до сих пор еще в исследованиях не отмечавшаяся: нам удалось зафиксиро-вать связь дейктической жестикуляции со степенью ударности дейк-тической лексемы. Так, дейктические слова (вот, вон, здесь, там, тот, тут, это, этот), которые сопровождаются дейктическими
Е. А. Гришина 90
жестами (указание пальцем, открытой ладонью, боковым кивком, дви-жением головы вперед, поворотом головы), могут находиться в трех позициях относительно фразового и словесного ударения: а) попадать в эмфатическую позицию или в атоническую зону ([Янко 2008]), б) во втором случае (в атонической зоне) — сохранять словесное ударение или терять его, превращаясь в клитику. Исследование материала по-казало, что дейктическое слово в эмфазе чаще сопровождается ука-занием пальцем, боковым кивком или движением головы вперед, а эти же слова в атонической зоне преимущественно сопровождаются указанием открытой ладонью и поворотом головы вбок (см. табл. 1).
Таблица 1
Положение во фразе
Тип жеста Эмфаза Атоническая зона
указание пальцем, боковой кивок, голова вперед + –
указание открытой ладонью, пово-рот головы – +
Попытки объяснить эту статистическую закономерность мы сде-
лали в цитированных выше работах, здесь повторяться нет необхо-димости.
Однако и это еще не все. Если мы сопоставим крайние точки шкалы — дейктическую жестикуляцию, сопровождающую эмфати-чески выделенные дейксисы и дейксисы-клитики, — то мы заметим, что статистически клитики предпочитают указания головой, а не ру-кой, а для полноударных эмфатически выделенных словоформ не характерны указания головой (см. табл. 2).
Таблица 21
Ударность лексемы
Тип жеста Клитика Полноударное слово в позиции эмфазы
Указание головой 46/31 157/172 Указание рукой 83/98 563/547
χ2 = 11,54, p < .0007, параметры значимы, распределения достоверны
1 В таблицах перед слэшем размещены реальные данные, полученные на корпусе, после слэша – ожидаемые, средние данные; полужирным шрифтом отмечены данные, которые заметно отличаются от средних в бОльшую сто-рону, а курсивом – данные, заметно отличающиеся в меньшую сторону.
О жестикуляционных обертонах 91
Такое распределение головных и ручных дейктических жестов между клитиками и полноударными лексическими дейксисами под фразовым ударением представляется вполне логичным: головные жесты отличаются от ручных, помимо прочего, тем, что амплитуда головного движения физиологически ограничена, а следовательно, расстояние, на которое головное указание отклоняется от централь-ной вертикальной оси тела, существенно меньше такового у ручных указательных жестов. Тем самым головное указание визуально вы-ражено существенно слабее, чем ручное, и это иконически отражает отсутствие ударения на клитиках и отчетливую выраженность уда-рения на эмфатически подчеркнутых дейктических лексемах. Таким образом, мы видим, что жестикуляционный ряд способен отражать не только смысл речи, то и ее тончайшие фонетические особенности, например, степень ударности той или иной словоформы.
2
Параллелизм звукового и жестикуляционного континуумов в устной речи проявляется не только в том, что звуковые явления от-ражаются в тех или иных движениях тела: этот параллелизм приво-дит к тому, что в жестикуляционном континууме встречаются явле-ния, в чем-то аналогичные тем или иным фонетическим явлениям по своей структуре и функциям. Как следствие, определенное явление в жестикуляционном сопровождении устной речи может быть описано с привлечением понятий, относящихся к звуковому ряду. Одно из таких явление в жестикуляции мы и хотели бы представить в данной статье.
Известно, что человеческий голос раскладывается — с акустиче-ской точки зрения — на основной тон и обертоны. Для передачи ин-формации важны обе характеристики. В частности, обертоны харак-теризуют голос с точки зрения его тембра.
Анализ жестикуляционного материала показал, что аналогичным образом дейктический жест, например, может быть разложен на ос-новной жест и жестикуляционные обертоны — характеристики жеста, которые дублируют его базовую семантику с помощью вспо-могательных жестикуляционных средств.
Приведем пример жестикуляционных обертонов, обнаруженных на нашем материале (Мультимедийный русский корпус, МУРКО, функционирующий с 2010 года в рамках Национального корпуса русского языка).
Е. А. Гришина 92
По нашим данным, основным параметром, различающим в рус-ской ручной жестикуляции указание на ближний и дальний объект, является конфигурация указующей руки (открытая ладонь — близ-кий объект, указательный палец — дальний объект, данные см. в [Гришина 2012а]). В частности, указание пальцем чаще сопровожда-ет дальние дейксисы (там, тот, вон), а указание открытой ладо-нью — ближние дейксисы (тут, это, этот, вот). Одновременно в случае указания на далекий/близкий объект используется дополни-тельная характеристика, а именно — угол между указующей рукой и телом говорящего: в случае, если этот угол меньше 90°, объект, ско-рее всего, находится в зоне видимости говорящего и будет истолко-ван как расположенный близко; чем более тупым является этот угол, тем объект от говорящего дальше (при этом этот угол никогда не превосходит 135–140°: в случае, если угол больше, объект указания трактуется как находящийся над говорящим). Таким образом, мы видим, что основным параметром жеста ( = основным тоном), разли-чающим далекие и близкие объекты, является конфигурация ука-зующей руки (палец — ладонь), но одновременно говорящий с той же целью использует жестикуляционный обертон — угол между ру-кой и телом говорящего. Выбор именно такого жестикуляционного обертона для передачи идеи близости/дальности объясняется доста-точно естественно — при указании на удаленный объект вытянутая рука символизирует расстояние до этого объекта, и при этом рука под острым или прямым углом к телу задает расстояние в виде пря-мой, а рука под тупым углом задает расстояние в виде дуги, рас-стояние же по прямой всегда короче любого другого (дугообразно-го) расстояния, и именно оно символизирует близость объекта к го-ворящему (см. рис. 2).
Рис. 2
Далее в этой статье мы хотели бы описать еще два обнаруженных нами жестикуляционных обертона.
Жестикуляционным обертоном в системе русских ручных указа-ний является, во-первых, степень напряженности указующей ру-
О жестикуляционных обертонах 93
ки: будем различать полностью вытянутую напряженную руку и ру-ку, полусогнутую в локте. В табл. 3 можно видеть распределение со-ответствующих данных между дейктическими лексемами здесь, тут, обозначающими разные стадии близости объекта указания к субъекту указания2, и наречием там, обозначающим отдаленность объекта указания от говорящего.
Таблица 3
Напряженность руки
Дейктическая лексема
Рука прямая Рука полусогнутая
здесь, тут 37/53 125/109 там 57/40 67/83
χ2 = 17,03, p < 3,7–5, параметры значимы, распределения достоверны Во-вторых, как жестикуляционный обертон в системе жестику-
ляционных дейксисов может расцениваться жесткость связки при указании пальцем: когда говорящий указывает на объект указатель-ным пальцем, остальные пальцы (большой, средний, безымянный и мизинец) могут образовывать разные конфигурации, которые мы и называем связкой. При жесткой связке все пальцы плотно прилега-ют к ладони (рис. 33).
Рис. 3
При свободной связке пальцы расслаблены, к ладони не прилега-
ют, а выделенная позиция указательного пальца заключается только в том, что указательный палец напряжен и выдвинут вверх или в сторону (в зависимости от ориентации ладони, рис. 4).
Рис. 4
2 О различиях между здесь и тут см. [Гришина 2012б] – в ситуации
противопоставления наречию там эти различия отходят на второй план. 3 Рисунки 3–5 взяты из работы [Wilkins 2003].
Е. А. Гришина 94
Кроме того, возможно промежуточное состояние, когда все паль-цы, кроме указательного, свободно располагаются под углом к ладо-ни, не прижимаясь к ней плотно, — полусвязка (рис. 5).
Рис. 5
Табл. 4 демонстрирует нам зависимость этого параметра от «бли-зости» или «дальности» соответствующего лексического дейксиса.
Повторим, что, согласно нашим данным [Гришина 2012а, 2012б], дальние дейксисы обычно сопровождаются указанием пальцем, ближние — указанием открытой ладонью, и именно это можно счи-тать «основным тоном». Но это же значение повторяется и на уровне жестикуляционного обертона «прямая/полусогнутая рука», где пря-мая, напряженная, вытянутая рука символизирует дальнее расстоя-ние, а полусогнутая расслабленная — близкое.
Более сложная схема лежит в основе обертона «жесткая связка». Как мы показали в работе [Гришина 2012б], с жестикуляционной точки зрения наречия здесь и тут вместе противопоставлены даль-нему наречию там, а кроме того, они противопоставлены друг дру-гу, т. е. по сравнению с там здесь является ближним дейксисом, а по сравнению с тут — дальним. Замечательным образом, жесткость связки дублирует это тройное противопоставление (см. табл. 4), а именно, — для там характерна жесткая связка (и не характерна по-лусвязка), для тут — свободная связка (не характерна жесткая связ-ка), для здесь — полусвязка (и, в отличие от тут, не характерна свободная связка). Таким образом, и на уровне семантики, и на уровне основного жеста, и на уровне жестикуляционных обертонов мы здесь имеем дело с тройным противопоставлением:
{тут ↔ здесь} ↔ там = {свободная связка ↔ полусвязка} ↔ жесткая связка
Таблица 4
Жесткость связки Дейктическая лексема
Жесткая связка Полусвязка Свободная
связка тут 8/12 7/9 10/4 здесь 32/33 31/24 6/11 там 55/50 32/37 17/17
χ2 = 15,48, p < .0038 , параметры значимы, распределения достоверны
О жестикуляционных обертонах 95
3
Итак, противопоставление далекого/близкого объекта указания передается с помощью двух жестикуляционных обертонов — степе-ни напряженности руки (вытянутая/полусогнутая) и степени жестко-сти связки пальцев под ладонью в случае указания пальцем (жест-кая/нежесткая связка). Возникает вопрос, почему значения этих обертонов распределены между значениями соответствующих лек-сических дейксисов именно таким, а не иным образом (см. табл. 5).
Таблица 5
Лексический дейксис
Жестикуляционный обертон
Далекий (там) Близкий (здесь, тут)
Степень напряженности руки Вытянутая рука Полусогнутая рука
Степень жесткости связки Жесткая связка
Нежесткая связка (свободная и полусвязка)
В случае первого обертона, напряженности руки, как представ-
ляется, объяснение может быть следующим. Начнем издалека — почему именно указание пальцем обозначает
дальние дейксисы? Кончик указательного пальца при указании пальцем иконически отображает объект указания. Таким образом, при указании пальцем актуализируется конечная точка указания, что автоматически актуализирует и начальную точку указания, а именно, место расположения субъекта указания, говорящего (см. рис. 6).
Рис. 6
Е. А. Гришина 96
Отрезок АБ на рис. 6 символизирует расстояние между объектом и субъектом указания, и именно актуализация двух точек, ведущая к возникновению идеи отрезка, соединяющего расположение субъекта и объекта указания, вносит в указание пальцем идею расстояния, а следовательно, идею отдаленности.
Напротив, при указании открытой ладонью ни один из пальцев руки не имеет выделенного, обособленного положения, а следователь-но, ни один из пальцев не символизирует своим кончиком объект указания. В результате указание открытой ладонью не включает в се-бя идею расстояния и, соответственно, идею отдаленности, и, как тако-вое, передает идею отсутствия расстояния, то есть близости (см. рис. 7).
Рис. 7
Интересно, что идея дальности/близости, передаваемая разными конфигурациями указующей руки (указательный палец vs. открытая ладонь), регулярно трансформируется в русской жестикуляционной системе в идею противопоставления разных типов иллокуций: ука-зательный палец чаще сопровождает императивы, а открытая ла-донь — вопросы и утверждения (неимперативные высказывания). Если мы трансформируем рис. 6 так, что точки АБ будет связывать не отрезок, а вектор Б→А (см. рис. 8), то мы передадим тем самым идею трансформации расстояния в дистанцию.
Рис. 8
О жестикуляционных обертонах 97
Дистанция отличается от расстояния тем, что говорящий включа-ет в свое указание семантический компонент направления слу-шающего в определенную точку в пространстве, к определенному объекту указания, т. е. дистанция (вектор ) Б→А включает в себя императивный компонент ‘иди!’ или ‘смотри!’, и тем самым в боль-шей степени согласуется с императивным компонентом в высказы-вании, чем указание открытой ладонью, в котором компоненту дис-танции просто неоткуда взяться.
Что же касается полностью вытянутой, напряженной руки как жестикуляционного обертона, то она также представляет собой от-резок прямой АБ между точкой расположения субъекта указания и указующей кистью (рис. 9). Таким образом, вне зависимости от кон-фигурации указующей руки (указательный палец или открытая ла-донь), вытянутая рука, представляя собой отрезок прямой, точно так же передает идею расстояния, как и указательный палец.
Рис. 9
Если мы правы, то этот жестикуляционный обертон должен иметь и сходное иллокутивное значение. И действительно, как мож-но видеть из табл. 6, вытянутая рука характерна для императивов, в то время как полусогнутая рука характерна для вопросов (утвержде-ния равномерно распределяются между двумя значениями этого жестикуляционного обертона, т. е. для утверждений противопостав-ление вытянутая — полусогнутая рука нерелевантно).
Более сложной является ситуация с жестикуляционным оберто-ном жесткость связки. Почему именно жесткая связка сопровожда-ет дальние указания, а нежесткая (полусвязка и свободная связка) — ближние? Ответ на этот вопрос неочевиден, и мы можем предложить только версию.
Е. А. Гришина 98
Таблица 6
Напряженность руки
Тип иллокуции Рука прямая Рука полусогнутая
вопрос 29/48 95/76 императив 50/38 48/60
утверждение 232/225 347/354 χ2 = 18,96, p < 7,65–5, параметры значимы, распределения достоверны Если мы проанализируем, чем жесткая связка физически отлича-
ется от нежесткой, то заметим, что основным различием является формирование в жесткой связке еще одной точки В на прямой АБ (см. рис. 10).
Рис. 10
Тем самым при жесткой связке идея расстояния до объекта пере-дается два раза:
1) длиной руки АБ между субъектом и объектом указания — по-следний символизируется кончиком указательного пальца,
2) длиной пальца АВ между точкой жесткой связки и кончиком указательного пальца.
Таким образом, по нашему предположению, использование в ка-честве жестикуляционного обертона жесткой связки при указании на отдаленные объекты основано на идее удвоения, которая в данном случае может трактоваться как 'больше одного' = 'много' = 'много расстояния' = 'большое расстояние'.
Если эта версия верна, то жесткость связки не должна быть нико-им образом связана с типом иллокуции, поскольку идея удвоения (в значении ‘много’) никак не связана с идеей дистанции, а следова-тельно, и с идеей императивности. И действительно, как показывает
О жестикуляционных обертонах 99
табл. 7, такой связи наблюсти не удается — параметры незначимы, а распределения недостоверны.
Таблица 7
Жесткость связки
Тип иллокуции
Жесткая связка Полусвязка Свободная
связка вопрос 40/43 34/31 14/14 императив 43/43 33/31 11/13 утверждение 174/171 116/121 56/54
χ2 = 1,66, p < 0,8, параметры незначимы, распределения недостоверны
4
Точно так же, как акустические характеристики для одного го-ворящего в некоторый конкретный момент являются обертонами, а для другого говорящего или в другой момент могут оказаться ос-новным тоном, так и жестикуляционные обертоны могут выступать и в качестве основных жестикуляционных показателей («основ-ных тонов»).
Так, например, в работе [Wilkins 2003] автор исследовал дейкти-ческую жестикуляцию, характерную для носителей языка аренте (Австралия). Согласно его данным, у говорящих на аренте абориге-нов Австралии конфигурация указующей руки не связана с расстоя-нием до объекта указания — она передает одиночность/множест-венность объекта, степень его активации (предупомянутость или первое упоминание), а также траекторию движения к объекту указа-ния и ландшафт соответствующей местности. Однако это не значит, что носители этой культуры в жестикуляции не могут передать идею близости/дальности объекта указания: для этих целей используется жестикуляционный параметр, который в русской дейктической сис-теме выступает не как основной жест, а как жестикуляционный обертон, а именно — угол между указующей рукой и телом говоря-щего. Таким образом, в жестикуляционной системе аренте этот па-раметр может рассматриваться как самостоятельная, а не вспомога-тельная единица, как самостоятельная жестикуляционная характери-стика, а не как жестикуляционный обертон. На рис. 11 мы можем видеть, что каждый угол сопровождается своей самостоятельной лексической единицей языка аренте ([Wilkins 2003: 188–190]).
Е. А. Гришина 100
Рис. 11
Интересно, что описанные выше жестикуляционные обертоны, характерные для русской жестикуляции (напряженность указующей руки и жесткость связки), также могут выступать как самостоятельные жестикуляционные единицы, а не как жестикуляционные обертоны.
В работе [Гришина 2013б] мы показали, что активация объекта указания, т. е. первичное введение объекта указания в зону внимания слушающего, выполняется в русской жестикуляционной системе с помощью указаний головой (конкретно — с помощью указания под-бородком), а также с помощью указания большим пальцем, в то вре-мя как классические ручные указания (открытой ладонью и указа-тельным пальцем) этот аспект смысла высказывания не передают: они с равной вероятностью могут быть обращены как на объекты, которые были предупомянуты в предшествующем тексте, так и на объекты, впервые введенные в зону внимания слушающего.
С другой стороны, известно, что лексическим маркером активи-рующего указания являются частицы вот, вон в их противопостав-лении местоимениям это, этот (см. об этом подробнее в работе [Гришина 2012а] в разделе, посвященном различию это- и вот-иден-тификаций, а также в статье об указаниях головой [Гришина 2013б]).
Табл. 8–9 показывают, как прямая и полусогнутая рука, а также разные степени жесткости связки (при указании пальцем) распреде-ляются между частицами вон, вот, с одной стороны, и местоиме-ниями это, этот, — с другой.
Таблица 8
Напряженность руки
Дейктическая лексема
Рука прямая Рука полусогнутая
вон, вот 120/91 105/134 это, этот 85/114 197/168
χ2 = 27,85, p < 1,3–7, параметры значимы, распределения достоверны
О жестикуляционных обертонах 101
Таблица 9 Жесткость связки
Дейктическая лексема Жесткая связка
Нежесткая связка (полусвязка + свободная связка)
вон, вот 75/55 34/53 это, этот 74/94 110/90
χ2 = 22,39, p < 2,2–6 , параметры значимы, распределения достоверны Мы видим, что прямая рука и жесткая связка характерны для ак-
тивирующего указания, которое сопровождается дейктическими частицами вот, вон. Напротив, полусогнутая расслабленная рука и нежесткая связка сопровождают дейктические высказывания с ана-форическими это, этот.
Из этого мы можем заключить, что противопоставление указа-ния-активации и анафорического указания проявляется в русской жестикуляционной системе не только с помощью головных, но и с помощью ручных указаний. Однако если в системе головных указаний значение активации/анафоры передается с помощью самостоятель-ных жестов (указание подбородком и указание большим пальцем), то в системе ручных указаний это противопоставление отражается не конфигурацией указующей руки (открытая ладонь или указатель-ный палец), а с помощью дополнительного признака (степень вытя-нутости руки и сжатия пальцев под ладонью). Иными словами, при противопоставлении активации/анафоры жестикуляционные обер-тоны выступают как компонент жеста со своим собственным, само-стоятельным значением. На это, кстати, указывают и числовые па-раметры: в случае, когда напряженность руки и жесткость связки выступают как отдельный жестикуляционный параметр, т. е. в случае противопоставления активирующего и анафорического указания, их связь с соответствующими лексическими единицами (вон, вот vs. это, этот) выражена отчетливей, чем в тех случаях, когда эти характе-ристики жеста выступают лишь как дублеты, как жестикуляционные обертоны (при противопоставлении дальних и близких дейксисов). Значения χ-квадрата в первой случае заметно выше (см. табл. 10), а вероятность случайных распределений заметно ниже (см. табл. 11).
Таблица 10
Жестикуляционный параметр
Тип распределения
Напряженность руки
Жесткость связки
дальность/близость χ2 = 17,03 χ2 = 15,48 активация/анафора χ2 = 27,85 χ2 = 22,39
Е. А. Гришина 102
Таблица 11
Жестикуляционный параметр
Тип распределения
Напряженность руки
Жесткость связки
дальность/близость p < 3,7–5 p < .0038 активация/анафора p < 1,3–7 p < 2,2–6
В заключение отметим, что изоморфизм вида
дальнее указание = активирующее указание (прямая рука, жесткая связка)
ближнее указание = анафорическое указание (полусогнутая рука, нежесткая связка)
совершенно естествен, поскольку активирующее указание, впервые вводящее объект в зону внимания слушающего, воспринимается как указание на прагматически далекий (лежащий за пределами комму-никативного пространства) объект, в то время как анафорическое указание, обращенное на предупомянутый объект, расценивается как осуществляемое внутри зоны коммуникации и прагматически близкое.
Литература Гришина 2011 — Гришина Е.А. Закрытые глаза: жестикуляция, пунк-
туация, акцентуация // Филология, № 2, 2011, с. 39–56. Гришина 2012а — Гришина Е. А. Указания рукой как система (по данным
Мультимедийного русского корпуса) // Вопросы языкознания, № 3, 2012, с. 3–50.
Гришина 2012б — Гришина Е.А. Здесь и тут: корпусной и жестикуля-ционный анализ полных синонимов // Русский язык в научном освеще-нии, № 23, 2012, с. 39–71.
Гришина 2013а — Гришина Е.А. Темпоральные дейктические жесты // Извести ОЛЯ, № 3, 2013 (в печати).
Гришина 2013б — Гришина Е.А. Указания головой как система // Вопросы языкознания, № 3, 2013 (в печати).
Прозорова 2009 — Прозорова Е. В. Маркеры локальной структуры дискурса в русском жестовом языке. Дисс. на … кандидата филол. наук. М., 2009.
Янко 2008 — Янко Т. Е. Интонационные стратегии русской речи в сопоста-вительном аспекте. М., 2008.
Calbris 2011 — Calbris G. Elements of Meaning in Gesture. Amster-dam/Philadelphia, 2011.
De Ruiter 1998 — De Ruiter J. P. Gesture and Speech Production. Doctoral Diss. Katholieke Univ., Nijmegen, 1998.
О жестикуляционных обертонах 103
Loehr 2007 — Loehr D. P. Aspects of Rhythms in Gesture and Speech // Gesture, 7, 2007, p. 179–214.
Efron 1941 — Efron D. Gesture, Race and Culture. A tentative study of some of the spatio-temporal and “linguistic” aspects of the gestural behavior of eastern Jews and southern Italians in New-York City, living under similar as well as different envi-ronmental conditions. N.Y., 1941.
Nobe 1996 — Nobe S. Representational Gestures, Cognitive Rhythms, and Acoustic Aspects of Speech: A Network/Threshold Model of Gesture Production. Doctoral Diss. Univ. of Chicago, 1996.
Rochet-Capellan et al. 2008 — Rochet-Capellan A., Laboissièrer R., Galván A., Schwarz J. L.The Speech Focus Position effect on Jaw-Finger Coordination in a pointing task // Journal of Speech and Language Hearing Research 51(6), p. 1507–1521.
Wilkins 2003 — Wilkins D. Why Pointing With the Index Finger Is Not a Uni-versal (in Sociocultural and Semiotic Terms) // Pointing: Where Language, Culture, and Cognition Meet. Mahwah, NJ, 2003, p. 171–214.