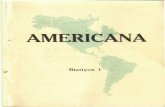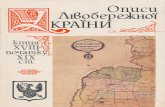Начала знаний о культуре
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Начала знаний о культуре
Начала знаний о культуре
Эта статья была написана для журнала
«Декоративное искусство СССР» в 1969 г., когда
заместителем главного редактора в журнале был
К.М.Кантор. Предполагалось, что ею откроется серия
статей культурологического характера, где речь пойдет
об искусстве и дизайне как явлениях культуры.
Многими путями приходит современное
художественное сознание к одной из важнейших своих
проблем — к проблеме культуры. Обособленное
рассмотрение практики искусства в художественной
критике, искусствознании, эстетике и социологии
искусства ныне кажется недостаточным и неполным. И
художник, и искусствовед все чаще обращаются к
идее целостности, связанности мира художественных
явлений, как между собой, так и с не
1
художественным окружением, — а это уже идея
культуры. Кажется нам, что исконно художественная
интуиция целостности — пока она осознается лишь
как переживание, чувствование и немотивированная
заинтересованность — ведет художественное сознание
к необходимости не только непосредственно
осознавать, но и определенно знать идею культуры.
Примечателен и тот факт, что в данном случае
самосознание искусства идет по тому же пути, что и
самосознание науки. И в гуманитарном научном
мышлении сегодня происходит глубокая перестройка,
вызванная осознанием идеи культуры и ее значения.
<…>
Культура относится к ряду важнейших категорий
гуманитарного мышления наших дней. Как век XIX
вошел в сокровищницу мысли своим историзмом, так,
по всей видимости, XX век станет веком,
посвятившим свои силы разработке идеи культуры.
Как оно будет, решит, конечно, история; сейчас
важно, что именно так представляется дело сегодня.
2
Важно еще, что искусствоведение, философия
искусства, социология искусства проявляют интерес
к идее и проблеме культуры ничуть не меньше других
областей знания. Это обстоятельство нисколько не
умаляет значения непосредственного
искусствоведческого анализа и художественного
синтеза, оно лишь выявляет их культурное основание
— ведь и сознание с его непосредственностью тоже
есть явление культуры.
Вполне понятно, что нашего читателя интересует
не столько вообще культура и вся культура, сколько
искусство как культурный феномен. Мы уже
рассматривали искусство с профессиональных,
социологических и эстетических позиций, теперь нас
интересует место искусства в структуре культуры и
культуроведческий взгляд на него. Но чтобы
удовлетворить эти интересы вполне, необходимо
утвердиться в понимании того, чтó есть культура.
Опыт дискуссий последнего времени показал, как
3
мало может дать обыденно-просветительский взгляд
на нее.
В разных специальных журналах печатаются
статьи, обсуждающие отдельные стороны и оттенки
проблемы культуры. Наверное, нет смысла начинать с
них свое знакомство с идеей культуры - для этого
нужен некоторый профессиональный опыт. Идя
навстречу запросам жизни и сознания, журнал
начинает серию публикаций под общим названием
«Начала знаний о культуре». В ней будет дан обзор
важнейших представлений, вводящих заинтересованное
сознание в сам круг культуроведческого мышления о
культуре и искусстве. Редакция надеется, что эта
серия поможет нашим читателям разобраться в столь
важной проблеме художественной практики, какой
является культура.
Вне рамок этой серии мы будем обсуждать и не
элементарные проблемы культурного действия. Здесь
же речь пойдет об основоположениях: о культуре как
4
общественном явлении. Поэтому — «Начала знаний о
культуре».
Культура, — мы не без основания привыкли
считать ее добродетелью и благом, тем, в чем
следует возрастать, к чему нужно стремиться, чего
всегда недостает. Усилие достижения делало ее
мечтой или идеалом и умаляло понимание культуры
как жизни, единственной данной нам жизни. Выросшие
в обстановке небывалой по социальному замаху
просветительной работы, мы и сами, в силу рабочей
необходимости, часто мыслили культуру
просветительски, как последний предел
воспитательных и образовательных усилий. Став
трудом, культурное действие разбило единую в себе
культуру на отдельные рабочие участки — так легче
было работать; в просветительских целях культура
распалась на несметное множество субкультур:
«каких-то культур», «культур чего-то», «культурных
что-то»... распалась и для просветителей и для
5
просвещаемых. Помня, что делу время, а потехе час,
мы были склонны вспоминать о ней в редкие и
непродолжительные минуты досуга, именно как о
потехе — с благодушием и легкостью, ни к чему не
обязывающими. Всегда готовый на услуги здравый
смысл в конце концов свел культуру до
назидательных формул вкрадчивого и мягкого
поведения... Так безграничное уважение соседствует
с бесконечной беспечностью.
Но если так, то чем же объяснить те время от
времени вспыхивающие дискуссии, в которых мы, во
имя того или иного понимания культуры, готовы
зайти очень далеко? Дилемма «двух культур» —
естественнонаучной и гуманитарной, —
сформулированная Ч.Сноу, у нас вылилась в
противостояние «физиков» и «лириков», и участники
его обменивались отнюдь не «ветками сирени».
Застарелая любовь-вражда наших прадедов западников
и славянофилов вдруг оборачивается современностью:
маститые массовые журналы обсуждают сегодня то,
6
что еще вчера казалось позавчерашним днем нашей
истории. Наконец, в борьбе двух систем
общественного бытия и сознания некоторые и то
стали видеть конфликт своей культуры с чужой
цивилизацией... Но если так, если вокруг культуры
затеваются и не затихают важнейшие диалоги, споры,
противостояния, конфликты и битвы, то как же мы
надеемся участвовать в них — и побеждать! — с
нашим прилагательным представлением о культуре?
Неужели же важнейшие вопросы жизни сводятся к
«культурному отдыху», «домам культуры» или, еще
пуще, к «культуре поведения»? Конечно же, нет!
Просто наши, казалось бы самоочевидные, понятия о
культуре на поверку оказались неспособными
участвовать в решении наших же культурных проблем.
Бытие опережает сознание; проблемы действия,
стоящие перед нами, сложнее наших же знаний о них,
и чтобы надеяться в будущем на их решение, нужно
сегодня принять проблемы в их объективной
7
сложности, стать в уровень с ними, сознанием
последовав бытию.
Немощное культпросветовское понимание культуры
имеет за своими плечами солидную, хотя и сильно
опошленную историю. Оно —обыденный отголосок
идеологического развития Нового времени.
Историческое становление идеи культуры является
одним из этапов того развития, которое европейское
общество переживает со времен Возрождения.
Промышленная организация — в производительной
деятельности общества, социально-политическая
самодеятельность — в живой исторической жизни,
гуманизм и рационализм — в философии,
протестантизм — в религии... всему этому нет
другого единого имени, кроме «Новой истории», но
во всем этом есть единая историческая
определенность, становление единой исторической
целостности и структурности. Это развитие началось
с попыток формирования нового отношения между
8
целостностью человеческого существования и
полнотой бытия, нового в сравнении с предыдущим,
религиозным пониманием этого отношения.
Метафизическим фундаментом средневекового социума
мыслился и переживался Бог — Творец, Вседержитель
и Спаситель, существо, запредельное человеку и
бесконечное в себе. После того как христианская
ориентация фактически перестала быть универсальным
и единственным основанием социального действия и
бытия, начался процесс установления иного
отношения к целостности бытия, соответствующего
посюстороннему существованию и его конечным целям,
— процесс, в котором иным становился и сам
человек, и само целое (а главное, чтó за целое?),
процесс, продолжающийся и по сей день.
Начальные условия этого процесса были таковы,
что он яснее всего выразился: идеологически — в
гуманизирующем рационализме, «умо-человечности»
(по научному — в антропологизме), а общественно —
в повышенной политизованности жизни, в стремлении
9
понять мир только как политически ориентированный
социум. Всю эту историческую выразительность
можно, несколько перефразируя Т.Манна, назвать
«бесстыдным социологизированием» Нового времени.
Исторически искомое отношение человеческого
существования к общественному бытию, которое мы
теперь и понимаем как культуру, приняло такой вид,
что стало мыслиться как отношение человека к
самому себе, осуществляемое посредством разума.
Развитием первого из этих двух моментов стал
социологизм, а второго — рационализм 1.
Как на исключительно яркий пример
социологического и рационалистического осознания
проблемы культуры укажем на кантовскую трактовку
«злого принципа» в человеческой природе: «Основа
злого лежит не в каком-либо физическом побуждении,
а только в правиле, которое произвол делает сам
себе для применения своей свободы, т.е. в максиме.
По отношению к ней уже нельзя ставить вопроса о
том, что является в человеке субъективною основою
10
признания ее, а не противоположной ей максимы.
Если бы эта основа в конце концов сама не была уже
максимой, а только просто уже физическим
побуждением, то применение свободы свелось бы
вполне к определению ее через физические причины.
А это противоречит ей» 2. По Канту, основой
свободного действия считается максима, т.е. данная
разуму» смысловая структура, и она определяет то
или иное — доброе или злое — отношение человека к
человеку, своего рода «социологию человека».
Субъективное основание применения свободы здесь
принадлежит разуму и определяет «социологию», а
свобода и есть подлинно человеческое отношение к
целостности существования. Это лишь один из
примеров социологизированного и
рационализированного понимания искомого отношения,
хотя можно привести тысячу других. Ничто не
задает, не определяет существования человека — он
абсолютно положительно, т.е. разумно свободен. Все
заданности — это предрассудки, недоразумения,
11
заблуждения или же попросту обман, чьи-то злые
козни; напротив, все положительное — от свободного
разума, от свободной и разумной субъективности
человека.
Последующее развитие философии и науки,
мотивированное самим историческим движением
общества, существенно изменило это понимание и
субъекта, и его свободы, и мышления. Вместе с этим
изменилось и понимание отношения человеческого
существования к общественному бытию. Раз мышление
само есть общественная функция, раз свобода — не
только предпосылка, но и результат исторического
созидания жизни и субъект, в полноте своих
проявлений. — идеал будущего общественного бытия,
то и отношение человека к целостности своего бытия
следует понимать, согласно этому строю мысли,
общественно-исторически и материалистически.
Мыслить так — значит мыслить это отношение как
культуру.
12
Культпросветовское же понимание культуры —
отголосок, обыденный и застарелый, развивавшегося
сознания культуры, в котором от этого развития
осталось только воспоминание, что культура «это
хорошо» и что «ей можно научиться», примерно так
же, как арифметике или игре в пинг-понг.
Итак, культура — это целостность и единство
всего состава и связей общества, всего
общественного бытия человека. Причем именно
целостность и единство общества, а не целостное и
единое общество. «Культура» — существительное, она
существует и сама по себе, а не только как
прилагательное к существительному «общество».
Конечно, сказав, что культура — это отношение
существования человека к целостности и единству
общественного бытия, мы отнюдь не достигли своей
цели. Ведь культура не должна оставаться для нас
только философемой, философским понятием, а такие
слова, как «существование», «целостность»,
«бытие», хоть и привычные, но философские слова.
13
Поэтому далее мы будем говорить просто «общество»
— вместо «общественное бытие человека» и
«культура» — вместо «отношение существования
человека к целостности общественного бытия».
Конечно, говорить так совсем не просто, и нам
придется прибегать к различным мудреным словам,
вроде «структуры», «функции»,
«противопоставления», но это будут уже не
философские, а специальные научные термины. Чаще
других мы будем обращаться к терминам
социологическим, но это и понятно: раз мы культуру
определяем через отношение к обществу, то
рассмотрение ее не может обойтись без применения
социологических терминов.
Уже в определении культуры как отношения
целостности человека к единству общества заключено
предположение о внутренней множественности
общества. В этом случае элементами общества как
множества мыслятся человеческие индивиды. Однако
при рассмотрении культуры такой способ
14
представления общества не является ни
единственным, ни достаточным. Множественность
общества могут составлять и составляют не только
человеческие индивиды, но и другие социальные
единицы: разного рода группы, общности и классы,
социальные институты и организации, словом — любые
социальные системы. Культура, таким образом, — это
отношение социальных единиц (систем) к целостности
и единству общества. Человек — лишь одна из
социальных единиц, образующих множественность
общества, и все они предполагаются в понятии
культуры и упорядочиваются ею 3.
Рассмотрение общества как множества составляет
предмет так называемой социетальной социологии, а
ее объекты принято называть общностями. Все
общество в целом, рассмотренное как общность,
является социумом.
Функция культуры в отношении социума и более
мелких общностей состоит в том, что культура
упорядочивает их взаимоотношения; это - функция
15
упорядочения. Но чтобы понять, как она действует,
необходимо от множественной, морфологической точки
зрения на общество перейти, к структурной точке
зрения и рассмотреть общество как систему.
Отношение социальных единиц к целостности и
единству общества есть структура общества, а их
отношение друг к другу внутри общества — процесс
общественного взаимодействия. Культура, таким
образом, предстает как структура системы общества,
а ее функция в отношении общностей — как функция
структурирования процесса общественного
взаимодействия.
Если общество — это целостная система, то
культура составляет структуру общественной
системы, которая устанавливает и поддерживает эту
целостность. В общественном взаимодействии нет ни
бесконфликтности, ни предустановленной гармонии,
оно, напротив, чревато конфликтами, противоречиво
и часто деструктивно. Этим силам деструкции,
возникающим и действующим в процессах
16
взаимодействия социальных единиц, противостоит
структурирующая сила культуры. Взаимодействие
разъединяет, культура объединяет — в этом и
состоит ее изначальная социальная функция.
Пока мы говорили лишь о внутреннем строении
общества и совсем не касались внешнего его
окружения, хотя противопоставление
«внутреннее/внешнее» при рассмотрении общества
играет роль ничуть не меньшую, чем уже
использовавшиеся нами противопоставления
«единое/многое» и «структура/процесс». Мы говорили
лишь о внутренней множественности общества и его
внутренней системности, не касаясь множественности
и системности общественного окружения. Мы как бы
выбираем одно общество из всего мира и не обращаем
внимания на внутреннюю множественность и
системность самого мира, на возможность
существования в нем других обществ и других
культур. Так нужно для введения понятия: взгляд на
внешнюю множественность и системность культуры
17
можно получить, представив, как в обществе
протекает взаимодействие входящих в него
социальных субъектов.
Использование трех пар противопоставлений —
«единое/многое», «структура/процесс» и
«внутреннее/внешнее» — позволяет несколько
конкретизировать философское понимание культуры
как отношения человеческого существования к
целостности и единству общественного бытия. Мы
получаем первое в нашем разговоре определение
интересующего нас понятия. Культура есть структура
общества как системы, которая определяет
разделение его на общности и упорядочивает их
взаимодействие, структурирует мировое окружение
общества и упорядочивает взаимодействие общества с
ним. Тем самым поддерживая общество в целостном
состоянии и сохраняя его индивидуальность.
Конечно, это еще очень абстрактное определение,
представляющее культуру в ее системных функциях по
отношению к миру, обществу и человеку. Но оно
18
необходимо, чтобы, отправляясь от него, мы смогли
далее достичь более конкретного, а потому живого и
существенного понимания.
Идея культуры исторически складывалась под
впечатлением знакомства европейского общества с
другими, ранее не известными ему или не
признаваемыми им укладами общественной жизни. С
самого начала своего становления она развивалась
на сравнительно-исторической почве: между собой
сравнивались как современные рядоположенные
культуры, так и культуры прошлого и настоящего.
Известно, что Возрождение, т.е. как раз тот
перелом европейской жизни, который дал толчок
развитию идеи культуры, сам был результатом
соприкосновения двух культур.
В предисловии к своей «Золотой ветви»
Дж.Фрезер писал, что «открытие античной литературы
было для прозревших гуманистов откровением: перед
ними развернулась великолепная панорама древнего
мира, которая даже и в воображении не
19
представлялась средневековому монаху в тиши
монастыря, нарушаемой лишь торжественным звоном
колоколов». И хотя исторически культура
средневековая коренится в том числе и в культуре
античной, новая встреча с ней стала началом Новой
истории. Открытие Америки еще более расширило
исторический горизонт Европы и привело к развитию
нового — метакультурного гуманизма. Наряду с
изучением античности начали изучать и более
древние и более отдаленные культуры. Это изучение
легло в основание науки о культуре. Когда же наука
достаточно развилась, стихийная сравнительно-
историческая почва становления идеи культуры
получила методологическое оформление: сначала в
виде сравнительно-исторического, а затем
структурно-типологического метода. Но остался
общий результат этого по времени длительного, а по
духу типологического освоения идеи культуры: он
вылился во всеобщее и очевидное убеждение во
20
множественности человеческих культур и в их
равноправии 4.
Всякому, кто имел дело с историей искусства,
известно это ощущение равной подлинности и
неповторимого своеобразия художественных явлений,
принадлежащих разным временам и народам. Так же
дело обстоит с культурой в целом: явления ее
исторически равно самостоятельны и равны в этой
своей самостоятельности.
Может показаться, что множественность культур
означает полнейший и непреодолимый культурный
релятивизм, равнодушие и безразличие, но такая
видимость необъективна. Во-первых, сам упор на
множественность вытекает из исторических, а не
логических обстоятельств, и уже поэтому
множественность культур не отрицает исторического
единства человечества. Во-вторых, и практически
это очень важно, культурная относительность вполне
реальна, все мы с ней сталкиваемся на каждом шагу,
так что единство культур — реальное историческое и
21
практическое социальное — есть не столько дело
исторического самотека, сколько возможный и все
время достигаемый результат целенаправленного
действия. Теоретическое положение об историческом
единстве человечества, кажется, уже очевидно, но
отнюдь не так просто и с очевидностью можно
представить себе пути и способы этого единения на
практике. Именно эти трудности, поскольку они
есть, оправдывают понятие культурной
относительности.
Мир культуры множественен, все входящие в него
индивидуальные культуры исторически равны и
самостоятельны, взаимодействие их направляется
принципом культурной относительности; структура
мира культур, способная задать межкультурную
целостность и единство человечества, не является
ни протоисторической структурой, ни
метаисторическои структурой, она — дело самой
человеческой истории. Лишь в ходе своего
исторического творчества разделенное на множество
22
разных культур человечество постепенно находит
свое культурно-историческое единство, которого нет
в естественном и сверхъестественном мирах.
Уже по функции своей культура призвана
поддерживать единство и целостность общества —
объединять, интегрировать, сближать, примирять.
Культура — объективная основа сосуществования
общностей, способ решения этой объективной
проблемы. В решении ее отсутствует выбор:
существовать и значит со-существовать.
Интересно проследить, как идея культуры
исторически сменяет религиозный и вообще
мифологический способ осознания человечеством
своего общественного единства. Сам термин
«религия» показывает, что с помощью него
выражалась именно идея единения — ведь он
происходит от «re» и «ligo» (лат.), т.е.
«восстановление» и «связь», и означает
восстановленную связь. Но дело, конечно, не
столько в имени, сколько в самом существе дела.
23
Мифология и культурология по-разному выражают в
сознании одно и то же реальное обстоятельство —
структуру общественного целого, определяющую
отношение человеческого существа к полноте
общественного бытия.
Эту единительную и примиряющую функцию
культура выполняет совершенно своеобразно и
отлично от всех способов социетального
объединения. Она это делает, устанавливая для всех
индивидов и общностей одни и те же структуры
поведения и действия: структурализация мира и
общества, многообразие целей и средств
действования в них, способы управления социальными
взаимодействиями — все подобные формы
человеческого существования, опосредованные
структурой культуры, установлены ею, транслированы
человеку и нормируют его поведение. Через эту
трансляцию, т.е. передачу содержания культуры,
человек, как говорят социологи, аккультурируется и
24
социализируется — включается в культуру и в
социум.
«Каждый человек находит при своем рождении на
свет свое окружение, свой народ, среди которого он
предназначен жить и, по крайней мере,
воспитываться уже на определенной ступени
культуры. Он не должен ее создавать, развивать,
так как она уже существует и имеет право на
существование именно потому, что она уже есть...
Все человечество, каждый народ, каждое поколение и
т.п. всегда находятся на какой-нибудь определенной
ступени культуры, которая должна рассматриваться
как наследие, оставленное предками, как результат
их истории и всех воздействовавших на них
факторов... Состояние культуры в тот или другой
момент должно рассматриваться как естественное
явление, которое так же неизбежно возникает, с
такой же необходимостью, как тот или иной характер
флоры и фауны в определенном поясе или на всей
земной поверхности. Состояние культуры данного
25
народа в определенное время представляет собой
нечто данное и образует ту среду, в которую
вступает каждый отдельный человек, рожденный при
данных обстоятельствах. Он не создает ее, а
находит готовой, и она на него влияет сообразно
своей сущности. Вот почему всякий человек —
продукт своего времени. Под влиянием других
условий он сделался бы иным, чем он может стать в
зависимости от своего окружения и от состояния
культуры в данный момент» 5.
Мир и общество культура структурирует,
общности упорядочивает, взаимодействиями
управляет, а человека —образует, нормирует.
Культура и есть мир норм, возникший в процессе
исторической аккумуляции прошлого опыта,
нормативно организующий существование настоящее, а
через него и будущее. В этом смысле и говорится,
что культура есть «историческая память общества»
(Ю.А.Левада) или совокупная «наследственная
информация, которую накапливают, хранят и передают
26
разнообразные коллективы человеческого общества»
(Ю.М.Лотман), что культура — это способ сохранения
исторической преемственности, что она передается
путем научения индивидов и т.д. Аккультурация и
делает человека человеком, в смысле той культуры,
в которую он включается: она образует,
конституирует человека, делает его тождественным
себе.
Здесь нелишне будет уточнить, чтó понимается
под нормативностью элементов культуры. Понятие
культурной нормы следует четко отличать от таких
общепринятых социетальных понятий, как нормы
юридические или нравственные, от понятий о
стандарте, правиле, предписании или распоряжении.
Все это конвенциональные социальные регуляторы
человеческого поведения, о которых человек в той
или иной степени информирован и которые осознаются
им как нечто внешнее и извне ограничивающее
действие. Так, юридического закона можно и не
знать, когда совершается преступление, или
27
игнорировать его нормы, невзирая на возможные
санкции, — ведь действия создания и исполнения
закона разделены и во времени, и в социальном
пространстве: пишут его одни лица, а исполнять
должны другие. В каких бы целях он ни создавался и
как бы ни исполнялся — это уже социальное
взаимодействие внутри общества. Другое дело —
культура. Ее нормы не конвенциональны, члены
общества принимают их не по соглашению и знанию, а
непосредственно, в силу принадлежности к данному
обществу и данной культуре. Разрушить эти нормы
человек может, лишь разрушив свою человечность, в
смысле своей культуры. Конечно, развивая свое
культурное сознание человек способен не только
воплощать содержание своей культуры, но и знать и
изменять отдельные ее элементы, как говорили
раньше — «творить культуру». Но для отдельного
человека, сколь бы продуктивен он ни был в своем
творчестве, возможность таких изменяющих культуру
действий крайне ограничена, хотя и есть. В целом
28
человек — существо культурно детерминированное. а
не наоборот. Эта непроизвольность человека по
отношению к своей культуре, культурная заданность
его означает, что культура является материальной
структурой общественного бытия: она может быть
дана сознанию человека, но над нею в целом его
воля не властна. Так что, в отличие от
конвенциональных социетальных норм, нормы
культурные не конвенциональны.
Культурные нормы действуют на человека в
процессе его аккультурации, когда он становится
человеком в смысле той культуры, в которую его
включают. Здесь человек формируется, осваивает
опыт деятельности. Сформировавшись, он вступает в
мир практической деятельности таким, какова была
освоенная им культура. Он как бы тождествен ей и
потому неотличим от нее. Находясь в ситуации
действия, человек не имеет перед собой культурных
норм, как того, что вне его. Напротив, он и есть
живое существование культуры. Поэтому-то нет
29
оснований для уподобления культурных норм
социальным регулятивам. Если и стремиться по
аналогии изъяснять природу культуры и характер
нормативности ее элементов, то следует прибегнуть
к аналогии между культурой и языком.
В живом общении людей, замечают они это или
нет, речь всегда строится в соответствии с нормами
системы языка, например с нормами грамматики.
Каковы бы ни были предмет речи и ситуация общения,
это всегда так. Нормы языка находят свое выражение
во взаимном контроле, взаимном обучении и взаимной
цензуре общающихся. Происходит это как бы само
собой, естественно, если, конечно, общающиеся
владеют языком или, как принято говорить,
принадлежат к одному языковому коллективу.
Владение языком есть результат обучения ему,
которое может быть как искусственным, школьным,
так и естественным, стихийным. Возможности общения
зависят не от обстоятельств обучения, а от
непосредственного владения нормами языка — и чем
30
оно непосредственнее, тем свободнее протекает
общение. Аналогия же состоит в следующем: нормы
культуры можно уподобить нормам языка, речь в
процессе общения — уподобить деятельности в
ситуации, языковой коллектив — культурному
коллективу. Тогда следование нормам культуры в
процессе деятельности в ситуации будет подобно
следованию языковым нормам в процессе речевого
общения. И это не только аналогия. Дело в том, что
речевое общение также является деятельностью. В
лингвистике речь и принято рассматривать как
деятельность, по отношению к которой язык
оказывается культурой. Язык, стало быть, есть
языковая культура речевой деятельности.
Аналогию между языком и культурой развивает
семиотика, одна из современных наук о культуре.
Обобщая лингвистические методы исследования
естественного языка, семиотика рассматривает
культуру вообще как язык. С этой точки зрения
языками культуры оказываются вещи, на естественный
31
язык вовсе не похожие. В работах по семиотике
можно встретить понятия о языке искусства, языке
сексуального поведения, языке игорных карт и
других экзотических вещах. В последующих статьях
серии мы более подробно остановимся на
семиотическом истолковании культуры.
1 Мотрошилова Н.В. Познание и общество: Из истории
философии XVII– XVIII веков. М.: Мысль, 1969. С.
3-19, 285-293.
2 Кант И. Религия в пределах только разума. СПб.,
1908. С. 19.
3 Осипов Г.В. Социологии как наука // Социальные
исследования. Вып. 2. М.: Наука, 1967.
4 Фрезер Дж. Золотая ветвь. М.: Мысль, 1986.
32