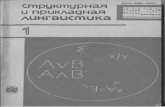Методология немецкого неовеберианства в...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Методология немецкого неовеберианства в...
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»
На правах рукописи УДК 316.282+316.74]:167
КОМАРОВСКИЙ Андрей Владимирович
МЕТОДОЛОГИЯ НЕМЕЦКОГО НЕОВЕБЕРИАНСТВА В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРЫ
Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук
по специальности 22.00.01 – теория, история и методология социологии (социологические науки)
Научный руководитель кандидат философских наук, доцент Абушенко В.Л.
Минск, 2014
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 3
Общая характеристика работы 6
Глава 1 Историко-социологические истоки неовеберианской социологии 11
1.1 Исследовательские программы в социологическом изучении культуры
11
1.2 Гносеологический профиль веберовской исследовательской программы 32
Глава 2 Теоретико-методологические основания изучения культуры в немецком неовеберианстве 64
2.1 Проблема исследования культуры в немецком неовеберианстве 64
2.2 Неовеберианская культурсоциология Фридриха Тенбрука 83
Заключение 105
Библиографический список 109
Приложение А 137
Приложение Б 139
Приложение В 141
Приложение Г 142
3
ВВЕДЕНИЕ
Современное научное знание переживает «культурный поворот», трансформирующий не только социо-гуманитарные дисциплины, но и весь корпус естественнонаучных и технических наук. Благодаря работам отечественных и западных философов и социологов науки была продемонстрирована фундаментальная социокультурная предпосылочность института науки и научного знания в целом. Сегодня формируется наука постнеклассического типа, окончательно осознающая себя «практикой культуры» – ценностно нагруженной, рефлексивной и ответственной наукой. Понимание состояния и векторов развития науки требует понимания оснований и трендов развития культуры, в которую встроен институт науки.
Источником современной трансформации науки стал растущий спрос на системное междисциплинарное знание и технологии, способные исследовать и решать сложный спектр экономических, экологических, социальных и гуманитарных проблем и кризисов современности. Вместе с тем, технонаука, при всей своей автономии, все сильнее зависит от характера спроса со стороны ключевых регуляторов и потребителей знаний и технологий, напрямую или косвенно определяющих ключевые векторы развития науки. Интересы данных групп могут существенно расходиться с внутридисциплинарными интересами, ставя под сомнение реализацию тех или иных исследований и разработок.
Сегодня наука все чаще сталкивается с задачей обоснования собственной ценности не только с точки зрения приложимости и полезности знания, но и его этичности, гуманистичности. Все большее значение приобретают дискурсивные и коммуникативные модусы порождения и употребления знания, связанные с репрезентацией и усвоением научного знания во вненаучных социокультурных пространствах, с обоснованием и поддержкой высокого имиджа науки в культуре. Достижение наукой автономии возможно лишь в результате эффективного взаимодействия с внешней, разнородной и разновекторной институциональной средой данной культуры, в которую погружен институт науки.
Сопутствующая данным трендам внутренняя перестройка института науки сопровождается возникновением новых форм научных практик, выходящих за рамки традиционной дисциплинарно-организационной матрицы науки, заданной на стадии конкретно-предметной специализации и развития отдельных наук. Данные рамки в современных условиях представляют собой эпистемологические и организационные барьеры для развития науки, требуя своего преодоления с помощью трансдисциплинарного комплексирования широкого спектра знаниевых практик на основе постнеклассического типа научной рациональности.
4
Данная задача связана с глубоким, теоретико-методологическим анализом и оценкой гносеологического потенциала различных, в том числе классических концепций. Разработка методологических инструментов для анализа и сравнения исследовательских подходов, которые бы отвечали требованиям постнеклассической науки, является актуальной исследовательской проблемой в рамках любой отрасли научного знания. Особую остроту данная проблема носит для социо-гуманитарного знания, дисциплинарный суверенитет которого длительное время оспаривался и отстраивался под влиянием естественных наук согласно классическому типу науки.
Имея исходно прямое, предметное отношение к «гуманитарной» проблематике, социология одной из первых встала на путь проблематизации старых и поиска новых форматов функционирования научной дисциплинарности в меняющейся социо-культурной действительности модернового общества. Социо-гуманитарные науки формировались в условиях столкновения противоположных образцов научного знания – «позитивистской», классической науки, и «исторической», неклассической науки. Решая дисциплинарные проблемы, поднятые в процессе борьбы данных типов наук, социо-гуманитарная мысль наработала материал для продуктивного снятия эпистемологического конфликта.
В той или иной степени выраженности данный конфликт протекал в академической жизни разных стран, а его специфические решения заложили определенные векторы и ограничения национальных традиций социо-гуманитарной мысли. Особенно яркое выражение он получил в немецкой традиции, где в течение нескольких поколений ученых в рамках различных отраслей знания велся острый «спор о методах». Макс Вебер принял в нем активное участие и предложил собственное социологическое решение, принципы и установки которого релевантны для современных постнеклассических реалий развития науки.
Однако в период своего зарождения и первичной рецепции веберовская социология не получила должного признания, разработки и продвижения в силу различных обстоятельств. Важнейшую роль среди них играл факт временного «выпадения» в межвоенный период немецкой социологии из нормального научного процесса и собственного интеллектуального стиля в целом. В начале ХХ века именно немецкая гуманитаристика, социология в особенности (в лице М. Вебера, Г. Зиммеля, М. Шелера), претендовала на роль интеллектуальной платформы для системного развития неклассической и ранней концептуализации постнеклассической социологии.
Внутри социологии «спор о методах» был возобновлен в конце 1960-ых годов в форме критики неоклассической социологии в лице структурно-
5
функционального анализа. Он дал новый виток развития социологической мысли и породил ряд конкурентных социологических парадигм современности. Предмет и различные решения «спора о методах» составляют «нерв» и современной социологической методологии, а шире – философии и методологии науки в целом, столкнувшейся с новыми познавательными и практическими вызовами социо-культурной реальности современности.
Немецкое неовеберианство выступает одним из парадигмальных течений, внесших свой вклад в разработку методологических инструментов изучения универсума культур на основе базовых идей социологии Вебера. Вместе с тем, опираясь на ряд биографических фактов, неовеберианцы отстаивают тезис о том, что эксплицитные установки на разработку проекта культурсоциологии были присущи уже самому Веберу, но в силу различных обстоятельств биографического, социально-политического и внутринаучного плана не состоялись как отдельное, завершенное произведение.
Вклад Вебера в разработку основ социологии обладает непреходящей ценностью, которая снова и снова предстает перед сменяющимися поколениями исследователей в новом свете их уникальных исследовательских проблем и практических задач. Историко-социологическая реконструкция веберианской культурсоциологии и оценка ее эпистемологического потенциала как конкурентоспособного образца постнеклассической социо-научной «картины мира» является актуальной задачей современных исследований в истории и теории социологии.
Немецкое неовеберианство стало ключевым интеллектуальным пространством осмысления и экспликации скрытого гносеологического потенциала веберовской социологии. Именно представителям данной традиции удалось выявить и очертить внутреннюю культурсоциологическую ориентацию мысли Вебера, направленную на изучение реалий грядущего мультикультурного мира. Неовеберианцы внесли значительный вклад в понимание современной ценности веберовской социологии, подготовив основу для ее позиционирования в пространстве формирующейся науки постнеклассического типа.
Диссертация является попыткой систематического анализа немецкого неовеберианства и базисной для него веберовской социологии как образца современной постнеклассической научно-исследовательской программы.
6
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Связь работы с крупными научными программами (проектами) и
темами Диссертационное исследование самостоятельно выполнено автором в
отделе социологии инноваций Института социологии НАН Беларуси в рамках задания 3.1.01 «Белорусская национальная идентичность: изменения в условиях современных интеграционных процессов и трансграничных миграций» (№ государственной регистрации 20110546 от 14.04.2011) ГПНИ «История, культура, общество, государство». Тема диссертации соответствует направлению №11.3 «социально-экономические, политические и социокультурные процессы в белорусском обществе, прогноз и моделирование общественной динамики», включенному в перечень приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований на 2011-2015 годы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585.
Цель и задачи исследования Цель диссертационного исследования – экспликация историко-
социологических истоков и теоретико-методологических оснований немецкого неовеберианства как парадигмы социологического изучения культуры.
Реализация поставленной цели осуществляется в процессе решения следующих исследовательских задач:
1 определить методологические основания социологического изучения культуры в рамках постнеклассического типа науки;
2 определить место веберовской исследовательской программы в постнеклассической гносеологической ситуации;
3 проанализировать историю социологической рецепции наследия М. Вебера и ключевые особенности неовеберианской парадигмы;
4 выявить эвристический потенциал концепции репрезентативной культуры Фридриха Тенбрука.
Объект исследования – немецкое неовеберианство как парадигма в социологическом изучении культуры.
Предмет исследования – историко-социологические истоки и теоретико-методологические основания немецкого неовеберианства.
Выбор объекта и предмета исследования обусловлен высокой значимостью веберовской и неовеберианской парадигм, их методологических и теоретических инструментов в исследовательских практиках в области современного социологического изучения культуры.
Базу эмпирического исследования в рамках диссертационной работы, включающего библиографический и сетевой анализ, составили
7
вебероведческие публикации немецкоязычных и англоязычных авторов, а также содержащиеся в них цитирования источников (331 автор, 721 публикация, 1619 цитирований).
Положения, выносимые на защиту 1. Специфика структуры и динамики социо-гуманитарного знания
обуславливает синхронное возникновение, но нелинейное развитие различных типов научной рациональности. Это допускает возможность переинтерпретации социологической концепции Вебера как культурсоциологической исследовательской программы, соответствующей в своих принципах и установках постнеклассическому типу науки. Классификационный подход к изучению культуры ограничен предметно-содержательным анализом культуры и недостаточен для анализа методологических оснований изучения культуры в работах Вебера и немецких неовеберианцев с целью выявления их постнеклассической направленности. Данное ограничение преодолено в типологическом подходе, который позволяет выявить наличие и степень разработанности различных подходов к изучению культуры, относящихся к разным типам научной рациональности.
2. На формирование социологической концепции Вебера определяющее влияние оказал «спор о методах» между классической и исторической школами национал-экономии, в то время как идеи неокантианства и герменевтики сыграли меньшее значение. «Спор о методах» в своей сущности является конфликтом между классическим и неклассическим типами науки, социологическое преодоление которого позволило Веберу разработать корпус постнеклассических понятий и идей в онтологическом, методологическом, эпистемологическом и праксеологическом измерениях науки. Веберовская социология включает ряд разработок и идей в рамках постнеклассически ориентированных подходов к изучению культуры (игрового, текстового, коммуникативного), позднейшее развитие которых в неовеберианских концепциях и специальных отраслях социологического знания непосредственно опирается на идеи Вебера.
3. Творческое наследие Вебера длительное время не осмыслялось в международном научном сообществе в соответствии со своими постнеклассическими культурсоциологическими установками. На раннем этапе вебероведение фокусируется на проблеме предметно-тематической целостности веберовского наследия. Впоследствии дискуссия сместилась к методологической проблематике, где преодолена установка на поиск единой «темы» и теории Вебера. На позднем этапе исследователи концентрируются на вопросах эпистемологического и праксеологического характера, касающихся социо-культурных истоков, влияния и роли института науки. В результате исследователи выходят на проблемы анализа культуры и, тем самым, к
8
культурсоциологическому прочтению всей веберовской социологии. Ключевые немецкие неовеберианцы (Й. Вайс, В. Хеннис, В. Шлюхтер, Ф. Тенбрук) осмысляют и развивают веберианскую программу в рамках преимущественно субъектно-ориентированных постнеклассических подходов (игровой, текстовый, коммуникативный), выявляя скрытый антропологический фон веберианской мысли.
4. Критика неоклассического антропообраза в социологическом знании стала концептуальной основой для историко-социологического анализа становления социологической науки и отправной точкой для разработки концепции репрезентативной культуры в работах неовеберианца Фридриха Тенбрука. Опираясь на понятие репрезентации, Тенбрук подводит антропологический фундамент под культурсоциологический анализ, обладающий актуальностью для современных исследований социума и культуры. Концепция репрезентативной культуры позволяет одновременно проанализировать традиционно-инновативную сущность культуры, а также конститутивно-конструктивную природу социальных явлений и процессов в современном обществе, основанных на практиках медийной репрезентации и конструирования реальности.
Личный вклад соискателя Диссертационная работа является завершенным целостным
самостоятельным научным исследованием, выполненным на основе анализа работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных исследуемой тематике. Научная новизна исследования состоит в определении методологических оснований социологического изучения культуры на базе концепции типов научной рациональности и типологического подхода к изучению культуры; в обосновании возможности и проведении переинтерпретации веберовской социологии как постнеклассической социологии культуры; в выявлении на основе сетевого анализа неовеберианского сообщества ключевых немецких исследователей и демонстрацию постнеклассической направленности их концепций; в определении актуальности и эвристического потенциала концепции репрезентативной культуры Ф. Тенбрука для исследования социокультурных процессов в современном обществе.
Апробация результатов диссертации Основные результаты диссертационного исследования были доложены
автором и обсуждены на международных и республиканских научных и научно-практических конференциях: на IV и VI Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Беларусь в современном мире» (Гомель, ГГТУ им. П.О. Сухого, 12 мая 2011 г., 26 апреля 2013 г.), Международной научно-практической конференции «Социальное знание и
9
проблемы консолидации белорусского общества» и «Социальное знание и современные проблемы развития белорусского общества» (Минск, Институт социологии НАН Беларуси, 17-18 ноября 2011 г., 21-22 ноября 2013 г.), III международной научной конференции «Трансформация образования и мировоззрения в современном мире» (Минск, БГПУ, 19 октября 2012 г.), Всероссийской научно-практической конференции VII и VIII Ковалевские чтения «Перспективы развития современного российского общества и новые контуры социологической науки» и «Новые измерения социального пространства и социальные неравенства» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 15-16 ноября 2012 г., 15-16 ноября 2013 г.), Международной научно-практической конференции «Экономика и управление: прошлое, настоящее и приоритеты развития в будущем» (Курск, Курский государственный университет, 30 ноября 2012 г.), X и XI Международной научной конференции студентов и аспирантов «Социология в (пост)современности» (Харьков, ХНУ имени В.Н. Каразина, 22-24 марта 2012 г., 28-30 марта 2013 г.), Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2013» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 8-12 апреля, 2013 г.), Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию МГУ им. А.А. Кулешова «Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук» (Могилев, МГУ им. А.А. Кулешова, 18-19 апреля 2013 г.), Международной научно-практической конференции «Инструменты повышения качества непрерывного профессионального образования» (Минск, БНТУ, 21-24 мая 2013 г.), VIII Международной научной конференции «Менталитет славян» (Гомель, ГГТУ им. П.О. Сухого, 23-24 мая 2013 г.), Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «VII Машеровские чтения» (Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова, 24-25 сентября 2013 г.).
Материалы диссертационного исследования прошли апробацию в процессе участия соискателя в конкурсе на выделение грантов на выполнение научно-исследовательских работ докторантам, аспирантам и соискателям Национальной академии наук Беларуси в 2012 году. Соискателю был выделен грант на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры» (постановления Бюро Президиума НАН Беларуси от 15 ноября 2012 г. № 461 и от 4 февраля 2013 г. № 29).
Опубликованность результатов диссертации Результаты диссертационного исследования опубликованы в 20
публикациях соискателя. Основные итоги опубликованы в пяти статьях, соответствующих пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, общий объем – 2,9
10
авторского листа. В сборниках материалов научных и научно-практических конференций опубликовано 15 тезисов общим объемом 2,2 авторского листа.
Благодаря усилиям соискателя за время обучения в аспирантуре был подготовлен перевод статьи немецкого неовеберианца Ф. Тенбрука «Репрезентативная культура», который опубликован в российском социологическом журнале «Социологическое обозрение» (Тенбрук, Ф. Репрезентативная культура / Ф. Тенбрук; пер. с нем. А.В. Комаровского; под ред. О.В. Кильдюшова // Социологическое обозрение. – 2013. – Том 12, № 3. – С. 93–120).
Структура и объем диссертации Структура работы определяется задачами исследования, логикой
раскрытия темы и включает введение, общую характеристику работы, две главы, заключение, библиографический список, приложения. Полный объем диссертации составляет 142 страницы, из них 103 страницы текста, 1 таблица и 8 рисунков на 5 страницах, библиографический список состоит из 368 источников (включая 20 публикаций соискателя) на 28 страницах, 4 приложения на 6 страницах.
11
ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ
НЕОВЕБЕРИАНСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
1.1 Исследовательские программы в социологическом изучении культуры
Развитие социо-гуманитарного знания в ХХ веке демонстрирует непрерывно растущий интерес к феномену культуры. Этот процесс, традиционно обозначаемый как «культурный поворот» [251], привел к «культурологизации» всего корпуса социо-гуманитарных дисциплин [17; 18; 130], закреплению культуры в их предметно-тематических фокусах и методологических основаниях. Данная эпистемологическая трансформация коррелятивна широким социо-культурным изменениям, произошедшим с наукой и обществом в течение ХХ века.
Становление техногенной цивилизации породило широкий спектр экономических, экологических, социальных и гуманитарных проблем современности. Значительно возрос спрос на системное междисциплинарное знание, способное исследовать и решать данные проблемы. Вместе с тем, технонаука все сильнее попадает в зависимость от рыночной и политической конъюнктуры [152, с. 59], часто расходящейся с внутридисциплинарными интересами ученых. Поддержка автономии науки возможна лишь в результате эффективного взаимодействия с внешней, разнородной и разновекторной институциональной средой, вписанной в глобальные и национальные культурные рамки.
Потребность в изучении и управлении механизмами взаимодействия науки и культуры обуславливает современную культурологизацию дисциплин. Социологическое изучение культуры – равно как и социология знания, науки и техники – является одной из первых отраслей социо-гуманитарного знания, столкнувшейся с данной задачей как предметом исследования и методологической проблемой. Понимание широкой, культурной размерности любых, самых конкретных социальных феноменов исходно выводило исследователей на понимание ограниченности традиционной дисциплинарно-организационной матрицы науки, основанной на модели узкой, конкретно-предметной специализации наук. Таким образом, становление социологического изучения культуры происходило в рамках классического («узкого») и неклассического («широкого») понимания ее предмета и метода.
Классическая и неклассическая линии стали модельными, конкурирующими образцами для развития области социологического изучения культуры. «В первом случае предпринимается попытка описания и анализа
12
культуры на уровне теории среднего уровня (отраслевой социологии) в аспекте включенности культурной компоненты в социальную жизнь общества и его подсистем (культура труда, быта и т.д., политическая, экономическая и т.д. культура) и/или в аспекте выявления специфической области (сферы) культуры (духовной жизни) как в институциональном, так и в поведенческом срезах, т.е. как особой предметности (особого предмета) социологического изучения. Во втором же случае речь идет об изучении культуры социологическими средствами на метатеоретическом уровне анализа, а тем самым культурсоциология претендует на статус фундаментального знания об обществе, в котором само социальное начинает пониматься, трактоваться и интерпретироваться в терминах культурного, а, следовательно – не столько культура объясняется через реалии социума (что характерно для версии социологии культуры), сколько, наоборот, социум становится “производным» от культуры”» [4, с. 1023]. Соответственно традиционно социология культуры обозначает (нео)классическую, а культурсоциология – (пост)неклассическую версию социологического изучения культуры.
Данные теоретико-методологические ориентации, их напряженный, часто конфликтный характер взаимодействия длительное время определял динамику социологического изучения культуры в мировой социологии в целом и отдельных национальных традициях в частности. Макс Вебер стал одним из первых исследователей, осознавшим тупиковый характер их противопоставления и попыток решения спора в пользу одного из течений. Как показывают исследователи неовеберианского направления, веберовская социология (т.е. социологическая концепция самого Вебера – в отличие от производных от нее веберианских концепций [197]) представляет собой вариант снятия конфликта, учитывающий продуктивные стороны каждой теоретико-методологической ориентации.
Вместе с тем, в западной исследовательской традиции отсутствуют подходы, которые позволили бы проанализировать веберовскую социологию как результат снятия конфликта классической и неклассической науки на основе знаний постнеклассического типа. В контексте задач диссертационного исследования потребность такого анализа обусловлена необходимостью определить место неовеберианства в историко-социологическом и теоретико-методологическом пространстве, дающее понимание познавательных ресурсов и конкурентоспособности данной методологии. В отечественной философии и методологии науки требуемый эпистемологический инструментарий разработан в трудах В.С. Степина (концепция типов научной рациональности), к анализу которого мы перейдем далее.
Современная гносеологическая ситуация характеризуется системной трансформацией научной рациональности и становлением науки
13
постнеклассического типа [13; 14; 26; 27; 58; 92; 131; 149; 158; 160]. В работах философа науки В.С. Степина была предложена системная концепция развития научного знания, включающая три типа науки (научной рациональности), – классическая, неклассическая и постнеклассическая наука (приложение А). Данные типы выступают модельными образцами науки, позволяющими описывать ее реальное развитие в различных областях знания. Каждый тип науки, по мнению Степина, является системным единством онтологических, методологических и эпистемологических представлений и обладает определенным структурным фокусом. Так, для классики характерно особое внимание к онтологии, для неклассики – к методологии, для постнеклассики – к эпистемологии (рисунок 1.1, комплексированный на основе степинских схем описания отдельных типов науки).
Рисунок 1.1 – Эволюция типов научной рациональности
В постнеклассической науке было окончательно осознано, что
эпистемологические представления определяют методологические и онтологические измерения познавательной деятельности. Данный факт выразился в развитии конструктивистского вектора внутри методологии и философии науки [26; 60; 102; 103; 104; 113; 116; 150; 187; 190; 191; 193; 206; 208]. Не случайным представляется тот факт, что концепция Степина в работах западных исследователей получила обозначение «эпистемологического конструктивизма» [84] или «исторического конструктивизма» [177, с. 18]. Конструктивистская установка может быть идентифицирована уже у Дж. Вико, но получает фундированную разработку в работах И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля [102; 142; 143; 195; 196]. «Человеческому сознанию, считал Вико, доступно только то, что создано самим человеком. Поэтому и изучать следует лишь то, как создана вещь, будь то произведение искусства, идея как порождение его сознания, языковая форма» [84, с. 133]. По словам В.А. Лекторского, «основная идея эпистемологического
14
конструктивизма состоит в том, что “знание что” может быть сведено к “знанию как”: вы знаете нечто о каком-либо предмете в том и только в том случае, если можете построить его» [103, с. 16]. При этом не подвергается сомнению, что «в познании, в частности, в чувственном опыте нет ничего “данного”. Но это не значит, что данности нужно противопоставлять конструкцию. Не следует “миф о данном” заменять “мифом о конструкции”» [103, с. 27]. Однако нужно осознать как твердый факт, что «понятие действительности является производным от культурного опыта и мыслительного творчества человека» [136, с. 126], т.е. является культурным артефактом.
В соответствии с конструктивистскими установками сегодня все яснее осознается деятельностная, проективная природа познавательного процесса, так как «всякая точка зрения есть точка зрения построения» [104, с. 78], и в научной деятельности «мы конструируем не только теории или классификации, но и объекты исследования, и даже то, что принято называть фактом» [140, с. 138]. Вместе с тем, зачастую конструктивистская установка радикализируется за счет онтологизации ее эпистемологического измерения, когда утверждается, что человек творит саму реальность [100]. В действительности уже Э. фон Глазарсфельд (автор концепции «радикального конструктивизма») говорит о конструировании знания, а не реальности: во-первых, знание получено не пассивно, а благодаря активной практической деятельности познающего субъекта и, во-вторых, основная функция познания – адаптивная, обеспечивающая организацию экспериментальной деятельности, а не открытие онтологической реальности [239]. Таким образом, «представление о “свободном творческом” конструировании есть иллюзия» [78, с. 64], скрывающая факт неизбежной предпосылочности всякого теоретического знания [79]. Как отмечает А.Ф. Зотов, западной культуре «стоило немалого труда подвергнуть, наконец, сомнению правомерность прямой онтологизации продуктов научного метода» [67, с. 471].
Осознание деятельностной природы научного знания выводит исследователей на рассмотрение науки в более широких, в том числе и вненаучных социо-культурных контекстах, где наука выступает одной из ключевых, но не всегда доминантных и дисциплинарно организованных практик культуры. Вненаучными такие контексты считаются в классической, интерналистской установке, всегда жестко разделяющей «научное» и «вненаучное» – в особенности сферы политики, экономики, социальных отношений, гражданского общества. В науке неклассического и, особенно, постнеклассического типа данные границы проницаемы и все чаще сняты. Примечательно, что сам конструктивизм проявился в первую очередь в сфере
15
искусства уже в начале ХХ века, являясь, по сути, целостным мировоззрением [132], проникшем впоследствии в иные духовные практики.
Отличительной особенностью степинского эпистемологического конструктивизма является фокусировка на познавательно-исследовательской стороне научного процесса, обусловленная установкой автора на выявление как «логики», так и «практики» научных открытий. Поэтому в основе структурного анализа научной деятельности лежит логика деятельностного подхода (схема «субъект-метод-объект»), который используется для анализа разных типов научной рациональности. Социо-культурная «среда» функционирования института науки фигурирует в обобщенном, «свернутом» виде как «общесоциальные ценности и цели». Она особенно активно анализируется в поздних работах Степина [151; 153; 155] с позиций философского, аксиологически фундированного анализа.
При этом в меньшей степени такой анализ ведется с помощью социологических подходов, учитывающих уровни институционального и поведенческого анализа и национальные социально-исторические контексты развития естественнонаучного и социо-гуманитарного знания [155]. В то же время, существенная, а иногда и определяющая детерминация науки экономическими, политическими и социальными контекстами выступала неотъемлемым элементом зарождения и «нормального» функционирования института науки [24; 25; 30; 31; 88; 106; 133; 145; 146; 234; 235], но не всегда осознавалась или признавалась – как самими учеными, так и историками науки, повсеместно склонными «рассматривать предшествующее своей дисциплины как линейно-направленное к ее нынешним высотам» [94, с. 166-167].
В контексте применения степинской концепции типов научной рациональности для анализа специфики социо-гуманитарного знания нам видится востребованным «развертка» обозначенного в данной концепции четвертого, праксеологического измерения в структуре научной деятельности и института науки в целом. Это позволяет очертить целостные социо-культурные комплексы (эпохи), в которых господство определенного типа социо-культурной рациональности рамочно санкционирует соответствующий режим функционирования науки и характер научной рациональности. Такого рода санкционирование является не линейной детерминацией в духе функционалистской социологии науки, а взаимодействием интеллектуальных тенденций и социальных интересов, определяемом в работах М. Фуко как «стратегическая сцепка» знания ученых и господствующих групп [87].
Рамочным влиянием на науку обладает культура, которая «санкционирует предметно организованные онтологии и практики и … легитимирует возможный и приемлемый тип знания о них» [3, с. 334] и допускает историческую вариативность рациональности. Согласно Веберу
16
«рационализм – это историческое понятие» [338, c. 62], а не неизменное универсальное свойство человеческой психики или отдельно взятой культуры. Тем самым в определении влияния культуры на науку достигается преодоление дихотомии интернализма-экстернализма, когда одновременно демонстрируется относительная автономия науки (умеренный когнитивный экстернализм) и ситуативно-градиентное влияние объемлющих социо-культурных контекстов и субъектов на нее, которые выступают актуальным или потенциальным заказчиком и/или адресатом идейных или технических достижений науки (умеренный социальный экстернализм) [173].
Праксеологическое измерение науки выступает доминантным элементом в структуре научной рациональности, поскольку задает общий механизм соотнесения и содержательного наполнения других измерений. Так, для классической науки сквозной изоморфизм (параллелизм) всех структурных измерений науки служит непроблематизируемым фоном исследования, для неклассической – осознанной проблемой (как задача переконфигурирования, установления иной, нежели в классике, конфигурации данных измерений), для постнеклассической – стандартной «рабочей» задачей (конфигурирование конфигураций, конфигурирование второго порядка), где конфигуративный метод становится одним из ключевых [137] средств соотнесения качественно различных социо-культурных порядков («миров» или «реальностей»), соответствующих многомерной внутренней стратификации современных обществ. Так, американский веберовед С. Калберг [254; 255; 256; 259] реконструирует сущность конфигуративного метода в работах Вебера и высоко оценивает его значимость. Другие исследователи непосредственно говорят о констеллятивном методе [200, с. 28].
В отношении социологии как дисциплины постнеклассическая ситуация означает, что «единственное средство достижения объективного познания в социологии состоит в том, чтобы сделать прозрачным процесс конструирования объективности. Тогда развитие социологического метода предстает как все более четкое осознание оснований научного исследования: от неклассического интереса к исследованию средств и методов конструирования объекта – к постнеклассической рефлексии позиции социолога и социологии в социальном пространстве» [58, с. 63]. В итоге осознается, что «сами теории не являются нейтральными словарями и парадигмами, их использование подчинено логике институционального поведения в науке, с одной стороны, и познавательного (ценностного) интереса, с другой» [46, с 143].
В современной познавательной ситуации ключевым исследовательским вопросом становится «не вопрос, насколько точно знание репрезентирует реальность, а вопрос, как знание производит реальность» [60, с. 40]. Как отметил П. Бурдье, «социологи будущего (но это относится уже и к нам) все
17
больше будут открывать в изучаемой ими действительности осадочные продукты от работ своих предшественников» [31, с. 48]. Ранние, работавшие в классической парадигме «творцы социологических систем полагали, что достаточно только обобщить все известные факты, постулировать подмеченные взаимозависимости явлений в виде законов развития – и социология готова. Те немногие мыслители, которые составляли исключение, в сущности и не оставили никаких социологических систем, а дали лишь методологические указания [119, с. 684], т.е. исследовательские программы, вошедшие в историю и основы социологической мысли как классические, образцовые.
Таким образом, в постнеклассической гносеологической ситуации осознается необходимость расширенного видения науки как социо-культурной практики [59; 60]. Этот факт просматривается в таком «сугубо» внутринаучном течении как социология науки и техники на примере формирования феномена трансдисциплинарности в современной науке [83]. Суть последней видится в «усилении участия общественности в принятии решений в области научно-технической политики и в необходимости разъяснения содержания научно-технических проектов неспециалистам» [41, с. 80], а не просто анализе стратегий эпистемологического обмена между дисциплинами («перенос отдельных методов» или «трансляция парадигмальных образцов»), к каким бы изменениям внутри них они ни вели [92, с. 139]. По мнению Г. Бехманна, «принцип науки Нового времени, обеспечивший ей успех, а именно возрастание продуктивности через дисциплинарное разделение научного труда, не способен разрешить новые проблемы, стоящие перед современной наукой» [22, с. 20]. Тем самым в современной науке еще в большей мере стимулируется трансдисциплинарный синтез [23], в особенности в социо-гуманитарном знании и социологии, получившей «методологическую травму» [162] в форме классической «эпистемической инъекции» в исходно неклассический тип знания.
Обозначенное выше «втягивание», вовлечение социальных субъектов, являющихся конечными точками приложения, «адресатами» научных исследований, в оценку последствий и, тем самым, процесс регулирования развития науки и техники характерно именно для постнеклассической науки, где преодолевается классическое разграничение науки и ненаучных сфер (хозяйства, государства, гражданского общества). Исследователями и управленцами науки осознается, что «в процесс формирования и реализации исследовательских программ инкорпорированы социально-этическая экспертиза, оценки социальной эффективности программы, ее популяризация, формирующая позитивное общественное мнение по отношению к научному исследованию» [154, с. 7]. Это существенно отличается от классически фундированного образа «мультипарадигмальной науки» [16] и соответствует
18
тому образу, который М. Буравой обозначает как «публичная социология» [28; 29; 36; 128; 165], которая позволяет социологам «делать общее дело с социальными группами и сохранить свою честь (integrity)» [29, с. 6], дисциплинарное единство на фоне различных центробежных объективных вызовов и субъективных интересов.
С историко-научной точки зрения для степинской концепции характерно следование классической логике в описании динамики научного знания, выявленной на основе анализа истории развития естественнонаучного знания (модель кумулятивного, прогрессивного развития). Для естествознания это представляется обоснованным, поскольку в нем «можно достаточно четко проследить определенные этапы становления и развития метода, что принято связывать с такой характерной чертой естественных наук, как семиотическая однородность (использование более или менее однородного языка описаний, единство терминов и понятий), соответственно, в области естественных наук можно говорить о прогрессе научного знания» [58, с. 58]. В то же время для социо-гуманитарного знания характерны ряд специфических особенностей в структуре и динамике.
Кумулятивность знаний в естественных и социо-гуманитарных науках отличается качественным образом, хотя, имплицитно следуя идеалу классической науки (единство реальности, метода и знания), методологи науки и науковеды долгое время пытались обнаружить единый механизм кумулятивности. Более корректным, по мнению М.К. Петрова, представляется социологическое, «поведенческое, а не логическое или гносеологическое истолкование кумулятивности» [125, с. 58], рассматривающее взаимосвязь когнитивного и социального измерения науки (социо-культурных условий и факторов ее существования). «В тех дисциплинах, предметная реальность которых альтернативна (большинство общественных научных дисциплин), не содержит жесткого репродуктивного каркаса слепых автоматизмов и однозначных корреляций между поведением объекта во взаимодействии с другими объектами и свойствами объекта, феномен кумулятивности не может рассматриваться как основная качественная характеристика дисциплины. Здесь кумуляция знания имеет подчиненное значение, зависит от формулировки проблемы и получает дополнительный вектор-определитель как направленная и конечная по времени кумуляция знания для решения проблемы в конкретных и таймированных социально-исторических условиях» [125, с. 70].
Таким образом, социальная реальность отлична от природной в том, что она (1) обладает множеством альтернативных сценариев развития, (2) которые временно и исторически ограниченны (по Петрову «таймированы», т.е. релевантны и «истинны» в ограниченных социокультурных условиях) и (3) реализуются за счет активной, конструирующей деятельности по
19
(пре)образованию существующей действительности согласно целям и ценностям действующих людей. Эти характерные черты социо-гуманитарной онтологии – альтернативность, таймированность и конструируемость – определяют соответствующие эпистемологические характеристики социо-гуманитарного знания, его структуру и динамику – соответственно множественность, диахронность и открытость научно-исследовательских программ (в терминологии И. Лакатоса [98]).
Со структурной точки зрения социо-гуманитарный эпистемологический «ландшафт» включает множество конкурирующих парадигм («научных программ», «картин мира»), выработанных в разные времена, в разных национальных традициях мысли, но сосуществующих и используемых одновременно в исследовательской практике – в том числе в виде такого специфического только социо-гуманитарному знанию феномена как «классическое» наследие, обладающее непреходящей актуальностью на всех этапах развития социо-гуманитарной мысли [129]. По мнению Степина, это свидетельствует об отсутствии единой социо-научной картины мира и «консенсуса в принятии той или иной ее версии, который сложился в естествознании по поводу научной картины природы» [150, с. 47] и соответствует «предпарадигмальному периоду развития науки, если использовать терминологию Т. Куна» [153]. Вместе с тем, Степин показывает, что «в различных версиях структуры и динамики общества есть общие компоненты, что намечает общие контуры картины социальной реальности» [147, с. 11], однако «многие еще непроясненные в методологии науки состояния социальных исследований, которые воспринимаются как особенности социального познания, отличающие его от естественно-научного, могут быть прояснены. Но, конечно, для этого нужен особый анализ научных текстов» [121, с. 42].
Ссылаясь на работы Фуко, Степин утверждает, что «в строгом смысле слова социальные и гуманитарные науки конституировались в XIX столетии, когда в культуре техногенной цивилизации отчетливо оформилось отношение к различным человеческим качествам и к социальным феноменам как к объектам управления и преобразования» [151]. Стоит также отметить, что природа не сразу стала объектом техногенного преобразования на основе научного знания. Лишь определенный «союз» науки и техники позволил перейти от познания (божественной) истины или научно немотивированного, случайного изобретательства, часто обладающего очевидной экономической пользой, к систематическому научному исследованию и воспроизводству науки как заряженной на открытия познавательной практики в системе университетского образования [176]. В результате, «характерный для техногенной цивилизации
20
пафос покорения природы и преобразования мира порождал особое отношение к идеям господства силы и власти» [159, с. 88].
В этом отношении важно отметить, что «технизация» естественных и гуманитарных наук проходили практически одновременно и схожим образом – в условиях рамочного влияния праксиса технократически фундированного индустриализма, легитимировавшего и стимулирующего становление определенной универсальной научной картины мира, обслуживающей модерновую установку на рациональное покорение природы и, позднее, общества. Наконец, каждая научная картина мира, в свою очередь, выполняет функции онтологизации, систематизации и инкультурации знаний [150, с. 45-46]), обеспечивающие когнитивную и институциональную целостность дисциплины, ее культурную совместимость и встраиваемость в корпус актуальных знаний и социальных представлений.
Обозначенное выше наличие нескольких социо-научных картин мира формально-логически не противоречит обеспечению данных функций в рамках каждой конкретной картины мира и консенсусу в сообществе (его кластерах) «социальных ученых» по их поводу. Более того, существование универсальной социо-научной картины мира является достаточно проблематичным – и, возможно, потому никогда не наблюдавшимся в реальной практике социо-гуманитарном знании – ввиду их неизбежной социокультурной, «онтологической», а не чисто эпистемологической множественности [201]. Немецкая социология не опровергает французской; национальные особенности каждой социологической традиции релевантны (адекватны) определенным, исторически специфическим социо-культурным реалиям. В то же время, как утверждает П. Штомпка, невозможно говорить о немецкой или французской физике, химии, биологии или даже каких-то национальных традициях в данных дисциплинах с эпистемологической точки зрения [202, с. 37].
С динамической же точки зрения «сравнительно простая куновская схема смены парадигм заменяется сложной, растянутой на два-три десятилетия игрой глобальных стратегий с острой конкуренцией, объединением или вытеснением одних и явным триумфом других» [37, с. 186]. Это делает возможным соприсутствие и конкуренцию нескольких подходов, выработанных в разных типах научной рациональности, диахронных по своему содержанию, конвенционально закрепленному за теми или иными сменяющими друг друга социо-культурными эпохами (ситуациями). Диахронными данные типы представляются с точки зрения модели линейной, постадийной эволюции типов научной рациональности, характерной для естественнонаучного знания. Эволюционные и исторические представления как неотъемлемые свойства предметной реальности в социо-гуманитарном знании, вводятся в
21
онтологическое измерение естественных наук лишь в последние десятилетия ХХ века [54; 158].
Для социо-гуманитарного знания характерно не линейно-постадийное, а синхронное присутствие и неравновесное развитие всех типов научной рациональности в различных дисциплинах, а также наличие «аномального» для естествознания неоклассического типа научной рациональности. Синхронность развития различных типов обеспечивается не только онтологической спецификой «объекта» исследования, обладающего сознанием и памятью, рефлексивностью и активностью (человек, социум, культура), но также сохранением связи и активным эпистемологическим взаимообменом с философским знанием. Как утверждает Степин, «нетождественность философских оснований науки всему многообразию идей, возникающих при разработке мировоззренческой проблематики в сфере философского познания, означает, что философия в целом обладает определенной избыточностью содержания по отношению к запросам науки каждой исторической эпохи» [156, с. 10].
Таким образом, эвристический потенциал отдельных теорий и авторов может не осознаваться и не осваиваться в «полной» мере в момент их фактического появления и попадания в научную коммуникацию. Полнота такого освоения является относительной, ограниченной эпистемологическим горизонтом господствующей парадигмы (в терминологии Т. Куна ее «ослепляющим эффектом»), а также эпистемологически и социально обусловленными механизмами цитирования, порождающими дисбаланс внимания ученых к новейшим работам как к, предположительно, наиболее продвинутым в предметной области. Этим объясняется феномен позднейшего «переоткрытия» авторов, прорывной потенциал идей которых не замечался в момент их появления, а выявлялся апостериорно в результате специальных историко-научных или случайных, редких архивных изысканий исследователей-прикладников (например, «открытие» работ Г. Менделя в генетике [126]).
Ввиду своей концептуальной или социокультурной несовместимости с доминирующей познавательной ситуацией эпистемологический потенциал некоторых теорий не осваивается и не включается в рутинные исследовательские и образовательные практики внутри дисциплины. Вместе с тем некогда доминантные, господствовавшие ранее подходы могут сохранять актуальность достаточно длительное время (часто несмотря на очевидный «моральный износ»), так как остаются затребованными в определенной социо-культурной ситуации (среде) или в определенном научном сообществе в те или иные периоды разновекторного развития общества. Соответственно, вопреки линейно-эволюционным представлениям «появление неклассической
22
методологии отнюдь не означало, что классические подходы ушли со сцены» [59, с. 53], вытесненные более «совершенной» неклассикой и т.д.
Из указанных особенностей структуры и динамики социо-гуманитарного знания мы можем вывести два следствия, имеющих важное значение для выбранной постановки и решения задач нашего исследования. Во-первых, проекты классиков (О. Конта, К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма) по своему содержанию могут быть переинтерпретированы как образцы неклассической и постнеклассической науки [2; 77]. Однако в контексте доминирования классической науки и ее позднейшей неоклассической модификации познавательный ресурс данных проектов использовался достаточно селективно, оставаясь потенциально открытым для будущего освоения и переинтерпретации. Во-вторых, проекты некоторых классиков переживали периодические реактуализации (т.н. «ренессансы»), соответствующие переходам к неклассической (конец 1960-ых гг.) и постнеклассической науке (конец 1980-ых гг.), когда в их работах «открывались» ранее незамеченные гносеологические ресурсы. При этом рецепция веберовского наследия протекала главным образом в рамках культурсоциологически ориентированных традиций. Вместе с тем, в отношении Вебера достаточно проблематично утверждать о существовании т.н. «веберовского ренессанса», что будет проанализировано нами в дальнейших разделах диссертационной работы (разделы 1.2 и 2.1).
Таким образом, концепция Степина позволяет провести общетеоретический анализ веберовской и неовеберианской социологии с точки зрения их постнеклассической направленности. В то же время, демонстрация конкретных методологических ресурсов изучения культуры в работах Вебера и неовеберианцев требует привлечения иных, более конкретных теоретико-методологических инструментов, релевантных и комплексируемых со степинской схемой. Для поиска такого рода инструмента необходимо провести краткий обзор гносеологической ситуации в социологическом изучении культуры.
Семантическая емкость категории культуры превышает сотни определений. Так, еще в классической работе американских антропологов А. Кребера и К. Клакхона середины ХХ века [264], посвященной проблеме классификации определений понятия культура, было зафиксировано уже более 150 понятий. Негативной стороной такого смыслового разнообразия выступает высокая категориальная неопределенность и, как следствие, достаточно произвольное употребление понятия, которое в итоге превращается в «остаточную категорию» [271, с. 20], «черный ящик», «пустую метафору» или «мусорный бак» [215; 262; 318], куда по остаточному принципу зачастую
23
помещаются недостаточно проработанные теоретические конструкции и необъясненные эмпирические факты.
Сегодня особую актуальность получает задача системной категориальной проработки понятия культуры, которая бы удовлетворяла современным теоретико-методологическим стандартам и потребностям исследователей. Немецкий культурсоциолог Фридрих Тенбрук отмечает, что именно ввиду данной непроработанности понятие культуры долгое время не получало адекватного раскрытия своего действительного эвристического потенциала [163]. Поэтому одним из приоритетных направлений такой проработки, обладающих особой актуальностью в контексте «культурологизации» научного знания, нам видится именно задача «снижения размерности» широкого понятийного пространства категории культуры. Данная задача состоит в поиске емкой, но компактной типологической схемы, упорядочивающей пространство разнообразных определений культуры и подходов к ее изучению, а также оснащающей исследователей конкретными категориально-понятийными средствами для анализа культуры в целом и ее разнообразных феноменов.
Такая схема, если она претендует на укоренение в исследовательских практиках, должна удовлетворять трем требованиям, которые соответствуют структурным характеристикам научной парадигмы, как они определяются известным историком, методологом и социологом науки Куном [157]. Во-первых, она должна выступать псевдогенетической, идеализированной реконструкцией «фактической» истории становления различных теорий и подходов к изучению культуры (требование историчности, релевантное задаче внутридисциплинарной исторической и теоретической рефлексии, критики и разработки). Во-вторых, включать экономный и при этом исчерпывающий перечень парадигмальных образцов изучения культуры, упакованных в понятный образовательный продукт (требование дидактичности, релевантное задаче дисциплинарного самовоспроизводства в образовательных практиках). И, в-третьих, предоставлять идеализированную онтологическую картину устройства современной культуры, задающую рамочный исследовательский горизонт и стратегию исследования культуры и ее конкретных феноменов (требование операциональности, релевантное задаче проведения конкретных меж- и внутридисциплинарных, сравнительных и локальных исследований).
Отметим, что существующие на сегодня многочисленные классификации культуры чаще используют дескриптивный подход, выделяя ее структурные (морфологические) свойства и группируя культуры по отдельным атрибутам данных свойств [89]. Данный ход представляется нам тупиковым в силу методологического дефицита классификационного подхода (классификации) по сравнению с типологическим (типологизацией). Если классификация является средством иерархического упорядочивания многочисленных предзаданных
24
индивидуальных объектов по их типовым, но уникальным и непересекающимся качествам, то типологизация осуществляется на основе разбивки нечеткого пересекающегося множества выделяемых объектов на основе не их непосредственных свойств, а свойств общей, «идеализированной модели» таких объектов [5].
Классификационный подход в отношении изучения культуры и в рамках поставленной нами задачи поиска более эффективной схемы изучения культуры, обладает рядом недостатков. Во-первых, классификационный подход не позволяет провести структурный анализ различных подходов к изучению культуры (а не самих понятий культуры) и позиционировать их в историко-социологическом пространстве, определив тем самым их актуальность в современных социо-культурных и познавательных реалиях. Так, в уже упомянутой работе Кребера и Клакхона [264] доминируют методологические установки господствующего в социальных науках того времени (середина 1950-ых гг.) бихевиоризма, который акцентирует поведенческий (технологический) аспект культуры, уделяя минимальное влияние иным аспектам (коммуникативным, игровым, текстовым и т.п.). Во-вторых, работая на дескриптивном уровне, классификационный подход не способен предложить схему для выбора и обоснования релевантности и преимуществ использования того или иного подхода для анализа исследуемых культурных феноменов. В-третьих, классификационный подход не может предложить четко структурированный способ комбинации различных исследовательских подходов с претензией на целостный и многомерный анализ культуры.
Важно отметить, что задача типологизации подходов к изучению культуры также исходит из постнеклассической познавательной ситуации. В своей реализации кроме уже обозначенных выше требований парадигматической образцовости она должна учитывать обозначенные нами ранее содержательные характеристики постнеклассической науки, т.е. на операциональном уровне инкорпорировать описанные особенности структуры и динамики научного знания – альтернативность, таймированность и конструируемость онтологий, а также множественность, диахронность и открытость научных программ. Далее мы представим данную типологизацию и проделаем на ее основе краткий обзорный анализ национальных исследовательских метапрограмм в современном социологическом изучении культуры.
Типология подходов к культуре заимствуется нами из работ В.Л. Абушенко [6] и представлена в виде схемы, где подходы расположены в определенном порядке, сочетающем эпистемологические и хронологические свойства (рисунок 1.2, приложение Б).
25
Рисунок 1.2 – Схема типологического подхода (с дополнением типами
научной рациональности) В схеме выделено десять подходов (предметный, деятельностный,
аксиологический, технологический, знаковый, игровой, текстовый, коммуникативный, субъектный и системно-организационный). Два последних обладают особым статусом, так как размещаются на крайних полюсах горизонтальной растяжки, обозначающей субъекта культуры и принцип ее устройства (организованности) на микро- и макро-уровнях. Тем самым данные подходы являются интегральными, синтетическими подходами, сочетающими ресурсы остальных подходов, а именно тех, что расположены ближе к соответствующему им полюсу. Вертикальные полюса схемы задаются критериями (социальной) статики и динамики («Что?» и «Как делается?»), позиционируя подходы как «статичные» и «динамичные» (или «структурные» и «процессуальные») по верхней и нижней горизонтали соответственно. С содержательной точки зрения данная пара прочитывается как «сделанное» и «делаемое», стабилизационное и инновационное, выступающие двумя началами любой культуры [6], развитие которой «предстает, с одной стороны, как выработка новых смыслов и значений, регулирующих деятельность, поведение и общение людей, а с другой – как формирование новых кодовых систем, закрепляющих и транслирующих эти смыслы и значения» [148, с. 13]. При этом статика является скорее опредмеченной, схваченной динамикой, нежели отражением инвариантных, неизменных структур [211, c. 75].
26
Схема обладает тремя общими «рабочими планами», соответствующими обозначенным ранее парадигмальным требованиям (историчности, дидактичности и операциональности).
Во-первых, каждый подход соотносим с реальными теоретико-методологическими образцами изучения культуры («парадигмами») и включает в себя ряд конкретных «авторских решений» (подпрограмм). Нумерация отражает порядок выхода подходов в доминантную позицию, являясь идеализированным представлением действительной истории развития области социологического изучения культуры. На схеме приведен идеализированный хронологический фон, накладывающий периоды классической, неклассической и постнеклассической науки (согласно Степину) на последовательность возникновения подходов. Однозначное отнесение подходов к данным периодам достаточно условно, так как внутри каждого подхода в процессе последующего развития и переинтерпретации в условиях критики и борьбы с другими, более «зрелыми» подходами находились и разрабатывались познавательные ресурсы иного типа, нежели заданные основоположниками и приверженцами в процессе его развития. Так, актуальным и показательным примером такой переинтерпретации является постнеклассически ориентированное перепрочтение предметного и деятельностного подходов в работах представителей акторно-сетевой теории Б. Латура, Дж. Ло и других авторов (т.н. «материальный поворот») [33].
Во-вторых, каждый подход описывает типовую методологию изучения культуры, которая обладает собственным «твердым» ядром» (по Лакатосу) из базовых аксиом, определяющих одновременно предметный и методологический фокус подхода. Подход претендует на тотальный срез пространства культуры, стремясь свести ее разнообразие к единому «знаменателю», схватывающему при этом культуру как целостность. Поэтому отдельный подход (программа) недостаточен для комплексного анализа культуры или ее отдельных феноменов. «Ни одна из них не может претендовать на универсальное (в смысле всеобщности охвата содержания) видение культуры, но каждая из них является универсальной в смысле анализа такого среза культуры, который позволяет схватывать ее как целостность, обеспечивающую воспроизводство, функционирование и развитие социума и всех его компонентов, начиная с личностного и заканчивая глобальным уровнем его организованности» [3, с. 344]. Конкретные, авторские исследовательские программы являются, как правило, комбинацией нескольких подходов, один из которых является основным (доминантным).
В-третьих, каждый подход является элементом комплексной онтологии и методологии изучения культуры. Поскольку отдельные подходы недостаточны для интегрального изучения культуры, требуется их комплексирование. Данная
27
процедура предполагает вовлечение познавательных ресурсов отдельных подходов в той мере, насколько они затребованы целью, проблемами и методами анализа. Исследовательские программы, претендующие на тотальный анализ культуры, являются результатами комплексирования (в иных версиях – конфигурирования [137]) всех или большинства подходов, основанного на методологическом ресурсе некоторых из них и иных метатеоретических средствах (общенаучных подходах, а именно теории систем, синергетики и т.п.). Возможность комбинации статичных и динамичных подходов находила свое выражение в критике и дополнении структурных подходов с помощью их «динамизации», дереификации [114] (например, статично ориентированного структурного функционализма в динамически ориентированном конфликтологическом подходе).
Теперь мы рассмотрим ключевые исследовательские метапрограммы в социологическом изучении культуры, что позволит провести общий сравнительный анализ различных направлений в социологическом изучении культуры и оценку специфики немецкой культурсоциологической традиции в частности. Данные программы мы объединяем в национальные линии, поскольку соответствующие традиции социо-гуманитарного, в особенности философского знания отдельных стран исторически задали и в существенной мере продолжают определять векторы развития данных программ. Как показал Степин, именно философия «часто сталкивается с фрагментами и аспектами действительности, которые превосходят по уровню системной сложности объекты, осваиваемые наукой» [156] и потому «обладает определенной избыточностью содержания по отношению к запросам науки каждой исторической эпохи» [156]. Мы выделяем соответственно немецкую, французскую, британскую, американскую и российскую традиции.
Немецкая традиция является ареалом зарождения и развития культурсоциологической линии в социологическом изучении культуры, активно вовлекающей ресурсы культур-антропологии и культур-философии (Х. Плеснер, А. Гелен, Э. Ротхакер, Э. Шпрангер и др.). Вместе с тем здесь получили преимущественное развитие ценностная (М. Вебер, Ю. Фридрихс), символическая (М. Шелер, Э. Кассирер, А. Вебер) и, позднее, коммуникативная программа (Ю. Хабермас, Н. Луман). Современный культурсоциологический дискурс представлен целым рядом имен (Х.-П. Турн, В. Липп, А. Хаан, Ю. Шталь, Й. Вайс, В. Хеннис, В. Шпрондель, К. Зейфарт, Ш. Мёбиус, А. Реквитц и др.).
Ключевым фактором развития немецкой линии выступила проблематизация субъекта культуры (личности), нашедшего выражение в проблематике и споре немецкого идеалистического трансцендентализма (акцент на универсальном познавательном субъекте) и историцистского
28
романтизма (акцент на действующем, творящем «эмпирическом» субъекте) [1; 240]. Данное противопоставление зародилось и усиливалось по мере развития капитализма, сопровождавшегося формирование «свободной» рабочей силы, стандартизацией и массовизацией, пришедшими на смену средневековым корпорациям [300, c. 96]. Противопоставление личности и массы, «культуры» и «цивилизации» стало лейтмотивом широко распространенного в Европе, особенно в Германии, «культурпессимизма».
Данный спор в своих глубинных основаниях являлся столкновением классической и неклассической рациональности, воспроизводясь впоследствии в различных методологических дискуссиях (в частности, в «споре о методах» в национал-экономии, истории, праве [261; 347]). При всей диаметральности позиций общим для них является фокусировка на субъекте (познания или творчества), что в целом определяет латентное доминирование субъектной программы, определяющей направленность разработок в рамках иных программ. Системная программа в немецкоязычном пространстве нашла свое единичное, но весьма существенное воплощение в работах Лумана [276], опиравшегося на американскую линию (Парсонс), теорию систем и конструктивизм.
С генетической точки зрения собственно культурсоциологическая линия была латентно задана у Вебера, но ввиду внешних (ранняя смерть автора, нестабильность веймарского периода, национал-социализм, послевоенная денацификация) и внутренних причин (усиление неоклассической линии, послевоенная американизация социологии) и, несмотря на яркие, хотя также практически незамеченные довоенные интерпретативные работы М. Ландмана, Х. Фрайера, З. Ландсхута, А. фон Шелтинга, не получила своего широкого развития вплоть до начала 1970-ых гг. (время становления ключевых культурсоциологических концепций). Более детально генетические и эпистемологические особенности неовеберианской линии будут рассмотрены в следующих разделах работы.
Французская линия в значительной, но не определяющей мере ориентирована на модель социологии культуры, заданной функционалистской интерпретацией Дюркгейма. Культурсоциологические мотивы появляются в позднейших работах школы Дюркгейма у М. Мосса [117] и М. Хальбвакса [185] (в символических, технологических и игровых подходах), тематизировавших креативное начало культуры (проблематика техник, правил, телесности и др.) и находят обстоятельную проработку в концепциях П. Бурдье. Последний наряду с М. Фуко, Ж. Бодрийяром и Р. Бартом выступают ключевыми представителями постструктурализма, способствовавшего разработке игровой и текстовой программ (еще более радикальное выражение
29
последняя программа нашла в работах Ж. Деррида, Ж. Делеза, Ф. Гваттари, Ю. Кристевой).
Формообразующей для французской линии выступила проблематизация надындивидуальных языковых, знаниевых и ментальных структур, задающих системную целостность социо-культурной реальности и формирующих неосознаваемые индивидами программы поведения. Инкорпорируя наработки и полемизируя с немецкой традицией, французская линия акцентировала проблематику системной программы, предложив тем самым, наряду с немецкой линией, наиболее дифференцированную и комплексную традицию в культурсоциологически ориентированном духе. Так, авторские концепции Фуко и Бурдье формировались под значительным влиянием немецкой традиции (Н. Элиас, социально-критическая школа, аналитическая философия Л. Витгейнштейна и др.). О близости к этой традиции говорит активное употребление этими авторами понятия культура, не свойственное французской интеллектуальной традиции, которая предпочитала ему понятие цивилизации (феномен данного словоупотребления проанализирован у Элиаса [230]).
Британская линия задавалась исследованиями по социальной антропологии, восходящими к работам Ч. Тейлора, А. Рэдклиффа-Брауна и Б. Малиновского, внесших существенный вклад в разработку предметной, деятельностной и технологической программ. Особое место занимает направление «культурных исследований» («cultural studies») Бирмингемской школы (Р. Хоггарт, Р. Уильямс, С. Холл) [96], опиравшееся на неомарксистские и структуралистские идеи, в результате чего «процессы противоречия и борьбы – локализированные ранним структурализмом полностью на уровне структуры – теперь уже наоборот локализируются исключительно на уровне бессознательных процессов субъекта» [250, с. 9], т.е. также, как и другие линии, пытаются продуктивно работать в субъектной и системной программах.
Примечательно наличие в британской традиции вебероведческих исследователей, ключевую роль среди которых сегодня играет С. Вимстер, организовавший в 2000 году издание журнала (журнал издается 2 раза в год), посвященных Веберу («Max Weber Studies»). Журнал объединяет работы вебероведов различных стран, в т.ч. итальянских, японских и китайских ученых и выступает одной из ключевых научных трибун для вебероведов со всего мира. Видную роль в становлении социологического изучения культуры в Британии также сыграла концепция «лиминальности» В. Тернера [164].
Американская линия исходно представлена культурной антропологией (Ф. Боас, Р. Бенедикт, М. Мид, А. Кребер), уделявшей основное внимание символической (лингвистическая проблематика) и технологической программам (идея «паттернов культуры», «производства культуры» [171]), ввиду чего данное направление тяготело к синтезам в рамках субъектной
30
программы (что «естественно» для неконтинентальной антропологии, фундированной биологическими и психологическими идеями), однако с иными доминантами, нежели в немецкой линии. Сегодня доминирующим направлением является школа «культуральной социологии» Дж. Александера (т.н. «сильная программа» социологии культуры), опирающаяся на идеи позднего Дюркгейма, переинтерпретированные в духе социологии культуры, что вызвало усиление символической, а особенно знаковой и игровой программ [8; 9; 10; 95; 170]. Суть же культуральной социологии – в нахождении и «исследовании «культуральных структур», под которыми понимаются внутренние, латентные и, как правило, неосознаваемые механизмы деятельности людей, сформированные в контексте относительно устойчивых смыслов социальной жизни» [90, с. 14]. В целом исследователями отмечается способность социологии культуры «инкорпорировать и ассимилировать самые разные теоретические направления» и «вдохнуть новую жизнь в социологию в целом» [91, с. 100].
Знаковым событием для «импорта» веберианской линии в англоязычное пространство стала (наряду с общеизвестными усилиями Т. Парсонса и П. Сорокина), работы А. Шютца, нашедшие системное прикладное выражение в работе П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности» [229], опиравшиеся на идеи Вебера и неовеберианца Тенбрука, отмеченного авторами благодарностью в Предисловии работы [21]. На основании данной линии развивалась школа социальных исследований науки и технологий (С. Вулгар, Б. Латур, К. Кнорр-Цетина), вышедшая на проблематику культур знания, его производства и потребления. Также стоит отметить собственно неовеберианских исследователей (С. Калберг, Ф. Доббин, Р. Сведберг, Р. Шрёдер, С. Тернер), работающих в разных направлениях как историки социологии или представители конкретных направлений (главным образом это экономическая социология, что органично соответствует дисциплинарной оптике современного восприятия Вебера). Так, работы Доббина были дважды награждены премией имени Вебера. В духе культурсоциологического анализа автор демонстрирует единые культурные коды, определяющие различные процессы в социальной, политической и экономической сферах [57].
Российская линия может быть рассмотрена как условно преемственная в отношении наследия советского времени ввиду того, что многие современные российские разработки были заданы уже в советское время, а текущие концепции опираются в значительной мере на эти работы. В рамках этой линии преобладающее развитие получила парадигматика социологии культуры, что определялось доминированием методологии специальных социологических теорий, с одной стороны, и идеологическим (само)цензурированием
31
конкурентных и «подрывных» для исторического материализма теоретических ходов в духе культурсоциологического анализа.
Среди ключевых концепций в рамках социологического изучения культуры можно выделить работы М.К. Петрова, Л.Г. Ионина, а также некоторых философов культуры (В.М. Межуев, М.С. Каган, А.С. Ахиезер). Готовая книга Петрова под названием «Социологический анализ проблем культуры» не была издана (набор был рассыпан в 1973 году) и вышла лишь в 1991 году под названием «Язык, знак, культура» [127]. Культурологическая программа находит многочисленных приверженцев в постсоветском пространстве [93; 178], но говорить о ее оформлении и институционализации представляется преждевременным [61; 138]. Активными последователями культуральной социологии Дж. Александера являются сотрудники Центра фундаментальной социологии ГУ-ВШЭ, возглавляемого А.Ф. Филипповым.
Определяющим для развития российской линии социологического изучения культуры стал советский период с характерным идеологическим «модерированием» исследовательского дискурса. Отличительной особенностью советской социологии выступила (скрытая) активистская, «героическая» позиция, направленная на преобразование социальной действительности с помощью социологической информации. Поэтому «история советской социологии – скорее история героев, чем история мыслителей, скорее история действия и противостояния, чем история внутреннего развития дисциплины и смены теоретических парадигм» [56, с. 105].
С другой стороны, ограничение доступа советских исследователей к наработкам «буржуазной» гуманитаристики или тенденциозность критики, одновременно «открывающей» ее содержание в цитатных практиках и «закрывающих» в интерпретативных, породили синдром «догоняющей рефлексии», т.е. запаздывающего освоения значительного массива работ, накопленного западной мыслью в советский период. С содержательной точки зрения советская линия была заякорена на возможностях «отработанных» и практически морально устаревших на международной арене деятельностной и технологической программ, дополняемых позднее методологическими ресурсами неоклассически ориентированной ценностной программы.
Сегодня русскоязычная социологическая мысль, как и другие национальные социологические традиции, стоит перед задачей разработки, презентации и продвижения собственной, конкурентоспособной в глобальном интеллектуальном пространстве линии социологического анализа культуры. Решение данной задачи обуславливается необходимостью концептуализации имеющихся наработок в контексте состояния и тенденций международной дисциплинарной коммуникации, протекающий в ситуации становления постнеклассических познавательных координат. В этом отношении
32
накопленные в русскоязычной философии и методологии науки ресурсы (работы Степина в частности) обладают значительным конкурентным преимуществом, освоение и применение которого в области социологической науки является одной из наиболее актуальных задач.
Таким образом, предложенная выше аналитическая схема синтезирует идеи концепции типов научной рациональности В.С. Степина и типологии подходов к изучении культуры В.Л. Абушенко, выступая попыткой применения степинской концепции в области социологического изучения культуры на уровне теоретико-методологического и историко-социологического анализа. Данная схема позволяет позиционировать Вебера и немецких неовеберианцев (Й. Вайса, В. Хенниса, В. Шлюхтера, Ф. Тенбрука) в современном пространстве социологического изучения культуры двояким образом. С одной стороны, выявить их гносеологическую фокусировку относительно различных типов научной рациональности, а с другой стороны, определить перечень и характер проработки конкретных подходов к изучению культуры.
1.2 Гносеологический профиль веберовской исследовательской
программы
Веберовская социология в своих историко-социологических истоках и теоретико-методологических основаниях сегодня традиционно воспринимается как один из ключевых, законченных образцов неклассической науки. Вместе с тем, далее мы попытаемся показать, что она имеет и определенный, скрытый эвристический потенциал, который при некоторой ее переинтерпретации позволяет отнести веберовскую социологию к постнеклассическому типу научной рациональности. Определенные ходы такой переинтерпретации содержатся уже в работах немецких неовеберианцев и будут проанализированы нами ниже.
Для подтверждения тезиса о постнеклассической ориентированности веберовской социологии необходимо выполнить ряд задач. Во-первых, нужно провести историко-социологический анализ процесса рецепции Вебера и продемонстрировать те ограничения и недостатки, которые обусловили селективный, неполный характер и вектор освоения веберовской мысли (ее «неоклассизацию»). Во-вторых, провести анализ принципов и понятий веберовской социологии с точки зрения их соответствия критериям постнеклассической науки (по онтологическому, методологическому, эпистемологическому и праксеологическому измерениям науки). Наконец, в третьих, осуществить позиционирование Вебера в пространстве подходов к
33
изучению культуры (их набор и фокусировка), представленном нами выше в рамках типологического подхода к изучению культуры (раздел 1.1).
Вебер традиционно признается одним из классиков социологии наряду с Контом, Марксом, Дюркгеймом. Вместе с тем, процесс дисциплинарного освоения (рецепции) наследия Вебера не был линейно-восходящим, проходил по-разному в разных странах. В целом «рецепции наследия Вебера присуща высокая селективность в адаптации его идей» [82, с. 161]. Эта селективность выражена в разбросе привлекаемых тематизмов и переводимых работ и обусловлена социокультурной «повесткой дня»; например, проблемой «модернизации», перехода от традиционного уклада к индустриальному (Япония в 1960-ых, Россия в конце 1980-ых, в настоящее время для исламского мира) [241]. Примечательно, что царская Россия стала одной из первых стран, где переводились работы Вебера [85].
История становления Вебера как классика социологии (его классикализация) демонстрирует нелинейную динамику и ряд парадоксов. При жизни и долгое время после смерти Вебер имел не столь большое влияние на интеллектуальное окружение, поскольку его основные работы были изданы позднее, в течение 1920-ых гг. и еще позже переведены. Уже после смерти Вебера такие признанные немецкие социологи-современники как О. Шпанн и Ф. Теннис критически относились к его работам [174, с. 51]. Не меньший скепсис в отношении ключевой на тот момент для научного сообщества проблематики «ценностной нейтральности» демонстрируют и представители немецкой экономической науки, в которой Вебер играл активную роль [287; 347].
Ряд немецкоязычных вебероведческих работ в межвоенное время был посвящен методологическим основам веберовской социологии, но остался практически не воспринят в антисемитском научном сообществе гитлеровской Германии, как и, не будучи широко изданными и переведенными, в международном сообществе (работы Х. Фрайера [236], З. Ландсхута [268], А. фон Шельтинга и др.). Рост международной известности Вебера стал результатом его канонизации в работах Т. Парсонса в 1930-ых гг., чему мы уделим отдельное внимание при дальнейшем анализе. Послевоенная денацификации и «санация» немецкого духовного наследия не обошла стороной и Вебера, чью концепцию плебисцитарной лидерской демократии некоторые считали идеологической предтечей гитлеровского фюрерства – наряду с идеями Ф. Ницше. Связи с идеями Ницше в работах Вебера начинают прослеживаются только в 1980-ых гг. – после окончательной идейной «реабилитации» самого Ницше [243; 260].
По иронии истории, на знаковом собрании немецких социологов в 1964 году в Гейдельберге (в канун 100-летия со дня рождения Вебера) именно
34
американские социологи (Т. Парсонс, Р. Бендикс и Б. Нельсон) оппонировали критическому, ярко антивеберианскому тону доминирующей в то время в Германии Франкфуртской школы неомарксизма (М. Хоркхаймер, В. Адорно, Ю. Хабермас). Тем самым социологи США восстанавливали Вебера в качестве и немецкого классика социологии, подозрение к идеям которого некоторое время сдерживало интерес исследователей [252]. Лишь к началу 1970-ых гг., после полной идейной денацификации и развенчания стереотипов марксистских прочтений Вебера как апологета капитализма (объективизма, «ценностной нейтральности»), фигура немецкого классика социологии стала центральной в немецкой социологической мысли.
В 1970-ых появляется целый ряд работ, дискутирующих тематизмы, заданные в работах вебероведов первого поколения В. Моммзена, Й. Винкельмана (руководитель Института Макса Вебера в Мюнхенском университете, ключевой редактор и издатель работ Вебера того времени), Р. Бендикса. В 1980-ые гг. в работах Ф. Тенбрука, В. Шлюхтера, В. Хенниса, Й. Вайса, М. Ризенбродта, Р. Мюнха и др. складываются самостоятельные неовеберианские концепции. Авторы обращаются к наследию Вебера не только с позиций историко-социологического интереса, но и как к теоретико-методологическому фундаменту собственной теоретической и эмпирической работы. Важно отметить, что в данных трудах уже прослеживается четкая культурсоциологическая установка как на предметном, так и на методологическом уровне.
Данная установка может быть также прослежена в историческом [109; 266], экономическом [231], правоведческом [288; 332] и религиоведческом знании, что нашло отражение и в тематических предпочтениях участников веберианской дискуссии, проанализированных ниже (см. раздел 2.1 и Приложение Г). Так, немецкий историк Г. Эксле стал одним из немногих «рано обратившихся к веберовскому наследию в самом начале своей научной деятельности, задолго до того, как концепции М. Вебера были заново открыты немецким научным сообществом» [203, с. 8]. Эксле указывает, что «наука о культуре постоянно отдает себе отчет об условиях возможности научного и исторического познания, включая и понимание собственной историчности» [204, с. 400] и что «историческое познание ... не может быть “отражением” или “реконструкцией” прошедшей истории; оно может быть только конструкцией, разумеется ... не произвольной, а связанной с историческим материалом, обоснованной “эмпирически”» [204, с. 403]. В области экономической мысли примечательно движение ордолиберализма (В. Ойкен, Л. Эрхард), берущего начало в проблематике веберовской «социоэкономики» [235].
35
Все перечисленные историко-социологические особенности рецепции веберовского наследия позволяют поставить под сомнение феномен т.н. «веберовского ренессанса», существование которого утверждается в работах отечественного вебероведа Ю.Н. Давыдова и оспаривается рядом немецких и отечественных вебероведов [86; 252]. С эпистемологической точки зрения имел место не столько разрыв якобы активной практики освоения веберовского наследия (при всех коллизиях данного процесса она присутствовала, как мы покажем ниже с помощью библиографического анализа в разделе 2.1), сколько определенный вектор рецепции, не свойственный для немецкой социологической традиции в целом и для социологического изучения культуры в частности.
Активную рецепцию Вебера в немецкоязычной социологии, способную обеспечить его классикализацию с позиций немецкоязычной традиции, затруднял целый ряд вненаучных причин. Это слабая изданность и переведенность ключевых работ, социо-политическая турбулентность Веймарской республики, национал-социалистическая идеологизация науки, послевоенная американизация и денацификация науки. А.И. Патрушев утверждает, что на фоне в целом низкого внимания к Веберу в период Веймарской республики, оно к тому же носило факультативный для социологии характер, протекая главным образом внутри истории и религиоведения [124, с. 56]. Такой же характер первоначально носила рецепция Вебера и в Российской империи [85, с. 121; 50] – в работах историка А.И. Неусыхина [119; 120]. Иными словами, социологическая дисциплина с определенным опозданием включилась в освоение веберовских идей.
Причины такого «невнимания» социологии начала ХХ века к Веберу лежат не столько во вненаучной, сколько во внутринаучной, эпистемологической плоскости. Ключевую роль для этого сыграла явная несовместимость неклассически фундированных идей Вебера с доминирующим в начале ХХ века образом социологии как науки, который определялся неоклассическим контовско-дюркгеймианским социологическим проектом [300]. Данный проект в межвоенное время постепенно вытеснил неклассические подходы в маргинальное положение и занял лидирующие позиции на международной социологической арене, удерживая их в послевоенное время вплоть до конца 1960-ых гг.
Важно отметить, что аналогичная ситуация наблюдалась и в экономике, в рамках которой неклассические подходы (институционализм) также были потеснены неоклассической теорией [63; 161]. Таким образом «спор о методах» как в социологии, так и в экономике был решен не в пользу неклассической науки и, тем самым, обусловил селективную, «усеченную» рецепцию веберовских работ, их неоклассическое прочтение. Веберовская социология не
36
была усвоена социологическим сообществом в своей потенциальной полноте до момента выхода неклассической науки в доминантную позицию (с конца 1970-ых гг.) и критической переинтерпретации парсианского прочтения Вебера.
Указанный параллелизм в развитии социологического и экономического знания нашел отражение в «эпистемологическом самоопределении» Парсонса, не получившего заметного признания в сообществе экономистов, в том числе и за счет неудачных попыток «импортировать» в США идеи немецкой исторической школы национал-экономии, хорошо знакомой ему после учебы в Германии в конце 1920-ых гг. При этом впоследствии он перенял проблематику и инкорпорировал методологические схемы набирающей вес неоклассической экономики в социологию, отказавшись от неклассического историзма немецкой традиции [179]. Этот факт обусловил скрытый нормативизм в теории культуры Парсонса, сохранившийся вплоть до его самых поздних работ [293].
«Классикализация» Вебера как социолога осуществлялась Парсонсом в ситуации возрастающего влияния США на мировой арене, подъема американской социальной науки и структурно-функциональной социологии в частности. Парсонс включил Вебера (наряду с Дюркгеймом и Парето) как основоположников теории действия в свой канонический труд «Структура социального действия» (1937). Примечательно, что глава о Зиммеле также была подготовлена, но исключена из этой работы по «личным причинам» (из-за конкуренции Парсонса с приверженцем зиммелевской социологии Г. Беккером [129, с. 39]), а также потому, что его программа не укладывалась в тезис о конвергенции, составивший историко-социологическую основу концепции социального действия Парсонса.
Впоследствии всплеск внимания к Зиммелю и Веберу в 1970-1980-ых гг. происходит в период перехода от неоклассической к неклассической социологии, после критики структурно-функционального анализа [273]. Будучи ключевым представителем неоклассики в социологии, Парсонс на долгое время задал определенное прочтение Вебера, подвергнувшееся критике вместе со структурным функционализмом в целом. Селективность в интерпретации Вебера в значительной мере задавалась тезисом о конвергенции концепций Дюркгейма и Вебера, основные содержательные схемы для которого заимствовались в большей мере из социологизма Дюркгейма [220, c. 237]. Впоследствии антитезой данному прочтению выступил особый «антиамериканизм» немецких исследователей, стремившихся «использовать фигуру социолога Вебера для того, чтобы противопоставить европейскую науку (как более изначальную и аутентичную) американской (как вторичной и поверхностной)» [48, с. 67].
В критике же парсианского прочтения Вебера можно выделить онтологические и методологические фокусы. Теория Парсонса содержала
37
представление о целостной, бесконфликтной социальной системе, задаваемой универсальными ценностными образцами поведения, локализованными в отдельной, нормативной сфере культуры. Такая картина социального мира оспаривалась другими исследователями, поскольку в теории общества Парсонса «нет места для конфликта: ведь все согласны по поводу основополагающих ценностей» [43, с. 14], она не предполагает «ни динамизма ни конфликта», как у Вебера [258]. «Представления структурного функционализма о мирном, опирающемся на развитие техники прогрессе было разрушено войной во Вьетнаме, студенческими волнениями в западном мире, совпавшими с выступлениями черных в США, экономическим спадом 70-х гг.» [192, с. 87], в результате чего возник онтологический и методологический «вакуум», заполнение которого происходило с помощью гносеологических ресурсов неомарксистской и веберовской социологии, признавших и демонстрировавших неустранимую и позитивную роль социального конфликта и борьбы в социокультурной динамике [320, с. 284].
Методологически вынесение культуры в отдельную сферу привело к а-культурности других сфер и вывело «инструментально рациональные институты за рамки культурного анализа и тем самым выхолостила исследования культуры» [57, с. 43]. «Сферное» представление культуры Парсонс наследовал у экономистов [57, с. 43], традиционно выводящих за рамки предмета исследования, в «черный ящик» культуры любые постановки вопроса не в логике методологического индивидуализма [111], который отрицал реальность каких-либо надындивидуальных экономических феноменов (институтов, общества, культуры).
В структурно-функциональной традиции принцип «свободы от оценочных суждений», подразумевавший у Вебера требование учета и контроля в познавательной деятельности влияния ценностных позиций ученого, был проинтерпретирован в духе ценностной нейтральности, свободы от (всяких) ценностей и, в таком прочтении, отождествлен с научной объективностью как таковой. Принцип «методологического индивидуализма», имевший для Вебера аналитический, инструментальный характер, был переведен в онтологически ориентированные атомистически-волюнтаристские представления – вновь в соответствии с субъективизмом неоклассической экономики [7]), неправомерно универсализирующей антропообраз «человека экономического» [38].
Примечательно, что впоследствии идеи Вебера служили для преодоления неоклассических ограничений в работах Ф. Найта, основоположника Чикагской школы экономики – предтечи неклассически ориентированной институциональной экономики (Дж. Стиглер, Р. Коуз) [231]. «Спор о методах» воспроизвел и решал в достаточно провеберианском духе и Т. Веблен [35; 183],
38
который среди экономистов считается одним из основоположников неклассической институциональной экономики. Идейный параллелизм неоклассической экономики и структурно-функциональной социологии выражен в структурном подобии поведения сверхсоциализированного человека социологического и недосоциологизированного человека экономического [32]: первый слепо подчиняется социальному окружению (конформен), второй вынужденно подчиняется рыночной среде (ситуации), обладая полным знанием о ней. Борьба с данными нереалистичными антропообразами составляет актуальную повестку дня в экономической социологии и неоинституциональной экономике – и ведется в преобладающей мере с помощью привлечения «фактора» культуры [223; 224; 229; 247].
Наконец, на место многомерного социо-исторического анализа диахронных, уникальных культур, представленного в работах Вебера, в парадигме структурного функционализма возобладала универсальная теория общества, описывающая исторические траектории развития культур как различные случаи одного и того же эволюционного пути развития. Результатом такой эпистемологической позиции стало формирование идейной основы для политики модернизации и реформирования, обладающих низкой чувствительностью к культурно обусловленной специфике хозяйственной, социальной и политической жизни разных стран. Данные ограничения были вскрыты в обсуждении феноменов модернизации, вестернизации, которое велось с активным привлечением веберианских идей [15; 22; 65; 66; 110; 219; 228; 282]. Таким образом, представляется не случайным тот факт, что мотив «депарсонизации» Вебера стал одной из доминант вебероведения в последней трети ХХ века [220; 274, с. 8]. Одной из составляющих такой ревизии стала интерпретативная работа, направленная на возврат к идейным основам веберовской социологии.
Реконструкция историко-социологических истоков и теоретико-методологических оснований веберовской исследовательской программы, заложенной в начале ХХ века, позволит продемонстрировать ее скрытый постнеклассический эвристический потенциал, обладающий актуальностью в современных условиях. Для этого нам необходимо проанализировать исходную гносеологическую ситуацию в социо-гуманитарном знании конца ХIХ – начала ХХ века, которая определила ключевые теоретико-методологические проблемы, получившие решения в веберовской социологии, а позднее критически отрефлексированные и развитые в конкретных неовеберианских концепциях. Современное Веберу интеллектуальное и политическое окружение концентрировалось на четырех ключевых тематизмах: кризис либерализма, подъем социализма, экономизация социальных наук и распространение
39
(ницшеанского) культурного пессимизма [304, с. 193]. Широкая бюрократизация, сопровождающаяся снижением свободы индивида и ростом массово-анонимных форм обобществления, воспринималось как кризис (романтической) культуры (т.н. «кризис культуры»), ведущий к новой магической непрозрачности якобы полностью управляемого, «расколдованного» наукой мира [315; 316]. С эпистемологической точки зрения развитие индустриального капитализма выдвигало экономическую проблематику в авангард общественной, политической и научной мысли, усиливало применение и влияние экономического (целерационального) образа мышления, наиболее близкого естественнонаучному образцу познавательного «овладения миром» [235]. Однако уже на уровне терминологии немецкая мысль отличалась от англосаксонской, где не разводились понятия «экономики» и «хозяйства» – явления «взаимосвязанные, но все-таки разные вещи; что, по сравнению с экономическими, хозяйственные процессы и механизмы практически не изучены, но без понимания последних многие современные проблемы, в том числе глобальные, не могут быть успешно разрешены» [139, с. 107].
Представленная социо-культурная ситуация рефлексировалась Вебером в образе тотального процесса рационализации западной культуры, чьи явные и скрытые государственные, гражданские, хозяйственные и этические эффекты стали предметом реформистски ориентированной политики и, соответственно, предметом многомерного, наддисциплинарного (культурсоциологического) исследования. Наддисциплинарность веберовской мысли отражается не только в широте привлекаемых подходов и тематизмов (типично обозначается как «сравнительная история цивилизаций» [167; 227, с. 1]). Дисциплинарная ситуация того времени характеризовалась отсутствием строгого разделения на отдельные дисциплины в современном виде, в т.ч. социологии в частности. Для Вебера «социология» как организационный термин указывала лишь на возможную кооперацию представителей различных социальных дисциплин и на общий интерес» [39, с. 33], а не на конкретный дисциплинарный ярлык.
Данный факт имеет ключевое значение для понимания самоопределения Вебера как «социолога». Он выработал идею «культурсоциологии», выразившую уникальность и альтернативность такой социологии образцу позитивистской социологической науки, доминирующему в начале ХХ века. Вебер же считал, что изучение широкого спектра последствий рационализации в их противоречивой целостности, а также ее системного, явного и скрытого влияния на личность возможно лишь с помощью достаточно емкой, «мощной» эпистемологической конструкции. Такая конструкция возможна лишь при условии вовлечения и «интеграции всего комплекса гуманитарных наук, по
40
традиции относимых в Германии к наукам о культуре» [199, с. 128], логику которых Вебер разрабатывал в своих ключевых методологических работах.
В то же время в социологии многим виделась новая научная форма анализа и проработки путей «снятия антагонистических противоречий между предпринимателями и работниками, социальными группами» [144, с. 9], т.е. инструмент одновременно научный и практико-политический («миссионерский»), отражающий имплицитное прикладное призвание «молодой» науки. Веберу же она виделась как работа скорее не на предметном, а на методологическом уровне, где только и возможно действительное объединение разнодисциплинарных перспектив и коллективов, хотя попытка такого объединения немецких социологов в рамках Немецкого социологического общества успехом не увенчалась [252]. Задача же такого объединения состояла в том, чтобы «предоставить информацию, обеспечивающую ответственный выбор между множеством альтернативных опций, не подчиняясь волей или неволей мнимым ограничениям» [280, c. 63].
Идейным стержнем современной Веберу гносеологической ситуации стал знаменитый «спор о методах». «Спор о методах» (Methodenstreit) – ключевая теоретико-методологическая полемика последней трети XIX – начала ХХ века между теоретической (т.н. австрийская школа К. Менгера [111], одного из основоположников маржинализма) и исторической школами национал-экономии (основатель – Г. Шмоллер [198]), где обсуждались основания экономической науки, шире – социо-гуманитарного познания в целом [64]. Н.С. Розов реконструирует «спор о методах» в рамках и исторического знания, хотя при этом ошибочно утверждает об отсутствии такового в рамках экономики [141]. По мнению крупнейшего эконом-социолога современности Р. Сведберга, «спор о методах» вновь повторяется на рубеже уже ХХ-ХХI вв. [321], что делает актуальным поиск нового, постнеклассического варианта его «снятия».
В «споре о методах» Вебер занял рефлексивную метапозицию, понимая ограниченность каждой из сторон и необходимость его критического «снятия». Данный спор представляет собой ничто иное как столкновение образцов классического и неклассического типов научной рациональности, а веберовское его решение-снятие – как вариант науки постнеклассического типа. Тем самым Вебер проработал постнеклассические принципы и перспективы, а не просто встраивал «элементы неклассического подхода … в рационалистические версии истории, частично пересматривая сами основания рационализма» [69, с. 150], как это делалось в неоклассических подходах. В своем «преодолении (не компромиссе) спора о методах он исправил … ложные логические воззрения» обеих школ [308, c. 223]. Версии компромисса конфликтующих сторон «спора о методах» следует В. Моммзен [115, с. 58].
41
В своих основаниях «спор о методах» выступает одной из многих манифестаций системного, длительного и устойчивого эпистемологического конфликта в западной интеллектуальной традиции [278]. Он глубоко пронизан такими известными эпистемологическими дилеммами классической науки как «реализм – номинализм», «холизм – психологизм», «историзм – натурализм» (приложение В). «Спор о методах» вышел за рамки как дисциплинарных (в Германии аналогичный спор велся в исторической науке [344]), так и национальных границ. Он был «импортирован» в американскую экономику и социологию из Германии – признанного центра университетского образования XIX века, где учились и защищались многие американские ученые, в т.ч. и Т. Парсонс, защитивший диссертацию в 1927 году у Э. Салина, сторонника исторической школы национал-экономии [253]. Ранние статьи Парсонса [291; 292; 294], которые были посвящены анализу капитализма у Зомбарта и Вебера, еще содержат отголоски той дискуссии, где доминировала историческая школа. Но впоследствии – по мере роста влияния и «нормальности» неоклассической научной рациональности – Парсонс исключает эти идеи из своей социологической системы. Наконец, в ранней американской социологии не наблюдалось методологической дискуссии, сопоставимой по значимости с немецким «спором о методах» [253].
Позиционируя себя «по ту сторону обеих альтернатив – или только объясняющей, или только истолковывающей» [233, с. 206], Вебер «хотел скорректировать историзм исторической школы, объективизм марксисткой школы и психологизм маржиналистской школы (школы К. Менгера – К.А.), связывая экономическую теорию с теорией культуры для того чтобы создать “политическую экономию”, которая переплавила бы ставшую проблематичной связь между исторической работой, теоретической работой и работой практической» [285, c. 225]. Как считает М. Зафировски, хотя «ранний» Вебер и работал в русле исторической школы национал-экономии, в своем теоретическом снятии спора он стоял ближе к методологическим принципам австрийской школы [319; 348], стремясь отстоять научность социальных наук, инкорпорируя в ее методологический арсенал и примиряя как стратегию объяснения, так и понимания.
В конечном счете, Вебер стоял перед двойственной проблемой: (а) необходимость дать общественным наукам свои объективные «приемы концептуализации, пригодные для обобщения, которые позволили бы осуществлять причинную атрибуцию» и (б) необходимость выработки нерелятивистских правил, регулирующих отбор фактов и событий «при воссоздании исторических эпизодов» [168, с. 12]. При этом требуемые завершенные методологические решения отсутствовали как у прямых участников спора – враждующих школах национал-экономии, прошедших в
42
процессе полемики «точку возврата» к возможному консенсусу [213, с. 79], – так и у ключевых философов и методологов науки того времени (В. Дильтея и Г. Риккерта). Данный дефицит обусловлен тем, что они пытались фаворизировать одну из позиций либо «примирить» обе позиции, а не «снять» их через преодоление методологических ограничений каждой позиции и привлечение их продуктивных наработок.
Обе школы национал-экономии признавали сложностный, системный характер реальности. Но для Шмоллера это служило аргументом в пользу применения индуктивного, описательного метода (наблюдение, статистика и т.п.) во избежание упрощения реальности через абстракции, а для Менгера, напротив, – необходимости применения дедуктивных методов (теоретический эксперимент, абстрактные модели) как средств схватывания реальности, соразмерных ее сложности. Шмоллер признавал существование «холистических», надындивидуальных структур («институтов», т.е. традиций, права, организаций и т.п.), в то время как Менгер отрицал их и считал реальными только конечных индивидов и их действия (обмена, производства и т.п.). Человеческая природа для Шмоллера была исторически вариативной, что опровергало существование универсальных законов экономики, в то время как для Менгера – постоянной (эссенциалистской), что позволяло выводить такие законы из сущности человеческой природы, порождающей и детерминирующей любые ее частные проявления, любые виды человеческой активности, в т.ч. и хозяйственной.
Таким образом, обе школы придерживались крайних, радикализированных в процессе спора позиций, сталкиваясь в результате с рядом теоретико-методологических проблем. Как связать уровень повседневных взаимодействий индивидов с очевидными устойчивыми «надындивидуальными» феноменами и процессами (онтологическая проблема социальности как опосредующего звена между индивидом и культурой)? Как возможно строгое, претендующее на достоверное знание научное исследование, опирающееся на нереалистичный, но при этом широкий исследовательский охват изменчивой и историчной эмпирической реальности (методологическая проблема ресурсно и концептуально обусловленной селективности, ограниченности исследования)? Как возможно непротиворечивое сочетание и взаимообогащение теоретических и прикладных знаний, научно-исследовательской и гражданско-политической позиции (эпистемологическая проблема контекстуальности, ценностной нагруженности знания, смены и сочетания перспектив)? На эти вопросы у участников спора приемлемых ответов не было, что исключало примирение и учет наличных конструктивных наработок у каждой из сторон [213, с. 79].
43
Не менее проблематичной для Вебера представлялась ситуация в философии и методологии науки того времени. Дильтей отстаивал исключительность интуитивного (интроспективного) метода познания в гуманитарном знании («науках о духе»), что лишало социо-гуманитарное познание любых притязаний на общезначимые суждения (генерализацию) [53, с. 35]. Риккерт же, наоборот, относил социологию к генерализирующим наукам (образцом которой в то время был социологический проект О. Конта), отрицая за ней право к идеографическому познанию (познанию индивидуального, исторического). Таким образом, Вебер оказался между крайностями герменевтического психологизма Дильтея и неокантианского трансцендентализма Риккерта – и был вынужден разработать собственные методологические средства. «Как это ни парадоксально, но для Вебера особую трудность в процессе освобождения теоретического пространства для нового, нетрадиционного понимания социологии представляли уже не ее позитивистски или сциентистски настроенные приверженцы, но именно антипозитивист Риккерт, чей антинатуралистический общеметодологический подход он разделял в целом, расходясь с ним лишь в (казалось бы) незначительных деталях» [51, с. 129].
Риккертовское «отнесению к ценности» инкорпорировалось Вебером как инструмент анализа и понимания ценностей и смыслов других культур. В то же время его систематика трансцендентальных ценностей, нацеленная на «построение “научной” системы ценностей» [218, с. 139], не привлекала Вебера и была заменена реальным социологическим («земным») политеизмом ценностей, их непрерывной борьбой и развитием [303, с. 9]. «Рациональность, обеспечивающая познание ценностей, носит не материальный, а формальный, процедуральный характер. … Решающим в вопросе о ценностях является не “что”, а “как”» [311, c. 100], не попытка полного таксономического учета ценностей, а разработка адекватных средств анализа поливариантных, эволюционирующих ценностных систем [53, с. 40-43], включенных в систему исторически меняющихся социальных порядков и стратификаций внутри различных культур (цивилизаций).
В дальнейшем Вебер придал «спору о методе» еще более острый, проблемный характер, переведя его в «спор об оценочных суждениях» (Werturteilsstreit). Потенциал данного перевода уже содержался в полемике Менгера и Шлюхтера, где, «речь по большому счету шла не об отношении понятий и действительности или теории и истории, а о теории и практике, или в терминологии В. Виндельбанда, о теоретических и аксиологических проблемах (вопросах знания и вопросах ценностей)» [311, c. 86]. Данный спор напрямую касался праксеологического измерения научной деятельности, т.е. способа взаимодействия науки и вненаучных пространств (политики, хозяйства,
44
гражданского общества), характер которого, как мы выяснили ранее, в решающей мере конституирует системную целостность и, тем самым, специфику наполнения других измерений научной рациональности и деятельности (онтологию, методологию и эпистемологию). Проблематизация праксеологического измерения, включающая его анализ, рефлексию, критику и разработку (как и других измерений), как таковая является атрибутом постнеклассической рациональности. Но является ли решение Вебера в полной мере постнеклассическим, мы выясним в дальнейшем.
Позиция Вебера в данных спорах зачастую подвергалась существенным упрощениям, нашедшим свое концентрированное выражение в позднейшем «споре о позитивизме» (часто обозначаемый как второй «спор о методах») – эпистемологической дискуссии между школами критической социальной теории (Т. Адорно, Ю. Хабермас) и критического рационализма (К. Поппер, Х. Альберт) второй трети ХХ века. Позицию Вебера обозначали как точку зрения «ценностного релятивиста или, что еще хуже, ценностного агностика» [311, c. 86], что в массовой научной практике фундировалось воспроизводством подобной точки зрения в учебных клише [46].
Для современников веберовский призыв к принятию, анализу и переработке множества соперничающих «ценностных миров» в рамках социального целого, который бы не вызывал «устранения дифференцированных конфликтующих сторон, автономий компетентности и экономических прав, был частично непонятен, частично неприемлем» [272, с. 114]. Вебер же понимал, что ценности различным образом пронизывают и науку – как ценности истины, «интереса эпохи», интереса исследователя. Ценности (или «культурные ценности», как говорил Вебер) могут быть лишь предметом экзистенциального выбора между различными идеалами (культуры, стиля жизни, типа человека), а не научного обоснования. Долг ученого состоит в том, чтобы «не допускать смешения этих “регионов опыта”» [128, с. 19], когда неконтролируемая ангажированность ученого размывает строгость его научных выводов.
Тем самым не отрицается возможность объективного, рефлексивного анализа ценностей как оснований культуры, обеспечивающего познание ее устройства, специфики и динамики развития, ее потенциала к кооперации или конфликтам с иными культурами. Запрет налагается на пропаганду ученым идеалов ex cathedra, навязывание своего частного ценностного выбора в научных выступлениях и трудах. Но это не запрещает, чтобы ученые «откровенно высказывали свои воззрения на ценности» [55, с. 121], воздерживаясь от навязывания своих личных, гражданских «практических оценок». Вебер осознавал, что политеизм ценностей и стоящих за ними стилей жизни является неустранимым элементом прошлого, настоящего и, в растущей
45
мере, будущего модернового мира, и этот онтологический факт необходимо конструктивно ввести в структуру и этос научной деятельности.
С точки зрения «истории идей» показателен тот факт, что в немецкоязычных историко-экономических реконструкциях «спора о методе» [317; 347] среди ученых, предлагавших решения по совмещению «теории» и «истории», фигурируют имена оппонентов (В. Зомбарт), коллег (Ф. Готтл-Отльлилиенфельд и А. Шпитхоф) и учеников Вебера (А. Шумпетер), но не сам Вебер. Таким образом, вклад Вебера в решение «спора о методах» практически не отрефлексирован в экономической науке, что обусловлено его выпадением из мейнстримной экономической мысли и ростом оппонирующей экономизму социологической «монополии» на Вебера [166].
В данном контексте заслуживает внимания то, что подобная судьба постигла американского экономиста Ф. Найта – одного из первых переводчиков Вебера в США, – чьи поздние провеберианские работы стали трактоваться как социальная философия и практически полностью выпали из дисциплинарной истории экономики второй половины ХХ века [231]. Сегодня Вебер постепенно возвращается в экономику через эпистемологические обмены с экономической социологией и (новой) институциональной экономикой. Он тем более востребован в ситуации проблематизации «социальной онтологии» экономики, что характерно для постклассического периода ее развития [11] и ренессансом исторической школы [62; 296]. Но в целом даже в экономической социологии наблюдается «несистематические заимствования идей классиков», Вебера в частности, а обоснованность экономических процессов, функционирования рынков, через социальные институты и структуры эксплицировано все еще недостаточно системно [179].
Стоит также отметить, что в значительной мере недостаточная отрефлексированность веберовского вклада характерна и для социологии, где активность Вебера в «споре о методах», выраженная в конкретных историко-экономических работах периода 1890-ых гг., зачастую представляется как второстепенный факт его ранней, «досоциологической» интеллектуальной биографии. Тем не менее, генетическая связь «Werturteilsstreit» с «Methodenstreit» и, шире, рядом смежных и более поздних эпистемологических дискуссий, бесспорна, а потому методологический вклад Вебера обладает ценностью для всех социо-гуманитарных дисциплин и особенно для современной ситуации, для которой преодоление экономизации мышления представляется насущной проблемой. Критики экономического империализма отмечают завышенные ожидания к экономической науке и необходимость поиска синтетических версий совмещения различных дисциплинарных оптик [47; 123; 134; 140; 172; 188]. «Подходы, основанные на распространении “правил игры” одной из функциональных подсистем модерного общества на
46
другие, будь то экономический или социологический “империализм”, оказываются недостаточными для анализа взаимодействий, происходящих “на стыке” между подсистемами» [123, с. 160].
Проведя историко-социологический и теоретико-методологический анализ современной Веберу гносеологической ситуации, а также общий характер и ограниченность интерпретации его наследия, мы обратимся к более детальному анализу наличия и разработанности оснований постнеклассической научной рациональности в работах Вебера, а также проведем позиционирование его методологии в пространстве типологии подходов к изучению культуры. Мы опираемся на введенный выше структурный анализ научной рациональности (четыре сконфигурированных измерения и их отдельные характеристики), каждому из измерений которой соответствует ряд фундаментальных категорий и идей в социологии Вебера (таблица 1).
Постнеклассическая онтология задается конструктивистским вектором понимания объективности природной или социальной реальности. Она (вос)производится на нескольких качественно различных уровнях, включающих процессы саморазвития, самоорганизации и саморегуляции, инкорпорирует исторически «пройденный путь» и горизонт потенциального развития.
Реальность является сложной, насыщенной неопределенностью «масштабированной» экосистемой, включающей человекоразмерные структуры и контексты производства, исследования, управления природными и социо-культурными системами [150; 158]. Сегодня онтологические картины задаются парадигмальными образцами синергетики, теории систем и в качестве общетеоретического инструмента могут применяться для описания и социальных систем [27].
Ключевым механизмом саморазвития выступают тренды, представляющие собой совокупность конкурирующих локальных инновационных социо-культурных процессов (практик), распространение которых обусловлено потенциалом убеждения акторов в их перспективности и вовлечение в участие или их поддержку. Данные характеристики схожи с принципом самоисполняющегося пророчества, который был введен Р. Мертоном [112, с. 623] и восходит к сформулированной им же «теореме Томаса» («Если человек определяет ситуацию как реальную, она – реальна по своим последствиям»).
47
Таблица 1 – Структурные элементы постнеклассической научной рациональности в работах М. Вебера
Структура постнеклассической научной рациональности Терминологические эквиваленты в работах М.Вебера Измерения Характеристики
Онтология
Со-«производство» объекта Обобществление Саморганизующиеся системы Порядки, власти (силы)
Тренды, сценарии Избирательное сродство, правила, шансы
Мультиперспективный субъект познания
Перспективы, точки зрения, констелляции интересов
Методология
Предмет «задается» (конструируется)
Идеальный тип, методологический индивидуализм
Плюральность истины Отнесение к ценности Рефлексия и комплексирование Свобода от оценок
Методологические гибриды Понимающее объяснение, адекватная причинность
Эпистемология
Модели и имитации Идеальный тип, причинные цепочки
Ситуативность (таймированность) знания
Обусловленность знания интересом ученого, эпохи
Проблемы, программы «Социальные вопросы» Конкуренция научных программ, наддисциплинарность
«Наука о действительности» «Наука о законах»
Праксеология
Мир как экосистема Ненационалистический национализм
Мультисценарные глокальные программы
Мировой капитализм, либерализм
Целевое регулирование (форсайт) Капитализм – «судьба» Запада «Коллективный» (распределенный) деятель
Бюрократический «кошмар» («стальная клетка покорности»)
Развиваясь как частный порядок в рамках своего уровня (масштаба),
каждый отдельный тренд обладает потенциалом выхода в позицию моделирующего порядка для всей системы, ее последующей перестройки, т.е. перехода с уровня развития на уровень регуляции системы (т.е. с 3 на 1 уровень; рисунок 1.3).
48
1 – базовый тип саморегуляции; 2 – новый тип саморегуляции; 3 – потенциальный тип саморегуляции
Рисунок 1.3 – Уровни организации саморазвивающихся систем
Вместе с тем, познание выступает не как отстраненный, а один из
базовых онтологических процессов самовоспроизводства системы [192]. Для социальных систем характерна множественность познавательных перспектив, соответствующих позиции субъектов, их эпистемологическому инструментарию и информационной оснащенности. Соотнесение и, при возможности, комплексирование различных перспектив является залогом определения и реализации конвенциональной системы правил (порядков) и общего вектора развития системы, наблюдение, контроль и коррекция которого (т.е. процесса развития) ведется субъектами данных перспектив с различной степенью участия, влияния и контроля за итоговым вектором развития.
Вебер демонстрирует ряд установок, релевантных постнеклассическим онтологическим картинам. Во-первых, вместо понятия «общество» он (как и Зиммель) чаще использует понятие «обобществление», акцентируя созидательный, процессуальный и нехолистический характер структуры (структурирования) модерновых обществ. Употребляясь в единственном числе, это понятие описывает процесс обобществления, в то время как во множественном – его результаты, конкретные социальные образования (союзы, организации и т.п.). Так, обсуждая стратификационную динамику общества, Вебер подчеркивает значение интеллектуалов, обобществляющих разрозненных, лишь потенциально солидарных – согласно своему идентичному классовому положению – индивидов в осознанные организационные формы массового действия (например, профсоюзы, партии). Это происходит на основании практик коммуникации, нацеленных на создание в сознании каждого
49
индивида понятной, прозрачной «картины мира», где наглядно представлены «зависимости причин и следствий их классового положения» [340, с. 633].
Этот момент качественно отличает Вебера от гегелевского диалектического идеализма Маркса, для которого уже одной, формальной противопоставленности класса другому классу достаточно для осознания классом себя («класса-для-себя») и непосредственного перехода к массовому классово сознательному поведению. Для Вебера интеллектуальное посредничество обладает самостоятельной конструктивной функцией, инициирующей, оформляющей и направляющей «классовое сознание» индивидов. «В отличие от Маркса, здесь нет онтологии или телеологии труда, а только социология, «история развития»» (developmental history) [304, с. 202]. В целом все «веберовские понятия направлены на понимание процессов, а не на описание коллективов» [105, с. 52]; он отвергал «попытки объяснить сущность социальных структур как единого целого» [20, c. 570], понимаемого как гомогенная равновесная система (игра с «нулевой суммой»).
Во-вторых, Вебер активно использует понятие «порядки» («власти»), которое является «более гибким, ввиду чего практически не используется концепт институции», института [322, с. 128]. Главная работа Вебера, озаглавленная по воле его жены Марианны как «Хозяйство и общество», у самого Вебера исходно, в авторской редакции называлась «Хозяйство и общественные порядки и власти». Тем самым категориальные установки Вебера отличают его от (нео)классических и, в расширенной трактовке, от неклассических взглядов на социальную реальность. «Социальный порядок, выступая формой регулярностей действия и последовательной формой различных социальных группировок, конституирован для Вебера скорее на «срединном» уровне, чем на уровне индивида или «общества» как целого, что характерно для структурно-функциональной традиции. Поэтому, в отличие от Парсонса, у Вебера «ослабление или даже разрушение картины мира не означает распада общества» [258, с. 153]. Плюральность, конкуренция и сосуществование различных порядков дезавуирует образ Общества, жизнеспособного и функционирующего на основе одной нормативной системы. В соответствии с постнеклассической онтологией в работах Вебера утверждается реальная (не аналитическая или релятивистская) множественность порядков («картин мира») и неравновесная устойчивость процесса саморазвития, его внутренне напряженная, рамочная, но, тем не менее, определенная «структурная согласованность» [20, c. 580].
В-третьих, Веберу присущ взгляд на социальную динамику как на процесс с высокой долей неопределенности, где достигаются «потребности неопределенного будущего и в неопределенном будущем» [214, с. 29], хотя современные представления об агентности не получили эксплицитной
50
разработки [182, с. 35]. Концепты «констелляции», «шанса», «каузальной цепочки», «объективной возможности» и «избирательного сродства» вводят представление об эмерджентных свойствах, нормальности случайности и «целевой причинности» социальных процессов [277], подтверждая значимость системно-вероятностной компоненты в веберовской социальной онтологии. Как выражается Б. Латур, сегодня «быть социальным» – это уже не безобидное и непроблематическое свойство, а процесс, который может и не привести к установлению новой связи и к построению заново какого-либо оформленного ансамбля», социального образования [101, с. 78].
Историческая действительность видится Веберу сложностным и потому уникальным процессом, где в случае, «если тот или иной каузальный фактор отсутствует в силу исторической случайности, каузальная цепочка разрушается, а ожидаемый исторический результат не реализуется» [261, с. 109-110]. На примере анализа капитализма Вебер показал, что только уникальное сочетание («констелляция») целого ряда факторов, по отдельности имевших место в отдельных уголках мира на протяжении истории, смогло обеспечить уникальный социокультурный феномен западного рационального (индустриального) капитализма [333]. Вместе с тем, «на удивление со времен Вебера было предпринято минимум попыток пересмотреть роль этих понятий и использовать их в реальном исследовании» [277, с. 124] в рамках исследований по культурсоциологии.
Наконец, перспективизм как сущностная характеристика активности субъектов социального процесса становится неотъемлемым атрибутом и познавательной деятельности в условиях «политеизма ценностей». Вебер, по сути, стал пионером «подхода контекстуализированной рациональности (context-bounded rationality) в социологии» [286, с. 6]. Позиция Вебера в «спорах» о методах и ценностях направлена на введение множества мировоззренческих и, тем самым, познавательных перспектив, принадлежащим ангажированным социальным субъектам, как онтологических фактов на (социально-)онтологический же уровень. Это делает мультиперспективизм мышления безусловным требованием к надпартийной, «объективной» позиции актора или исследователя, осознающего и реконструирующего констелляцию ценностных идей и интересов культуры, в которой он разворачивает свою деятельность (производства, управления, исследования и т.д.). Научная работа «в сегодняшнем идеологически поляризованном мире, неизбежно и изначально политизирована. Активистская ориентация молодого поколения – сознательная реакция на данные условия и понятный ответ на консервативную модель классического “беспристрастного” ученого» [108, с. 46]. По мнению Л. Лахмана – представителя поздней австрийской школы, опирающегося на веберианские и феноменологические идеи [267], – «супраиндивидуальные схемы мышления,
51
т.е. институты, на которые ориентированы схемы первого порядка, т.е. индивидуальные планы, … конституируют межличностные пространства ориентации, т.е. схемы мышления второго порядка» [217, с. 171], но оба уровня так или иначе вписаны в повседневную социальную действительность, хотя зачастую не различаются и не осознаются самими акторами.
Прочитывая проблематику взаимодействия индивидов и социальных порядков в классической дихотомии «номинализм – холизм (реализм)», многие авторы симптоматически утверждают, что Вебер «довольно критично относился ко всякого рода системным теориям» [76]. Видный эконом-социолог Р. Сведберг не отказывает порядкам в онтологическом статусе, утверждая, что социальное действие ориентировано не только на людей, но и на сами порядки как самостоятельные анонимные социальные образования [322]. Эта ориентация может быть вписанной как в конформные, так и конфликтные стратегии поведения.
Так, анализируя процессы профессионального отбора и приспособления рабочих, Вебер пытается, с одной стороны, установить, «какое воздействие оказывает закрытая крупная промышленность на личностные особенности, профессиональный путь и внепрофессиональный “стиль жизни” рабочих, какие физические и психические качества она развивает, как они выражаются в общем жизненном укладе рабочих, – а, с другой стороны, насколько потенциал и направление развития крупной промышленности привязаны к этим заданным качествам рабочих, порожденными этническими, социальными культурными источниками, традициями и условиями жизни» [336, с. 2]. Наличие двух, аналитически выделенных уровней и направлений взаимодействия говорит об отсутствии прямого соответствия в духе психологистско-органицистского «средового» подхода или гармонизирующей функциональной согласованности, о наличии напряженного, конфликтного отношения рабочих и промышленности.
Методологические особенности постнеклассической научной рациональности определяются способами построения предметной картины (модели) объекта исследования, связанными с условиями и контекстами объемлющей деятельности (т.е. праксеологической ситуацией). Плюральность истин, отсылающих к вовлеченным социо-культурным субъектам (порядкам) и вееру желаемых сценариев развития, выступает исходной точкой исследовательской работы и требует привлечения широкого диапазона методологических инструментов, их рефлексии и комплексирования в той мере и конфигурации, которая достаточна и релевантна для решения исходной социо-культурной проблемы (задачи), обладающей системными свойствами независимо от своей непосредственной, часто узкой, локализации в физическом или социальном пространстве.
52
Методологические решения Вебера стали предметом широкой дискуссии. Принцип методологического индивидуализма зачастую сводился к онтологическому принципу, что особенно характерно для экономической науки и коррелятивной ей теории рационального выбора в социологии, где он «часто упрощался до атомизированной концепции индивидов» [217, с. 162] или «эмпирического изучения индивидуальных целей» [212, с. 145]. Основой критики методологии Вебера становится упрек в неспособности продемонстрировать появление холистических структур из действий индивидов, т.е. связать макроуровень и микроуровень анализа. Однако Вебер, вопреки Дж. Коулману, «не считал капитализм результатом целенаправленных индивидуальных действий пуритан» [180] и, как мы указали выше, через констеллятивный анализ ввел эмерджентные представления о социальных процессах, которые описывают появление новых социальных феноменов, отличающихся от прямых целей и последствий действий индивидов. Следуя традиции австрийской школы, представители теории «рационального выбора» сводят поведение к константной «природе человека», а не таймированным, «социально конструируемым смыслам (meaning)» [225, с. 21]. Вместе с тем, стоит отметить, что теоретики рационального выбора опираются именно на веберианскую схему методологического индивидуализма, обосновывая ценность данного методологического принципа [233, с. 111; 232].
В данном контексте также показательно, что ученику Вебера А. Шумпетеру для терминологического обособления и защиты веберовского понимания принципа методологического индивидуализма понадобилось ввести термин «социологический индивидуализм». В его интерпретации «суверенные индивиды составляют конечную единицу социальных наук; а все социальные феномены сводимы к решениям и действиям индивидов, для анализа которых далее не требуется привлечение надындивидуальных факторов» [247, с. 213]. Иными словами, Шумпетер исходит из представления о социализированном индивиде, поскольку внесоциальный индивид с социологической (и социальной) точки зрения является «нонсенсом».
Еще одним типовым и достаточно известным случаем некорректного понимания Вебера выступает т.н. «парадокс Ньюкомба» [118]. Связывая божественное предназначение и мирскую жизнь, Ньюкомб полагает, что принятие догмата о предопределении должно вести агентов к асоциальному и деструктивному поведению, ведь спасение предопределено всезнающим Богом, а не достигается результате мирских дел и заслуг. Однако, если исходить из веберовской логики, именно исходная невыявленность предопределения, когда человеку исходно не ведомы решения Бога, как раз стимулирует созидательную активность людей, выявляющих тем самым божественное предопределение «на практике». В ситуации такой неопределенности и произошло «избирательное
53
сродство» мирской аскезы и особого образа жизни, постулировавшего труд как самоцель, что составило костяк капиталистического этоса.
Вместе с тем, как отметил Х. Альберт, Вебер не во всех своих работах последовательно эксплицировал и применял аналитическую процедуру методологического индивидуализма, выявляющую индивидуальные основания коллективных явлений [213]. Вебер часто «ограничивается защитой индивидуалистской эпистемологии, напоминая о необходимости рассматривать эти явления как продукты соединения индивидуальных форм поведения, способ социологического анализа которых он предлагает, но при этом в итоге он остается достаточно сдержанным и немногословным в отношении самих процессов этого соединения» [97]. Категория «идеального типа», входящая в методологический канон современного социо-гуманитарного познания, также стала предметом активной критики. Вебер прямо указывал на его инструментальную и конструктивную природу, утверждая, что идеальный тип нужно рассматривать «как мысленную конструкцию для измерения и систематической характеристики индивидуальных, т.е. значимых в своей специфичности взаимосвязей – например, христианство, капитализм и т.д.» [337, с. 201]. Обсуждение данной категории зачастую основывалась на дилемме априоризма-эмпиризма, когда невозможно понять, «идеальный тип – что же это: априорная конструкция или эмпирическое обобщение» [53, с. 47]. Сегодня стало общепризнанным сопоставление идеального типа с методом моделирования [49; 168; 181; 221; 226; 313; 334], когда предварительно простроенная реальность соотносится с эмпирическим результатом исследования (производства, практики), в результате чего фиксируются и обосновываются значимые различия идеальной и эмпирической картин (т.е. определяется эффективность модели).
Применение метода идеальных типов предполагает выделение аксиоматического ядра, «условий возможности» социо-исторического феномена (явления, события или дискусра). Так, реконструируя аксиоматику теории предельной полезности, Вебер заключает: учение о предельной полезности имеет дело, с определенными познавательными целями, с человеческим действием таким образом, как если бы оно протекало от А до Я под контролем присущей торговцу калькуляции – калькуляции, настроенной на знание всех условий, входящих в рассмотрение, или, в неоклассической терминологии, экономический агент с устойчивыми предпочтениями, полнотой информации, бесконечной скоростью ее обработки. Действие этого идеализированного экономического человека выражает внеисторическую идеально-типическую логику целе-рационального, экономического действия [182].
54
Исходя из «модельной» природы идеального типа выделение генетического и чистого идеального типа, где «первый локализован в пространстве и во времени, а второй не локализован» [44, с. 123], нельзя считать состоятельным. Самим Вебером они вообще не выделяются; кроме того, по своей сути идеальные типы не локализуются в пространстве-времени, а описывают взаимосвязи и отношения в виде модельных структур, которые используются в целях анализа реальных генетических рядов и/или логических каузальных цепочек развития и функционирования исследуемого феномена. Инструментальное использование идеальных типов позволяет «перейти от постановки вопроса в духе реализма («Каким универсальным рациональным законам подчиняется социальная реальность?») к конструктивизму («Каким образом конкретные рационализированные социальные институты складываются в конкретном социальном контексте?») [57, с. 42].
Концепты идеального типа, «отнесения к ценности» и «свободы от оценочных суждений» играют важную роль для процедур рефлексии и комплексирования познавательных целей, средств и позиций. Глубокий анализ неосознаваемых предпосылок, приводящий исследователя к пониманию основ его собственной познавательной позиции, которая определяет выбор предмета и методов исследования, основан на процедуре «отнесения к ценности», примененной в отношении самого ученого. Вебер предвидел, что в надвигающийся век узкой специализации-прикладизации эмпирическая работа станет самоцелью «без осознанного контроля познавательной ценности отдельных фактов со стороны последних ценностных идей, даже без осознания их укорененности в этих идеях» [337, с. 214]. Он также видел, что новые культурные проблемы вызывают «сдвиг значений» и, как следствие, понятийную неопределенность и многозначность, работа с которыми требует непрерывной рефлексии и критики. Хотя известная «нереальность и односторонность идеального типа не гарантирует его строгости, зато предохраняет от угроз гипостозирования» [218, с. 156], т.е. нерефлексивной реификации (овещнения) исследовательских инструментов и полученных эмпирических результатов до уровня онтологических картин, или «реальности на самом деле». Большинство ключевых концептов Вебер не изобретал, а заимствовал, критически их переосмысляя, из работ своих современников в самых различных дисциплинах (история, прововедение, экономика, антропология, психология и др.) [335]. «Спор о методе», охвативший практически все направления социо-гуманитарной мысли Германии, для своего решения требовал учета и синтеза продуктивных, хотя и несовершенных достижений каждой стороны. Снятие спора требовало снятия противоречий номотетической и идеографической науки, истории и систематики, понимания и объяснения на
55
качественно новой платформе. Ключевым методологическим «гибридом» такого снятия стало «понимающее объяснение». Современникам Вебера такое сочетание казалось просто невозможным – как и «понимающая социология», поскольку последняя еще в начале ХХ века устойчиво ассоциировалась с позитивистской, аисторической и антипсихологической наукой. Вебер показал, что установление причинных отношений («причинная атрибуция») между культурными явлениями опирается на выявление их смысловой связи, которая реально простраивается через социальное действие, на этот смысл ориентированном. При этом, причинность смысла может носить устойчивый характер, но неуниверсальное распространение. Как пишет сам Вебер, «вопрос о причинах там, где речь идет об индивидуальности явления, это не вопрос о законах, а о конкретных каузальных взаимосвязях; не вопрос о том, к какому родовому явлению стоит отнести данный экземплификат, а вопрос о том, к каким индивидуальным констелляциям можно отнести это явление как результат: это вопрос атрибуции» [337, c. 178].
Сегодня признаком продолжения «спора о методах» является дискуссия о количественных и качественных методах [194, с. 198]. Значимым недостатком количественного анализа является невыявленность реальных социальных механизмов, обеспечивающих каузальную связь изучаемых явлений на социальном, поведенческом уровне («социология переменных», а не «социология отношений»). Социология по Веберу «не может, как это считал Дюркгейм, исходить из предпосылки объективности социальных явлений. Её задача – объяснить саму эту объективность, показать, как она возникает и формируется из действий, субъективно ориентированных по своей природе» [68, с. 73]. Вместе с тем, хотя традиционное обозначение веберовской социологии как понимающей обуславливает частые ссылки на Вебера как «отца» качественных методов [297], давшего им методологическое обоснование, часто теряется из виду тот момент, что Вебер обосновывал именно «понимающее объяснение», а не «объясняющее понимание» [97]. Эпистемологическое измерение постнеклассической науки характеризуется множественностью конкурирующих научно-исследовательских программ, проблемно- и программно-ориентированными (комплексными долгосрочными) исследованиями, учетом таймированности и контекстуальности знания, его ситуативности, представлением проверяемого и проверенного знания в режиме оперативного употребления в формате моделей и симуляций – в соответствии с трендовыми процессами и форсайт-технологиями реализации конструктивно смоделированного и обоснованного «желаемого будущего» в деятельности, на основе образа которого происходит мониторинг и корректировка реализации «дорожной карты» в настоящем [42].
56
Вебер определял социологию достаточно конкретно (дисциплинарно), но его эмпирические исследования и методологические инструменты носили наддисциплинарную форму, поскольку представляли собой синтетические решения по ту сторону «спора о методах». Исследуемые Вебером вопросы носили предельную, общекультурную размерность, касаясь широкого перечня острых, системных проблем развития западных и незападных культур, трансформируемых глобальным процессом становления «мирового общества» (капитализм, рациональность, бюрократизация). Веберовский подход представляет собой «многофакторный анализ экономических систем во всех измерениях и в процессе их исторической и современной эволюции» [166, с. 77].
Проблемный характер конкретных веберовских работ соседствует с программным характером его методологии, что позволяет говорить о веберовской культурсоциологии как одной из наиболее актуальных научных программ современности, содержание и потенциал которой по сравнению с иными программами реконструирован В. Шлюхтером (раздел 2.1). Присутствие свойств системности, модельности в веберовских категориях (идеального типа, избирательного сродства, каузальных цепочек) мы зафиксировали выше. Экспликация «чистой» аксиоматики феномена, его «условий возможности», обеспечивает реконструкцию уникальных констелляций различных социо-культурных феноменов и их сравнительный анализ с учетом исторической конкретности, одновременной случайности и устойчивости.
Данные приемы концептуально подобны процедуре имитации, несмотря на (вполне ожидаемое) отсутствие конкретных примеров в эмпирических исследованиях Вебера. Примером такого моделирования на базе агентного имитационного моделирования является исследование, предметом которого стало изучение динамики распространения протестантизма в нововременной Англии [289]. Исследователями отмечается, что в своих ранних исследованиях Вебер успешно применял количественно-качественный подход. Так, в знаменитом исследовании остэльбских рабочих по заказу «Союза социальной политики» Вебер собрал и переработал более 2700 анкет (для разных групп – рабочих и работодателей), в которых преобладали открытые вопросы (т.е. опрос носил качественный характер). Он также предвосхитил многофакторный и корелляционный анализ [75; 76], но в то же время еще не использовал анализ таблиц сопряженности [270].
Постнеклассическая рациональность обладает специфическими праксеологическими представлениями, сконфигурированными с другими ее измерениями. Мир представляется экосистемой – исторически сложившейся эволюционирующей искусственно-естественной системой. Экологическое сознание стало ответом на вызовы системных глобальных кризисов в
57
природной, социальной и духовной экологии человека [19; 160]. Устойчивое развитие требует комплексного мультисценарного моделирования и проектирования человеческой деятельности с учетом интересов текущих и будущих поколений, проведения публичной этической экспертизы и обсуждения предпринимаемых инициатив. Глокальный, наднациональный характер проблем требует коллективных, распределенных субъектов деятельности, организованных в неиерархические, сетевые структуры. Данные субъекты способны в короткие сроки за счет активности агентов «низового уровня» мобилизировать значительные материальные и интеллектуальные ресурсы, необходимые для анализа и решения социо-культурных проблем, построения устойчивой и эффективной системы деятельности на долгосрочной основе.
В данном измерении Вебер демонстрирует концепты и решения, релевантность которых постнеклассическим представлениям очевидна как минимум в критическом плане. Понимая культуру как сложностную человекоразмерную систему, в которой цели и потребности отдельных личностей (гедонизм/альтруизм), сообществ (корпоративизм/коммунитаризм) или культур (национализм/империализм) определяют реальную социокультурную динамику, Вебер достаточно пессимистично смотрел на будущее индустриальной капиталистической или социалистической системы, на ее способность к обеспечению условий развития личности, сохранения природы, реализации глобальных целей. Сохранение и эффективность демократических институтов в бюрократизирующемся индустриальном обществе также вызывала множество вопросов (разумность большинства, популизм «реальной политики», скорость принятия решений, рассеянная ответственность), ведя Вебера к акцентированию растущей роли более решительного плебисцитного механизма (харизматического лидерства) в политическом процессе как инструмента устранения данных недостатков. В данном плане позиция Вебера была уязвима, но опиралась на реальные процессы и тренды, в то время как оптимистическая «идея Парсонса о том, что демократическая политическая система является необходимой для достижения обществом высокой адаптивной способности, далеко не всегда соответствует действительности» [110, с. 40].
Опыт участия Вебера в национальном и международном политическом процессе, критика и разрывы с рядом ключевых политиков своего времени (Г. Штреземан, Ф. Науман) по сущностным вопросам показывает, насколько остро им переживались недальновидность, бескомпромиссность, рутинизация и нехаризматичность «реальной политики». Так, Вебер резко критиковал Вудро Вильсона за догматизм, близорукость, непонимание принципов политики [135], внесшего свой «вклад» в версальское «умиротворение»
58
Германии после Первой мировой войны, отозвавшееся впоследствии Второй мировой войной. «Политическая инструментализация или идеологизация науки представляла, согласно Веберу, не меньшую опасность, чем «онаучивание» или сциентификации политики» [82, с. 166]. Этой опасности не удалось избежать Дюркгейму, который отказался «от задачи объяснения общества, путая причину и следствие и подменяя изучение социальной связи политическим проектом, направленным на социальную инженерию» [101, с. 82]. Партийная ангажированность политического процесса и объективный рефлексивный анализ действительности входили в конфликт, ценой которого становились системные, долгосрочные и неконъюнктурные политические решения.
Гражданская ангажированность Вебера позволяла распознавать в нем то националиста, то империалиста как в жизни, так и в науке. Однако, это не согласуется с принципом «свободы от оценок», которому Вебер строго следовал и за что критиковал других ученых, а также сменой взглядов в поздний этап его творчества. Явные националистически окрашенные мотивы в ранних работах сменились образом «антинационалистической национальной политики» [290], учитывающей погруженность любого государства в систему глобальных процессов. В конечном счете, основной «социальный вопрос», поднятый и акцентированый Вебером, касался того типа человека и антропных качеств, создаваемых определенной культурой как системой социальных, экономических и политических порядков и институтов.
Поэтому творчество Вебера можно по праву считать развернутой политической антропологией [166, с. 76]. Как мы покажем ниже, антропологический вопрос играет существенную роль для определения праксеологической рамки и в интерпретации веберовской «темы» в отдельных неовеберианских концепциях. Примечательно, что данный интерпретационный тренд характерен и для англоязычных авторов. Так, американский веберовед С. Калберг проследил глубокую связь между внутренней политической культурой (внутренней «картиной мира») США и ФРГ и представлениями о СССР, которые остаются стабильными при смене политического лидерства (партий власти); в ее основе лежат различные представления о социальном порядке и влиянии государства и, как итог, о свободе, правах и обязанностях человека, т.е. образ нормальной, «базисной» для культуры личности [257].
В этом контексте важно отметить, что диагностированную Вебером глобальную картину мира зачастую воспринимают амбивалентно: с одной стороны признается наличие европоцентристского взгляда (универсализм европейской культуры), а с другой, она описывается как плюралистический цивилизационный ландшафт (в духе «множества модерностей» Ш. Айзенштадта). Представляется спорным утверждение Ф. Доббина о том, что Вебер и другие ранние социологи «рассматривали современность как единую
59
реальность» [57, с. 44]. Хотя Вебер действительно видел, как и Маркс до него, потенциал капитализма к глобальной экспансии и созданию (впервые в истории) всемирно-исторического процесса и единого глобального общества, он отнюдь не был убежден в том, что это «конец истории», отчетливо понимая, что «политеизм ценностей», борьба культур и далее составит нерв исторического процесса. Таким образом, его европоцентризм носил эвристический, а не нормативный характер [310].
Вместе с тем, нужно указать на ряд инертностей и ограничений мысли Вебера в праксеологическом измерении. Так, веберовский анализ бюрократии дает идеализированный ее образ как «совершенной» машины управления: «мой брат... так же как и я, твердо убежден в необходимости прогресса бюрократической механизации. В самом деле, нет никакой машинерии мира, которая работала бы так точно, как эта человеческая машина, и к тому же так дешево!» [339, c. 413]. Такой образ демонстрирует несоответствие современным реалиям функционирования различных организаций политического, экономического и социального плана, где распространены негативные феномены «смещения целей», «уклонение производительности», коррупция, а также эффективные, но неиерархические сетевые структуры [74]. Таким образом, «под видимой гомогенностью и целостностью капиталистической экономической рациональности он не заметил трещин и слабых мест, повлекших будущие расколы, которые выходили за пределы пролетарских революций» [169, с. 81].
Представляется очевидным тот факт, что Веберу не удалось увидеть позитивные формы деятельности и организации, отвечающие потребностям управления в эпоху постнеклассической рациональности (информационного общества), хотя он достаточно точно определил те проблемы, на которые они стали ответом. Тем не менее, по мнению В. Моммзена, «несмотря на таймированность (Zeitgebundenheit) многих из предложенных им решений, его позиция отличалась, прежде всего, одной особенностью, а именно принципиальной открытостью в отношении альтернативных моделей развития в контексте новых социальных и политических изменений» [280, c. 63]. Данная таймированность, отсылающая к эпохе подъема индустриализма и означившаяся многомерными конфликтами по линиям индивид-масса, государство-гражданское общество, свобода-«обстоятельства», определила фаталистский, антиномический взляд Вебера на будущее капитализма. История показала как оправданность данных негативных прогнозов (фашизм и тоталитаризм как апогеи культуры индустриализма), так и их ограниченность, частичное снятие и превращение данных конфликтов в постиндустриальном обществе. Не случайно, что уже неовеберианская парадигма составила концептуальную основу рефлексии и организации современных, рыночно- и
60
сервисно-ориентированных технологий т.н. «нового государственного управления» (т.н. New Public Management) [71].
Проведенный нами анализ ключевых принципов и понятий веберовской социологии позволяет зафиксировать их соответствие принципам постнеклассической науки, несмотря на некоторые очевидные несоответствия в конкретных эмпирических работах или неполную реализацию отдельных эпистемологических и праксеологических аспектов. В последующем анализе неовеберианских концепций (разделы 2.1 и 2.2) мы продемонстрируем разработки данных положений в конкретных авторских подходах в рамках немецкого неовеберианства.
В соответствии с нашим тезисом о том, что концепция Вебера формировалась как снятие конфликта классического и неклассического знания, можно утверждать, что среди подходов к изучению культуры, условно относимых к постнеклассическим (рисунок 1.1 в разделе 1.1), у Вебера в большей степени проработаны те подходы, которые генетически-логически расположены ближе к доминантному ценностному подходу и выступают в таком случае «естественным» гносеологическим пределом веберовской социологии. Таким образом, неклассические ценностный и символический подходы получили достаточно основательную проработку, в то время как игровой, текстовый и коммуникативный лишь намечены в разной мере, но непосредственные методологические инструменты в рамках данных подходов у Вебера были разработаны не столь основательно.
Присутствие и пработанность неклассических подходов у Вебера достаточно очевидны, чтобы подробно останавливаться на них. Ценностный подход получил проработку в проблематике «ценностных идей», «отнесения к ценности», «свободы от оценок», а символический – в обсуждении категорий «смысл», «значение», «толкование», «понимание», «мировоззрение» – с разверткой в вопросы социализации, стратификации, господства и др. При этом Вебер, находясь в русле немецкой герменевтической традиции, занимался в большей степени проблемами значения (смысла и значимости), а не знака (означающего), которые составляют два ключевых направления внутри символического подхода. Доббин отмечает, что аналогичная установка в действительности характерна и для Дюркгейма, анализировавшего процессы порождения значений (meaning-making), не ограничиваясь анализом инертных надындивидуальных «коллективных предствлений» [224].
Вместе с тем, нужно отметить, что генетически более ранний игровой подход получил определенно большую долю внимания, что отмечается многими исследователями. Шлюхтер называет веберианскую программу «теорией регулируемого правилами действия» (Theorie des regelgeleiteten Handelns) [197, с 26]. Для игрового подхода характерна тематизация правил и
61
конвенций, не обладающих универсальной нормативностью и открытых для трансформации и инноваций. Так, благодаря сведению к норме любого рода правил Парсонсу удалось «уравнять социальное действие и нормативную конформность» [220, с. 240], что не было свойственно веберовскому подходу. Наконец, Вебер разработал основы «методологического индивидуализма задолго до Поппера, прескриптивизма до Хэара [205, с. 612] и значение “следования правилу” до Витгенштейна» [303, с. 100].
Веберу свойственна проблематизация исторических и социальных оснований институтов (он называл это «отношениями господства», «правилами игры», «надындивидуальными культурными данностями» [203, с. 9-10]), а также встроенных в них смыслов (символов) без сверхфокусировки на языковых и символических средствах их функционирования. Эта фокусировка составила специфику игрового подхода в целом, но определила и его ограничения, связанные с логикой изучения языка (различение плана значения и смысла, высказывания и его контекста) и попытками ограничиться лингвистически фундированным анализом с потерей «социальной» стороны проблемы. Сегодня, по мнению А.П. Огурцова, в философии науки есть две слабо согласованные стратегии – логико-эпистемологическая (интерналистски ориентированная) и социо-культурная (экстерналистски ориентированная) – требующие соединения [122, с. 278].
Контуры текстового и, в большей мере, коммуникативного подходов можно зафиксировать в ряде работ Вебера. Роль интеллектуалов (магов, пророков, проповедников, публицистов, философов, ученых и т.п.) в процессах обобществления, обсуждавшихся нами выше, состоит именно в медиативной функции – построении картин мира, «переводе» смыслов между специальными и повседневными языками. Данный ход получил обстоятельную разработку у П. Бергера и Т. Лукмана в «Социальном конструировании реальности» [21, с. 151-170]. В области социологии права очевиден тот факт, что «субъективный смысл закона может быть неодинаков у различных групп «публики», граждан» [40, с. 62], требуя специальных коммуникативных процедур толкования закона в рамках работы с различными адресатами и субъектами правовой культуры (воспитания, обучения, просвещения и т.п.).
В 1910 году Вебер также предпринимал попытку провести исследование прессы, что на тридцать лет опередило знаменитые коммуникационные исследования П. Лазарсфельда [107, с. 89]. Среди факторов, обусловивших неудачу этой попытки, были не только ресурсный вопрос. Коллеги Вебера по «Социологическому обществу» не выражали активного интереса, а некоторые открыто сомневались в потенциале эмпирических исследований (опросов) как валидных методов изучения социальных явлений – по сравнению со статистикой или историческим анализом.
62
Целью исследования стало изучение взаимовлияния медиа и общества. Как пишет сам Вебер: «Исследование прессы должно быть направлено на значимые проблемы современной культуры: 1) конституирование средств психического воздействия, с помощью которых современное общество непрерывно пытается адаптировать и ассимилировать индивида (пресса – средство придания определенной формы субъективной индивидуальности человека); 2) влияние общественного мнения (в значительной мере формируемого прессой) на развитие, сохранение и разрушение художественных, научных, этических, религиозных, политических, социальных и экономических элементов культуры (пресса – элемент объективной индивидуальности современной культуры)» [146].
Методически исследование было реализовано с помощью ряда стриангулированных методов (в т.ч. опросов, контент-анализа, включенного наблюдения, статистического анализа, историко-сравнительные методы) [298, с. 149]. Как утверждает К.М. Мануильская, «Вебер, пожалуй, одним из первых признанных социологов попытался преодолеть разрыв между эмпирической и теоретической социологией, который был характерен для описываемого периода» [107, с. 89]. Впоследствии в начале 1960-ых гг. основоположники социологии медиа и журналистики (Э. Ноэль-Нойман, Э. Эберхардт) ссылались на Вебера как на своего ключевого предшественника, чтобы легитимировать зарождающееся направление (коммуникативистики).
Таким образом, Вебер демонстрирует наличие разработок и интенций в рамках ключевых постнеклассических подходов к изучению культуры. Вместе с тем, основной фокус его внимания лежал в области общей методологии социо-гуманитарного знания и сравнительно-исторического анализа культур, которые нашли системное сочетание, обладающее парадигматической образцовостью для современных исследователей. Примечательно, что само понятие культуры чаще встречается у Вебера именно в методологических работах его «среднего» периода творчества (начало 1900-ых гг.), когда были написаны ключевые социологические работы методологического характера [2–А]. Тем не менее, наличие и степень проработанности данных подходов у Вебера остается актуальным вектором дальнейших исследований.
Немецкие неовеберианцы сходятся в той мысли, что Вебер разработал собственную культурсоциологию, «хотя он и не употребляет такой термин» напрямую [318, c. 80], используя близкие эквиваленты. Так, как свидетельствует из письма главного издателя веберовских работ Поля Зибека, последний был вдвойне рад тому, что в дальнейшем, после работы над учебником по политической экономии, Вебер намеревался предоставить новую работу по «социологии культурных содержаний» (Soziologie der Kulturinhalte) [281, с. 27]. Таким образом, Вебер «по праву считается основателем и мастером
63
культурсоциологии» [271, c. 20]. В следующей главе мы продемонстрируем, насколько дифференцированы те исследовательские программы, которые были разработаны приверженцами веберианской социологии.
***
В первой главе диссертационного исследования на основе концепции типов научной рациональности В.С. Степина проведен анализ специфики структуры и динамики социо-гуманитарного знания. На основе типологического подхода в социологическом изучении культуры В.Л. Абушенко проанализирована веберовская социологическая концепция, в результате которого демонстрируется ее постнеклассическая ориентация.
Определена специфика структуры и динамики социо-гуманитарного знания по сравнению с естественно-научным знанием. Показано, что классический, неклассический и постнеклассический типы науки в гуманитаристике закладываются и развиваются с разной интенсивностью и не линейно, а синхронно, дополняясь аномальным для естествознания типом неоклассики. Это позволяет обосновать возможность феноменов «ренессансов» и «классиков», а также выявления при определенной переинтерпретации постнеклассических идей и установок в веберовской социологии.
Выявлены ключевые недостатки в традиционной и соответствующие требования к современной методологии изучения культуры. Обоснован переход от классификационного подхода, ограниченного предметно-содержательным анализом культуры, к типологическому подходу, который позволяет на метатеоретическом уровне анализировать и сравнивать подходы к изучению культуры, их методологические основания. На основе выделенных характеристик постнеклассической научной рациональности (онтологическое, методологическое, эпистемологическое и праксеологическое измерения) продемонстрирован постнеклассический характер веберовской социологии. Данный тезис был подкреплен в результате выявления и анализа степени разработанности ряда подходов к изучению культуры, относящихся преимущественно к постнеклассической науке.
64
ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ В НЕМЕЦКОМ НЕОВЕБЕРИАНСТВЕ
2.1 Проблема исследования культуры в немецком неовеберианстве
Понятие культуры играет важнейшую роль в самоидентификации немецкой социологической традиции [275; 279], выступая альтернативой цивилизационно-ориентированному анализу, свойственному французской традиции [230]. Поэтому «самые замечательные социологические концепции, появившиеся в последние десятилетия ... являются по существу развернутыми версиями социологии культуры» [68, с. 260]. Как пишет Р. Бендикс, «современная наука об обществе все чаще применяет термин “культура” как относящийся к образу жизни людей вообще и охватывающий продукты их деятельности и модели поведения, а также идеи и идеалы» [20, c. 570], следуя, тем самым, достаточно широкой трактовке понятия культура.
Культура активно тематизировалась и использовалась в методологических разработках как немецкого неовеберианства (Ф. Тенбрук, М. Х. Рассем, В. Шлюхтер, В. Хеннис, Й. Вайс, К.-З. Рееберг), так и в работах других авторов из США (Г. Рот, Р. Бендикс, С. Калберг, Ф. Доббин, С. Тернер, Р. Шрёдер), Англии (С. Вимстер, Л. Скафф, А. МакКиннон) и других стран. Среди современных немецких культурсоциологов наибольшую активность в теоретико-методологическом плане демонстрируют К. Лихтблау, А. Реквитц, Ш. Мёбиус, которые развивают синтетические концепции в рамках системного подхода и их отнесение к неовеберианству достаточно условно. Внутри немецкой социологии велись дискуссии о возможности институционализации культурсоциологии как таковой [269]. Несмотря на определенный скепсис [263], в рамках Немецкого социологического общества достаточно давно существует секция культурсоциологии.
Прежде чем обратиться к историко-социологическому и содержательному анализу немецкого неовеберианства, мы проведем общий библиометрический и наукометрический анализ, направленный на выявление международного «невидимого колледжа» вебероведов. Эмпирическую базу такого анализа составили вебероведческие публикации, посвященные историко-социологическому изучению веберовского наследия и отдельным аспектам его теоретико-методологических основ. Таким образом, в объект анализа были включены не все публикации о Вебере, посвященные полностью или частично его творчеству, а только те, в которых оно анализируется на предмет историко-социологических истоков и теоретико-методологических
65
оснований. Мы рассмотрим структуру и динамику данного массива публикаций, а также проведем сетевой анализ цитирования внутри «невидимого колледжа» вебероведов. Это позволит выявить наиболее цитируемых авторов, а также отдельные целостные группы авторов (кластеры), объединенные по тем или иным характеристикам, связанным с разделением научного труда в данном сообществе.
В немецкоязычной литературе ранее уже предпринимались попытки обстоятельного библиометрического анализа широкого массива работ, цитирующих Вебера или анализирующих его творчество как таковое [222]. Однако нам не известны аналогичные работы после 1990 года, что повышает актуальность такого анализа, несмотря на ограничения в объекте анализа, обусловленные задачами диссертационной работы. Вместе с тем, хотя проведенный нами анализ концентрируется на преимущественно теоретико-методологически ориентированных вебероведческих работах, полученные результаты дают основания для понимания общей направленности рецепции Вебера в последние десятилетия. Далее мы проведем анализ результатов библиометрического исследования, полученных на широком массиве источников, несмотря на его относительную низкую новизну. Статья Х. Деркса вышла в 1989 г., а эмпирическая база включает публикации, вышедшие в 1920-1976 годах.
За данный период вышло более 2500 работ. Динамика публикаций в целом, несмотря на отдельные колебания, демонстрирует существенный рост на протяжении всего периода. Основной массив работ приходится на немецкий (48%) и английский языки (20%), что в существенной мере связано с до- и послевоенной миграцией немецких по происхождению авторов и дальнейшим трудоустройством в, главным образом, американские университеты. Автором отмечается постепенный рост доли англоязычных работ по сравнению с немецкоязычными. Таким образом, наукометрический анализ показал, что широко расхожий тезис о послевоенном «возврате» Вебера в Германию (ввиду якобы остановки рецепции и наступлении «ренессанса») [295] не получил своего подтверждения, поскольку публикационная активность немецких авторов в данный период оставалась высокой, хотя и претерпела идейное влияние американской традиции вебероведения (со стороны Т. Парсонса, Г. Бекера и др.).
Тематическая структура публикаций (рисунок 2.1) свидетельствует о том, что проблематика рационализации (разволшебствления) занимает не столь значительное место (2% авторов), какое ей уделяется в работах ключевых немецких вебероведов (Тенбрука, Шлюхтера). Более значимой предстает тема социологии власти (харизматического лидерства) и, в меньшей степени, внимание к главному труду Вебера («Хозяйство и общество»).
66
13%
13%
15%
15%10%
17%
13%4% Общие работы
ПротестантизмМетодология культурнаукОснования социологииХозяйство и обществоСоциология властиРелигияВеберианство
0
5
10
15
20
25
30
35
До 1920 1920-1933 1933-1945 1945-1960 1960-1970 1970-1976
Общие работы ПротестантизмМетодология культурнаук Основания социологииХозяйство и общество Социология властиРелигия Веберианство
Рисунок 2.1 – Тематическая структура массива публикаций по М. Веберу в период 1920-1976 гг.
Селективное внимание исследователей к веберовскому наследию
определяется меняющейся «повесткой дня» в социальном и академическом пространстве, а именно рефлексией национал-социализма, послевоенным подъемом Германии (эпоха Адэнауэра), студенческими волнениями конца 1960-ых гг., пацифистскими движениями против войны во Вьетнаме и другими значимыми событиями второй половины ХХ века (рисунок 2.2).
Рисунок 2.2 – Динамика тематической структуры массива публикаций по М. Веберу в период 1920-1976 гг.
На основе данных исследования Деркса также можно заключить, что
массив публикаций теоретико-методологического характера переживает тренд
67
10 6 6 22 18 34 4621 16 1
1 37
7
7 62 12 9
25 43
107
157
68 82
50
50
100
150
200Статья
Сборник
Монография
роста в 1970-ые гг. (графики «Основания социологии» и «Методология культурнаук» на рис. 2.2). Примечательно также подъем работ в области социологии религии Вебера, которая определенное время рассматривалась как тематический «ключ» к анализу наследия Вебера и восстановлению его целостности.
В рамках собственного эмпирического исследования автором был проведен библиометрический анализ вебероведческих и теоретико-методологически ориентированных работ, посвященных Веберу (всего 721 публикация), результаты которого подтверждают выводы исследования Деркса (рисунок 2.3). Кроме того, нами выявлено, что на более поздний период, не охваченный в работе Деркса (1980-ые гг.), приходится еще более выраженный пик публикационной активности, после чего наступает определенный спад публикационной активности (практически в 2 раза). Данный спад связан с уходом из жизни или окончанием активной творческой фазы целого ряда ключевых вебероведов (Рот, Бендикс, Моммзен, Тенбрук и др.). Отметим также, что ключевыми площадками вебероведческой дискуссии стали следующие журналы: KZfSS («Кельнский журнал социологии и социальной антропологии»), Max Weber Studies («Исследования по Максу Веберу»), British Journal of Sociology («Британский журнал социологии») и American Sociological Review («Американское социологическое обозрение»).
Рисунок 2.3 – Динамика вебероведческих методологических и методологически ориентированных работ
68
Наряду с анализом количественных показателей вебероведческой литературы нами также был проведен сетевой анализ цитирования в данных работах. В эмпирическую базу этого анализа вошли указанная 721 публикация (331 автор), в которых было зафиксировано 1619 цитирований. Из них 736 цитат носили уникальный характер (т.е. уникальные цитаты без учета их дублей), а 175 были самоцитированием. Полученная нами полная сеть цитирования была специальным образом обработана с целью выделения ключевых авторов (5 и более цитирований автора) и отдельных авторских групп. Данные группы были получены на основе автоматического выделения кластеров по методу идентификации сообществ в рамках больших сетей Клоузет-Ньюман-Мура (Clauset-Newman-Moore) с помощью программы сетевого анализа NodeXL. Итоговый результат отражен в графическом виде как сегментированная на отдельные кластеры «ядерная сеть» цитирования в рамках международного вебероведческого сообщества (приложение Г).
В результате анализа выявлено, что выделенные тематические кластеры включают в равной мере как немецких, так и американских авторов, что свидетельствует о паритетной включенности данных традиций в рефлексию веберовского наследия. В данном контексте отметим, что в аналогичном нашему анализе «классиков цитирования» среди российских социологов [45] Вебер также играет значительную, хотя и не определяющую роль как «старый» классик, входящих в перечень основателей социологической дисциплинарности. Ключевым бенефициаром цитатного внимания в данной национальной сети цитирования является П. Бурдье – «новый», современный классик мировой социологии.
Необходимо также отметить, что тематические линии данных кластеров практически совпадают с исходно заданными линиями рецепции Вебера, выявленными и описанными американским вебероведом немецкого происхождения Г. Ротом в его обзорной вебероведческой работе конца 1970-ых гг. [302]. Также анализ показал, что среди немецкоязычных неовеберианцев наиболее цитируемыми в сообществе являются Шлюхтер, Тенбрук, Вайс, Моммзен и Хеннис. Творчеству данных авторов, за исключением Моммзена, мы уделим основное внимание ниже. В. Моммзен играл важную роль в издании веберовских работ и его активное, чаще этикетное, цитирование является закономерным следствием занимаемой высокой роли в рамках изучаемого нами публикационного массива.
Это предположение подтверждается с концептуальной точки зрения в статье Д. Кеслера [252], который, анализируя мировую историю рецепции Вебера, указывает на три фигуры современного ее этапа – Тенбрука, Винкельмана и Моммзена. Он отмечает, что работы двух последних авторов – при всей значимости этих фигур для вебероведения и публикации работ Вебера
69
– имели скорее историко-политологическую, чем социологическую направленность (в отличие от Тенбрука, Вайса, Шлюхтера и Хенниса). Поэтому данные авторы не являются центральными фигурами вебероведения с точки зрения поставленных в диссертационном исследовании задач.
Проведем краткий обзор истории вебероведческой дискуссии в целом, контекстов ее протекания и тематической направленности. Некоторые из современников Вебера уже развивали культурсоциологический вектор рецепции его наследия. Так, Р. Вильбрандт предложил реформу национал-экономии с точки зрения «наук о культуре» [345] и зафиксировал преимущества веберовской методологической критики с этой целью [346]. Но наиболее ярко и эксплицитно культурсоциологический вектор проявился позднее, в работах Тенбрука, чьи статьи и монографии непосредственно, по самоидентификации автора, относятся к неовеберианству. Отметим, что работы Тенбрука в значительной мере стимулировали всю веберианскую дискуссию в середине 1970-ых гг., хотя его первая вебероведческая работа датирована 1959 годом [326]). В ней Тенбрук задал определенные векторы рефлексии и содержательные тезисы, подвергнутые обстоятельной и аргументированной критике другими исследователями, которая будет проанализирована ниже (раздел 2.2). Вышедшая в этом же году книга Вайса [343] также имела определенный резонанс, однако статья Тенбрука «оставила более глубокий след в осознании вебероведами “новой волны” интереса к Веберу, чем книга И. Вайса» [49, с. 747]. Среди ключевых фигур вебероведения начала ХХI века стоит также указать Хенниса и, в особенности, Шлюхтера, внесшего существенный вклад в экспликацию веберианской исследовательской программы и оценку ее эвристического потенциала в контексте других актуальных неовеберианских программ.
Важную роль для неовеберианской дискуссии играл общий социально-политический и академический контекст того времени. Он ознаменовался спадом интереса к марксизму, ключевым выразителем идей которого являлись представители Франкфуртской школы (Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас), критиковавшие Вебера как предвестника «вождизма» и, что важнее, сторонника натуралистической ценностно нейтральной (внеидеологической) науки, представителем «той социологии, каковая в качестве объективистской, номиналистической и свободной от оценочного подхода является якобы одновременно зеркалом и идеологическим оправданием овеществленных отношений» [53, с.144]. Как мы уже показали выше, данные упрощения веберовского подхода, будучи во многом схожими со структурно-функционалистским редукционизмом, задавали скорее контрвеберианские настроения и тормозили развитие менее тенденциозных и глубоких исследований веберианской мысли и ее отношения к Марксу в частности.
70
В данном контексте примечательно, что в своей антинатуралистической критике энергетической теории Оствальда Вебер «выдвигает аргумент, который позволяет причислить его к галерее основоположников критической теории» [264, с. 44]: натурализм является оправданием сложившихся властных отношений. Ограничения неомарксистского прочтения Вебера в значительной мере снимались в более поздних, постмарксистских версиях, где присутствовало представление о «естественном» уровне реификации (натурализации, объективации) в социальности, связанном с механизмом «оплотнения смысловым образом ориентированного социального поведения во “вторую природу”» [53, с. 146]. Сознательная реификация обеспечивает необходимые для социальности устойчивые смыслы и правила действия как фундамент для рутинной или материал для креативной, инновационной деятельности, как это показали работы постмарксистов К. Касториадиса [72], Э. Лакло и Э. Муфф [99], М. Хардта и А. Негри [186].
Отличительным свойством тематической направленности неовеберианской дискуссии стала, с одной стороны, регулярная, на то время уже достаточно конвенциональная критика парсоновского структурно-функционального анализа в целом и прочтения Вебера в частности (антитезу ему составляли работы неофункционалиста Р. Мюнха [283; 284]), а также, с другой стороны, ориентация на определение «темы Вебера», сквозного лейтмотива его творчества, которое с подачи К. Ясперса часто обозначалось как фрагментированное, несистемное множество отдельных работ и черновых разработок [209, с. 553]. Как утверждает Давыдов, «полемически заявленное стремление истолковывать Вебера, исходя “из духа” его собственного мировоззрения – и совершенно безотносительно к тем толкованиям, которым он подвергся у Парсонса, – явственно прочитывается у И. Вайса и В. Шлюхтера» [53, с.151].
В результате неовеберианская дискуссия долгое время фокусировалась на задаче определения скорее тематического (предметного), чем методологического единства веберовской социологии. Один из первых и длительное время ключевых вариантов «темы» Вебера был предложен главным издателем работ Вебера Й. Винкельманом (1900-1985). Отмечая значимость революционной концепции социального действия, он видит «тему» Вебера в проблематике господства, а не религии или рационализации, как это заявляют в своих работах Тенбрук, Вайс и Шлюхтер. Винкельман стремится представить «большую социологию» Вебера как эмпирическую науку о человеке и культуре в истории, как сравнительный универсально-исторический анализ культур. Поэтому он склонен «рассматривать Вебера прежде всего как “практика” понимающей и типологически конструирующей социологии» [53, с. 134], оснащенной релевантными методологическими средствами для объективного
71
анализа культур, их разнообразных хозяйственных, этических, религиозных и политических порядков, избегая апорий линейно-телеологического эволюционизма или европоцентризма (сциентизированного рационализма). Анализ культур прошлого и настоящего возможен на базе идеально-типической реконструкции тех идей и типизаций, которые лежат в основе их социо-культурной динамики (систем социального действия) [218].
Исходная предметная фокусировка исследователей на «теме» Вебера оправдана необходимостью осмысления нарастающего объемом публикуемого и переводимого веберовского наследия, а также вторичной литературы, однако она не решала задачу экспликации веберианской методологии и ее сравнения с иными влиятельными программами. Такой анализ позволил бы спозиционировать и определить преимущества веберовского подхода для актуальных и будущих исследовательских практик. Наиболее репрезентативной попыткой такой экспликации стали работы Шлюхтера, в то время как работы Тенбрука, Хенниса и других неовеберианцев создавались скорее в режиме историко-социологической реконструкции (внутренней экзегезы). Тенбрук отличается попыткой задать оригинальную, целостную культурсоциологическую программу на основе веберианской методологии (концепция репрезентативной культуры), однако эта работа не была доведена до запланированного конечного вида [248].
Рассмотрим более детально ключевые неовеберианские концепции в работах Вайса, Хенниса, Шлюхтера. Линия интерпретации Вайса (род. 1941) опиралась на акцентировку понятия «наука о действительности», на которое обратил внимание еще Х. Фрайер в своей работе 1930-го года [236]. По мнению Вайса ключевым недостатком прежней истории рецепции наследия Вебера стало то, что оно проходило в плену тех антиномий, которые пытался решить сам Вебер [341]. Это антиномия натуралистического и антинатуралистического взгляда на гуманитарное знание, реконструированная нами на примере конфликта двух школ национал-экономии.
Обращаясь к феноменологическому направлению, а именно работам Шютца, Бергера и Лукмана, Вайс пытается средствами символического и коммуникативного подхода проработать предметные и методологические аспекты веберовской социологии. Он переносит научную процедуру «отнесения к ценности» в пространство социальных взаимодействий, т.е. проводит своего рода феноменологическую редукцию познавательной деятельности. Это возможно, поскольку отнесение к ценности осуществляется людьми на повседневной основе в процессе ценностно-ориентированного действия и сопутствующих ему коммуникативных актов. Иными словами, «социально-научное понимание является для Макса Вебера модификацией
72
того, как понимается смысл и понимается ситуация в жизненном мире» [53, с. 170].
В свою очередь Давыдов опознает этот тезис как смешение онтологического и методологического планов, хотя, как мы указали выше в анализе онтологического измерения постнеклассической рациональности (тезис о вписанности познавательных, интерпретативных и калькулятивных процедур в социальные взаимодействия), данный вывод и «смешение» релевантно для современной исследовательской позиции. Данный тезис получил обстоятельную проработку у Бурдье в критике доксических оснований любого социального опыта (в т.ч. и научного) и необходимости осуществлять объективацию объективирующего субъекта [30]. Представитель перформативной экономической социологии М. Каллон, опираясь на идеи Вебера, утверждает о вписанности оценивающих, калькулятивных процедур в повседневные практики акторов [207].
Но характерно ли Веберу узко-ценностное рассмотрение культуры? Вайс считает, что Вебер постепенно перенес фокус анализа с категории ценности на категорию смысла, выходя до рамок культуры в целом, которая включает «все, что возникает в результате смыслополагающей и смыслопостигающей (практической – это Вайс подчеркивает специально) деятельности человека» [53, с. 168]. Культура выступает как действительность, которая «конструируется (действующими индивидами) с помощью оценки, являющейся ядром всякой осмысленной (то есть собственно человеческой) деятельности» [53, с. 164].
Данный тезис Вайса также критикуется Давыдовым по аналогичным причинам: присутствие конструирующих процедур в повседневном взаимодействии приравниваются к «сотворению действительности» (избыточная радикализация конструктивистского вектора). В то же время, присутствие открытости и креативного аспекта при согласовании перспектив, подразумеваемых смыслов и «систем релевантности» соответствует образу постнеклассической онтологии. В качестве «условия возможности» социальность требует наличия опорной системы координат – ряда не подвергаемых сомнению, фиксированных правил, применяемых в процессах коммуникации и взаимодействии в повседневности, которая в равной мере насыщена как рутиной, так и неопределенностью (открытостью).
Вайс отмечает растущий, особенно в эпоху «постмодерна», интерес к Веберу в различных дисциплинах. Причина состоит не в том, «что Вебер создал всеобщую, “завершенную” теорию общества в целом или современного общества в частности, связывающую все релевантные измерения и факторы в интегрированную модель» [342]. Такой задачи он себе вообще не ставил. Социология виделась Веберу как «теоретическая часть общей исторической
73
социальной науки» [342], инструменты и продукты которой также носят исторический характер. Этим обусловлен определенный инструментальный характер веберовской терминологии и непреходящая роль методологических постулатов, включающих требование рефлексивности и историчности научной работы, продукты которой устаревают вместе с историческим исчезновением или трансформацией ее предмета.
Таким образом, концепция Вайса задействует возможности, главным образом, ценностного и символического, а также коммуникативного подходов. Вместе с тем представляется обоснованным предположение, что привлечение средств игрового подхода, комплементарного символическому и коммуникативному подходу, позволило бы прояснить неоднозначные выводы конструктивистского характера.
Далее мы рассмотрим концепцию В. Хенниса (1923-2012), которая, в отличие от других подходов, демонстрирует экстерналистский уклон, тематизируя влияние вненаучных факторов на научный процесс. Для Хенниса наследие Вебера и его интерпретация в работах Тенбрука представляла предмет научного интереса на протяжении всей жизни. Как признается сам Хеннис, различные его «труды не были бы написаны без дружеского воодушевления со стороны Фридриха Тенбрука. В первую очередь именно его работы поддерживали бодрость моего интереса к Веберу» [243, c. 126]. Поэтому работы Хенниса содержат множество полемических, направленных в адрес Тенбрука, а заочно и всех участников дискуссии, критических тезисов. В значительной мере его экстерналистски ориентированный аналитический фокус определяется дисциплинарной позицией Хенниса, чьи конкретно-эмпирические работы причисляются к политической социологии и политологии.
Относительно «темы» Вебера Хеннис пишет следующее: «мощный и все еще определяющий порыв Фридриха Тенбрука проинтерпретировать труд как единое целое обречен на провал, поскольку тема расколдовывания пусть и стала ведущей в “Хозяйственной этике мировых религий”, но не получила такого же внимания в “Протестантской этике” и “Обществе и хозяйстве”. Только с помощью конструкции “поздних работ” … можно утверждать о ведущем характере такой постановки вопроса (“рационализация”, “расколдовывание”)» [243, с. 126]. Хеннис критикует Тенбрука по нескольким моментам. Во-первых, Тенбрук умалчивает о ранних работах Вебера, посвященных национал-экономическим, отчасти историко-юридическим темам, но не проблематике религии. Во-вторых, Тенбрук ставит понятие рационализации в синонимичное отношение с понятием расколдовывания (иррационального, магического), отсекая иные его коннотации, отсылающие не
74
к религиозной иррациональности, а к парадоксальной иррациональности рационально-индустриального капитализма.
По мнению Хенниса основной вопрос Вебера состоит в «проблематике модерновой “человечности” (Menschentum), … ориентирован на “идею человека”, которую не заметил, начиная с ранних исследований Ландсхута и Лёвита, ни один из наиболее проницательных интерпретаторов» [243, с. 138]. Определенный «тип человека», набор «качеств человека», или антропных качеств, формируется в определенной социокультурной ситуации, являясь результатом взаимодействия исторически уникальной констелляции социальных порядков, формирующий пространство допустимого поведения и действия и, тем самым, базовый образ «культурной личности». В качестве подтверждения данного тезиса служит веберовское определение государства, данное им в письме Р. Лифманну от 9 марта 1920 года: «Государство есть не что иное, как шанс, состоящий в том, что будут иметь место определенные виды специфического действия, действия определенных отдельных людей. И больше ничего» [82, с. 168].
При более глубоком взгляде в работах Вебера речь идет «не о “хозяйственных этиках”, мировых религиях …, а о “человечности”, которая была таким же необходимым сырьем для модернового хозяйственного уклада, как уголь и металл» [245, с. 78]. Ведь «современное хозяйство предполагает не только рациональное, в своих функциях калькулируемое государство, но и рациональную технику (науку) и определенный тип рационального ведения жизни» [245, с. 86], особый «дух капитализма». Вместе с тем, выработка и фаворизация целерационального способа ведения жизни, представляемой в эпоху классической рациональности как универсальная антропологическая константа, задала векторы и тупики развития западной цивилизации. В действительности это лишь один из возможных, неуниверсальных «типов человечности» [314, с. 381].
Хеннис также проблематизирует устоявшийся образ Вебера-социолога. Даже для «продуктивного и хорошо знавшего Вебера Шлюхтера» этот вопрос не был дискуссионным. Но является ли это «”исторически” и “критически” или даже “историко-критически” столь бесспорным фактом?» [245, с. 77]. По мнению Хенниса социологию или экономику, какими они были во времена Вебера, сложно назвать дисциплинами в современном смысле слова, как это часто делается в ретроспективной историографии науки, когда в описание науки конца XIX – начала ХХ века привносится еще не свойственная ей форма и степень дисциплинарной дифференциации.
Какая дисциплина сегодня обладает «легитимным правом» на Вебера? «Социология точно нет. И не национал-экономия; до “Экономикс” Альфреда Маршалла она была частью “моральных” и политических наук, как и
75
немецкая историческая школа национал-экономии» [243, с. 127]. В действительности любое монодисциплинарное толкование Вебера, к которому сегодня вынуждены прибегать конкретные дисциплины, является изначально редуктивным, поскольку искусственно расчленяет исходно синкретичные, наддисциплинарные темы, проблемы, методы веберовской социологии.
Сам Вебер, решая «спор о методах», пытался «привести под единый знаменатель как научное наследие практико-ориентированных камералистических предметов, так и теоретический прогресс “классиков”» [243, с. 135], что нашло выражение в его проекте социал-экономии (Grundriss der Sozialokonomik). Камерализмом традиционно обозначается специальная немецкая версия меркантилизма, направленная на экономическое развитие с помощью государства, стимулирующего хозяйственную деятельность отдельных подданых и, тем самым, повышая общее благо для всего населения [81, с. 10-11; 175, с. 52-53]. Данное обстоятельство нашло выражение в реформизме исторической национал-экономии – наследницы камерализма. На терминологическом и концептуальном уровне социал-экономия отличается от теоретической или исторической школы национал-экономии, а в своей глубинной, латентной сути отражает необходимость синтеза экономических и социологических перспектив, что, как мы отмечали выше, и реализуется сегодня в рамках институциональной экономики и экономической социологии.
Хеннис также ставит под сомнение расхожее представление о высокой значимости неокантианства для формирования методологии Вебера, смещая акцент на решение «спора о методах», в котором «Риккерт помог ему в известной мере с временными инструментами анализа», но ключевые «проблемы ставились без неокантианства», а знаменитое «учение об идеальном типе есть ни что иное, как генерализация фигуры homo oeconomicus» [246, с. 66], центрального концепта австрийской (теоретической) школы Менгера (и позднейшей экономической неоклассики). Более того, веберовское предостережение от опасности переоценки понятийного познания, его отказ «от западной традиции мышления от Платона до Канта и, конечно же, Гегеля в своей радикальности сегодня едва ли воспринят в полной мере» [242, с. 21]. По словам Баумгартена, племянника Вебера, философия Вебера «некантианская по основанию, она полностью относится к действию в мире … Ее жизнь есть мир … Он является первым среди философов, которые были верны действительности мира до основания. Наряду с ним Бергсон и Ницше – просто жаждущие небес теологи» [242, с. 21].
Позиция Хенниса является экстерналистски ориентированной постольку, поскольку представляет социокультурные контексты («политическую рамку») в качестве ключевого повода и предмета для методологических разработок Вебера. Во-первых, он акцентирует практический, «технической» характер
76
науки, который отмечался еще Вебером, где недостижимо жесткое «различие между сущим и должным» [243, с. 164]. Во-вторых, это противоречивое влияние культуры капитализма на человека («социальный вопрос»), а именно «нравственные и хозяйственные культурные проблемы капиталистического хозяйственного строя» [243, с. 130]. В-третьих, вопрос о том, «являются ли культурные разрушения, которые несет с собой капитализм, в каком-то роде “продуктивными”» и какова культурная цена сопутствующего ему «неслыханного победного марша естественных наук» [243, с. 145]? И, наконец, Хеннис акцентирует проблему прозрачности данных процессов для науки, которая могла бы «настолько «свободно от оценки», насколько это возможно, внимательно и дистанцированно зафиксировать и сделать интеркоммуникативно транслируемым» данные социо-культурные эффекты [244, с. 217].
Известный немецкий историк Ю. Кокка подтверждает экстерналистскую мотивацию веберовской мысли, фиксируя изоморфизм между исполнительской бюрократией и (созидательным) политическим лидерством, а также «чистыми» аналитическими и ценностно нагруженными нормативными суждениями [266]. Еще более очевидным данное разделение утвердилось при формировании феномена экспертизы и экспертного сообщества, непосредственным образом связывающего области практики и научное знание, формируя «практический заказ» на знание, желаемые формы и результаты исследований [52].
Экстерналистский фокус обусловил хеннисовское видение праксеологического измерения у Вебера. Политическое мышление Вебера – это не «децизиниостическое или принципиально-телеократическое мышление, а перистатическое мышление» [243, с. 152], мышление «по обстоятельствам», с учетом исторической динамики и уникального своеобразия обстоятельств, их констеллятивности. Так, Вебер, разделяя лидерство и бюрократию, тем самым, по мнению его ученика А. Шумпетера, показывал, что для капитализма характерно то, что в нем лидерство (Führerschaft) становится значимым прежде всего в экономической области и представлено в образе предпринимателя. И, несмотря на то, что по сравнению с братом, Альфредом Вебером, «Макс в первую очередь заинтересован в теории бюрократического господства, а также политическом и экономическом утверждении власти государства» [221, с. 127], это был гуманистический интерес, интерес в целостной личности, соответствующий его волюнтаристскому либерализму (в противовес патриархально-директивному «госсоциализму» [244, с. 223]) и лишь потенциально представляющий интерес для современной ему «реальной политики». «Разработка возможностей, шансов и ограничений развития психического и физического качества населения под влиянием жизненных
77
отношений, в которые они помещены, … станет большой темой культур-науки Вебера» [246, с. 61], которую Хеннис определяет как «науку о человеке».
Таким образом, вебероведческие работы Хенниса отличаются детальным историко-критическим фокусом и реконструируют политическую и интеллектуальную ситуацию, а также скрытые, вненаучные цели и мотивации методологических решений Вебера. Представляется достаточно сложным какое-либо однозначное позиционирование его концепции в типологическом пространстве подходов к изучению культуры. Наблюдается определенный приоритет субъектного подхода, выраженный в «антропологическом» фокусе взгляда на веберовское наследие.
Далее мы детально проанализируем концепцию В. Шлюхтера (род. 1938), одного из ключевых современных, творчески активных вебероведов. Шлюхтер внес достаточно заметный вклад в открытую Тенбруком дискуссию, выделяя в качестве «темы» Вебера проблематику рационализма, в особенности развития рациональности внутри религиозных систем, оформленных в «картинах мира». Для Шлюхтера «картина мира оказывается единством когнитивного («чисто» познавательного) и нормативно-оценочного аспектов» [53, с. 236], что сближает его с пониманием «отнесения к ценности» у Вайса, спроецированного на онтологическое измерение социальной жизни.
Давыдов выделяет три типа рационализма у Шлюхтера: научно-технический, этический и практический. Данные типы отражают дифференциацию рациональности в различных сферах культурной жизни, не сводимую только к научной форме рационализма. Понимать же «рационализацию мировоззрения» как «возрастание роли науки и научного мировоззрения» [12, с. 213] – значит существенно упрощать сложность феномена рационализации. Выявление разных форм рациональности позволяет отойти от одномерной картины сциентистского рационализма к многомерной, плюралистической картине рациональности. Это также дает возможность связать разные структурные уровни культуры – рациональное повседневное ведение жизни и рациональные порядки в различных сферах деятельности (хозяйство, наука, политика и т.п.).
В отличие от Тенбрука Шлюхтер изображает данные процессы рационализации как диалектические, а не корреспондентные. В то время как Тенбрук видит материальные интересы как выражение идей, Шлюхтер фиксирует их непрерывную конфликтность и дополнительность («избирательное сродство»). Тем не менее, как идеи, так и интересы служили общей цели «овладения миром» (Weltbeherrschung), ввиду чего «сам Вебер все-таки предпочитает этике убеждения этику ответственности, так как в условиях разволшебствления только она допускает сознательное господство над миром» [53, с. 264], сознательную ответственность за свои действия в условиях
78
плюрализма ценностей (стилей жизни), представляющих различные, часто конфликтные и недоговороспособные способы овладения миром (природой, социумом).
В более поздних работах начала 2000-ых гг. Шлюхтер обращается к проблематике становления проекта культурсоциологии у братьев Макса и Альфреда Веберов. Шлюхтер фиксирует высокую степень сходства их гражданско-политических взглядов, обусловленных мировоззрением их отца и семьи, в которой признавалось несовершенство кайзеровской Германии: устаревшее господство юнкерства (аграрной аристократии), патриархализм бисмарковского строя, бюрократизация без демократизации, игнорирование «рабочего» вопроса [309, c. 129].
Вместе с тем, существовали и значимые различия в их мировоззренческо-научных позициях и даже стилях жизни. Для Альфреда значимую роль сыграл его пражский период, где он был активным членом эстетически-литературных кругов, а также усвоил идеи философии жизни А. Бергсона (тематизмы спонтанного творчества, интуиции, витализма) [309, c. 130-132]. Если Макс заложил основы культурсоциологии как понимающей социологии, связывающей действие и структуру через категорию смысла, то Альфред предложил более широкую историческую картину, связывающую детерминацию и спонтаность, каузальный анализ и интуицию. «Можно ли представить себе большую противоречивость в основании культурсоциологии, чем обнаруживаемую в работах обоих братьев: объясняющая и наглядная наука (Evidenzwissenschaft), отнесение к ценности наряду со свободой от оценок и экзистенциальная наука, диагностическая, майевтическая наука и ориентирующая наука, конкретная наука и целостная наука» [309, c. 133].
Хотя Шлюхтер упоминает о значении спора о методах между школами национал-экономии для становления социологической мысли Вебера, этот факт редко становится предметом его анализа в ранних работах, как это свойственно Хеннису. Следуя заданной в споре дихотомии, различные интерпретаторы прочитывают веберовскую социологию как «дополнение и продолжение абстрактной экономической теории в направлении социально-экономического подхода» или как исследовательскую программу, которая «преодолевает абстрактный характер экономической теории и одновременно выступает альтернативой теориям рационального выбора» [73, с. 245]. В поздних работах Шлюхтер все активнее обращается к данной теме, реконструируя истоки и характер веберовской исследовательской программы. Являясь одним из ключевых редакторов работ Вебера последних лет, он также отстаивает тезис о компилятивном характере «Общества и хозяйства», пересмотр композиции и назначения которого дает иное представление о социологии Вебера [210; 312].
79
Наряду с историко-социологическим вектором исследовательские интересы Шлюхтера направлены на выявление современного гносеологического потенциала веберианской мысли. Как говорит сам автор, «мы намерены не просто интерпретировать, но эксплицировать Вебера. “Эксплицировать” значит следовать предложенной Вебером постановке проблем, но не во всем следовать его решениям. Итак, под экспликацией понимается развитие мысли, домысливание, в ретроспективном и перспективном обращении к другим и другому. ... Скорее речь идет о лучшем решении проблемы при той же ее постановке» [197, c. 25]. Шлюхтер провел такую экспликацию, определив актуальные преимущества веберианской программы в современной ситуации развития социологии.
В отличие от Хенниса, Шлюхтер видит в «споре о методах» повод, а в неокантианских решениях – основу для разработки собственных методологических средств. В духе критического рационализма, представления о котором уже были расхожими в то время, Вебер переводит наработки Риккерта («отнесение к ценности», разделение методов) в инструментально-аналитическую плоскость. В результате «разрыв между теоретическим и историческим методом изучения становится кажущимся, если уяснить себе, что оба они в своей основе имеют аналитическую логику, а также критический и одновременно конструктивный рационализм Канта» [197, c. 29].
В чем Вебер отходит от Риккерта и Шмоллера, так это обоснование метода понимания, который оба мыслителя, наследуя дильтеевскую герменевтически ориентированную интуитивную интроспекцию (с запретом на понимание, проникновение, в чужую душу), в отношении социальной науки считали невозможным. Вебер же предлагает инструмент схватывания наблюдаемого в действиях, значимого для конкретного индивида смысла. Методологически это реализуется с помощью категории идеального типа, обозначающего ситуативно (контекстуально) универсальные правила действия (аналогично масштабированности законов природы [131; 149]), поскольку «идеализация, которую наблюдатель проводит с эвристическими целями, и идеал, к которому стремится участник, в предельном случае совпадают» [197, c. 34]. В такой интерпретации Шлюхтер сближается с Вайсом, который представляет правила действия как повседневные «идеальные типы».
Тем самым обеспечивается необходимый для социальных наук «суверенитет» понимания перед объяснением, так как частота, распространенность действия не дает его понимания, а понятность не обеспечивает высокой частоты применения. Установление смысловой, адекватной каузальной связи мотива (смысла) и совершаемого действия обеспечивает надежность процедуры объяснения в социальных науках. Процедура смыслоадекватной причинной атрибуции находит выражение в
80
прагматическом методологическом индивидуализме. Он состоит в аналитическом сведении, «редукции» любых макрофеноменов к микрофеноменам – на любом уровне организованности социальности. Посльку, в конечном итоге, смыслами оперируют и действуют всегда конкретные люди – в каком бы сложном и многоуровневом социальном пространстве они ни находились и не действовали (рисунок 2.4).
Макроуровень (объективный дух)
Смысловая взаимосвязь I
Смысловая взаимосвязь II
Этика аскетического протестантизма Идея спасения
Дух рационального капитализма Идея профессии
(Старозаветный Бог – Учение о
предопределенности – Человек как творение Бога)
(Доход как самоцель – Аскетическая экономность – Человек как продукт предприятия)
Пасторское учение Профессиональный успех как знак избранности (идея)
Идея полезности Профессиональный успех на основе труда (факт)
Микроуровень (субъективный дух)
Интерес в исцелении (совести)
Мировая аскеза (ценностно-рациональная ориентация)
Интерес к собственности, ее расширении
Мировая аскеза (целе-рациональная ориентация)
Рисунок 2.4 – Прагматический методологический индивидуализм
(на примере становления «духа капитализма») Шлюхтер также критикует лидера школы рационального выбора в
социологии Коулмана, который утверждает, что «дух» современного капитализма имел первоначально ценностно-рациональное микрообоснование. Его нельзя объяснить как «следствие утилитарной расчетливости задействованных акторов» [197, c. 26], как сознательно запланированный
81
результат, преследуемый индивидами и поколениями. Вебер был одним из тех, кто понимал ограниченные возможности экстраполяции и прогнозирования в социальных науках, так как зачастую «эффекты множества социальных действий совсем иные, чем предполагается в каждом отдельном действии» [306, c. 121]. Такого рода непреднамеренные социальные результаты намеренных действий отдельных индивидов сложно предсказать, поскольку они выходят за рамки механизма эффекта самоисполняющегося пророчества, где цели действия уже известны акторам, хотя и носят «виртуальный» характер. «Хотя Макс Вебер использовал “индивидуалистический метод”, понимаемый сегодня как методологический индивидуализм, он также придерживался мнения, что из связей индивидуальных действий возникают социальные образования с эмерджентными свойствами …» [307, с. 28].
Вместе с тем, по мнению Шлюхтера, «то, что Вебер назвал целерациональностью, было ориентировано у него еще на параметрическую, а не на стратегическую рациональность» [197, c. 43], рациональность второго порядка, где происходит определение правил, на основании которых устанавливаются базисные правила взаимодействия. Такая рациональность была описана в более поздних социологических подходах (феноменология, этнометодология, теория рационального выбора) и строго обоснована в рамках теории игр. Исследование стратегической рациональности приближает нас к пониманию формирования, протекания и воздействия современных сложностных социальных процессов.
С системной точки зрения Веберу характерно выделение вертикальных (классовых, сословных) и горизонтальных неравенств (порядки, организации). Наряду с этим «вместо понятия общества следовало бы применять понятие конфигурации порядков. Важна конкретная констелляция (под)порядков. … Порядки не всегда благоприятствуют друг другу, иногда они мешают друг другу или остаются индифферентными» [197, c. 46]. Данные отношения проецируются на индивидуальном уровне в виде плюрализма действия («стилей жизни») и, в конечном итоге, плюрализма типов личности, формирующихся в конфликте согласно стратегии социального закрытия или взаимодействии согласно стратегия открытия. Таким образом, Шлюхтер выстраивает трехуровневую схему «действие – порядок – культура» (рисунок 2.5). В работах другого видного вебероведа Лепсиуса [271] это «интересы – институты – идеи».
Позиционируя веберианскую программу в современных гносеологических координатах, Шлюхтер указывает на три ключевые конкурентные программы: системная теория Лумана, теория коммуникативного действия Хабермаса и теория утилитарного действия (рационального выбора). Веберианскую же программу автор отождествляет с
82
теорией регулируемого правилами действия (Theorie des regelgeleiteten Handelns), отличая ее от подобной утилитаристской версии экономистов – подхода следования правилам (выполнения правил), характерного для социологизированных версий homo economicus. Веберианская программа не впадает ни в надындивидуальный, «слепой» системный характер коммуникации у Лумана, ни в версию универсалистски и исключительно консенсуально ориентированной коммуникативной рациональности Хабермаса. «В то время как Луман недостаточно использует потенциал рациональности коммуникации, у Хабермаса прослеживается тенденция к завышению ее потенциала, его модель коммуникации содержит не только рациональность во всей ее полноте, но и притязание на универсальность» [197, c. 45].
Рисунок 2.5 – Трехуровневая схема (действие – порядки – культуры) Таким образом, реконструкцию веберианской программы Шлюхтера
можно прочитывать как интерпретацию в рамках множества подходов к изучению культуры, где игровой выступает в качестве доминантного, о чем свидетельствуют терминологические и методологические акценты в собственных работах и при интерпретации мысли Вебера. Так, Шлюхтер
83
отмечает, что для работ Вебера 1900-ых гг. характерно возрастание частоты употребления понятия «соглашение» (Einverständnis), которое помогло Веберу более строго развести понятия обычая, конвенции и права [312, c. 222], не сводя их к константной нормативности.
Кроме того, Шлюхтером в той или иной мере обсуждаются и инкорпорируются основы деятельностного, технологического, ценностного, символического и коммуникативного подходов – наряду с общими «выходами» в субъектный и системный подходы. Переработав центральную неовеберианскую дискуссию о диалектике идей и интересов, Шлюхтер строит открытую, динамичную картину социальной действительности, предстающей подвижной констелляцией порядков, включающих множество ситуативных правил и систем действия, применяемых наделенными языком акторами на основе стратегического согласования, координации или борьбы различных перспектив с целью придания и удержания их «правильности», нормальности и нормативности.
2.2 Неовеберианская культурсоциология Фридриха Тенбрука
Фридрих Тенбрук (1919-1994) занимает особое место в немецком и международном неовеберианстве. Д. Кеслер упоминает его среди лидеров первой волны исследователей [80, с. 145; 252, с. 6], чье творчество восходит еще к началу 1950-ых гг. и составляет основу реактуализации веберовской социологии в послевоенный период. В русскоязычной социологии неовеберианская дискуссия в целом и творчество Тенбрука в частности стали предметом интереса лишь отдельных историков и методологов социологии. Давыдов в своих работах опирался главным образом на ключевую для своего времени статью Тенбрука [326], в то время как поздние работы (1980-1990-ых гг.) остались вне его поля зрения. В свою очередь Л.Г. Ионин обращается лишь к понятию репрезентативной культуры [68, с. 39-40], оставив без внимания другие работы Тенбрука по вебероведению и истории социологии. Однако, поскольку, как мы покажем ниже, вебероведческая линия составляет фундамент собственно культурсоциологической концепции Тенбрука, анализ лишь одного из элементов творчества немецкого социолога является исходно неполным. Таким образом, предпринятый нами анализ выступает попыткой целостного изучения творчества автора, малоизвестного в русскоязычном социологическом пространстве, но занимающего ключевое место в международном неовеберианстве.
При всем влиянии Вебера на становление культурсоциологического дискурса «исследовательская программа Вебера была реконструирована и проинтерпретирована в этом контексте достаточно поздно (60-80-е годы 20-го
84
века)» [3, с. 338] и данный процесс вряд ли можно считать завершенным. Тем не менее, это позволило ряду исследователей предложить самостоятельные исследовательские программы веберианского толка (Тенбрук, Шлюхтер, Лепсиус и др.). Помимо своей роли в неовеберианском дискурсе Тенбрук также выступает ключевой фигурой культурсоциологического направления. Первой систематической попыткой концептуализации культурсоциологии (Kultursoziologie) принадлежит А. Веберу, однако она носит скорее культур-философский, нежели социологический характер.
Собственная исследовательская программа Тенбрука представлена в концепции репрезентативной культуры и более поздних работах. Ключевую роль среди них играет монография «Преодоление социальных наук или упразднение человека» [328], в которой немецкий автор проводит системную критику структурно-функциональной парадигмы как основы классического социологического проекта – антипода культурсоциологии. Ниже мы последовательно рассмотрим (1) эволюцию его вебероведческого творчества, (2) критику социологического проекта, а также (3) культурсоциологическую концепцию.
Вебероведческие работы Тенбрука задавали векторы и тематизмы вебероведческой дискуссии не только в Германии, но и на международном уровне. Они достигли максимального резонанса в течение 1970-1980 гг., хотя первые работы вышли еще в 1950-ых гг. В «Предисловии» к сборнику вебероведческих работ «Труд Макса Вебера» (1999) его редактор (ученик Тенбрука) Харальд Хоманн выделяет ряд ключевых этапов в творческой эволюции Тенбрука как вебероведа [248]. Основанием данной периодизации выступают сдвиги в интерпретации основных проблем («тем») в творчестве Вебера:
I. Первый этап (1950-ые гг. – 1960-ые гг.) – методологические работы
как временный отход от специальных, «эмпирических» исследований (наследуется разделение «методологии» и «эмпирики»), методологический позитивизм и неоидеализм в мышлении Вебера, концепт «наук о культуре» (Kulturwissenschaft);
II. Второй этап (1970-ые гг.) – пересмотр отношения методологии и специальных исследований, выделение «единой темы» (становление рациональности), концепт «науки о действительности» (Wirklichkeitswissenschaft);
III. Третий этап (1980-ые гг. – нач. 1990-ых гг.) – наука о действительности как ключ к пониманию наукоучения (методологии науки) Вебера, веберовская антропология, культурное значение науки для развития модерна и современности.
85
Обратимся к анализу проблематики в ключевых статьях каждого периода. Статьи первого периода «Генезис методологии Макса Вебера» (1958) и «Георг Зиммель» (1959) являются, по мнению Хоманна, свидетельствами взросления ранней немецкой социологии, послевоенного (вос)становления суверенитета и национального стиля немецкой социологической традиции. Она отсылает к иной версии социо-гуманитарного знания (историцизм, герменевтика, критическая теория), нежели американизированная социальная наука (бихевиоризм, функционализм), составлявшая в послевоенный период идейную основу денацификации и реформирования университетской социальной науки в Германии.
Задача статьи «Генезис методологии Макса Вебера» состоит в том, чтобы выяснить, «с каким намерением и с каким результатом, для себя и для нас, Макс Вебер занимался методологией» [326, c. 1]. Тенбрук высказывает ряд критических аргументов, противоречащих общепринятым установкам интерпретации веберовской методологии. Во-первых, тенденциозно рассматривать методологию как систематическую и основополагающую составляющую в якобы существующей «системе социологии» Вебера. Обращение Вебера к методологическим вопросам в работах начала 1900-ых годов является результатом неопределенности и временного дисциплинарного кризиса. Во-вторых, сам Вебер не был «чистым» методологом, а скорее «логиком в сфере культурнаук», как он себя определял. Для представителя специальных наук, к которым Вебер себя относил, отсутствует определенное место в рамках методологии науки – ввиду традиционной дистанции между методологической и конкретно-эмпирической работой. Этим объясняется краткость «методологического периода» творчества (1904-1906 гг.) и быстрое возвращение к однозначно доминирующему у Вебера конкретно-эмпирическому исследованию. Таким образом, Тенбрук предлагает исходить из образа временно вытесненного в поле методологии конкретно-эмпирического исследователя, а не профессионального методолога. «Недостатки в понимании Вебера при одновременной зависимости от его текстов – вот что характеризует современную социологию» [326, c. 5].
Далее мы, следуя Тенбруку, реконструируем историко-социологическую и гносеологическую ситуацию конца XIX-XX вв. и активность Вебера в ней. Проблема эвристичности понятий являлась центральной для методологии науки времен Вебера. Сводить его методологические размышления лишь к неокантианству означает исходно сужать их смысл и контекст возникновения. Хотя Вебер-методолог вырос на учении исторической школы национал-экономии (Г. Шмоллер), для него большое значение имел и методический позитивизм теоретической, австрийской школы национал-экономии (К. Менгер), вовлеченной в «спор о методе» с исторической школой.
86
Впоследствии веберовское снятие спора вылилось в методологические принципы «понимающего объяснения», «методологического индивидуализма», «свободы от оценочных суждений», неоднозначно воспринятые и, по сути, не понятые большинством ученых-современников.
Таким образом, методология Вебера вырастает из определенных и разнопарадигмальных гносеологических представлений и является эскизом культурнауки. Она «представляется в высшей мере противоречивым образованием, в котором различные позывы, понятия и проблемы претерпели свое самое общее и базовое решение. Это не говорит ничего против теоретика и социолога Макса Вебера» [326, с. 54]. Таким образом, в начале раннего периода вебероведения Тенбрук фиксирует и обосновывает (1) разделение методологических и эмпирических работ Вебера, (2) фрагментарность его творческого наследия (отсутствие единой «темы» и «системы») и (3) противоречивость методологических оснований (неокантианство, историческая и теоретическая школы национал-экономии и др.).
В трудах 1960-ых гг. Тенбрук подводит промежуточный итог своим предыдущим работам. По его мнению, монументальность труда Вебера состоит не в универсальности теории, а в грандиозности замысла – постановка диагноза модерну, создание социологии о модерне и для модерна. Вебер инкорпорировал и критически переосмыслил проблемы и разработки социо-гуманитарного знания своего времени, что не позволяет отнести его к какой-либо одной дисциплине. Сам Вебер определяет себя как социолога достаточно поздно (в 1910-ых гг.) и скорее иронично, за отсутствием более подходящего обозначения своей работе. Он понимал социологию как метапарадигмальную, междисциплинарную науку, что шло вразрез с тенденцией растущей внутренней дифференциации (специализации) социологии, постепенного обособления и разрыва теоретического и эмпирического уровней анализа. Вебер критически относился к дисциплинарной фрагментации социо-гуманитарного знания, возникшей, возросшей и сохранившейся в течение ХХ века.
В работах данного периода Тенбрук следует линии интерпретации трудов Вебера как альтернативы Марксу, отстаивая его фигуру перед контрвебериански настроенными неомарксистами Франкфуртской школы. В своих работах Вебер якобы «перевернул» объяснительную схему Маркса («базис – надстройка»), придав ведущее значение идейному фактору (протестантской этике). Поэтому он стремился отделить, даже противопоставить духовные образования и действительность, идеи и интересы, действия и институции, находясь в поисках адекватного «посредника» между обособленными структурой и культурой. В статье «Роль хозяйственного образа мысли в развитии» (1968) Тенбрук утверждает, что «Макс Вебер работал с
87
каузальными понятиями. Хозяйственный образ мысли тогда выступает в качестве самостоятельной величины, предшествующей хозяйственному развитию. При этом он почти автоматически изолируется от действительности как психическое или духовное качество. Социология сегодня работает с функциональными понятиями и взаимосоответствиями. Альтернатива, как ее ставил Макс Вебер, потеряла убедительность» [327, c. 578]. Позднее Тенбрук критически отнесется к выводам данного периода, выявив функциональное (реляционное) отношение между идеями и интересами, которое тогда не было обнаружено. Смещение аналитического фокуса в сторону критического сравнения с марксистской линией породило избыточный «идеализм» Тенбрука, подвергнувшийся критике со стороны других исследователей.
С началом следующего, второго этапа интерпретативной работы (1970-ые гг.) Тенбрук формулирует поставленные еще в докторской диссертации «История и общество» (1962) вопросы о соотношении структуры и культуры в историческом контексте. Как из современной структурно-функционалистской теории возможен выход на анализ исторических изменений, конфликтов и инноваций? В поисках ответа Тенбрук закладывает основы собственной культурсоциологической концепции. Хоманн так описывает соотношение структуры и культуры, разрабатываемое Тенбруком: «если структура общества задает сеть всех возможных и действительных коммуникаций, то история в итоге существует как социальная конструкция, различающая возможности действия и действительность действия. А местом разработки этого различия является другая сторона структуры – культура» [248, с. IX]. В данном контексте концепция Тенбрука стала ответом на структурно-функциональный вызов, его позитивной критикой.
В данный период Тенбрук посвящает значительное внимание вопросу целостности творческого наследия Вебера. Как красноречиво свидетельствует статья «Прощание с «Хозяйством и обществом»» (1977), посвященная анализу пятого издания этой работы под руководством Винкельмана, проблема состоит в установлении аутентичности произведения, скомпонованном редакторами из разрозненных, часто недатированных черновиков и поданном редакторами в виде законченной «системы» социологии Вебера. Многотомная работа якобы состоит из двух частей: методологической, общей, и конкретно-эмпирической, специальной, что отражает отношение между теорией и действительностью. Однако «этот сущностный вопрос не может быть так просто решен через двухчастное деление …» и компоновку текстов [323, c. 146]. Таким образом, Тенбрук отходит от ранее утверждаемого строгого деления творчества Вебера на «теорию» и «эмпирику».
В статье «Труд Макса Вебера» (1975), вызвавшей широкую дискуссию в рамках вебероведения, Тенбрук обращается к одной из наиболее влиятельных
88
на тот момент интерпретаций творчества Вебера за авторством Р. Бендикса [216]. Тезис Бендикса о непоследовательности, разрыве между специальными, фактическими исследованиями Вебера и методологическими работами подвергается пересмотру. Как утверждает Тенбрук, «мои работы по Веберу пятидесятых и шестидесятых годов содержат не только эту ошибку, но и другие недоработки в интерпретации, которые я попытаюсь устранить в данном сочинении» [324, с. 61].
Тенбрук ставит проблему следующим образом: «я хочу в дальнейшем показать, что мы закрыли себе путь к адекватному пониманию Макса Вебера из-за принимаемого как само собой разумеющееся предположения, что “Хозяйство и общество” является его главным произведением» [324, с. 59]. Тенбрук пытается привести логику текста и логику исследовательской карьеры Вебера к единому знаменателю. По его мнению, тезис о рационализации является рамочным для всего творчества Вебера (его главной «темой»). Однако долгое время в традиции интерпретации недостаточно разводились такие различные рационализации как религиозно-историческое расколдовывание и системная рационализация (модернизация). У Вебера системная рационализация выступает результатом эволюции религиозной рационализации («расколдовывания мира»). Поэтому традиционное хронологическое расположение «Хозяйства и общества» не до, а после «Хозяйственной этики мировых религий» основывается на необоснованной перестановке реальных этапов эволюции мысли самого Вебера. Отметим, что данная проблема получила обстоятельную проработку в поздних статьях В. Шлюхтера [307; 312], где он утверждает тезис о существовании двух качественно различных черновиков основной части «Хозяйства и общества», более поздняя версия которого и была использована для составления издания после смерти Вебера.
В реальной хронологической перспективе подготовка «Хозяйства и общества» заняла у Вебера три года, а разработка проблемы религиозной рациональности длилась всю его карьеру. Тогда главным, рамочным произведением Вебера, которое аккумулировало текущие исследовательские разработки, стоит считать совокупность работ по социологии религии. Тем самым религиозно-историческая рационализация и ее трансформация составляет центральный исследовательский фокус автора. Но каким образом рационализация жизни достигла такого универсального значения и какова ее судьба – именно так, по мнению Тенбрука, звучит главный исследовательский вопрос, «тема» Вебера.
Таким образом, Тенбрук акцентировал вопросы тотальной рационализации жизни и динамики мировоззрений, диалектики «идей и интересов». Но у вебероведов вызвала вопросы предложенная им
89
интерпретация веберовских ответов. «Судя по откликам на статью Ф. Тенбрука, имевшим, как правило, форму резко критических замечаний, наибольшее внимание вызвала предложенная ее автором трактовка веберовского понимания взаимоотношения между основополагающими (религиозно-«миросозерцательными») идеями, с помощью которых осознается смысл мира и человеческого существования в нем, с одной стороны, и (практически-«жизненными») интересами, которые преследует – вынужден преследовать – каждый отдельный человек, с другой» [49, с. 750]. У Тенбрука приоритет отдавался идеям, чья имманентная логика (саморазвития) напоминала схемы гегельянского «спиритуалистического эволюционизма», в котором превалирует идеалистически толкуемая «монокаузальность» исторического процесса.
Дискуссия вокруг интерпретации Тенбрука была подытожена в статье М. Ризебродта «Идеи, интересы, рационализация: критические замечания к интерпретации Ф.Х. Тенбруком творчества Макса Вебера» [301]. «В то время как Вебер приписывает “картинам мира” определенную функцию путеводителей, у Тенбрука в данной связи речь идет об “идеях”, которые он в другом месте характеризует как синоним религии. В то время как Вебер говорит о “динамике интересов”, у Тенбрука получается “динамика идей”. В то время как Вебер говорит о “самозаконности” различных ценностных сфер, Тенбрук пользуется понятием “самологики”, ограничивая ее сферой религии и приписывая этой специфической самодеятельной логике свою динамику, производящую процесс рационализации. Тем самым Тенбрук молчаливо предполагает, будто Вебер пожертвовал своей концепцией, утверждающей внутреннюю независимость факторов ради объяснения, апеллирующего к “конечной инстанции”» [49, с. 755-756].
Как мы покажем ниже, данная критика стала конструктивной для Тенбрука и была переработана в его позднейших работах (рост значения концепта «картина мира», анализ диалектики идей и интересов, их конкретных «носителей» – публики, культур-интеллигенции, государства, элит и др.). Показательно, что веберовед Лепсиус в построении собственной интерпретации Вебера также отталкивался от доминантности идей, но впоследствии конкретизировал институциональные и деятельностные опосредующие механизмы их социального влияния. «Идеи завязаны на интересы (interessenbezogen), ведь они должны “работать”» [271, с. 30]. Данная версия близка и взгляду Шлюхтера, которая опирается на многоуровневый прагматический методологический индивидуализм, отражающий механизмы простраивания структурных связей между разными уровнями организованности социальности.
На третьем этапе творчества Тенбрук исследовал гносеологическую ситуацию формирования веберовской мысли. Вышли его статьи
90
«Генрих Риккерт в его время. К европейской дискуссии о науке и мировоззрении» (1989), а также «Густав Шмоллер и его время: к возникновению социальных наук в Германии и Италии» (1989) и другие. В 1987 году Тенбрук участвовал в организации конференции и издании сборника работ, посвященных главе новой, «молодой» исторической школы национал-экономии –Шмоллеру. Рост интереса к Шмоллеру на позднем этапе академической активности Тенбрука указывает на возросшее внимание к «спору о методах» и его роли в становлении методологии веберовской социологии, в то время как на предыдущих этапах творчества большее внимание уделялось т.н. неоидеализму в лице Дильтея, Риккерта и др. Этот факт указывает на ярко выраженный идейный параллелизм в работах Хенниса, Шлюхтера и Тенбрука, состоящий в интерпретации «спора о методах» как ключевого источника методологической эволюции Вебера, – что обосновывает ту степень внимания, которую мы уделили данному эпистемологическому событию в диссертационной работе.
В это же время Тенбрук нарабатывает материал на свою планируемую, но ввиду его смерти неоконченную монографию о Вебере и его культурсоциологии. В статье «Прощание с “Наукоучением”» (1989) [323] он вновь обращается к «редакторскому вопросу», анализируя целостность издания и системность науковедческих представлений Вебера. Последним словом Тенбрука в теме вебероведения является текст доклада, переработанного в «Послесловие» (1995) к сборнику «Макс Вебер. Наука как профессия». Тенбрук формулирует ряд требований к интерпретации трудов Вебера, где призывает к работе не в залоге внутренней веберианской экзегезы, а с критической установкой к Веберу, направленной на переинтерпретацию и контекстуализацию его наследия в современной гносеологической ситуации. Основными исследовательскими темами данного периода выступили наукоучение (методология науки), а также концепт науки о действительности. Тенбрук резюмирует предыдущие наработки и раскрывает новые стороны старых проблем. Об этом свидетельствует содержание статьи «Труд Макса Вебера: методология и социальные науки» (1986) [325]. История интерпретации Вебера сложилась так, что ее предмет свелся к проблеме свободы от ценностей, чем сдерживалось появление более обстоятельных реконструкций. Эпоха национал-социализма отрезала Германию от международной интерпретации Вебера. Работы представителей американской социологии представляли собой по большей части однобокие прочтения, хотя и поддерживали работу над наследием Вебера в активном состоянии. Когда социология по умолчанию стала «наукой о законах», выстроенной по образцу неоклассической рациональности, то собственно веберовская постановка
91
вопроса о социологии как «науки о действительности» была вытеснена на обочину вебероведения.
Если монография Т. Абеля «Систематическая социология в Германии» (1929) нашла малый отклик, то его же нашумевшая статья «Операция под названием “понимание”» (1948) была, по мнению Тенбрука, полным недоразумением вебероведения. Рецепция Парсонса не избежала противоречия с веберовским видением науки, поскольку заимствовала позитивистский проект социологии как науки о социальной реальности, доступной исчерпывающему систематическому изучению с целью установления универсальных законов, а также предсказанию как основы социального контроля и социальной инженерии.
Как указывал сам Вебер, методологические размышления не могут дать исчерпывающего ответа на ценностно нагруженный вопрос о смысле и значении науки, так как он лежит во вненаучной, праксеологической плоскости. Вебер выделял два типа науки («наука о законах» и «наука о действительности») и стремился проанализировать историко-культурное значение каждой из них. Человек относится к миру через смыслы, о-смысленно, и обустраивает внешнюю действительность и свой внутренний мир в соответствии с ценностно фундированными представлениями. Наука является одной из множества практик «освоения мира», инструментом обустройства духовной и материальной среды жизни человека. Оба типа науки получили значительное развитие и вписываются в той или иной степени в процесс рационализации, хотя «позитивные» науки получили большее признание и воздействие на каноны научности в целом. Однако уже во времена Вебера реальный политеизм ценностей и путей цивилизационного развития, остро ощущавшийся на рубеже XIX-XX вв., поднял актуальный вопрос о возможности ценностно сознательной и при этом объективной науки как таковой.
По мнению Тенбрука сегодня идеи Вебера не находят действительного применения из-за недопонимания их смысла и скрытых установок. Спор о разных «социологиях» продолжается (сегодня в виде дискуссии о качественной и количественной социологии), несмотря на тезис Вебера о неизбежности ценностной нагруженности научных практик. Науку можно строить по различным модельным образцам, но необходимо отдавать себе отчет в тех ограничениях и предзаданных способах употребления, которым подвергнутся определенным образом полученные научные результаты. Непротиворечивое соседство Вебера и позитивистских проектов (Дюркгейма, Парсонса) обусловлено неосознанностью принципиального отличия концепта «науки о действительности». О дальнейших траекториях развития социологии можно
92
судить, «проработав базовые вопросы, на которые Вебер пытался ответить своим концептом (науки о действительности – К.А.)» [325, с. 174].
Таким образом, Тенбрук особенно настойчиво акцентирует тезис о том, что ключевым вопросом веберовского наукоучения является не столько непосредственно методология и поставленные в «споре о методах» проблемы, сколько более широкие вопросы о цели, смысле и культурном значении науки как социального института. Тем самым Тенбрук совершил очередной сущностный сдвиг исследовательского фокуса вебероведения. Первый сдвиг, ознаменовавший переход ко второму этапу творчества, касался критики исходно малоуспешных попыток поиска конечной, всеобщей «единой теории» социального в работах Вебера, как это предпринималось Парсонсом и многими вебероведами, и перехода к анализу методологических разработок Вебера, обладающих непреходящей актуальностью и цельностью поверх тематического, предметного разнообразия веберовской мысли. Второй сдвиг отличается тем, что Тенбрук, не отрицая значимости собственно методологических разработок, перевел фокус на проблему социо-культурного значения и влияния института науки и научного знания в различных исторических и идейных контекстах, т.е. на фокус эпистемологического и праксеологического измерений науки. Данные сдвиги, в сущности, стали постепенным ослаблением интерналистской установки анализа и выходом к сбалансированному совмещению интерналистски и экстерналистски ориентированного анализа науки, где это разделение уже инструментализировано и, тем самым, снято в рамках единой аналитической перспективы.
Следующая статья третьего периода творчества Тенбрука [329] углубляет данную аргументативную линию. По его мнению Вебер не философствует о смысле науки, как это делает Риккерт, а показывает ее неизбежную, зачастую неосознаваемую предпосылочность, которую невозможно обосновать рационально внутри науки (через объект, предмет или метод), поскольку она касается не техники познания, а его смысла, значения и ценности, которой обладает научное знание для вненаучных адресатов. Исходя и уходя от вопроса, «как мы можем познавать действительность, в “Наукоучении” ставится вопрос, “что” мы хотим познавать в ней» [329, с. 236]. Таким образом, это вопрос не о правильности, а о смысле науки; методы исследования зависят от целей познания; вместо образа «чистого» познания наука предстает как историческая сила и общественное “производство”» (Betrieb). «Наукоучение» Вебера показывает, что возможно поставить различные цели и тем самым «запрограммировать» различный результат. Поэтому оно «начинается с рассмотрения логики образования понятий, концентрируется на “науке о действительности” и развивает категории понимающей социологии. Так
93
социология Вебера началась в наукоучении, основывается на нем и развивается вместе с ним» [329, с. 241]. Иными словами, Тенбрук видит в «социологии науки» Вебера фундамент всей его социологии.
Таким образом, тематизируемый Тенбруком центральный веберовский концепт «науки о действительности» содержит несколько смысловых измерений. Во-первых, это понятийная пара «возможность – действительность», где последняя понимается как нечто реализованное (структура) из круга возможностей (культура), т.е., не является единственно возможным, а утверждает вариативность, плюрализм реальностей. Во-вторых, это пара «реальность – действительность», где последняя понимается как конструируемая, сделанная (от нем. wirken – воздействовать, действовать) действительность, лежащая в пространстве исключительно человеческой деятельности, а не отсылающей к «реальности самой по себе», гарантированной трансцендентным источником (Богом, Природой, Обществом). Данные характеристики легли в основу концепта репрезентативной культуры, позволяющему снять разделение на реальное и виртуальное, обладающее особой актуальностью в контексте развития информационного общества. Примечательно, что в рамках критики неоклассической экономики также заявлялся «возврат к реальности», когда, следуя выражению лидера поведенческой экономики Дж. Катона, «следует изучать экономическое поведение таким, каким оно предстает перед нами в реальности» [70, с. 75].
Таким образом, резюмируя проведенную реконструкцию вебероведческой линии в творчестве Тенбрука, мы можем утверждать, что Тенбрук четко фиксирует конфликт (нео)классического и неклассического знания в современной Веберу гносеологической ситуации. Он позиционирует Вебера как методолога «иной науки», отсылающей к принципам постнеклассической науки, для которой традиционные дисциплинарные, предметные и методологические, границы являются если не снятыми, то достаточно условными и проницаемыми. Действительное разделение наук сегодня проходит в целевой, праксеологической плоскости, которая выходит далеко за границы традиционных внутринаучных критериев фальсификации научного результата и сталкивается с задачей «социальной фальсификации» научных знаний, их широкой публичной, аксиологической экспертизы и оценки. Персональное самоопределение ученого в праксеологическом пространстве, предопределяет выбор в иных измерениях научной деятельности: в объекте, предмете и методе исследования.
Далее мы рассмотрим собственную историко-социологическую работу Тенбрука, основанную на критике просвещенческого проекта социологической науки. Тенбрук следует позиции другого видного немецкого социолога – Х. Шельски, члена Лейпцигской школы, как и повлиявший на Тенбрука
94
антрополог А. Гелен. Шельски посвятил ряд работ критике социологического «конструирования» общества [305], а также эксплицировал псевдорелигиозные основания доверия науке и феномен устранения личности. Он дал своим трудам обозначение «анти-социологии», что соответствует духу работ Вебера (относительно образа социологии его времени) [265] и самоидентификации Тенбрука [249]. Это обстоятельство указывает на специфическое, оппозиционное отношение Тенбрука к социологическому мейнстриму его времени.
Тенбрук считает, что социальная наука по своей сути включает свойство саморефлексивности, направленной на анализ и критическую оценку своего культурного значения, общественного влияния. Тем самым социология выполняет интерпретативно-созидательную функцию, поскольку «она разъясняет нам характер действительности и при этом ставит ориентиры для дальнейшего культурного развития» [329, с. 240]. Если у Вебера культурное воздействие социологии еще фиксируется в терминах «разъяснения» и «ориентации», то у Тенбрука, имеющего дело с современной социологией и технологиями социальной инженерии, институционализированной в практиках и дискурсах экономики, политики, образования, это воздействие схватывается в терминах «производства» и «конструирования».
Теоретическую основу для экспликации Тенбруком интерпретативно-созидательной функции новоевропейской науки составляет корпус идей М. Хайдеггера [184]. Известно, что свою интеллектуальную карьеру Тенбрук начинал как хайдеггерианец, но в дальнейшем испытал разочарование в консервативности философии Хайдеггера и занялся социологией, активно обращаясь к наработкам социологически ориентированной философской антропологии Гелена. В то время как идеи Хайдеггера использовались Тенбруком для анализа классической науки как «предприятия», идеи Гелена необходимы для разъяснения праксеологических оснований критики определенного, классического способа социологического производства социальной реальности.
В структуре науки Хайдеггер выделяет три ключевых элемента: исследование, метод и производство. Сущность исследования состоит в том, что «познание учреждает само себя в определенной области сущего, природы или истории как предприятие. В такое предприятие входит больше, чем просто метод, образ действий, ибо всякое предприятие заранее нуждается в раскрытой сфере для своего развертывания. Именно раскрытие такой сферы есть основополагающий шаг исследования. Он совершается за счет того, что в некоторой области сущего, например, в природе, проектируется определенная всеохватывающая схема природных явлений. Проект предписывает, каким образом предприятие познания должно быть привязано к раскрываемой сфере.
95
Этой привязкой обеспечивается строгость научного исследования. Благодаря этому проекту, этой общей схеме природных явлений и этой обязательной строгости научное предприятие обеспечивает себе предметную сферу внутри данной области сущего» [184, с. 56].
Иными словами, Хайдеггер утверждает, что способность определенным образом опредмечивать действительность основана на операции пред-ставления (ре-презентации) ее как предмета. Любому исследованию предшествует ценностная позиция, определяющая выбор проблемы, определение предмета, подбор методов исследования, адекватных для изучения предмета. Хайдеггер демонстрирует конструктивистский фундамент научного исследования, потенциальную радикализацию которого Тенбрук осознавал и стремился избежать. Как мы указывали выше, радикализация конструктивистской установки, состоящая в представлении о «творчестве» реальности «ex nihil», не разделяется в современной методологии науки. Более умеренная версия указывает на «естественную» и позитивную роль реификации как процедуры структурации и рутинизации смыслов, правил, институтов [60].
Присутствующий в философии Хайдеггера потенциал радикализации конструктивисткой установки ограничивался средствами социологического «приземления», демонстрирующего «социальный заказ», генезис и социальные механизмы науки определенного типа. Одним из ключевых системообразующих механизмов становления и функционирования науки стала религиозная рациональность и теологическая дисциплинарность, что уже отмечалось Тенбруком при анализе феномена рационализации. Рамочное, но не детерминистическое, влияние религиозных идей на становление науки, выступающей «предприятием» извлечения знания из окружающего разумного мира, было не замечено в концепции социологии науки Мертона. Последняя расставила акценты на утилитаристские интересы и интерналистские механизмы зарождения и развития науки, что не укладывается в оригинальную веберовскую постановку вопроса о зарождении науки, прослеживающей духовные, религиозные основания духа науки на уровне содержательного наполнения и дисциплинарного функционирования [331]. Образ человека, или антропообраз, выступающий предпосылкой критики современной социологической науки, Тенбрук обнаруживает в идеях ключевого представителя философской антропологии Гелена. В данной традиции человек представляется биологически недостаточным существом, выработавшим внебиологические, культурные приемы осмысленного активного освоения мира (институты). Уникальность человека состоит в том, что он является культурным существом, поскольку социальность характерна не только человеческому виду. Институты выступают инструментами для развития базисных задатков личности. Они погружены в субстрат «великих
96
ключевых установок» (große Schlüsselattitüde), которые представляют собой «инструменты, которые дают единую интерпретацию мира и понятные ориентиры для действия» [238, c. 5].
Диагноз современности Гелена достаточно пессимистичен. Институты заменяются суперструктурами, выступающими связками естествознания, техники и индустриализации, которые осуществляют тривиальное, стационарное воспроизводство типовых потребностей и возможностей человека. Наступило время «культурной кристаллизации», «пост-истории» – остановка развития культуры и человека [237, c. 11], когда администрирование преобладает над инновациями, потребление над творчеством и т.п. Тенбрук заимствовал представление Гелена о человеке как культурном существе, чтобы продемонстрировать недостатки позитивистского социологического проекта, основанного на образе человека как социального существа.
Главным негативным следствием функционирования социальных наук является устранение человека как культурного существа, т.е. человека как такового – в его уникальности и отличности от животных. Утверждение образа «личности как социологической категории и связанный с этим упадок представлений о модерновом субъекте, которые задавались и незаметно утвердились реифицирующими интерпретациями структурной теории» [249, c. 69], составляют ядро данной проблемы. Поэтому Тенбрук считает «усмирение» социальных наук жизненно важным вопросом, которое способно преодолеть «устранение» человека (Abschaffung).
По мнению Тенбрука «воздействия социальных наук ускользают от схватывания в человеческих действиях и общественных учреждениях, не создавая при этом видимой искусственной реальности» [328, c. 21], доступной для непосредственного, «осязаемого» анализа, как это имеет место в случае естествознания при изучении природной и техногенной среды. Особая воплощенность социологического знания в собственном предмете исследования (человеке, обществе, культуре) таит в себе опасность незнания направлений и результатов действительного воздействия социальных наук, которые с помощью ключевых социальных агентностей (институтов) неосознанно воплощают социологическое знание в государственной системе и гражданском обществе. Поведение людей тогда направляется не столько личностными потребностями и ориентирами, сколько безличностными нормами и «законами», «верифицирующими» нормальность поведения человека по модели абстрактного антропообраза, простроенного в рамках социальных наук. В итоге человек как культурное существо (Kulturwesen) реально редуцируется в самой социальной действительности до существа социального.
97
Преодоление социальных наук затрудняется верой в возможность объективной, научной, а не субъективной, обиходной системы представлений об обществе и социальном мире. «Это непоколебимое доверие основывается лишь на ожидании того, что должна существовать наука, которая способна так объяснить общество, что политика становится лишь рациональным предприятием» [330, c. 52], «делом техники», основанном на полной управляемости обществом на основе знания всеобщих социальных законов. Иными словами, Тенбрук обозначает и критикует инженерную установку классической научной рациональности, характерную экспериментальному, индустриально-техническому естествознанию и заимствованную социальными науками вследствие подражания естествознанию как образцу научности.
Данная социо-политическая онтологема стала ядром той картины мира, которая была положена в основу классического проекта социологической науки. Его развертывание проходило в процессе взаимодействия широкой публики и культур-интеллигенции, в форме борьбы за мировоззрение, за практическую реализацию (репрезентацию) «истинной» картины мира. Примечательно, что схожую линию социологизации исследования идеологий, по словам С. Холла, проводит американский историк и политологог М. Манн. «Как отметил Майкл Манн в попытке поправить Вебера, власть идеологии во всем ее величии проявлялась тогда, когда в качестве “путеукладчиков”, т.е. создателей общества, служили интеллектуалы» [189, с. 110-111].
Тенбрук представляет структуру социологического проекта в следующем виде: (1) картина мира, предоставляющей основу для (2) системы мировоззрения, (3) смыслы для производителей (исследователей, педагогов, политиков – культур-интеллигенции) и потребителей социологического знания (публик), а также (4) теоретический фундамент для социального исследования (Sozialforschung) как технологий развертывания проекта в реальных общественных отношениях. Иными словами, данный проект не сводится лишь к дисциплинарной составляющей, а учитывает иные социокультурные элементы и условия становления и функционирования социологии.
В работах неовеберианца Зейфарта разрабатывается подход, в котором большое внимание уделено различным группам интеллигенции и их роли в становлении ключевых социо-политических картин мира (либеральной, социалистической и т.д.). В таком изображении «“жизнь идей” предстает как “жизнь людей”, “борьба идей” – как борьба определенных укладов, образов, стилей жизни (жизнедеятельности), соответственно как борьба соответствующих социальных слоев» [53, с. 296]. Признавая взаимосвязь культурных идей и социальных слоев, он видит доминантный фокус на стороне идей, а потому определяет свою работу как культурсоциологический, а не социокультурный подход [53, с. 289], где анализ идейного содержания носит
98
определяющий характер для понимания социально-исторической динамики. Тенбрук в сущности придерживается такого же подхода, придавая большее внимание культурному, чем социологическому в культурсоциологии.
В представлении Тенбрука генезис картины мира науки вообще и социологической науки в частности сопряжен с общей историей модернового сознания и инерционных социокультурных эффектов эпохи Просвещения. Публика как продукт практик организованного просвещения не могла влиять на развитие естествознания, однако ее влияние на становление социо-гуманитарных наук было и остается весьма значительным. Ведь «… то, какое “направление” устанавливается в теологии, философии, литературоведении, истории или социологии, зависит от реакций и “интересов” публики, а вместе с тем от различных культурных, исторических и общественных обстоятельств» [328, c. 74]. За триумфальным взлетом социологии скрыта модерновая потребность в понимании и управлении миром, историей и обществом.
Секулярная цивилизация ожидала удовлетворения данной потребности со стороны науки. Нарастающая искусственность, «изделываемость» (Machbarkeit) среды и сопутствующая ей непредсказуемость, непрозрачность жизненных отношений порождала запрос на их объяснение и последующее рациональное обустройство и управление. Многочисленные государственные учреждения, политические партии и гражданские организации были заинтересованы в «социальной» информации и консультациях со стороны социальных наук, а потому, в конечном счете, стремились к сохранению и укреплению надежного дисциплинарного статуса социальных наук. Связи государства и социальных наук в период их зарождения достаточно обстоятельно проанализированы в работах социологов и историков науки [30; 139; 151].
Данный знаниевый «заказ» формировался в контексте мобилизации людей в движения, партии и группы во имя определенных политических программ, в ядре которых лежали различные учения об обществе. «Совпадающие духовные ориентиры и политические интересы порождали публичное влияние соответствующих учений. Научная работа началась в вихре формирования актуальных духовных и политических ориентиров новорожденной публики» [328, c. 173]. Сбои в функционировании порядков и властей, известные как т.н. «социальные вопросы», дали социологии шанс на институционализацию. Она проходила в формах (1) социального исследования, (2) профессионального образования и (3) университетской дисциплины, что позволило охватить широкие социальные слои образованной публики и распространять социологические представления среди всего населения. Таким образом, произошла социологизация социального, онаучивание повседневного восприятия, мышления и общения.
99
Социология зарождалась и развивалась как определенный антикризисный проект. Обратимся к анализу сущности данного кризиса, антикризисного проекта социологии, а также к сущности социологической картины мира. Общество как центральное понятие социологического проекта обладает определенной интеллектуальной историей. Оно появилось в разгар процесса декорпорации – бурного, конфликтного процесса распада домодерновых социальных порядков. Свободные города, сословия, владения, провинции, университеты, цехи, церкви и иные общности как самостоятельные и самоуправляемые корпорации теряли свой суверенитет и попадали под контроль централизованного государства. Субститутом широкого класса разнообразных корпораций и выступило общество, или гражданское общество.
Социология претендовала на решение «кризиса» Нового времени, который представлялся как результат незнания устройства и функционирования новых декорпорированных общественных явлений и сил (бунтов, революций, стачек и т.п.). Предполагалось, следуя физикалистским и догматико-правовым канонам научности, что они носят характер социальных, «моральных» законов, которые, подобно природным или божественным законам, обеспечивают стабильный общественный порядок. Концепция науки об обществе, включающая определенную социо-политическую онтологему – систему представлений о человеке, истории и культуре – формировалась на почве классических позитивистских представлений. Предметом ее исследования стала законосообразная социальная система, имплицитно включающая образ политически обустроенного и регулируемого единого Общества. Как утверждает Тенбрук, предмет социологии родился из духа самой социологии, стал ее собственным открытием («основополаганием»), инкорпорированным в базис социологической картины мира. Тем самым началось реальное внедрение социологической картины мира с ее идеями прогресса, порядка, просвещения и благосостояния, «заимствованными» политическими властями ввиду релевантности их инженерно-технократическим представлениям о социальном порядке и развитии.
Алокальность общества, наступившая с декорпорацией, повысила уровень неопределенности и нестабильности социокультурной динамики. Все большая дистанция между людьми, растущая «отчужденность» требовали знания о том, что происходит в трущобах и цехах, в классах и семьях, в деревнях и городах. Дисциплинарный механизм социологии проектировался с целью прояснить растущую необозримость, непрозрачность социальной действительности. Однако, сделав предметом исследования общество, социология «потеряла» человека: абстрактность социологической «информации» привела к ее анонимности, бесполезности и тривиальности для конкретного человека, обладающего уникальной жизненной биографией.
100
По мнению Тенбрука современная социология во многом унаследовала данные установки. Вместе с тем, не все социологические исследования бессмысленны, однако классическая технология социального исследования в целом опасна. Социологическое знание не способно помочь в надежной ориентации в конкретных жизненных ситуациях, изучая усредненного, абстрактного человека. Поэтому необходимо переосмыслить цели и технику исследований, выяснить прямые и косвенные, позитивные и негативные социальные последствия решений, принимаемых на их основе. В таком случае возможна критическая переоценка социального исследования, которое ищет «общественные причины тех проблем, которые оно частично само привнесло в мир и поддерживает» [328, c. 230] своей собственной активностью.
Анализируя общий характер развития современной науки и социологии в частности Тенбрук вводит закон тривиализации, согласно которому культурная значимость науки обратно пропорциональна уровню ее развития и специализации, ведущему к профессионализации науки, замыкания науки на себе самой. Тривиализация касается потери личностно значимого смысла, когда социальная наука не способна дать надежное знание о мире и человеке, как это предполагалось при ее зарождении. Постепенно изначальные претензии на истину заменяются «чистыми», внутренними эмпирико-логическими вопросами, т.е. происходит интернализация науки. Прагматическая, прикладная ориентация отсеивает вопросы о смысле и влиянии науки. Вместе с тем, нужно отметить, что неудачи модернизации незападных обществ привели к росту недоверия институту науки и онаученного государства как эффективных институтов устойчивого развития и обратному, растущему процессу экстернализации науки, запросу на публичный контроль науки со стороны адресатов и адресантов политических преобразований.
Таким образом, антропообраз человека как культурного существа, заимствованный у Гелена, определяет аксиоматику культурсоциологической концепции Тенбрука – в ее критической и позитивной составляющих. Любые человеческие «представления о действительности никогда не отражают данности, а представляют в символическом кодировании» [330, с. 48], в процессах активной репрезентации действительности. Открытость в будущее требует непрерывной креативности и фиксации в типизированных образцах действия, непрерывной оптимизации и «редизайна» социальных институтов. Тенбрук критикует социальные науки и эмпирическое социальное исследование за воспроизводство актуальной социо-научной картины мира, что оборачивается ее реификацией и, тем самым, легитимируемого ею социального порядка.
Тенбрук также считает, что классический социологический проект является исторически случайным фактом, хотя и обладает высокой
101
устойчивостью. Во многом подразумеваемый им образ социологии – это современный ему структурно-функциональный анализ, расцвет которого пришелся на зрелый период творческого пути Тенбрука. Структурный функционализм воплощал классическую проективную, социально-инженерную установку, нацеленную на максимизацию социального порядка и прогрессивный рост благосостояния общества, а также активное распространение западной культуры в других странах (вестернизация). Кризис данных установок, порожденный внутренними и внешними проблемами западных обществ, обусловил и кризис (нео)классической социологии, на почве критики которого сформировались ряд новых «больших теорий», актуальных в современной социологии – теории Гидденса, Бурдье, Хабермаса, Лумана, Кастельса и др.
Культурсоциологический проект Тенбрука в своей конструктивной части опирается на концепт репрезентативной культуры. С его помощью восстанавливается категориальная значимость понятия культуры, сопоставимая с той, которой обладает ключевое для классической социологии понятие социальной структуры. «Культурное видение и социальное видение – это просто два разных аспекта видения одного и того же феномена. В любом эмпирическом явлении социальной жизни невозможно отделить “социальную часть” от “культурной части”; здесь налицо, как выразился Тенбрук, “бесшовное соединение”» [68, c. 69].
В традиции структурного функционализма общества и структура выступают рамочными понятиями, а культура – лишь одной из сфер общества. В культурсоциологической ориентации, наоборот, общество понимается как актуализированная культура, обладающая высокой устойчивостью («принудительностью»), но открытая для изменения на основе «архивных» и креативных ресурсов культуры. Поэтому ключевыми свойствами репрезентативной культуры, отражающими ее традиционно-инновационную сущность, выступают:
1. Тотальность (культура регулирует все сферы жизнедеятельности, действия человека, однако в одном обществе может быть несколько культур, субкультур и контркультур);
2. Имманентность (предзаданность культуры, которая не может быть ложной, а просто существует «как есть», как непроблематизируемая картина мира);
3. Инкорпорированность (культура активно признается или пассивно принимается, но в любом случае интернализирована людьми);
4. Агентность (культура распространяется и воспроизводится индивидуальными и социальными носителями, т.е. интеллектуалами и учреждениями);
102
5. Избыточность (в своем «архиве» культура содержит больше содержаний, чем непосредственно вовлечено в актуальные социальные отношения);
6. Инновативность (культура включает как статичные, устойчивые, так и динамические образования, открытые для изменений).
Репрезентация является несущим механизмом любых культур – независимо от их возраста и комплексности. Современная же культура обладает специфичным механизмом репрезентации, в основе которого лежит плюрализм стилей жизни, вкусов и т.п. Он основан на создании интеллектуалами (писателями, священниками, певцами, политиками и т.п.) индивидуальных образцов поведения, распространяемых средствами масс-медиа. Современный «плюрализм был бы невозможен без особой автономии, продуктивности и динамики современной культуры, непрерывно изобретающей, выявляющей, предлагающей и пропагандирующей новые интерпретации и возможности жизни» и «возник вместе с длительной работой современной индустрии образования и культуры, с увеличением профессиональной культурной интеллигенции и ее постоянным присутствием в масс-медиа, а также посредством постоянной “идейной работы” политических партий и иных групп» [163, с. 112-113].
Таким образом, высокая динамика и плюрализм современной культуры стали ее внутренним структурным свойством и «законом», условием устойчивого развития. Понятие репрезентативной культуры представляет собой адекватный инструмент анализа, выходящий за рамки эволюционных или структурных картин социальной динамики. Не придерживаясь старого романтического понимания культуры, как оно «задавалось в немецкоязычной традиции на рубеже XIX-XX вв. [274, с. 11], данное понятие позволяет определить, «как современное общество конституируется в качестве определенной культуры», культуры мирового глобализирующегося общества [300, с. 106], (со)общества множества качественно различных, диахронных и центробежных в своем развитии культур. Концепция репрезентативной культуры Ф. Тенбрука представляет ценные, хотя и далеко не исчерпывающие инструменты и ориентиры для таких исследований.
Наконец, позиционируя Тенбрука в пространстве подходов к культуре, мы можем утверждать о констелляции неклассических и постнеклассических подходов, в которой доминантным выступает символический подход (концепт репрезентации). Тенбрук демонстрирует наличие как реифицирующей (технологический подход), так и конструктивной (игровой подход) компоненты в «теле» культуры. Стили жизни конструируются, продвигаются и закрепляются в высококонкурентной среде «культурного производства»
103
благодаря целенаправленной деятельности крупных социо-технических систем (интеллектуалов и масс-медиа). В основе этой деятельности лежат коммуникативные процессы (коммуникативный подход), обеспечивающие двустороннюю обратную связь между публиками и интеллектуалами, а также регулирующие «предложение» и «спрос» на рынке идей и идентичностей. Действенность и принудительность данных идей основана на переводе конкретных стилей жизни, изобретаемых в соответствии с воспринимаемым спросом со стороны публик, в непроблематизируемые, принимаемые на веру картины мира, общества, группы, личности.
«Трансцендентальная предпосылка любой науки о культуре состоит не в том, что мы считаем ценной определенную – или вообще какую бы то ни было – “культуру”, а в том, что мы являемся людьми культуры, обладающими способностью и волей, которые позволяют нам сознательно занять определенную позицию по отношению к миру и придать ему смысл» [34, с. 379], построить определенную «картину мира». Соприсутствие тенденций открытости и закрытости картин мира составляет нерв социокультурной динамики современных мультикультуралистских стран и регионов, в которых различные поколения, классы и сообщества находятся в сложных отношениях солидарности, борьбы, оппортунизма или сотрудничества. Векторы и динамика данных отношений задаются различными картинами мира, диахронными и/или конфликтными в своих установках. Сегодня существование любой культуры стало не просто вопросом суверенного ценностного выбора, но и политической борьбы стран и цивилизаций, озабоченных выживанием, благополучием или господством определенной картины мира. Человеческая способность придать миру разный смысл для некоторых других смыслов означает «выстрел в упор».
***
Во второй главе диссертационного исследования мы провели обзор
развития неовеберианской дискуссии, провели библиографический и сетевой анализ публикационной активности международного неовеберианского сообщества, изучили авторские концепции ключевых немецких неовеберианцев, уделив особое внимание творчеству Ф. Тенбрука.
Проведенный анализ позволил выявить, что на протяжении ХХ века немецкоязычные авторы непрерывно демонстрировали высокий уровень публикационной активности и играли ключевую роль в рефлексии веберовского наследия. На основе сетевого анализа были выявлены ключевые по своему вилянию в неовеберианском сообществе авторы (Й. Вайс, В. Хеннис, В. Шлюхтер), концепции которых были подвергнуты отдельному анализу.
104
Выявлено, что данные авторы, осмысляя и развивая веберианскую традицию, эксплицируют ее содержание в рамках преимущественно субъектно-ориентированных постнеклассических подходов (символический, игровой, коммуникативный подходы). В своих концепциях они, следуя немецкоязычной традиции в социологическом изучении культуры, акцентируют антропологический фокус проблематики в рамках веберовской социологии, направленный на изучение социокультурных механизмов формирования и воспроизводства антропообразов, специфичных для определенных культур и отдельных эпох.
Творчество Тенбрука, оказавшего большое влияние на тематическое наполнение международной неовеберианской дискуссии, было изучено с точки зрения эволюции вебероведческой мысли, анализа истоков и оснований социологической науки и культурсоциологической концепции (репрезентативной культуры). В своих вебероведческих работах Тенбрук прошел три этапа эволюции, переход между которыми сопровождались системными сдвигами тематики и проблематики исследования веберовского наследия. При переходе от первого ко второму этапу фокус анализа перемещается с поисков тематического единства и целостности наследия Вебера к выявлению единой методологической программы, проходящей сквозь все творчество немецкого классика поверх широкого тематического, предметного разнообразия его работ (методологический фокус). Переход к третьему этапу характеризуется сдвигом от изучения вопросов методологии науки к проблематике социо-культурного значения и влияния института науки и научного знания в целом (эпистемологический и праксеологический фокус).
На основе идей М. Хайдеггера и А. Гелена Тенбрук проводит анализ и критику (нео)классического социологического проекта, основанного на позитивистских познавательных установках. Автор показывает, что социологическое знание, опирающееся на редуцированные представления о человеке и социокультурной действительности, обладает недостаточным потенциалом для понимания современных социальных явлений и процессов, для понимания и информационного сопровождения государственной и публичной политики. Тенбрук предлагает альтернативную концепцию репрезентативной культуры, позволяющую в равной степени учесть традиционно-инновативную сущность культуры, а также реально-виртуальную (конститутивно-конструктивную) природу социальных процессов в современном глобальном информационном обществе.
105
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
1. Отличительной особенностью структуры и динамики социо-гуманитарного знания является одновременная концептуализация и синхронное, но неравнозначное по интенсивности развитие стандартных типов научной рациональности (классической, неклассической и постнеклассической), а также наличие нестандартного типа неоклассической науки. Данное обстоятельство обуславливает возможность переинтерпретации концепций классиков социологии конца XIX – начала ХХ века, в частности Макса Вебера, с точки зрения их соответствия принципам постнеклассической научной рациональности. Проведение такой переинтерпретации предполагает общетеоретический анализ веберовской концепции в онтологическом, методологическом, эпистемологическом и праксеологическом измерениях постнеклассической науки, а также выявление методологических разработок в области социологического изучения культуры на основе типологического подхода.
Классификационный подход к изучению культуры ограничен ее предметно-содержательным анализом, направленным на выделение и упорядочивание различных видов культуры согласно ее различным морфологическим свойствам. Это обуславливает его недостаточность для метатеоретического анализа методологических оснований изучения культуры, где предметом изучения выступает не культура, а способы ее изучения. Данное ограничение устранено в типологическом подходе, который выделяет базовые подходы на основе системообразующих для культуры явлений и процессов, а также описывает взаимодополнительность и сочетаемость отдельных подходов к изучению культуры. Типологический подход позволяет выявить в отдельных концепциях изучения культуры наличие и степень разработанности различных подходов, в результате чего становится возможным выявить степень выраженности отдельных типов научной рациональности в данных концепциях [3–А, 9–А, 11–А, 12–А, 16–А, 19–А].
2. Доминирование неоклассического типа науки в социологии повлекло неполную рефлексию веберовского наследия и временную консервацию (пост)неклассических социологических линий в целом. Классикализация Вебера-социолога была осуществлена в статьях и переводах Т. Парсонса, взгляды которого длительное время определяли восприятие веберовского наследия, отсрочив альтернативные прочтения латентных неклассических оснований и постнеклассических установок в социологии Вебера. Неклассические, культур-ориентированные прочтения Вебера
106
составили идейное основание для формирования и развития неовеберианской социологии не только в Германии, но и в работах американских (Г. Рот, Р. Бендикс, С. Калберг) и британских (С. Вимстер, Л. Скафф) вебероведов.
Социология Вебера формировалась в условиях развития системного эпистемологического конфликта между классической и неклассической наукой. Данный конфликт представлен в виде «спора о методах», который велся в немецкоязычном интеллектуальном пространстве во второй половине XIX – начале XX вв. между теоретической (австрийской) и исторической (немецкой) школами национал-экономии. Влияние неокантианства Г. Риккерта и герменевтики В. Дильтея имеет существенное, но второстепенное значение для формирования социологической методологии Вебера. Следуя установке на конструктивное преодоление «спора о методах», веберовская социология в своих ключевых принципах соответствует критериям постнеклассической науки в ее онтологическом, методологическом, эпистемологическом и праксеологическом измерениях. В своих работах Вебер предложил ряд завершенных и эскизных методологических разработок, релевантных постнеклассически ориентированным подходам к изучению культуры (игровому, текстовому, коммуникативному) [1–А, 2–А, 3–А, 6–А, 10–А, 14–А, 15–А, 18–А].
3. Всплеск социологического интереса к Веберу в 1970-1980 гг. в Германии является не столько следствием восстановления ранее прерванной рефлексии работ Вебера, сколько результатом экстенсивного роста вебероведческого сообщества и выхода на пик творческой активности старшего поколения вебероведов. С историко-социологической точки зрения данный подъем совпадает с критикой неоклассической социологии и формированием неклассических социологических теорий в течение 1970-1980-ых годов. Данный феномен затруднительно интерпретировать как т.н. «веберовский ренессанс» (по версии Ю.Н. Давыдова), поскольку Вебер исходно при жизни и непосредственно после смерти, когда основные работы еще не были изданы, не был прочтен в соответствии со своими (пост)неклассическими установками. В то же время немецкая социологическая традиция в межвоенный период не смогла консолидировать и инвестировать требуемые интеллектуальные ресурсы в развитие альтернативных подходов к интерпретации веберовского наследия, когда оно было опубликовано, переведено и вошло в оборот академической социологической классики (1920-1940-ые гг.).
Ранняя неовеберианская дискуссия концентрировалась на вопросах целостности обширного веберовского наследия, следуя установке на разделение работ на теоретические и эмпирические труды, а также признавая их фрагментарность и противоречивость. Позднее дискуссия сместилась к проблематике выявления единой методологической «рамки» веберовского
107
труда, устраняющей искусственное разделение на теоретические и эмпирические работы и установку на поиск у Вебера «единой теории» общества. Данный поворот вызвал переход к анализу эпистемологических и праксеологических идей Вебера и постепенный выход неовеберианцев к целостным культурсоциологическим прочтениям всего наследия Вебера. Ключевые представители немецкого неовеберианства (В. Шлюхтер, В. Хеннис, Й. Вайс, Ф. Тенбрук) демонстрируют общность в выявлении антропологического фона веберианской социологии, направленной на понимание механизмов формирования и воспроизводства в культуре специфичных антропообразов – образов нормальной, базисной для конкретной культуры личности. Данные механизмы состоят в воздействии взаимосвязанных, но относительно автономных социальных, политических, экономических и религиозных порядков на индивидов, их ментально-поведенческие характеристики и представления (идентичности) [4–А, 5–А, 7–А, 19–А].
4. Работы Ф. Тенбрука оказали значительное влияние на ход международной вебероведческой дискуссии. Творчество Тенбрука включает три взаимосвязанных тематических линии: историко-социологические исследования, труды по вебероведению и концепцию репрезентативной культуры. Идейная эволюция Тенбрука-вебероведа включает три этапа и наследует общую логику развития вебероведческой дискуссии, состоящую в переходе от предметно-тематической через методологическую к эпистемолого-праксеологической перспективе анализа. Критика (нео)классического антропообраза в социо-гуманитарном знании, основанная на антропологических представлениях А. Гелена о человеке как культурном существе, стала теоретической базой для критики оснований классического, структурно-функционального социологического проекта, основанного на образе человека как социального существа.
В концепции репрезентативной культуры Тенбрук выявляет традиционно-инновативную сущность культуры, характерными чертами которой являются тотальность, имманентность, инкорпорированность, агентность, инновативность и избыточность. Автор демонстрирует условность разделения социо-культурной действительности на социальную и культурную компоненты, обосновывает определяющее влияние культурных идей на социальные структуры и процессы в различных странах и регионах. Понятие репрезентации обладает особой актуальностью для постнеклассически ориентированных исследований современного общества, где получили широкое распространение феномены новой медийной и онлайн-культуры. Практики репрезентации действительности включают как приемы конструирования, так и реификации реальности, осуществляемых по ту сторону
108
традиционного разделения реального и виртуального, истинного и ложного, поведенческого и ментального [7–А, 8–А, 13–А, 17–А, 20–А].
Рекомендации по практическому использованию результатов
Результаты диссертационного исследования могут использоваться
органами государственного управления и самоуправления для мониторинга, анализа и оценки направлений и тенденций развития межнациональных, межэтнических, межконфессиональных отношений в белорусском обществе, а также с целью обоснования и разработки ключевых направлений государственной политики в сфере духовной жизни и культурного потребления.
Методика, программное обеспечение и результаты проведенного в диссертационном исследовании библиографического анализа публикационной активности авторов и сетевого анализа их цитатного поведения могут быть использованы для историко-социологических и наукометрических исследований структуры и динамики отношений и влияния внутри научных сообществ в различных отраслях научного знания.
Результаты проведенного сетевого анализа международного вебероведческого сообщества обеспечивают информацию о структуре сообщества и весе отдельных авторов, которая позволяет определить авторов и конкретные работы, обладающие приоритетным значением для перевода и публикации в русскоязычном интеллектуальном пространстве.
Полученные в диссертационном исследовании результаты могут быть использованы для учебных курсов по социологии культуры, по теории, истории и методологии социологии, а также для научно-исследовательской работы в рамках исследовательских проектов по социологии культуры, духовной жизни и потребления в сфере культуры.
109
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Список использованных источников 1. Абельс, Х. Романтика, феноменологическая социология и
качественное социальное исследование / Х. Абельс // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – Том 1, № 1. – С. 98–124.
2. Абушенко, В.Л. Классический подход к изучению культуры в социологии в перспективе социологической (пост)неклассики / В.Л. Абушенко // Социологический альманах: сб. науч. ст. / Ин-т социологии НАН Беларуси; под ред. И.В. Котлярова [и др.]. – Минск, 2011. – Вып. 2. – С. 81–88.
3. Абушенко, В.Л. Культурсоциология: возможность иного взгляда на социальную теорию / В.Л. Абушенко // Вопросы социальной теории. – 2008. – Том 2. – С. 329–344.
4. Абушенко, В.Л. Социология культуры, культурсоциология / В.Л. Абушенко // Социология: Энциклопедия / редкол. А.А. Грицанов [и др.]. – Минск: Книжный Дом, 2003. – С. 1022–1027.
5. Абушенко, В.Л. Типологизация / В.Л. Абушенко // Социология: Энциклопедия / редкол. А.А. Грицанов [и др.]. – Минск: Книжный Дом, 2003. – С. 1054.
6. Абушенко, В.Л. Типологический подход к исследованию культуры в культурсоциологии / В.Л. Абушенко // Социологический альманах: сб. науч. ст. / Ин-т социологии НАН Беларуси; под ред. И.В. Котлярова [и др.]. – Минск, 2011. – Вып. 3. – С. 124–140.
7. Автономов, С.А. Человек в зеркале экономической теории. (Очерк истории западной экономической мысли) / С.А. Автономов. – М.: Наука, 1993. – 174 с.
8. Александер, Дж. Аналитические дебаты: понимание относительной автономии культуры / Дж. Александер // Социологическое обозрение. – 2008. – Том 6, № 3. – С. 237–271.
9. Александер, Дж. Об интеллектуальных истоках «сильной программы» / Дж. Александер // Социологическое обозрение. – 2010. – Том 9, № 2. – С. 5–10.
10. Александер, Дж. Сильная программа в культурологии / Дж. Александер, Ф. Смит // Социологическое обозрение. – 2010. – Том 9, № 2. – С. 11–30.
11. Ананьин, О.И. Философия и методология экономической науки / О.И. Ананьин // Философия социальных и гуманитарных наук; под ред. С.А. Лебедева. – М.: Академический проект, 2006. – С. 353–437.
110
12. Андрески, С. Самое уязвимое место: понятие рациональности / С. Андрески // Политическая концептология. – 2011. – № 1. – С. 210–235.
13. Ардашкин, И.Б. Социокультурная обусловленность постановки и решения научных проблем в современном научном познании / И.Б. Ардашкин // Извест. Томск. политехн. ун-та. – 2011. – Том 318, № 6. – С. 78–84.
14. Ардашкин, И.Б. Трансдисциплинарность проблемы как фактор современного познания / И.Б. Ардашкин // Вестн. Томск. гос. ун-та. – 2007. – № 302. – С. 36–40.
15. Аузан, А.А. Социокультурная формула экономической модернизации / А.А. Аузан, К. Келимбетов // Вопросы экономики. – 2012. – № 5. – С. 38–44.
16. Балог, А. Социология – мультипарадигмальная наука? / А. Балог // Социс. – 2002. – № 7. – С. 1–23.
17. Безуглова, Н.П. «Культурный поворот» в западной культурологии / Н.П. Безуглова // Вестник МГУКИ. – 2010. – № 6. – С. 21–27.
18. Безуглова, Н.П. Культурный поворот: смена парадигм? / Н.П. Безуглова // Полигнозис [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://www.polygnozis.ru/default.asp?num=6&num2=540. – Дата доступа: 20.04.2014.
19. Бейтсон, Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии / Г. Бейтсон. – М.: Смысл, 2000. – 476 с.
20. Бендикс, Р. Образ общества у Макса Вебера / Р. Бендикс // М. Вебер. Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994. – С. 567–587.
21. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: Медиум, 1995. – 323 с.
22. Бехманн, Г. Новые формы производства знаний: проблемно ориентированные исследования / Г. Бехманн // Эпистемология и философия науки. – 2007. – Том 12, № 2. – С. 18–37.
23. Бехманн, Г. От знаний к действию: трансформация научных и технических исследований в современном обществе знаний / Г. Бехманн // Эпистемология и философия науки. – 2007. – Том 14, № 4. – С. 209–215.
24. Блур, Д. Виттгеншейтн как консервативный мыслитель / Д. Блур // Логос. – 2002. – № 5–6 (35). – С. 47–64.
25. Блур, Д. Сильная программа в социологии знания / Д. Блур // Логос. – 2002. – № 5–6 (35). – С. 1–24.
26. Буданов, В.Г. Квантово-синергетические онтологии и постнеклассические практики / В.Г. Буданов // Постнеклассические практики: определение предметных областей. – М.: Макс-Пресс, 2008. – С. 63–75.
111
27. Буданов, В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке: принципы и перспективы / В.Г. Буданов // Постнеклассика: философия, наука, культура. – СПб.: Издательский дом «Миръ», 2009. – С. 361–396.
28. Буравой, М. Комментарий: за глобальную социологию низших слоев? / М. Буравой // Социс. – 2009. – № 4. – С. 14–20.
29. Буравой, М. Что делать? Тезисы о деградации социального бытия в глобализирующемся мире / М. Буравой // Социс. – 2009. – № 4. – С. 3–9.
30. Бурдье, П. Объективировать объективирующего субъекта / П. Бурдье // Бурдье П. Начала; пер. Шматко Н.А. – M.: Socio-Logos, 1994. – С. 141–146.
31. Бурдье, П. Оппозиции современной социологии / П. Бурдье // Социс. – 1996. – № 5. – С. 36–50.
32. Вайзе, П. Homo economicus и homo sociologicus: монстры социальных наук / П. Вайзе // THESIS. – 1993. – № 3. – С. 115–130.
33. Вахштайн, В.С. Социология вещей и «поворот к материальному» в социальной теории / В.С. Вахштайн // Социология вещей: сб. перев.; ред. В.С. Вахштайн – М.: Территория будущего, 2006. – С. 7–42.
34. Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.
35. Веблен, Т. Почему экономическая наука не является эволюционной дисциплиной? / Т. Веблен // Истоки: из опыта изучения экономики как структуры и процесса. – М.: ГУ-ВШЭ. – 2006. – Вып. 6. – С. 10–32.
36. Вевёрка, М. Некоторые соображения по прочтении статьи М. Буравого «Что делать?» / М. Вевёрка // Социс. – 2009. – № 4. – С. 9–13.
37. Визгин, В.П. О проблеме научных революций и их типологии / В.П. Визгин // Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С. Стёпина. – М.: Канон+, 2004. – С. 179–192.
38. Викулина, В.В. Категориальный статус понятия «экономический человек» / В.В. Викулина // ВЕСТНИК ОГУ. – 2009. – № 7 (101). – С. 128–130.
39. Гергилов, Р.Е. Немецкое социологическое общество перед Первой мировой войной / Р.Е. Гергилов // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2003. – Том VI, № 3. – С. 33–39
40. Глазырин, В.А. Определение права в социологии Макса Вебера / В.А. Глазырин // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2005. – Том 8, № 3. – С. 59–70.
41. Горохов, В.Г. Междисциплинарные исследования научно технического развития и инновационная политика / В.Г. Горохов // Вопросы философии. – 2006. – № 4. – С. 80–96.
42. Гохберг, Л.М. Будущее как стратегическая задача / Л.М. Гохберг // Форсайт. – 2007. – № 1. – С. 4–5.
112
43. Грановеттер, М. Интервью с Марком Грановеттером: «Теория организаций и экономическая социология идут рука об руку…» / М. Грановеттер // Экономическая социология. – 2012. – Том 13, № 3. – С. 8–21.
44. Громов, И.А. Западная теоретическая социология / И.А. Громов, А.Ю. Мацкевич, В.А. Семенов. – Спб.: Изд-во Ольга, 1996. – 286 с.
45. Губа, К.С. Западная теория в петербургской социологии: между Максом Вебером и Эрвином Гофманом / К.С. Губа // Социс. – 2012. – № 6. – С. 83–97.
46. Гудков, Л.Д. Есть ли основания у теоретической социологии в России? / Л.Д. Гудков // Политическая концептология. – 2010. – № 3. – С. 137–161.
47. Гуриев, С.М. Три источника – три составные части экономического империализма / С.М. Гуриев // Общественные науки и современность. – 2008. – № 3. – С. 134–141.
48. Давыдов, Ю.Н. Веберовский ренессанс / Ю.Н. Давыдов // Социс. – 1986. – № 3. – С. 56–68.
49. Давыдов, Ю.Н. Картины мира и типы рациональности / Ю.Н. Давыдов // Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 735–770.
50. Давыдов, Ю.Н. Макс Вебер и Россия / Ю.Н. Давыдов // Социс. – 1992. – № 3. – С. 115–129.
51. Давыдов, Ю.Н. От национальной экономии к культурсоциологии (проблемы социологической теории в письмах М. Вебера 1906-1908 годов) / Ю.Н. Давыдов // Вопросы философии. – 1996. – № 1. – С. 124–134.
52. Давыдов, Ю.Н. Техника и бюрократия: на путях к социологической расшифровке техники / Ю.Н. Давыдов // ФРГ глазами западногерманских социологов: Техника – интеллектуалы – культура. – М.: Наука, 1989. – С. 66–81.
53. Давыдов, Ю.Н. История и рациональность: Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс / Ю.Н. Давыдов, П.П. Гайденко. – М.: Политиздат, 1991. – 367 с.
54. Даниелян, Н.В. Представление о научной рациональности в естественных науках с позиции конструктивизма / Н.В. Даниелян // Философия науки. – 2011. – № 4 (51). – С. 18–30.
55. Дарендорф, Р. Социальная наука и оценочные суждения. Послесловие к дискуссии об оценках / Р. Дарендорф // Тропы из утопии: работы по теории и истории социологии. – М.: Праксис, 2002. – С. 100–120.
56. Димке, Д. Классики без классики: социальные и культурные истоки стиля советской социологии / Д. Димке // Социс. – 2006. – № 12. – С. 97–106.
57. Доббин, Ф. Формирование промышленной политики: Соединённые Штаты, Великобритания и Франция в период становления железнодорожной
113
отрасли / Ф. Доббин // Экономическая социология. – 2012. – Том 13, № 5. – С. 34–56.
58. Дудина, В.И. Социологический метод: от классической к постнеклассической точке зрения / В.И. Дудина // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1999. – Том II, № 3. – С. 57–65.
59. Дудина, В.И. Социологическое знание в контексте эпистемологической легитимации: от Автономии фактов к дисциплинарной автономии / В.И. Дудина // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2003. – Том 6, № 3. – С. 40–54.
60. Дудина, В.И. Эпистемологическая реконфигурация социального знания: от репрезентации к перформативности / В.И. Дудина // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2012. – Том 15, № 3. – С. 35–50.
61. Ерасов, Б.С. Российская культурология в контексте закрытия? / Б.С. Ерасов // Философские науки. – 2000. – № 3. – С. 40–48.
62. Ефимов, В.М. Об интерпретативной институциональной экономике (научный доклад) / В.М. Ефимов // НИУ-ВШЭ [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://www.hse.ru/news/44912.html. – Дата доступа: 11.03.2013.
63. Ефимов, В.М. От машин удовольствия к моральным сообществам (размышления над новой книгой Джеффри Ходжсона) / В.М. Ефимов // Журнал институциональных исследований. – 2013. – Том 5, № 2. – С. 7–47.
64. Ефимов, В.М. Спор о методах и институциональная экономика / В.М. Ефимов // Эконом. вестн. Ростов. гос. ун-та. – 2007. – № 5 (3). – С. 18–36.
65. Зарубина, Н.Н. Модернизация и хозяйственная культура (Концепция М. Вебера и современные теории развития) / Н.Н. Зарубина // Социс. – 1997. – № 4. – С. 46–54.
66. Зарубина, Н.Н. Социально-экономическая проблематика в теориях постмодернистского типа / Н.Н. Зарубина // Социс. – 2012. – № 11. – С. 9–19.
67. Зотов, А.Ф. Европейская культура и научная рациональность: история, современность, перспективы / А.Ф. Зотов // Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С. Степина. – М.: Канон+, 2004. – С. 463–487.
68. Ионин, Л.Г. Социология культуры / Л.Г. Ионин. – М.: Издат. дом ГУ-ВШЭ, 2004. – 408 с.
69. Ионов, И.Н. Теория цивилизаций и неклассическое знание. (Социокультурные предпосылки макроисторических интерпретаций) / И.Н. Ионов // Общественные науки и современность. – 2004. – № 5. – С. 141–156.
70. Капелюшников, Р.М. Поведенческая экономика и новый патернализм / Р.М. Капелюшников // Вопросы экономики. – 2013. – № 10. – С. 66–90.
114
71. Капогузов, Е.А. Модернизация госуправления в Европе: на пути к неовеберианству? / Е.А. Капогузов // Современная Европа. – 2009. – № 1. – С. 29–40.
72. Касториадис, К. Воображаемое установление сообщества / К. Касториадис. – М.: ГНОСИС ЛОГОС, 2003. – 480 с.
73. Катаев, Д.В. Актуализация социологии Макса Вебера в экономических теориях: проблемы интерпретации и рецепции / Д.В. Катаев // Извест. РГПУ им. А.И. Герцена. – 2011. – № 130. – С. 244–251.
74. Катаев, Д.В. Категориально-понятийный аппарат социологии Макса Вебера в теориях организации и управления / Д.В. Катаев // Вестн. Челяб. гос. ун-та. – 2008. – № 32. – С. 149–155.
75. Катаев, Д.В. Ранние эмпирические работы М. Вебера в экономической социологии // Экономика и социум [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal_osnovnoy_2_7_2013_chast_2/Kataev%20D.V..pdf. – Дата доступа: 11.05.2013.
76. Катаев, Д.В. Экономическая социология Макса Вебера и современность / Д.В. Катаев // Теория и практика общественного развития. [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://www.teoria-practica.ru/ru/-8-2012.html. – Дата доступа: 11.03.2013.
77. Кацук, Н.Л. Типы научной рациональности и теоретико-методологические установки социологии Э. Дюркгейма / Н.Л. Кацук // Социологическое знание и социальные процессы в современном белорусском обществе: материалы Третьей межинститут. науч.-практ. конф. молодых ученых, Минск, 27 июня 2003 г. / Ин-т социологии НАН Беларуси; ред. кол.: Г.М. Евелькин [и др.]. – Минск, 2003. – С. 228–235.
78. Качанов, Ю.Л. Дихотомия «социологический конструктивизм – научный реализм» и ее преодоление / Ю.Л. Качанов // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2004. – № 1. – С. 63–75.
79. Качанов, Ю.Л. Теоретические предпосылки эмпирического исследования социологической теории / Ю.Л. Качанов // Социс. – 2000. – № 10. – С. 3–10.
80. Кеслер, Д. Макс Вебер / Д. Кеслер // Немецкая социология. – Спб.: Наука, 2003. – С. 130–147.
81. Кильдюшов, В.О. Полиция как наука и политика: о рождении современного порядка из философии и полицейской практики / В.О. Кильдюшов // Социологическое обозрение. – 2013. – Том 12, № 3. – С. 9–40.
82. Кильдюшов, В.О. По следам наших выступлений, или Несколько замечаний по поводу одной «странной» дискуссии / В.О. Кильдюшов // Логос. – 2007. – № 1. – С. 156–176.
115
83. Князева, Е.Н. Трансдисциплинарные стратегии исследования / Е.Н. Князева // Вестн. Томск. гос. пед. ун-та. – 2011. – № 10. – С. 191–199.
84. Князева, Е.Н. Эпистемологический конструктивизм / Е.Н. Князева // Философия науки. Феномен сознания. – 2006. – Вып. 12. – С. 133–153.
85. Кодзима, С. Восприятие работ М. Вебера в России начала ХХ в. и «веберовский ренессанс» конца ХХ в. / С. Кодзима // Социс. – 2009. – № 6. – C. 121–131.
86. Козловский, В.В. Актуальность социологии Макса Вебера / В.В. Козловский, Р.П. Шпакова, Ф. Эттрих // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2004. – № 2. – С. 5–7.
87. Комаровский, А.В. Фуко vs Хабермас: о некоторых перспективах несостоявшейся полемики / А.В. Комаровский // ТОПОС. – 2010. – № 1 (23). – С. 160–168.
88. Константинов, М.С. Гносеология социальных наук как политическая проблема // Виртуальный теоретический семинар «Политическая концептуалогия: теоретико-методологические проблемы социальных наук» [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа: polittheory.narod.ru/Konstantinov/Gnoseology_as_Problem.doc. – Дата доступа: 12.05.2008.
89. Кравченко, А.И. Культурология: словарь / А.И. Кравченко – М.: Академический проект, 2000. – 671 с.
90. Кравченко, С.А. Культуральная социология Дж. Александера (генезис, понятия, возможности инструментария) / С.А. Кравченко // Социс. – 2010. – № 5. – C. 13–22.
91. Крейн, Д. Социология культуры: вызов социологии как дисциплине // Д. Крейн // Контексты современности: актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории: Хрестоматия; пер. с англ. и нем. – 2-е изд., перераб. и доп. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. – С. 96–100.
92. Кузнецова, Л.Ф. Динамика оснований наук и проблема порождения нового научного знания / Л.Ф. Кузнецова // Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С. Стёпина. – М.: Канон+, 2004. – С. 137–148.
93. Култыгин, В.П. Социология культуры или социология культурно-духовной сферы? / В.П. Култыгин // Социс. – 2008. – № 8. – С. 143–146.
94. Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М.: Прогресс, 1975. – 288 с.
95. Куракин, Д.Ю. «Сильная программа» в культурологии: историко-социологические, теоретические и методологические комментарии / Д.Ю. Куракин // Социологическое обозрение. – 2010. – Том 9, № 2. – С. 155–178.
116
96. Куренной, В.А. Исследовательская и политическая программа культурных исследований / В.А. Куренной // Логос. – 2012. – № 1 (85). – С. 14–79.
97. Кюэн, Ш.-А. Социологи и одержимость пониманием. Неопозитивистское прочтение Макса Вебера / Ш.-А. Кюэн // Социс. –2001. – № 12. – С. 3–15.
98. Лакатос, И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / И. Лакатос. – М.: «Медиум», 1995. – 236 с.
99. Лакло, Э. К радикальной демократической политике: предисловие ко второму изданию «Гегемонии и социалистической стратегии» / Э. Лакло, Ш. Муфф // Федеральный образовательный портал. «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2006/04/02/0000274334/01Gololobov.PDF. – Дата доступа: 12.05.2013.
100. Латур, Б. Надежды конструктивизма / Б. Латур // Социология вещей: сб. ст. / НИУ-ВШЭ; под ред. В. Вахштайна. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. – С. 365–389.
101. Латур, Б. Пересобирая социальное / Б. Латур // Экономическая социология. – 2013. – Том 14, № 2. – С. 73–87.
102. Лекторский, В.А. Кант, радикальный конструктивизм и конструктивный реализм в эпистемологии / В.А. Лекторский // Вопросы философии. – 2005. – № 8. – С. 11–21.
103. Лекторский, В.А. Реализм, антиреализм, конструктивизм и конструктивный реализм в современной эпистемологии и науке / В.А. Лекторский // Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. – М.: Канон+, 2009. – С. 5–40.
104. Ленк, Г.К. Методологии конструктивного реализма, ориентированного на технику и действие / Г.К. Ленк // Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. – М.: Канон+, 2009. – С. 64–83.
105. Лепсиус, М.Р. Своеобразие и потенциал веберовской парадигмы / М.Р. Лепсиус // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2004. – Том 7, № 2. – С. 51–60.
106. Макаренко, В.П. Наука и власть: контекст социальной истории науки / В.П. Макаренко // Логос. – 2005. – № 6. – С. 98–116.
107. Мануильская, К.М. Становление и развитие эмпирических исследований в немецкой социологии / К.М. Мануильская // Социологический журнал. – 2010. – № 1. – С. 78–91.
108. Маркус, Д. О социокультурной антропологии США, её проблемах и перспективах / Д. Маркус // Этнографическое обозрение. – 2005. – № 2. – С. 43–55.
117
109. Масловский, М.В. Неовеберианская историческая социология / М.В. Масловский // Социс. – 2008. – № 3. – C. 119–126.
110. Масловский, М.В. Современные теории модерна и модернизации / М.В. Масловский // Социологический журнал. – 2008. – № 2. – С.31–44.
111. Менгер, К. Исследования о методах социальных наук и политической экономии в особенности / К. Менгер // К. Менгер. Избранные работы. – М.: Территория будущего, 2005 – С. 289–450.
112. Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон. – М.: Хранитель, 2006. – 880 с.
113. Микешина, Л.А. Репрезентация: частный метод или фундаментальная операция познания / Л.А. Микешина // Эпистемология и философия науки. – 2007. – Том XI, № 1. – С. 5–17.
114. Микешина, Л.А. Эпистемологическое оправдание гипостазирования и реификации / Л.А. Микешина // Вопросы философии. – 2010. – № 12. – С. 44–54.
115. Моммзен, В. Макс Вебер и историческая наука / В. Моммзен // Новая и новейшая история. – 1990. – № 4. – С. 55–64.
116. Моркина, Ю.С. Моделирование в исследовании дискурса о научном знании / Ю.С. Моркина // Философский журнал. – 2011. – № 1. – С. 86–102.
117. Мосс, М. Общества, обмен, личность / М. Мосс. – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1996. – 369 с.
118. Муратова, К.Д. Был ли западный капитализм результатом логической ошибки? Тезис Вебера и парадокс Ньюкомба / К.Д. Муратова, З. Норкус // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. – 2006. – № 4. – С. 38–43.
119. Неусыхин, А.И. Социологическое исследование Макса Вебера о городе / А.И. Неусыхин // М. Вебер. Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994. – С. 658–691.
120. Неусыхин, А.И. Эмпирическая социология Макса Вебера и логика исторической науки / А.И. Неусыхин // М. Вебер. Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994. – С. 589–658.
121. Обсуждение книги академика В.С. Стёпина «Цивилизация и культура». Материалы «круглого стола». – Вопросы философии. – 2013. – № 12. – С. 3–47.
122. Огурцов, А.П. Философия науки в России: марафон с барьерами / А.Н. Огурцов // Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С. Степина. – М.: Канон+, 2004. – С. 261–279.
123. Олейник, А.Н. Расширенная версия теоремы Коуза и пределы экономического империализма / А.Н. Олейник // Общественные науки и современность. – 2008. – № 4. – С. 147–162.
118
124. Патрушев, А.И. Ренессанс Макса Вебера: истоки, дискуссии, тенденции / А.И. Патрушев // Новая и новейшая история. – 1993. – № 1. – С. 55–69.
125. Петров, М.К. Феномен кумулятивности научной дисциплины (по материалам американской печати) / М.К. Петров // Политическая концептология. – 2013. – № 1. – С. 58–71.
126. Петров, М.К. Человекоразмерность и мир предметной деятельности / М.К. Петров // Человек. – 2003. – № 1. – С. 5–18.
127. Петров, М.К. Язык. Знак. Культура / М.К. Петров. – М.: Наука, 1991. – 328 с.
128. Подвойский, Д.Г. «Публичная социология» в прошлом и настоящем: уточнение координат / Д.Г. Подвойский // Социс. – 2009. – № 5. – С. 13–23.
129. Полетаев, А.В. Классика в общественных науках / А.В. Полетаев // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – С. 5–49.
130. Попов, Е.А. Перспективы культуроцентричности в социогуманитарном знании / Е.А. Попов // Социс. – 2005. – № 11. – С. 47–52.
131. Пригожин, И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс; пер. с англ.; под общ. ред. В.И. Аршинова [и др.]. – М.: Прогресс, 1986. – 432 с.
132. Пружинин, Б.И. Конструктивизм как умонастроение и как методология / Б.И. Пружинин, Т.Г. Щедрин // Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. – М.: Канон+, 2009. – С. 354–363.
133. Пэнто, Л. Государство и социальные науки / Л. Пэнто // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2004. – Том VII, № 5. – С. 99–114.
134. Радаев, В.В. Экономические империалисты наступают! Что делать социологам? / В.В. Радаев // Общественные науки и современность. – 2008. – № 6. – С. 116–123.
135. Рахманов, А.Б. Макс Вебер в Америке / А.Б. Рахманов, В. Моммзен // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. – 2004. – № 2. – С. 78–81.
136. Розин, В.М. Контекстное, полифоническое мышление – перспектива XXI века / В.М. Розин // Общественные науки и современность. – 1996. – № 5. – С. 120–129.
137. Розин, В.М. Конфигурирование в методологии и науке / В.М. Розин // Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. – М.: Канон+, 2009. – С. 216–240.
119
138. Розин, В.М. Современная культурология: проблемы формирования и методологический идеал / В.М. Розин // Личность. Культура. Общество. – 2005. – № 1 (25). – С. 127–145.
139. Розин, В.М. Экономика с культурологической точки зрения / В.М. Розин // Общественные науки и современность. – 2002. – № 6. – С. 107–114.
140. Розов, Н.С. От дисциплинарного империализма – к Обществознанию Без Границ! («Шенгенский» проект интеграции социальных наук) / Н.С. Розов // Общественные науки и современность. – 2009. – № 3. – С. 132–142.
141. Розов, Н.С. «Спор о методе», школа «Анналов» и перспективы социально-исторического познания / Н.С. Розов // Общественные науки и современность. – 2008. – № 1. – C. 145–155.
142. Рокмор, Т. Гегель о конструктивизме / Т. Рокмор // Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. – М.: Канон+, 2009. – С. 64–83.
143. Рокмор, Т. Кант о репрезентационизме и конструктивизме / Т. Рокмор // Эпистемология и философия науки. – 2005. – Том II, № 1. – С. 35–46.
144. Романовский, В.Н. Социология и социологи перед лицом глобальных катаклизмов (По поводу полемики М. Арчер и И. Валлерстайна) / В.Н. Романовский // Социс. – 1999. – № 3. – С. 3–11.
145. Сокулер, 3.А. Знание и власть: наука в обществе модерна / З.А. Сокулер. – СПб.: РХГИ, 2001. – 240 с.
146. Сокулер, З.А. Размышления над проблемами теоретического наследия Макса Вебера в современной западной социологии (сводный реферат) / З.А. Сокулер // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология – 1999. – № 4. – С. 22–43.
147. Степин, В.С. Картина социальной реальности в системе научного знания (Ч. 1. Методологические предпосылки, интегративные и эвристические функции) / В.С. Степин // Социология. – 2009. – №3. – С. 7–18.
148. Степин, В.С. Картина социальной реальности в системе научного знания (Ч. 2. Структура социальной реальности) / В.С. Степин // Социология. – 2009. – №4. – С. 3–18.
149. Степин, В.С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения / В.С. Степин // Постнеклассика: философия, наука, культура; отв. ред. Л.П. Киященко, В.С. Степин. – СПб.: Издательский дом «Миръ», 2009. – С. 249–295.
150. Степин, В.С. Конструктивизм и проблема научных онтологий / В.С. Степин // Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. – М.: Канон+, 2009. – С. 41–63.
120
151. Степин, В.С. К проблеме генезиса социально-гуманитарных наук / В.С. Степин // Социальная философия и современное обществознание. – Екатеринбург: Изд-во УРГУ, 2002. – С.255–261.
152. Степин, В.С. Наука, образование и проблемы новой модернизации / В.С. Степин // Социология. – 2012. – №3. – С. 54–59.
153. Степин, В.С. Научное познание в социальном контексте. Избранные труды / В.С. Степин. – Минск: Изд. БГУ, 2012. – 416 с.
154. Степин, В.С. Новые проблемы философии науки / В.С. Степин // Социология. – 2011. – №3. – С. 5–12.
155. Степин, В.С. О «генах культуры» и главной задаче философии и социально-гуманитарных наук / В.С. Степин // Экология и жизнь. – 2012. – № 11 (132). – С. 4–12.
156. Степин, В.С. Основания науки и их социокультурная размерность / В.С. Степин // Научные и вненаучные формы мышления: Симпозиум Москва-Киль, Москва, 4-9 апреля 1995 г. / РАН России, Ин-т философии РАН. – Москва, 1996. – С. 3–15.
157. Степин, В.С. Парадигмальные образцы решения теоретических задач и их генезис / В.С. Степин // Философия науки. – 1998. – Вып. 4. – С. 10–25.
158. Степин, В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая реальность / В.С. Степин // Вопросы философии. – 2003. – № 6. – С. 5–17.
159. Степин, В.С. Цивилизация и культура / В.С. Степин. – СПб.: СПбГУП, 2011. – 408 с.
160. Степин, В.С. Эпоха перемен и сценарии будущего / В.С. Степин. –М.: Канон+, 1996. – 174 с.
161. Столяров, А.М. Становление концепции экономического человека: от классики до нео-классики / А.М. Столяров // Проблемы современной экономики. – 2008. – № 2. – С. 371–376.
162. Татарова, Г.Г. Методологическая травма социолога. К вопросу интеграции знания / Г.Г. Татарова // Социс. – 2006. – № 9. – С. 3–12.
163. Тенбрук, Ф. Репрезентативная культура / Фё. Тенбрук; пер. с нем. А.В. Комаровского; под ред. О.В. Кильдюшова // Социологическое обозрение. – 2013. – Том 12, № 3. – С. 93–120.
164. Тернер, В. Символ и ритуал / В. Тернер. – М.: Главная редакция восточной литературы, 1983. – 277 с.
165. Тощенко, Ж.Т. Публичная или профессиональная публичная социология? / Ж.Т. Тощенко, Н.В. Романовский // Социс. – 2009. – № 4. – С. 20–30.
121
166. Ушкова, Е.Л. Экономическое прочтение Макса Вебера / Е.Л. Ушкова, Х. Брюнс // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11. Социология. – 1999. – № 3. – С. 71–77.
167. Ушкова, Е.Л. Подходы к Максу Веберу / Е.Л. Ушкова, К. Кольо-Тэлэн // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11. Социология. – 1999. – № 3. – С. 64–68.
168. Ушкова, Е.Л. Идеальный тип как инструмент социологического исследования / Е.Л. Ушкова, Ж. Коэнэн-Ютер // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11. Социология. – 2005. – № 1. – С. 10–15.
169. Ушкова, Е.Л. Макс Вебер и экономическая рациональность / Е.Л. Ушкова, Ж. Ложкин // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11. Социология. – 1999. – № 3. – С. 77–81.
170. Фархатдинов, Н.Г. «Культура и метод». Об очередном продукте культурсоциологической фабрики / Н.Г. Фархатдинов // Социологическое обозрение. – 2010. – Том 9, № 2. – С. 118–123.
171. Фархатдинов, Н.Г. Социология искусства без искусства. Индустриальная метафора в социологических исследованиях искусства / Н.Г. Фархатдинов // Социологическое обозрение. – 2008. – Том 7, № 3. – С. 55–69.
172. Федотова, В.Г. Человек в экономических теориях: пределы онтологизации / В.Г. Федотова. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 158 с.
173. Федотова, В.Г. Штарнбергская группа (ФРГ) о закономерностях развития науки / В.Г. Федотова // Вопросы философии. – 1984. – № 3. – С. 125–133.
174. Филиппов, А.Ф. Понятие и проблемы социологической классики / А.Ф. Филиппов // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – С. 50–63.
175. Филиппов, А.Ф. Советская социология как полицейская наука / А.Ф. Филиппов // Новое литературное обозрение. – 2013. – № 5. – С. 48–63.
176. Философия техники в ФРГ / Пер. с нем. и англ.; составл. и предисл. Ц.Г. Арзаканяна, В.Г. Горохова. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.
177. Философское творчество в социокультурной проекции: к 80-летию академика В.С. Степина; ред. кол. А.Н. Данилов (отв. ред.) [и др.]; Белорусский государственный университет. – Минск: Право и экономика, 2014. – 80 с.
178. Флигстин, Н. Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических обществ XXI века / Н. Флигстин // Экономическая социология. – 2013. – Том 14, № 1. – С. 28–53.
179. Флиер, А.Я. Культурология как гуманитарная наука / А.Я. Флиер // Общественные науки и современность. – 2005. – № 1. – С. 160–168.
122
180. Фомичев, П.Н. Чего недостает теории рационального выбора? (Сводный реферат) / П.Н. Фомичев // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. – 2006. – № 4. – С. 22–32.
181. Фомичев, П.Н. Понятие адекватной причинности и сравнительная социология религии Макса Вебера / П.Н. Фомичев, А. Бас // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. – 2002. – № 1. – С. 36–41.
182. Фомичев, П.Н. Веблен и Вебер об экономике, психологии и действии. Как разрешить «методологический спор»? / П.Н. Фомичев, Э. Килпиен // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. – 2006. – № 4. – С. 33–37.
183. Фомичев, П.Н. Макс Вебер: предшественник экономической социологии и неортодоксальной экономики? / П.Н. Фомичев, Х. Пейкерт // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. – 2005. – № 4. – С. 33–37.
184. Хайдеггер, М. Время картины мира / М. Хайдеггер // Время и бытие: статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – С. 41–63.
185. Хальбвакс, М. Социальные классы и морфология / М. Хальбвакс; пер. с фр. А.Т. Бикбова, Н.А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной социологии, 2000. – 509 с.
186. Хардт, М. Империя / М. Хардт, A. Негри. – М.: Праксис, 2004. – 440 с.
187. Харре, Р. Конструкционизм и основания знания / Р. Харре // Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. – М.: Канон+, 2009. – С. 64–83.
188. Ходжсон, Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Дж. Ходжсон. – М.: Дело, 2003. – 464 с.
189. Холл, Дж.А. Понятие культуры / Дж.А. Холл // Контексты современности: актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. – С. 106–112.
190. Цоколов, С. Дискурс радикального конструктивизма / С. Цоколов – Мюнхен: Phren, 2000. – 333 с.
191. Цоколов, С. Конструктивистский дискурс как философско-методологическая основа изучения когнитивных функций головного мозга (Нейробиологический конструктивизм Герхарда Рота) / С. Цоколов // Сознание и физическая реальность. – 2000. – Том 5, № 6. – С. 2–17.
192. Черных, А.И. Историческая социология на Западе (конец ХХ в.) / А.И. Черных // Социс. – 2002. – № 2. – С. 87–92.
123
193. Черткова, Е.Л. От поиска истины к конструированию реальности: этапы эволюции идеи конструктивизма / Е.Л. Черткова // Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. – М.: Канон+, 2009. – С. 338–353.
194. Шавель, С.А. «Начала» методологического самоопределения социологии культуры в Баденской школе неокантианства / С.А. Шавель // Социальные и социокультурные процессы в современной Беларуси: сб. науч. тр. / НАН Беларуси, Ин-т социологии; ред. кол.: Евелькин [и др.] – Минск: «Экоперспектива», 2005. – С. 187–199.
195. Швырев, В.С. Научно-теоретическое познание и его проектно-конструктивные функции (история и современность) / В.С. Швырев // Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. – М.: Канон+, 2009. – С. 64–83.
196. Швырев, В.С. О гуманитаризации современной научной рациональности / В.С. Швырев // Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С. Степина. – М.: Канон+, 2004. – С. 483–493.
197. Шлюхтер, В. Действие, порядок и культура: основные черты веберианской исследовательской программы / В. Шлюхтер // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2004. – Том VII, № 2. – С. 22–50.
198. Шмоллер, Г.К методологии общественно-политических и социальных наук / Г. Шмолллер // TERRA ECONOMICUS. – 2011. – Том 9, № 3. – С. 31–49.
199. Шпакова, Р.П. Макс Вебер и Вернер Зомбарт о западноевропейском капитализме / Р.П. Шпакова // Социс. – 1992. – № 12. – С. 126–132.
200. Шпакова, Р.П. Братья Альфред и Макс Веберы / Р.П. Шпакова, Р.Е. Гергилов // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2006. – Том 9, № 2. – С. 17–29.
201. Штомпка, П. Много социологий для одного мира / П. Штомпка // Социс. – 1991. – № 2. – С. 13–23.
202. Штомпка, П. Одна социология или много? / П. Штомпка // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2009. – Том XII, № 4. – С. 37–48.
203. Эксле, О.Г. Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья / О.Г Эксле. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 360 с.
204. Эксле, О.Г. Культура, наука о культуре, историческая наука о культуре. Размышления о повороте в сторону наук о культуре / О.Г Эксле // Одиссей. Человек в истории. – М.: Наука, 2003. – С. 393–416.
205. Этика: Энциклопедический словарь; под общ. ред. Р.Г. Апресяна, А.А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2001. – 671 с.
206. Юдин, Б.Г. Человек сегодня и завтра: между природой и конструкцией / Б.Г. Юдин // Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С. Степина. – М.: Канон+, 2004. – С. 416–427.
124
207. Юдин, Г.Б. Перформативность в действии: экономика качеств М. Каллона как парадигма социологического анализа рынков / Г.Б. Юдин // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2008. – Том XI, № 4. – С. 47–58.
208. Яскевич, Я.С. Эволюция эталонов методологического дискурса: от классической к современной науке / Я.С. Яскевич // Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С. Степина. – М.: Канон+, 2004. – С. 197–208.
209. Ясперс, К. Речь памяти Макса Вебера / К. Ясперс // Макс Вебер. Избранное. – М.: Юрист, 1994. – С. 553–566.
210. Adair-Toteff, C. My «Sociology»: Wolfgang Schluchter on the history of Max Weber's Wirtschaft und Gesellschaft / C. Adair-Toteff // J. of Classical Sociology. – 2011. – № 11. – P. 495–505.
211. Adorno, T.W. Über Statik und Dynamik als soziologische Kategorien / T.W. Adorno // Aufsätze zur Gesellschaftstheorie und Methodologie. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973. – S. 63–85.
212. Agassi, J. Institutional Individualism / J. Agassi // The British J. of Sociology. – 1975. – Vol. 26, № 2. – P. 144–155.
213. Albert, G. Weltauffassung, Wissenschaft und Praxis. Bemerkungen zur Wissenschafts- und Wertlehre Max Webers / G. Albert // Das Weber-Paradigma. Studien zur Weiterentwicklung von Max Webers Forschungsprogramm. – Tübingen: Mohr Siebeck, 2005. – S. 77–96.
214. Baecker, D. A Note on Max Weber's Unfinished Theory of Economy and Society / D. Baecker // Economic Sociology: The European Electronic Newsletter. – 2007. – Vol. 8, № 2. – P. 27–30.
215. Baecker, D. Wozu Kultur? / D. Baecker. – Berlin, 2001. – 204 s. 216. Bendix, R. Max Weber: An Intellectual Portrait / R. Bendix. –
Doubleday, 1960. – 480 p. 217. Boettke, P. Post-Classical Political Economy: Polity, Society and
Economy in Weber, Mises and Hayek / P. Boettke, V. Storr // American J. of Economics and Sociology. – 2002. – Vol. 61, № 1. – S. 161–191.
218. Bruun, H.H. Weber On Rickert: From Value Relation to Ideal Type / H.H. Bruun // Max Weber Studies. – 2001. – Vol. 1, № 2. – P. 138–160.
219. Casanova, J. Legitimacy and the Sociology of Modernization / J. Casanova // Vidich A., Glassman R. Conflict and Control: Challenge to Legitimacy of Modern Governments. – London: SAGE Publications, 1979. – P. 219–252.
220. Cohen, J. De-Parsonizing Weber: A Critique of Parsons' Interpretation of Weber's Sociology / J. Cohen, L.E. Hazelrigg, W. Pope // American Sociological Review. – 1975. – Vol. 40, № 2. – P. 229–241.
221. Demm, B. Max und Alfred Weber im Verein für Sozialpolitik / B. Demm // Max Weber und seine Zeitgenossen. – Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1988. – S. 119–136.
125
222. Derks, H. Das Ende eines einmaligen Phänomens? Die Max Weber-Literatur 1920-1988 / H. Derks // Zeitschrift für Soziologie. – 1989. – Heft 18, № 4. – S. 282–296.
223. Dobbin, F. Cultural Models of Organization: The Social Construction of Rational Organizing Principles / F. Dobbin // The Sociology of Culture: Emerging Theoretical Perspectives. Oxford: Basil Blackwell, 1994. – P. 117–141.
224. Dobbin, F. How Durkheim’s Theory of Meaning-making Influenced Organizational Sociology / F. Dobbin // The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies: Classical Foundations. – New York: Oxford University Press, 2009. – P. 200–222.
225. Dobbin, F. Introduction: The Sociology of the Economy / F. Dobbin // The New Economic Sociology: A Reader. – Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004. – P. 1–26.
226. Drysdale, J. How Are Social-Scientific Concepts Formed? A Reconstruction of Max Weber's Theory of Concept Formation / J. Drysdale // Sociological Theory. – 1996. – Vol. 14, № 1 – P. 71–88.
227. Einleitung / G. Albert, A. Bienfait, S. Sigmund, C. Wendt // Das Weber-Paradigma. Studien zur Weiterentwicklung von Max Webers Forschungsprogramm. – Tübingen: Mohr Siebeck, 2005. – S. 1–22.
228. Eisenstadt, S.N. Multiple Modernities / S.N. Eisenstadt // Daedalus. – 2000. – Vol. 129, № 1. – P. 1–29.
229. Eliaeson, S. Max Weber: made in the USA? / S. Eliaeson // Ethics & Politics. – 2005. – Vol. VII. – P. 1–30.
230. Elias, N. Der Prozess der Zivilisation / N. Elias. – Frankfurt am Main 1976. – 2 Bde.
231. Emmet, R. Frank Knight, Max Weber, Chicago Economics and Institutionalism / R. Emmet // Mах Wеber Studies. – 2006. – Вhft I. – S. 101–119.
232. Esser, H. Die Rationalität der Werte. Die Typen des Handelns und das Modell der soziologischen Erklärung / H. Esser // Das Weber-Paradigma. – Tübingen: Mohr (Paul Siebeck), 2003. – S. 153–187.
233. Esser, H. Soziologie: Allgemeine Grundlagen / H. Esser. – Frankfurt, New York, 1993. – 640 s.
234. Foucault, M. Geschichte der Gouvernementalität I: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung / M. Foucault. – Frankfurt am Main, 2004. – 600 s.
235. Foucault, M. Geschichte der Gouvernementalität II: Die Geburt der Biopolitik / M. Foucault. – Frankfurt am Main, 2004. – 517 s.
236. Freier, H. Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft / H.Freier. – Darmstadt, 1964. – 310 s.
237. Gehlen, A. Ende der Geschichte? / A. Gehlen // Einblicke. – Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1975. – S. 5–34.
126
238. Gehlen, A. Über kulturelle Kristallisation / A. Gehlen. – Bremen: Angelsachsen Verlag, 1961. – 17 s.
239. Glasersfeld, E. Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning / E. Glasersfeld. – London, 1996. – P. 17.
240. Gouldner, A.W. Romanticism and Classicism: Deep Structures in Social Science / A.W. Gouldner // For Sociology: Renewal and Critique in Sociology Today. – New York: Basic Books, 1973. – P. 323–366.
241. Hanke, E. Max Weber weltweit. Zur Rezeption eines Klassikers in Zeiten des Umbruchs / E. Hanke // Hypotheses [Электронный ресурс]. – 2013. – Mode of access: http://maxweber.hypothe9ses.org/227/. – Date of access: 27.08.2013.
242. Hennis, W. Die «hellenische Geisteskultur» und die Ursprünge von Webers politischer Denkart / W. Hennis // Max Weber und Thukydides. – Tübingen: Mohr, 2003. – S. 3–54.
243. Hennis, W. Eine «Wissenschaft vom Menschen». Max Weber und die Historische Schule der deutschen Nationalökonomie / W. Hennis // Max Webers Fragestellung: Studien zur Biographie d. Werks. – Tübingen: Mohr, 1987. – S. 117–166.
244. Hennis, W. Voluntarismus und Urteilskraft. – Max Webers politische Anschauungen im Zusammenhang des Werks / W. Hennis // Max Webers Fragestellung: Studien zur Biographie d. Werks. – Tübingen: Mohr, 1987. – S. 195–236.
245. Hennis, W. Zum Erscheinen des ersten Bandes der Max-Weber-Gesamtausgabe (MWG) / W. Hennis // Max Weber und Thukydides. – Tübingen: Mohr, 2003. – S. 73–86.
246. Hennis, W. Zur Freiburger Antrittsvorlesung in wissenschaftsgeschichtlicher Sicht / W. Hennis // Max Weber und Thukydides. – Tübingen: Mohr, 2003. – S. 55–72.
247. Hodgson, G. Meanings of Methodological Individualism / G. Hodgson // J. of Economic Methodology. – 2007. – № 14. – S. 211–226.
248. Homann, H. Einleitung / H. Homann // Das Werk Max Webers: gesammelte Aufsätze zu Max Weber. – Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. – S. VII–XXIV.
249. Homann, H. Zur Aufklärung der Anti-Soziologie am Beispiel Friedrich Tenbrucks / H. Homann // Soziologie und Anti-Soziologie: Ein Diskurs und seine Rekonstruktion. – Konstanz: UVK, 2001. – S. 61–88.
250. Hörning, K.H. Widerspenstige Kulturen: Cultural Studies als Herausforderung / K.H. Hörning. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999. – 574 s.
251. Jameson, Fr. The Cultural Turn. Selected Writings on the Postmodern. 1983–1998 / Fr. Jameson. – London: Verso, 1998. – 206 s.
127
252. Kaesler, D. From Academic Outsider to Sociological Mastermind: The Fashioning of the Sociological «Classic» Max Weber / D. Kaesler // Bangladesh e-J. of Sociology. – 2004. – Vol. 1, № 1. – P. 4–13.
253. Kalberg, S. A Cross-National Consensus on a Unified Sociological Theory? Some Inter-Cultural Obstacles / S. Kalberg // European J. of Social Theory. – 2007. – № 10. – P. 206–219.
254. Kalberg, S. Culture and the locus of work in contemporary Western Germany: a Weberian configurational analysis / S. Kalberg // Theory of culture. – Berkeley: The University of California Press, 1992. – P. 324–365.
255. Kalberg, S. Max Weber’s Comparative-Historical Sociology Today: Major Themes, Mode of Analysis, and Applications / S. Kalberg. – Farnham, Surrey, UK: Ashgate Publishers, 2012. – 350 p.
256. Kalberg, S. Max Weber’s Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes / S. Kalberg // American J. of Sociology. – 1980. – № 85 (5). – P. 1145–1179.
257. Kalberg, S. The Hidden Link Between Internal Political Culture and Cross-national Perceptions: Divergent Images of the Soviet Union in the United States and the Federal Republic of Germany / S. Kalberg // Theory, Culture & Society. – 1991. – № 8. – P. 31–55.
258. Kalberg, S. The Past and Present Influence of World Views: Max Weber on a Neglected Sociological Concept / S. Kalberg // J. of Classical Sociology. – 2004. – № 4. – P. 139–163.
259. Kalberg, S. The Rationalization of Action in Max Weber's Sociology of Religion / S. Kalberg // Sociological Theory. – 1990. – Vol. 8, № 1. – P. 58–84.
260. Kent, S.A. Weber, Goethe, and the Nietzchean Allusion: Capturing the Source of the «Iron Cage» Metaphor / S.A. Kent // Sociological Analysis. – 1983. – № 44. – P. 297–319.
261. Kim, K.-M. Weber’s Axiological Critique of the Methodology of the Human Sciences: The Methodenstreit and Ideal Types / K.-M. Kim // Korean J. of Sociology. – 2008. – Vol. 42, № 4. – P. 99–111.
262. Kocka, J. Max Weber und Otto Hintze / J. Kocka // Max Weber und seine Zeitgenossen. – Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1988. – S. 403–419.
263. Konersmann, R. Kultur als Metapher / R. Konersmann // Die Kulturphilosophie. – Leipzig: Reclam Verlag, 1998. – S. 327–355.
264. Kroeber, A.L. Culture: a Critical Review of Concepts and Difinitions / A.L. Kroeber, C. Kluckhohn // Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology [Harvard University]. – 1952. – Vol. 47. – P. 11–35.
265. Kruse, V. Max Weber, der Anti-Soziologe / V. Kruse // Soziologie und Anti-Soziologie: Ein Diskurs und seine Rekonstruktion. – Konstanz: UVK, 2001. – S. 37–60.
128
266. Krüger, D. Max Weber und die «Jüngeren» im Verein für Sozialpolitik / D. Krüger // Max Weber und seine Zeitgenossen f hrsg. von Wolfgang J. Mommsen u. Wolfgang Schwentker. – Göttingen; Zürich: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1988. – S. 98–118.
267. Lachmann, L. The Legacy of Max Weber / L. Lachmann. – Berkeley: Glendessary Press, 1971. – 149 p.
268. Landshut, S. Kritik der Soziologie und andere Schriften zur Politik / S. Landshut. – Hermann Luchterhand Verlag, 1969. – 372 s.
269. Lauermann, M. Ist «Kultursoziologie» institutionalisierbar? Zur Gründung der Sektion Kultursoziologie in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie / M. Lauermann // Kultursoziologie – Symptom des Zeitgeistes? – Würzburg: Königshausen u. Neumann, 1989. – S. 286–304.
270. Lazarsfeld, P.F. Max Weber and Empirical Social Research / P.F. Lazarsfeld, A.R. Oberschall // American Sociological Review. – 1965. – Vol. 30, № 2. – P. 185–199.
271. Lepsius, R.M. Interessen und Ideen: die Zurechnungsproblematik bei Max Weber / R.M. Lepsius // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. – 1986. – Sonderheft 27. – S. 20–31.
272. Lepsius, R.M. Max Weber in München / R.M. Lepsius // Zeitschrift für Soziologie. – 1977. – Jg. 6, № 1. – S. 91–118.
273. Lichtblau, K. Causality or Interaction? Simmel, Weber and Interpretive Sociology / K. Lichtblau // Theory, Culture & Society. – 1991. – № 8. – P. 33-62.
274. Lichtblau, K. Soziologie als Kulturwissenschaft? Zur Rolle des Kulturbegriffs in der Selbstreflexion der deutschsprachigen Soziologie / K. Lichtblau // Soziologie: Forum der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. – 2001. – №. 1. – S. 5–21.
275. Lichtblau, K. Soziologie und Anti-Soziologie um 1900: Wilhelm Dilthey, Georg Simmel und Max Weber / K.Lichtblau // Soziologie und Anti-Soziologie: Ein Diskurs und seine Rekonstruktion. – Konstanz: UVK, 2001. – S. 17–36.
276. Luhmann, N. Die Gesellschaft der Gesellschaft / N. Luhmann. – Frankfurt: Suhrkamp, 1997. – 1164 s.
277. McKinnon, M.A. Elective Affinities of the Protestant Ethic: Weber and the Chemistry of Capitalism / M.A. McKinnon // Sociological Theory. – 2010. – № 28. – P. 108–126.
278. Meyer, H. Die Werturteilsfreiheit als praktisches Postulat der Wissenschaft / H. Meyer // Zeitschrift für Soziologie. – 1972. – Jg. 1, Heft 3. – S. 240–249.
129
279. Moebius, S. Kultursoziologie heute: Entwicklungen und Herausforderungen / S. Moebius // Sozialwissenschaften und Berufspraxis. – 2009. – Heft 32, № 1. – S. 5–14.
280. Mommsen, W.J. Die antinomische Struktur des politischen Denkens Max Webers / W.J. Mommsen // Historische Zeitschrift. – 1981. – Heft 233. – S. 35–64.
281. Mommsen, W. Die Siebecks und Max Weber. Ein Beispiel für Wissenschaftsorganisation in Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Verlegern / W. Mommsen // Geschichte und Gesellschaft. –1996. – Heft 22, № 1. – S. 19–30.
282. Mouzelis, N. Modernity: A non-European conceptualization / N. Mouzelis // British J. of Sociology. – 1999. – Vol. 50, №1. – P. 141–159.
283. Munch, R. Gesellschaftsgeschichte als Enrtwicklungslogik gesellschaftlicher Rationalisierung? / R. Munch // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. – 1980. – Heft 32, № 4. – S. 774–786.
284. Munch, R. Über Parsons zu Weber: Von der Theorie der Rationalisierung zur Theorie der Interpretation / R. Munch // Max Weber und die Rationalisierung sozialen Handelns. – Stuttgart, 1981. – S. 108–148.
285. Nau, H.H. Eine «Wissenschaft vom Menschen». Max Weber und die Begründung der Sozialökonomik in der deutschsprachigen Ökonomie 1871 bis 1914 / H.H. Nau. – Berlin: Dunker and Humblot, 1997. – 357 s.
286. Nee, V. Sources of the new institutionalism / V. Nee // In The New Institutionalism in Sociology. – New York: Russell Sage Found, 1998. – P. 1–16.
287. Nickel, K.E. «Wertfreiheit» / K.E. Nickel // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. – 1919. – Bd. 74, Heft 3. – S. 409–417.
288. Nollmann, G. Max Webers Vergleich von Rechts- und Sozialwissenschaft. Die Entwicklung seiner Kausalitätstheorie und deren Konsequenzen für Kausalaussagen in der Sozialforschung / G. Nollmann // Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie. – 2006. – Heft 92 (1). – S. 93–111.
289. Ormerod, P. Emergent scale-free social networks in history: burning and the rise of English Protestantism / P. Ormerod, A.P. Roach // Cultural Science. – 2008. – Vol. 1, № 1. – P. 1–30.
290. Palonen, K. Was Max Weber a «Nationalist»? A Study in the Rhetoric of Conceptual Change / K.Palonen // Max Weber Studies. – 2001. – № 2. – P. 196–214.
291. Parsons, T. Capitalism in recent German literature: Sombart and Weber / T. Parsons // J. of Political Economy. – 1928. – Vol. 36, № 6. – P. 641–661.
292. Parsons, T. Capitalism in recent German literature: Sombart and Weber (Concluded) / T. Parsons // J. of Political Economy. – 1929. – Vol. 37, № 1. – P. 31–51.
293. Parsons, T. Culture and Social System Revisited / T. Parsons // Social Science Quarterly. – 1972. – № 53 – P. 253–266.
130
294. Parsons, T. H.M. Robertson on Max Weber and His School / T. Parsons // J. of Political Economy. – 1935. – Vol. 43, № 5. – P. 688–696.
295. Peukert, D. Die Rezeption Max Webers in der Geschichtswissenschaft der Bundesrepublik Deutschland / D. Peukert // Max Weber, der Historiker. – Göttingen, 1986. – S. 264–279.
296. Peukert, H. The Schmoller Renaissance / H. Peukert // History of Political Economy. – 2001. – Vol. 33, № 1. – P. 71–116.
297. Platt, J. Weber’s Verstehen and the History of Qualitative Research / J. Platt // British J. of Sociology. – 1985. – Vol. 36, № 3. – P. 448–466.
298. Pöttker, H. Die Presse als Forschungsfeld: Max Weber / H. Pöttker // Öffentlichkeit als gesellschaftlicher Auftrag: Klassiker der Sozialwissenschaft über Journalismus und Medien. – UVK Medien Verl.-Ges, 2001. – S. 145–159.
299. Reckwitz, A. Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines Theorieprogramms / A. Reckwitz. – Weilerswist, 2000. – 475 s.
300. Rehberg, K.S. Kultur versus Gesellschaft. Anmerkungen zu einer Streitfrage in der deutschen Soziologie / K.S. Rehberg // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. – 1986. – Sonderheft 27. – S. 92–115.
301. Riesebrodt, M. Ideen, Interessen, Rationalisierung: kritische Anmerkungen zu F.H. Tenbrucks Interpretation des Werkes Max Webers / M. Riesebrodt // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. – 1980. – Heft 32, № 1. – S. 111–129.
302. Roth, G. Max Weber: A Bibliographical Essay / G. Roth // Zeitschrift für Soziologie. – 1977. – Heft 6, № 1. – S. 91–102.
303. Runciman, W.G. A Critique of Max Weber's Philosophy of Social Science / W.G. Runciman. – Cambridge University Press, 1972. – 116 p.
304. Scaff, L.A. Weber befor Weberian Sociology / L.A. Scaff // The British J. of Sociology. – 1984. – Vol. 35, № 2. – P. 190–215.
305. Schelsky, H. Die Arbeit tun die anderen / H. Schelsky. – Opladen: Westdeutscher Verlag, 1975. – 375 s.
306. Schluchter, W. Geschichtsgesetz oder Entwicklungstendenz? Über die begrenzte Prognosefähigkeit der / W. Schluchter // Handlung, Ordnung und Kultur: Studien zu einem Forschungsprogramm im Anschluss an Max Weber. – Mohr Siebeck, 2005. – S. 108–123.
307. Schluchter, W. Ideen, Interessen, Institutionen: Schlusselbegriffe einer an Max Weber orientierten Soziologie / W. Schluchter // Die Entzauberung der Welt: sechs Studien zu Max Weber. Mohr Siebeck, 2009. – S. 18–39.
308. Schluchter, W. Max Weber – ein Vater von «Rational Choise»? / W. Schluchter // Handlung, Ordnung und Kultur: Studien zu einem Forschungsprogramm im Anschluss an Max Weber. – Mohr Siebeck, 2005. – S. 221–
131
228. 309. Schluchter, W. Max Weber und Alfred Weber: zwei Begründungen der
Kultursoziologie / W. Schluchter // Handlung, Ordnung und Kultur: Studien zu einem Forschungsprogramm im Anschluss an Max Weber. – Mohr Siebeck, 2005. – S. 124–136.
310. Schluchter, W. Rationalität – das Spezifikum Europas? / W. Schluchter // Handlung, Ordnung und Kultur: Studien zu einem Forschungsprogramm im Anschluss an Max Weber. – Mohr Siebeck, 2005. – S. 139–158.
311. Schluchter, W. Werturteilsfreiheit und Wertdiskussion. Max Weber zwischen Immanuel Kant und Heinrich Rickert / W. Schluchter // Handlung, Ordnung und Kultur: Studien zu einem Forschungsprogramm im Anschluss an Max Weber. – Mohr Siebeck, 2005. – S. 86–107.
312. Schluchter, W. Zur Entstehung von Max Webers Hauptbeitrag zum Handbuch der politischen Oekonomie, später: Grundriss der Sozialökonomik / W. Schluchter // Handlung, Ordnung und Kultur: Studien zu einem Forschungsprogramm im Anschluss an Max Weber. – Mohr Siebeck, 2005. – S. 221–228.
313. Schmid, M. Struktur und Selektion: Emile Dürkheim und Max Weber als Theoretiker struktureller Selektion / M. Schmid // Zeitschrift für Soziologie. – 1981. – Heft 10, № 1. – S. 17–37.
314. Schöllgen, G. Auf der Suche nach dem «Menschentum». Im Labyrinth der neueren Max-Weber- Forschung / G. Schöllgen // Historische Zeit Schrift. – 1988. – № 246. – S. 363–384.
315. Schroeder, R. «Personality» and «inner distance»: the conception of the individual in Max Weber's sociology / R. Schroeder // History of the Human Sciences. – 1991. – № 4. – P. 61–78.
316. Schroeder, R. Weberian perspectives on science, technology and the economy / R. Schroeder, R. Swedberg // British J. of Sociology. – 2002. – Vol. 53, № 3. – P. 383–401.
317. Spree, R. Geschichte der deutschen Wirtschaft im 20. Jahrhundert / R. Spree. – München: Beck, 2001. – 232 s.
318. Stagl, J. Kultursoziologie und Kulturantropologie: ein Vergleich / J. Stagl // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. – 1986. – Sonderheft, 27. – S. 75–94.
319. Swedberg, R. Max Weber's Central Text in Economic Sociology / R. Swedberg // The Sociology of Economic Life. – Westview, 2011. – P. 62–77.
320. Swedberg, R. The Changing Picture of Max Weber's Sociology / R. Swedberg // Annual Review of Sociology. – 2003. – Vol. 29. – P. 283–306.
321. Swedberg, R. The New «Battle of Methods» / R. Swedberg // Challenge. – 1990. – Vol. 33, № 1. – P. 33–38.
132
322. Swedberg, R. Verstehende Wirtschaftssoziologie? On the Relationship between Max Weber's «Basic Sociological Concepts» and his Economic Sociology / R. Swedberg // Max Weber Studies. – 2006. – Beiheft 1. – P. 121–134.
323. Tenbruck, F. Abschied von «Wirtschaft und Gesellschaft» / F. Tenbruck // Das Werk Max Webers: gesammelte Aufsätze zu Max Weber. – Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. – S. 123–157.
324. Tenbruck, F. Das Werk Max Webers / F. Tenbruck // Das Werk Max Webers: gesammelte Aufsätze zu Max Weber. – Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. – S. 59–99.
325. Tenbruck, F. Das Werk Max Webers: Methodologie und Sozialwissenschaften / F. Tenbruck // Das Werk Max Webers: gesammelte Aufsätze zu Max Weber. – Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. – S. 157–176.
326. Tenbruck, F. Die Genesis der Methodologie Max Webers / F. Tenbruck // Das Werk Max Webers: gesammelte Aufsätze zu Max Weber. – Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. – S. 1–59.
327. Tenbruck, F. Die Rolle der Wirtschaftagesinnung in der Entwicklung / F. Tenbruck // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. – 1968. – № 124 – S. 569-583.
328. Tenbruck, F. Die unbewältigten Sozialwissenschaften oder Die Abschaffung des Menschen / F. Tenbruck. – Graz; Wien; Köln: Styria, 1984. – 328 s.
329. Tenbruck, F. Die Wissenschaftslehre Max Webers / F. Tenbruck // Das Werk Max Webers: gesammelte Aufsätze zu Max Weber. – Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. – S. 219–243.
330. Tenbruck, F. Der Mensch: ein Kulturwesen / F. Tenbruck // Die kulturellen Grundlagen der Gesellschaft: der Fall der Moderne. – Opladen: Westdt. Verlag, 1989. – S. 45–59.
331. Tenbruck, F. Max Weber and the Sociology of Science: A Case Reopened / F. Tenbruck // Zeitschrift für Soziologie. – 1974. – Heft 3, № 3. – S. 312–320.
332. Treiber, H. Max Weber and Eugen Ehrlich: On the Janus-headed Construction of Weber’s Ideal Type in the Sociology of Law / H. Treiber // Max Weber Studies. – 2008. – Vol. 8, Issue 2. – P. 225–246.
333. Tribe, K. Max Weber's «Conceptual Preface» to General Economic History. Introduction and Translation / K. Tribe // Max Weber Studies. – 2006. – Beiheft I. – P. 11–38.
334. Turner, S.P. The Continued Relevance of Weber’s Philosophy of Social Science / S.P. Turner // Max Weber Studies. – 2007. – № 7. – P. 37–62.
335. Turner, S. Objective Possibility and Adequate causation in Weber’s methodological writings / S. Turner, R. Factor // The Sociological Review. –
133
1981. – № 9. – P. 5–28. 336. Weber, M. Erhebungen über Anpassung und Auslese (Berufswahl
und Berufsschicksal) der Arbeiterschaft der geschlossenen Grossindustrie / M. Weber // Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik. – Tübingen, 1924. – S. 1–60.
337. Weber, M. Die «Objektivität» sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis / M. Weber // Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1922. – S.146–214.
338. Weber, M. Gesammelte Aufsatze zur Soziologie und Sozialpolitik / M. Weber. – Tübingen, 1924. – 524 s.
339. Weber, M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie / M. Weber. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1920. – Band 1. – 573 s.
340. Weber, M. Klasse, Stand, Parteien / M. Weber // Wirtschaft und Gesellschaft. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1922. – S. 631–641.
341. Weiss, J. Die Reflexivität der Moderne und die Selbstaufklärung der Soziologie / J. Weiss // Soziologie und Anti-Soziologie: Ein Diskurs und seine Rekonstruktion. – Konstanz: UVK, 2001. – S. 145–156.
342. Weiss, J. Gesammelte Aufsätze zu Max Weber / J. Weiss // Uni Kassel [Electronic resource]. – 2014. – Mode of access: www.uni-kassel.de/~jweiss/weber-aufsaetze.pdf. – Date of access: 22.04.2014.
343. Weiss, J. Max Webers Grundlegung der Soziologie / J. Weiss. – München: Dokumentation, 1975. – 240 s.
344. Whimster, S. Die begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten der Historischen Soziologie im «Methodenstreit»: Karl Lamprecht und Max Weber / S. Whimster // Max Weber und seine Zeitgenossen. – Göttingen; Zürich: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1988. – S. 272–294.
345. Wilbrandt, R. Die Reform der Nationalökonomie vom Standpunkt der «Kulturwissenschaften». Eine Antikritik / R. Wilbrandt // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. – 1917. – Heft 73, № 3. – S. 345–406.
346. Wilbrandt, R. Max Weber als Erkenntniskritiker der Sozialwissenschaften / R. Wilbrandt // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. – 1925. – Heft 79, № 3. – S. 583–674.
347. Winkel, H. Die deutsche Nationalökonomie im 19. Jahrhundert / H. Winkel. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977. – 130 s.
348. Zafirovski, M. Max Weber’s analysis of marginal utility theory and psychology revisited: Latent positions in economic sociology and the sociology of economics / M. Zafirovski // History of Political Economy. – 2001. – № 33. – P. 437–458.
134
Список публикаций соискателя
1–А. Комаровский, А.В. Актуальность культурсоциологии Макса Вебера в контексте развития постнеклассической науки / А.В. Комаровский // Социология в (пост)современности: сб. тезисов и докладов участников ХI Междунар. научн. конф. студентов и аспирантов, Харьков, 28-30 марта 2013 г. / Харьк. нац. ун-т. – Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – С. 67–68.
2–А. Комаровский, А.В. Количественный контент-анализ понятия «культура» в работах Макса Вебера / А.В. Комаровский // Социологический альманах: сб. науч. ст. / Ин-т социологии НАН Беларуси; под ред. И.В. Котлярова [и др.]. – Минск, 2013. – Вып. 4. – С. 255–259.
3–А. Комаровский, А.В. Культурсоциология Макса Вебера / А.В. Комаровский // Социологический альманах: сб. науч. ст. / Ин-т социологии НАН Беларуси; под ред. И.В. Котлярова [и др.]. – Минск, 2012. – Вып.3. – С. 397–407.
4–А. Комаровский, А.В. Культурсоциология Фридриха Тенбрука / А.В. Комаровский // Социология – 2014. – № 1. – С. 69–77.
5–А. Комаровский, А.В. Культурсоциология Ф. Тенбрука как социо-гуманитарная картина мира современности / А.В. Комаровский // VIII Машеровские чтения: материалы Междунар. научн.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 24-25 сентября 2013 г. / Вит. гос. ун-т; ред. кол.: А.П. Солодков [и др.]. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2013. – С. 128–129.
6–А. Комаровский, А.В. Макс Вебер – классик не социологии / А.В. Комаровский // Беларусь в современном мире: материалы IV Республик. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Гомель, 12 мая 2011 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П.О. Сухого; под общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2011. – С. 108–109.
7–А. Комаровский, А.В. Неовеберианская социология Фридриха Тенбрука: от критики социальных наук к проекту культурсоциологии / А.В. Комаровский // Acta probant se ispa: kol. bad. art. / WyŜszej Szkoły MenedŜerskiej; red. nauk. Wojciech Słomski [i in.]. – Jelenia Góra-Legnica, 2011. – С. 345–353.
8–А. Комаровский, А.В. Образование в контексте становления постнеклассической науки / А.В. Комаровский // Интеграция и повышение качества образовательных процессов как фактор модернизации экономики и промышленности союзного государства: материалы Междунар. научн.-практ. форума, Минск, октябрь 2013 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Бел. нац. техн. ун-т. – Минск: БНТУ, 2013. – С. 48–50.
135
9–А. Комаровский, А.В. О возможности единой социо-гуманитарной научной картины мира / А.В. Комаровский // Беларусь в современном мире: материалы VI Междунар. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 26 апреля 2013 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П.О. Сухого; под общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2013. – С. 122–123.
10–А. Комаровский, А.В. Скрытая культурсоциологическая исследовательская программа в работах М. Вебера / А.В. Комаровский // Седьмые Ковалевские чтения: материалы научн.-практ. конф., Санкт-Петербург, 15-16 ноября 2012 г. / Санкт. Петер. ун-т; отв. редактор: Ю.В. Асочаков. – СПб, 2012. – С. 85–88.
11–А. Комаровский, А.В. Современное гуманитарное знание: сравнительный анализ концепций науки В.С. Степина и Ф. Тенбрука / А.В. Комаровский // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы VIII Междунар. науч. конф., Гомель, 23-24 мая 2013 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П.О. Сухого; под общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2013. – С. 102–103.
12–А. Комаровский, А.В. Социо-гуманитарная картина мира как общенаучная картина мира / А.В. Комаровский // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук: сб. науч. статей Междунар. научн.-практ. конф., посвященной 100-летию МГУ им. Кулешова, Могилев, 18-19 апреля 2013 г. / МГУ им. А.А. Кулешова. – Могилев, 2013. – С. 402–403.
13–А. Комаровский, А.В. Социокультурные поколения и классы как субъекты регионального развития / А.В. Комаровский // Экономика и управление: прошлое, настоящее и приоритеты развития в будущем: Третьи Ходыревские чтения: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Курск, 30 ноября 2012 г. / Курск. гос. ун-т; под ред. докт. экон. наук, проф. В.Н. Ходыревской. – Курск, 2012. – С. 123–126.
14–А. Комаровский, А.В. Социокультурный анализ модернизационного процесса / А.В. Комаровский // Социальное знание и современные проблемы развития белорусского общества: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21-22 ноября 2013 г. / НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН Беларуси; ред. кол.: И.В. Котляров [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2013. – С. 172–173.
15–А. Комаровский, А.В. Социология культуры Макса Вебера / А.В. Комаровский // Социальное знание и проблемы консолидации белорусского общества: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17–18 ноября 2011 г. / НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН Беларуси; ред. кол.: И.В. Котляров [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2011. – С. 87–90.
136
16–А. Комаровский, А.В. Социология культуры vs культурсоциология / А.В. Комаровский // Социология в (пост)современности: сб. тезисов и докладов участников Х Междунар. научн. конф. студентов и аспирантов, Харьков, 22-24 марта 2012 г. / Харьк. нац. ун-т. – Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – С. 82–83.
17–А. Комаровский, А.В. Трансгенеративная солидарность как основа общественного консенсуса / А.В. Комаровский // Трансформация образования и мировоззрения в современном мире: материалы Междунар. науч. конф., Минск, 19 октября 2012 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка: ред. кол. В.В. Бущик [и др.]. – Минск: БГПУ, 2012. – С. 287–288.
18–А. Комаровский, А.В. Трансдисциплинарная культурсоциология Макса Вебера / А.В. Комаровский // «ЛОМОНОСОВ-2013» [Электронный ресурс]: материалы Междунар. молод. научн. форума, Москва, 8-12 апреля 2013 г. / Моск. гос. ун-т; отв. ред. А.И. Андреев [и др.] – М.: МАКС Пресс, 2013. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.
19–А. Комаровский, А.В. Эпистемологический диспаритет (неравенство) естественнонаучных и гуманитарных наук / А.В. Комаровский // Восьмые Ковалевские чтения: материалы научн.-практ. конф., Санкт-Петербург, 15-16 ноября 2013 года / Санкт. Петер. ун-т; отв. редактор: Ю.В. Асочаков. – СПб, 2013. – С. 113–114.
20–А. Комаровский, А.В. Фридрих Тенбрук как неовеберианец: от критики социальных наук к проекту культурсоциологии / А.В. Комаровский // Весн. Магiлеўск. дзярж. ўн-та iм. А.А. Куляшова. Сер. D. Экан. Сац. Права. – 2011. – № 2 (38). – С. 39–44.
137
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Типы научной рациональности
Таблица А 1 – Типы научной рациональности
Типы научной рациональности
Структурные элементы (измерения) научной рациональности
Онтология Методология Эпистемология Праксеология
Классическая наука
Объект «сам по себе»
Предмет обнаруживается «Реальность» Мир как механизм
(часы)
Стационарные, равновесные объекты
Корреспондентская истина
Универсальность знания
Мега-проекты («утопии»)
Детерминация Объяснение Всеобщность законов
Тотальная дисциплинация
(сциентизм)
Универсальная познавательная
способность
Универсальный метод
Кумулятивность знания
«Всемогущий» деятель
138
Продолжение таблицы А 1
Неклассическая наука
Влияние субъекта на объект
Предмет полагается
Символы и значения
Мир как машина-автомат
Саморегулирующиеся системы
«Относительная» истина
Контекстуальность знания
Локальные проекты
Закономерности Понимание Гипотезы Точечное
управление
Перспективность познания
Дуальность метода
Прерывность знания
«Ограниченный» деятель
Постнеклассическая наука
«Производство» объекта
Предмет задается
Модели и симуляции
Мир как организм (экосистема)
Самоорганизующиеся системы
«Плюральность» истин
Ситуативность знания
Мультисценарные глокальные проекты
Тренды Рефлексия и
комплексирование Проблемы
Рамочно-целевое развитие (форсайт)
Мультиперспективная познавательная
способность
Методологические гибриды
Конкуренция научных программ
«Коллективный» распределенный деятель
139
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Типология подходов к изучению культуры
Таблица Б 1 – Типология подходов к изучению культуры
Подход / Метафоры Аксиоматика Ограничения (проблемы) Концептуальный словарь
Предметный Музей, склады
- искусственное (артефакт) - опредмеченность (вещи/тексты) - утилитарность (производство) - миметичность (повтор)
- бинария материальное/идеальное - статичность (традицонность) - анализ инноваций
Предмет, материал, ресурс, блага, произведение, артефакт, изделие, образец, цикл
Деятельностный Стройка
- снятие бинарии материи/духа - субъективность (активность) - нормировка (кодирование) - творческие вставки
- пануниверсализм (формальность) - «деятельность» животных - экстенсивная инноватика
Активность, деятельность, действие, творчество, производство, обработка, работа,
Ценностный Заповедь
- связь идеального/материального - надындивидуальные нормы - плюрализм (инноватика)
- избыточность (стабилизация) - несравнимость (эффективность) - релятивизм (выбор)
Ценность, значимость, ориентация, идеал, стиль, мотив,
Технологический Рецепт
- измеримость (сравнимость) - однозначность (унификация) - перенос технологий (диффузия)
- технократизм (прогрессизм) - «органичность» дисфункций - каноничность (традиционализм)
Технология, техника, проект, канон, рецепт, алгоритм, норма, функция, роль
Символический Картина
- иконичность (знаковость) - контекстность (интерпретация) - вариативность смысла - системность (коннотации)
- метафоричность (строгость) - абстрактность (пансимволизм) - логицизм (формализм)
Символ, знак, смысл, значение, представления, репрезентация, понимание, шифр, код
140
Продолжение таблицы Б 1
Игровой Шахматы, театр,
- конвенциональность (правила) - виртуальность (симуляция) - перформативность (креативность) - стратегичность (рефлексия)
- искусственность («нереальность») - нестабильность (заигрывание) - децентрация («маски»)
Игра, правила, конвенция, стратегия, выбор, шанс, программа, сценарий
Текстовый Книга, код, лабиринт
- автономность текстов - текстуализация реальности - множество языков - «бесконечность» текста
- линвистицизм (формализм) - нет взаимопереводимости - относительная закрытость
Текст, код, язык, толкование,
Коммуникативный Разговор,
- открытость (понимание) - дискурсивность (правила) - взаимопереводимость - автокоммуникация
- формализм (бессодержательность) - «материализация» результата
Коммуникация, общение, сообщение, информация, консенсус,
Субъектный Художник, мастер
- «носители» культуры (трансляция) - творцы/«марионетки» - человекоразмерность
- атомарность субъекта (человек) - трансцендентализм (Человек) - исторический субъект
Субъект, индивид, актор, агент, психика, ментальность,
Системный Сеть, космос
- многоуровневое образование - эмерджентность - «хрупкость» (экосистема)
- холизм (смерть субъекта) - инерция (устойчивость) - реификация (неизменность)
Система, организация, иерархия, комплексность, обратная связь, сеть,
141
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Сравнительный анализ гносеологии К. Менгера, Г. Шмоллера и М. Вебера Таблица В 1 – Сравнительный анализ гносеологических представлений К. Менгера, Г. Шмоллера и М. Вебера
Сравнительный критерий К. Менгер Г. Шмоллер М. Вебер
Онтология (объект)
Народное хозяйство как совокупность индивидов (обменов)
Народное хозяйство как совокупность организаций (институтов)
Народное хозяйство в рамках культуры как констелляции порядков
Методология (методы)
Дедуктивный вывод (объяснение), аксиоматический метод
Индуктивное описание реальности (понимание)
Идеальные типы (синтез объяснения и понимания)
Эпистемология (структура знания)
Жесткое разделение теоретических и прикладных исследований
Теория на службе реформирования (хозяйства и общества)
Рефлексия ценностных оснований, контроль позиции гражданина и ученого
Эпистемология (связь с другими науками)
Дисциплинарная автономия, жесткая демаркация
Опора на другие науки (преимущественно на психологию и антропологию)
Наддисциплинарные комплексные методологии
Праксеология Наука вне политики Наука на службе политики (экспертная функция)
Объективная наука в сотрудничестве/оппозиции к политике (критика)
142
4
3
5
2 1
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Сетевая структура неовеберианского научного сообщества
1 – «классики»; 2 – «историки»; 3 – «методологи»; 4 – «правоведы»; 5 – «биографы»
1. «Классики» – общепризнанный научный вклад на различные темы; 2. «Историки» – исторический уклон в интерпретации работ Вебера; 3. «Методологи» – методологический уклон в интерпретации работ Вебера; 4. «Правоведы» – правоведческий уклон в интерпретации работ Вебера; 5. «Биографы» – работы по социальной и интеллектуальной биографии (семьи) Вебера.
Рисунок Г 1 – Кластер цитирования неовеберианского научного сообщества
![Page 1: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/61.jpg)
![Page 62: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/64.jpg)
![Page 65: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/65.jpg)
![Page 66: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/66.jpg)
![Page 67: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/67.jpg)
![Page 68: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/68.jpg)
![Page 69: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/69.jpg)
![Page 70: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/70.jpg)
![Page 71: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/71.jpg)
![Page 72: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/72.jpg)
![Page 73: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/73.jpg)
![Page 74: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/74.jpg)
![Page 75: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/75.jpg)
![Page 76: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/76.jpg)
![Page 77: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/77.jpg)
![Page 78: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/78.jpg)
![Page 79: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/79.jpg)
![Page 80: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/80.jpg)
![Page 81: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/81.jpg)
![Page 82: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/82.jpg)
![Page 83: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/83.jpg)
![Page 84: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/84.jpg)
![Page 85: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/85.jpg)
![Page 86: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/86.jpg)
![Page 87: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/87.jpg)
![Page 88: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/88.jpg)
![Page 89: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/89.jpg)
![Page 90: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/90.jpg)
![Page 91: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/91.jpg)
![Page 92: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/92.jpg)
![Page 93: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/93.jpg)
![Page 94: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/94.jpg)
![Page 95: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/95.jpg)
![Page 96: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/96.jpg)
![Page 97: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/97.jpg)
![Page 98: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/98.jpg)
![Page 99: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/99.jpg)
![Page 100: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/100.jpg)
![Page 101: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/101.jpg)
![Page 102: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/102.jpg)
![Page 103: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/103.jpg)
![Page 104: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/104.jpg)
![Page 105: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/105.jpg)
![Page 106: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/106.jpg)
![Page 107: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/107.jpg)
![Page 108: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/108.jpg)
![Page 109: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/109.jpg)
![Page 110: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/110.jpg)
![Page 111: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/111.jpg)
![Page 112: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/112.jpg)
![Page 113: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/113.jpg)
![Page 114: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/114.jpg)
![Page 115: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/115.jpg)
![Page 116: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/116.jpg)
![Page 117: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/117.jpg)
![Page 118: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/118.jpg)
![Page 119: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/119.jpg)
![Page 120: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/120.jpg)
![Page 121: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/121.jpg)
![Page 122: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/122.jpg)
![Page 123: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/123.jpg)
![Page 124: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/124.jpg)
![Page 125: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/125.jpg)
![Page 126: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/126.jpg)
![Page 127: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/127.jpg)
![Page 128: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/128.jpg)
![Page 129: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/129.jpg)
![Page 130: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/130.jpg)
![Page 131: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/131.jpg)
![Page 132: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/132.jpg)
![Page 133: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/133.jpg)
![Page 134: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/134.jpg)
![Page 135: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/135.jpg)
![Page 136: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/136.jpg)
![Page 137: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/137.jpg)
![Page 138: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/138.jpg)
![Page 139: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/139.jpg)
![Page 140: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/140.jpg)
![Page 141: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/141.jpg)
![Page 142: Методология немецкого неовеберианства в социологическом изучении культуры [Диссертация к. соц. н.]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023041005/6332caaf5f7e75f94e09437d/html5/thumbnails/142.jpg)