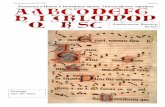Художественное время и пространство в летописном...
Transcript of Художественное время и пространство в летописном...
Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“Факултет по славянски филологии
Книга 2 – ЛитературознаниеТом 86, 1993
Annuaire de L’universite de Sofia „St. Kliment Ohridski“Faculte de Phylologies slaves
Livre 2 – Les LettersTome 86, 1993
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВОВ ЛЕТОПИСНОМ ПОВЕСТВОВАНИИ О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ В ЦАРЬГРАДЕ
ИЛИАНА ЧЕКОВА
Редактор: проф. Л. БоеваРецензент: проф. Л. Боева
Илиана Чекова. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ЛЕТОПИСНОМПОВЕСТВОВАНИИ О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ В ЦАРЬГРАДЕ
Обьектом исследования является фрагмент под 955 г. в составе русского летописного свода„Повесть временных лет“ (XII в.), который отражает сущностные особенности летописногоусвоения действительности. Наблюдение над пространственно-временным континуумомповествования о путешествии княгини Ольги в Цариград ведет к пониманию „фольклорной“истории в Slavia Orthodoxa о первой русской княгине-христианке. Сравнительный материал изБиблии, болгарского и руского фольклора способствует расшифровке исходного мифологическогокода фольклорного сюжета, вошедшего в летописъ.
Iliana Chekova. ARTISTIC TEMPORALITY AND SPATIALITY IN CHRONOLOGICALNARRATIVES ABOUT PRINCESS OLGA IN CONSTANTINOPLE
An object of study is the fragment concerning the year 955 in the Old-Russian „Povest vremenih let“(A narrative of Transitional Years) (XII Century), which presents in a diminished from the essentialfeatures of the chronological approach to reality. Observations on the spatialtemporal continuum ofnarration about the travel of Princess Olga to Constantinople furthers the understanding of the „folklore“history of medieval siavonic orthodox times about the adventures of the first Russian Cristian princess. Bymeans of comparative analysis of the Bible, of the Bulgarian and the Russian folklore we achieve amythological archetype of the folklore plot, borrowed from the narrative.
Исследование времени и пространства русского летописания ведется в основном в двухнаправлениях. Первое интересуется его реальной истори-
5
ческой подосновой, соотностимостью описываемых событий с подлинной хронологиней,топографиней и лицами древнерусской истории (М. В. Левченко, Ж.-П. Ариньон, А. Н.Сахаров, Г. Г. Литаврин и др.). Для второго подхода характерен взгляд на летопись нетолько как на исторический документ, но и как на своеобразный художественныйпамятник (Б. Д. Греков, Д. С. Лихачев, И. П. Еремин, Е. Н. Купреянова, О. В. Творогов, Л.И. Боева, С. Н. Азбелев, З. А. Гриценко, А. А. Шайкин и др.).
Настоящее исследование рассматривает время и пространство как основные показателисложного жанрового синкретизма „Повести временных лет“ начала XII века,складывавшегося под воздействием определенных культурных механизмов.
Анализу подвергается летописный фрагмент под 6463 г. (955)1, который в сжатом видеиллюстрирует сущностные особенности летописной поэтики. Наблюдения надхпонотопом повествования о княгине Ольге в Царьграде ведет к пониманию коллективнихисторических представлений славянского средновековья о первой русской правительнице-христианке, а также приоткрывают нам его исходный мифологический код.
Доказательством существования некого мифопоэтического инварианта служитсравнительный материал стадиально древнее и ставиально моложе летописной трактовки.Привлекаются сюжеты с центральным женским персонажем из Библии – два схожиеэпизода с участием Сарры, жены библейского патриарха Авраама2, а из русскогоисторико-песенного фольклора – песня „Авдотья Рязаночка“3.
Четыре рассматриваемых текста принадлежат к группе текстов „усиленного типа“, ккоторой В. Н. Топоров относит художественные, некоторые виды религиозно-философских, мистических и др. По отношению этих текстов „любое полноценноеописание пространства предполагает определение „здесь-теперь“, а не просто „здесь“ (также и определение вермени ориентировано не просто на „теперь“, но на „теперь-здесь“)4.
В летописной статье о княгине Ольге под 955 г. время и пространство также образуютединый пространственно-временной континуум. Тут применима преимущественноформула „тогда-там“. Она охватывает два временных диапазона: прошлое и будущее. Засчет прошлого относится прежде всего нарративная сторона текста, а за счет будущего –нравственно-религиозные сентенции и исторические квалификации, связанные спроекцией прошлых деяний в будущее. „Теперь-здесь“ в грамматической форменастоящего временни используется в репликах персонажей, а также в библейскихафоризмах для выражения некого абсолютного, вневременного „теперь“ и „здесь“.Противопоставление „прежде, там – лучше“, „теперь, здесь – хуже“, как полныйназидательного смысла прямой выход летописца в настоящее, отсутствует. Связь ссовременными книжнику, госдарственными и конфессиональными вопросамиопосредствована.
6
955 в лЬто 6463 иде Ольга въ Греки и приде Царюгороду.Там начинается повествование о путешествии русской правительницы в центр
православия – Царьград. Первое, к чему стремится летописец, – приурочить своеизложение к точному году и к конкретному топографическому локусу. Налицохарактерный для летописания пространственно-временной континуум „тогда-там“ и „там-тогда“. Письменно засвидетельствованный в византийских источниках5, факт пребываниякнягини Ольги в Константинополе приобретает еще более реальные очертаниядостоверным известием: „БЬ тогда царь Костянтинь, сынь Леоновь“, т. е. КонстантинБагрянородный.
Действительное экстраординарное событие-происшествие, однако, вмещается втиповую ситуацию мифологемы, что ведет к сакральным проекциям профанческоговремени. Увидев Ольгу „добру сущю зЬло лицемъ и смыслену, удививъся царь разуму ея,бесЬдова к ней, и рекь ей: „Подобна еси царствовати въ градЬ с нами.“ Если соотнести этоизвестие с летописной хронологией и, конкретно, с упоминанием под 903 г. о браке Ольгии Игоря, и с дополнением Архангельской летописи о возрасте невесты – „десяти лет“, тополучится следующее: княгиня-вдова 63 лет производит на греческого императорачарующе впечатление не только своим умом, но и красотой до такой степени, что приживой жене он предлагаен ей брак. Отказывая в достоверности этой версии летописца,нужно признать ее сокровенный для фольклорной эстетики смысл. Женщина в фольклоре,становясь центральным персонажем, всегда молода и обольстительна, ее внешность неподвергается возрастному изменению. Так, в сказке течение времени и пережитыеневзгоды не накладывают свой отпечаток на внешний вид героя. Это можнопроиллюстрировать множеством примеров из фольклора разньх этносов. Ограничимсяуказанными выше источниками: библейскими преданиями и русской историческойпесней, которые обнаруживают поразительную близость в интерпретации и архитектоникис сюжетом в составе летописи.
Красота Сарры, жены Авраама, не подвластна порче времени: ей 65 лет, когда онапленяет египтян и они приводят ее ко двору фараона, ей 89 лет, когда царь Авимелех беретее в свой гарем.
В песне об Авдотье Рязнаочке, в варианте, записанном А. Гильфердингом, к главнойгероине прикреплена постоянная характеристика „молодая жонка“, звучавшая в словахвоспевающего Авдотью: „Оставалась одна молодая жонка, Авдотья Рязночка“, в еесамоописании: „Я, молодая жонка, Авдотья Рязночка“ и в обращении короля Бахмета кней: „Молодая ты жонка, Авдотья Рязночка“.
Неизменная молодость положительного женского персонажа – проявление эпическойидеализации его биографического временни, сводящейся к народно-мифологическойполноте времени. Юный возраст в фольклоре часто знак отмеченности, маркер сакральныхпотенций и эпической значимости. Это
7
имеет силу и по отношению Ольги, Сарры и Авдотьи. Говоря о хронотопичностифольклорных образов, М. Бахтин подчеркивает, что „идеальная велична и сила иидеальное значение человека никогда не отрывались от пространственных размеров ивременной длительности“ и „все значительное в последнем счете может быть и должнобыть значительным также и в пространстве и во времени“6. Ольга – первая женщина воглаве Древнерусского государства. Она и первая княгиня-христианка, проложившая путь кправославной вере своему внуку, князю Владимиру, крестителю Руси. Важное место,которе занимает княгиня Ольга в этническом самосознании восточного славянства, исоответственно и в его этническом хронотопе7, обьясняет подобную эпизацию еебиографического времени. Охотно привлекая народную огласовку образа киевлянки,летописец изображает ее под 955 г. достаточно „женственной“, чтобы получить брачноепредложение и быть матерью неповзрослевшего сына – „кормящи сына своего домужьства его и до взраста его“. Припомним, в этой связи, что Сарра рожает Исаака ввозрасте 90 лет. Поскольку фольклорные предания в составе Библии давно приобретаютдля християнского мира статус Священного писания, легко допустить и сознательноеобращение к ее образцам. Так, пленительная внешность пожилой княгини могла бытьнавеяна долголетием библейских патриархов и непреходящим физическим обаянием ихсупруг. Библейская аллюзия подкрепляется приведенным несколько ниже, в том желетописном фрагменте, длинным рядом параллелей и цитат, выдающим свободноеобщение летописца с книжным материалом: „Христось имать схранити тя: яко же схраниЕноха в первыя роды, и потомъ Ноя в ковчезЬ, Аврама от Авимелеха, Лота от созомлянь,МоисЬя от Фараона, Давыда от Саула, 3 отроци от пещи, Данаила от звЬрий, тако и тяизбивитЬ от неприязни и от сЬтий его“. Хотя о пережитой Авраамом опасности в царствеАвимелеха упоминается, все же прямая параллель между Ольгой и Саррой в летописиотсуствует. Имея цель закрепить нравственно-религиозный смысл акта крещенияправительницы, средневековый книжник обращается к другому библейскому персонажу –Савской царице: Се же бысть, яко же при СоломанЬ приде царица Ефиопьская кСоломану, слышати хотящи премудрости Соломани, и многу мудрость видЬ и знаменья:тако же и си блаженая Ольга искаше доброЬ мудрости божьа, но она человЬчески, а сибожья.“ В отличии от И. Н. Данилевского, считавшего повествование об Ольге иимператоре переложением библейского сюжета о приезде царицы Савеи к Соломону8, намдумается, что есть больше основний для сопоставлений с библейскими преданиями оСарре. Анализ организации пространственных моделей в летописи, в Библии и в песне обАвдотье позволяет допустить скорее наличие общего мифологического архетипа, чемпрямую „библейскую“ обработку фольклорного сюжета.
Мифопоэтическое переживание времени дает себя почувствовать как в „имплицитных“библейских аналогиях типологического характера, так и в
8
прямых цитатах и сравнениях из Священной истории Ветхого завета, которые „помогаютлетописцу объяснить повторяемость событий и их смысл“9. Осуществляется циклическоевозвращение к времени культурных прецедентов-первособытий. Для традиционногочеловека имитация архаческой модели есть реактуализация того момента, в которомвпервые был явлен данный архетип“10. Так идет постепенное преобразованиеисторической личности в образцового героя, а исторического события в мифологическуюкатегорию11.
В роли „первообразного“, „сущностното“ времени может выступать не толькобиблейское время, но и время некоторых мирских событий, имеющих отношение кхристианским первоидеям и реликвиям. В этой связи не случайно уточнение: „БЬ жеречено имя ей во крешеньи Олена, якоже и древнаяя царица, мати Великаго Костянтина“.Более сильно параллель между равноапостольной Еленой и Ольгой акцентируется в„южнославянском“ проложном житии русской княгини: „вьзьмши еленину мудрос имужьскую крЬпость...“, „по всемоу подбещую се стЬи еленЬ. якоже бо она шьдши вь ерлсмьобрЬте чтсиы крсть гснь. такожде и сии нова елени створи тако име прие вь стЬмь крьщени.“12Здесь видно проявление так называемой „исторической инверсии“. Ее сущность М. Бахтинсводит к тому, что „мифологическое и художественное мышление локализирует впрошлом такие категории как цель, идеал, справедлиность, совершенство, гармоническоесостояние человека и общества“13.
В рассматриваемой летописной статье налицо двуплановое усвоение реальноговремени, а соответственно и реального человека, раскрывающегося в нем. С однойстороны, год за годом течет непрерывный и необратимый линейный поток времени,отсчитываемый индивидуальной памятью летописца. Такому восприятию темпоралюногополя подчиняется архитектоника летописной канвы как целое. С другой стороны, внутри всамом летописном фрагменте под 955 г. время замкнуто в рамке мифологическойпарадигмы, хранимой и возраждаемой коллективной памятью. Образ княгини КиевскойРуси ориентирован как на профаническое, так и на сакральное, циклическое время мифа.По верному замечанию А. Гуревича, „в средневековом обществе категориямифологического сакрального времени сосуществует с категорией земного, мирскоговремени и обе эти категории объединяются в категорию времени исторического“14.Земное, мирское время путешествия киевской княгинии в Константинополь,зафиксированное под очередным годом летописной хронологической сети – 955 г., но всамом фрагменте просвеченное сквозь призму мифопоэтического времени, синтезируетколлективные исторические представления о Древней Руси во главе с христианкойОльгой.
Проникнуть в суть „фолькорной истории“ об Ольге способствует системапространственных показателей в летописной статье.
955 лъто 6463 иде Ольга въ Греки и приде Царюгороду. БЬ тогда царь Костянтин, сыньЛеоновь.
9
Перевод земной топографии поездки в топику народно-мифологических воззренийприводит к своеoбразньм аспектам толкования факта визита правительницы вКонстантинополь. Попробуем подойти к семантике топонима Царьград, подсказаннойконтекстом фольклорного сюжета, в который он втянут.
Как и в повествовании под 945 г. о мести вдовы Ольги древлянам, так и тут отношениямежду правителями и вопросы государственного правления трактуются сюжетом насемейно-брачную тему.15 Снова разыгрывается ситуация обрядового сватовства. Ольга,респективно Русь, выступает в роли сватаемой невесты, а царь Константин, респективноЦарьград, – в роли кандидат-жениха.
Символизации город-жених, земля-невеста в тексте содействует мужской род топонимаЦарьград и женский род ареала невесты – „землЬ рускиЬ.“ Следует отметить также, чтообычные для славянских свадебных величаний термины носителей власти типа „царъ“,„царевна“, „князь“, княгиня“ и т. п. по отношению брачной пары16 соответствуютдействительному высокому сану обоих персонажей. Византийский император назван„царь гречьский“, а русская княгина – просто Ольга, но имплицитно расценивается как„царица“, судя по сравнениям с Еленой („древняя царица, мати Великого Костянтина“) и справительницей Савей („царица Ефиопьская“). Присматривая себе Ольгу как невесту,убедившись в ее красоте и уме, император Константин ставит начало сватовству, дающемупростор для метафорических речей и иносказаний. В духе сказок о брачных испытанияхтрудными задачами он заводит состязяние в „мудрости-хитрости“ следуюшей загадкой:„Подобна еси царствовати въ градЬ с нами“. В прямом смысле, царь-жених сулит княгине-невесте возвысить ее ранг правительницы, поделив с нею царские инсигнии в „вечномгороде“. „Совоцарение“ на половину царства, однако, сопряжено по законам сказки со„взятием города“ и „браком“. Овладение „царственным городом“ – чаемая мечта рядаславянских князей, в том числе и киевских. „Славянские народы, давшиеКонстантинополю имя „Царьград“, мифологизировали его как „источник царственнойсилы“ и „как символ царской власти“17. В обрядовых песнях брачной тематикиосажаемый город может носить имя Царьград (редко в русском фолклоре, чаще вукраинском и широко в южнославянском). Предложение греческого царя надстроено ещеодним смыслом, функционально равнозначным свадьбе – крещением. Венчание княгинина царство и на брак есть вместе с тем и ее крещение, посколько оно не мыслимо приконфессиональном различии (христианин-язычница). Так, первая отправленая к невестереплика жениха имеет функцию полисемантичной словесной загадки, поэтому илетописец подчеркивает факт ее разгадки Ольгой словами: „Она же разумевши рече коцарю...“ Раскрывая затаенный смысл речей кандидата на ее руку, Ольга, как сказочнаяневеста, сама подвергает его испытанию. Ответная реплика княгинии является условием ееконтрзагадки: „Азъ погана есмь, да аще мя хощеши
10
крестити, то крести мя самъ; аще ли, то не крещюся“. В плане свадебной обрядностиэто требование может быть воспринято как предусмотренное ритуалом промедлениеокончательного ответа сватаемой невесты. После крещения Ольги от рук царя и патриархаи, казалось бы, устранения мешающих препятствий, Константин как будто уже безоколичностей делает ей брачное предложение: „Хощю тя пояти собЬ женЬ“. Однако и этиречи не свободны от иносказательности. Фольклорная семантика брака – это расставаниесо свободной девичьей жизнью, овладение женихом девичьим пространством. Логичновсплывает метафора „брак – взятие города“, т. е. пленение городом, земли, которыеолицетворяет невеста18. Вторая реплика императора, как и первая, имеет трехмернуюсематническую характеристику: прямой смысл и два переносных значения. Квышеупомянутой метафоре подсоединяется еще один член – „воцарение“, в которомфокусируется сокровенный смысл фольклорного подтекста. Жених Константинпреследует амбицию проибрести владение, которое представляет невеста Ольга иподсоединяя к своему царству, расширить ареал своего „возцарения“. Отнесясь ксвадбеной символике как к реальному известию, А. Шлецер расценивает сватовство какполитическую хитрость византийского владыки: его сердце воспламенилось потому, что„взяв ее себе в жены мнил наследством и всю пространную Россию иметь“19.
Налицо замкнутя циклическая модель, обыгривающая классические фольклорныезначения: первая реплика царя актуализирует параллелизм „воцарение/ взятие города/крещение/ брак“, а вторая реплика повторяет в обратном ряду семантику первой „брак/крещение/ взятие города/ воцарение“. Сначала загадывающий говорит о „воцарении“, аподразумевает „брак“, потом о „браке“, а подразумевает „воцарение“. Условие загадки –воцарение Ольги, ее ответ – воцарение Константина. Воцарение при условии крещения ибрака означат передачу своего царства путем крещения и брака.
Осуетив коварные амбиции императора своей трудной задачей, русская княгиняповорачивает развитие действия в свою пользу. Соглашаясь принять лично функциюкрестителя Ольги, греческий царь таким образом пересекает себе дорогу к функциям еежениха – по християнским законам брак между крестным отцом и крестной дочерьюритуально недопустим. „Како хочеши мя пояти, крестивъ мя самь и нарекь мя дщерею?“Выполнение условия невесты показывает, что будущий жених не мог узреть его затаенныйсмысл. В сказе проигравший кандидат теряет право на руку царевны. В свете свадебнойобрядности в целом – это устойчивый мотив отказа от свадьбы под видом основательныхпричин.
Третяя реплика императора лишена всякой метафористичности. Он откровеннопризнает Ольгу победительницей в свадебном состязании в хитрости. „И рече царь:„Переклюкала мя еси, Ольга“. И дасть ей дары многи, злато и сребро, паволоки и съсудыразличнаыя, и отпусти ю, нарек ю дъ-
11
щерью собЬ“. По мнению А. Н. Сахарова, титул „дочь“, встречаемый в летописной статьедважды, выражает совершенно разные значения: первое, чисто церковное ритуальное –крестная дочь, а второе, светское – как регламентация определеной иерархиивзаимоотношений между Византией и варварскими вождями20.
Так киевская гостья предотвращает установление личных и государственныхвзаимоотношений (Константин, Царьград, – Ольга, русская земля) по схеме жених-невеста, которая поставила бы Русь в невыгодное подчинение супруги мужу. Она получаеткрещение от рук самого императора и патриарха и, таким обазом, добывается складыванияотношений по модели отец (крестный) – дочь (крестная), в церковном и в государственномсмысле, мыслимая как покровительство, но не подчинение. Ольга принимает христианствов самом средоточии православия, от максимально авторитетной инстанции, сумевсохранить при этом свою свободу и неприкосновенность своей земли.
Как видно, в народных воззрениях довольно четко формулирована идея своейгосударственности в соотнесении с константинопольской православной властью. Но вданном летописом тексте отношение к царству Константина отличается не толькопиететом, но и пейоративностью, подвергающей сомнению твердость его православныхпринципов. Подобная фольклорная амбивалентность, вобравшая в себе „возвеличение“ и„низвержение“ божественного образца, имеет свои глубокие архаические корни вмножество культурных парадигм. Здесь она связана с естественным стремлениемнеофитов превзойти во всем заданный христианский образец, снижая авторитетконфессиональной метрополии за счет возвеличения своего, хотя и позднего христианства.
Амбивалентна и интерпретация образа царя Константина, второго по значимостиперсонажа повествования. Константин Багрянородый – реальное имя императора, вправление которого осуществляется визит Ольги в византийскую столицу. Вместе с темимя Константин является самой популярной эпической номинацей классическогохристианского царя.21 В самом начале летописный Константин назван „царь Костянтинъ,сынъ Леоновъ“, еще раз – „цар гречьский“ и в остальных случаях – только „царь“. С однойстороны, он доближается к парадигме идеального христианского властителя, котораяформируется образом Константина Великого – символа православной Византии. Заметим,что его имя присутствует в контексте данного повествования при религиозно-нравственном осмыслении акта крещения руской княгини: „БЬ же речено имя ей вокрещеньи Олена, якоже и древняя царица, мати Великого Костянтина“. Подобно ему „царьгречьский“ имеет функцию царя-крестителя земель. С другой стороны, имя егоскомпрометировано. Фольклорная ипостась Константина VII, рассматривавшего себя как„Христа среди апостолов“22 воссоздает также образ грешника, жела-
12
ющего вступит в брак с своей крестной дочерью. Более того, новобращенная Ольга лучшеосведомлена в правилах церковного обряда и поучает главу христианской империи: „Какохочеши мя пояти, крестивъ мя самъ и нарекь мя дщерею?“ Сомнительный характерКонстантинова православия прослеживается и в более поздних русских источинках(устных и письменных)23. По законом фольклорного нарратива, снижение образаимператора осуществяется за счет возвеличения образа русской княгини. Итакпроанализированный летописный материал показывает, что обычно разграничаваемые„светские“ и „церковные“ элементы настолько органично взаимопроникаются, что изьятиеодних привело бы к ущербу фабулы. Присоединяемся к точке зрения С. Ф. Платонова,24считавшего их одинаково значимыми и рассматривавшего текст как единое произведениебез всяких вставок. Здесь практически сводятся на нет оппозиции: фольклор –христианство, устность – письменность.
Есть все остования полагать, что в устной среде бытовал сюжет, в котором отношениягосударственно-исторического порядка между Киевской Русью и Византиейинтерпретировались в символическом контексте брак/ крещение. Нет резона искатьреальное свидетельство в известии о принятии Ольгой христианства в столице империи.Акт крещения в Царьграде не что иное как фольклоризация христианского исповеданиякиевской княгини, поставленного народно-мифологическим etos-oм в непосредственнуюзависимость от ее действительного дипломатического визита в столицу православногомира. Царьград – мифологизированный локус царской и церковной власти, сопряженный собразом Константина, является тем эпическим центром, вокруг которого циклизируютсясюжеты на темы государственного и конфессионального устроения Slavia Orthodoxa.
В усвоенном летописью фольклорном повествовании обнаружваются особености,позволяющие сделать догадку о топологической приуроченности подобного текста.Некоторые факты ведут к предположению о его балканских, возможно южнославянскихистоках. Предложенная гипотеза имеет предвалительный характер, который в дальнейшемможет потерпеть некоторые изменения.
Как было уже отмечено, локус Царьград и имя царь Константина введены в обрядовыйсценарий сватовства. На вербальном и частично на акциональном уровне разворачиваетсяполисемия существенных исторических представлений: параллелизмы „воцарение/ взятиегорода/ крещение/ брак“ и „брак/ крещение/ взятие города/ воцарение“. В своихисследованиях А. Н. Веселовский обращает внимание на первостепенную рольКонстантина именно в фольклоре Балканского полуострова при формированиифольклорных взглядов на государственное устройство. Наблюдения Ф. Бадалановой и М.Плюхановой над славянскими колядками и другами песнями брачной тематики приводят кследующим выводам: „Постоянное присуствие
13
имен Царьграда и царя Константина в свадбеных контекстах показывает, что для южныхславян трехчленность параллелизма „взятие города/ брак/ воцарение“ естественна ипостоянно подразумевается“, в то время как „в руском фольклоре за Царьградом незакрепена роль брачного города“25. Развернутый вариант этой параллели –четырехчленный параллелизм в летописном фрагменте – также имеет свои аналогии вюжнославянском фолкьлоре. Заметим, что болгарской традиции не чужды фактыфольклоризации русских правителей при помощи указанного синонимического ряда. Темаправления трактуется как семейно-брачное и конфессиональное взаимодействие междурусским, некрещенным царством и христианским (болгарскими или сопряженным со„Стамбулом“, наследником Константинополя) царством.
Очень близко к семантике повествования о крещении Ольги стоит болгарское предание„Руският цар си взима жена“26, которое, как отмечают Ф. Бадаланова и М. Плюханова,весьма схожо с русской летописной версией крещения Владимира27. Русский царь, будучиеще идолопоклонником, хочет жениться на царевне-христианке „из Стамбола“. Онапокоряется своей судьбе и привозит на Русь церковь. Под воздействием богослуженияцарь решает креститься. Только потом осуществляется венчание и брак. Супружество естьвместе с тем приобщение к христианству, к соответствующей церкви и обретение царения.
По той же смысловой модели строится и предание „Бягството на цар Ясен в Русия28.Русский царь, не знавший веры, женит сына на дочке болгарского царя Ясена и по этомуповоду он и его сын принимают христианскую веру. „Па и самь Руски царь-невЬрны, кадедаде сина на черку царь Ясень, стана ка-то негов синъ, сирЬчъ (х)ристиянин. И сега Русияи Болгария са едно – (Х)ристияния“.
Мотивы-синонимы брак/ крещение, или принятие другой веры/ воцарениефункционируют в ткани и болгарской исторической песни с центральным персонажем„руснакь краль Стефан“29. В этот раз русский правитель – христианин, которыйотстаивает свою веру в борьбе с султаном Бреязизом из „Стамбола града“. Бреязизпредлагает ему:
„Е ты-зе-ка Руснакь краль Стефана!Ако ты-зы вЬра си промЬнишь,Че ти дадем половинъ Стамбола...И че ти дадем султанка девойтя.“Король Стефан убеждает дочь султана принять христианство и вместе убегают в „добра
Русия“ к „цару Александру“. За Царьградом (Стамболом) сохраняется роль источникавластительской мощи, но теряется православный христианский статус, перенятый вопределенный момент Россией.
Итак, фольклорная версия о крещении русской княгини в Царьграде коррелирует снекоторыми государственно-историческими представлениями и структурными моделямииз болгарского фольклора. В исторической памяти
14
болгар, по-видимому, сохранились отголоски широких конфессиональных и политическихвзаимодействий между южными и восточными славянами в Средновековье и позже. В„фольклорной“ истории эти контакты получают брачное обличие, что скорее всегоотражает народый трафарет, но не исключены и некоторые реалные основания. В этойсвязи припомним известие Владимирского летописца30 о браке киевского княза Игоря иболгарской княжны Ольги: „Игоря же жени в болгарЬхъ. Поят за него кнжну& именем wлгоуи быс мдра велми“. Оставляя пока открытым вопрос происхождения Ольги, сосредоточимсвое внимание на других фактах, указывающих на возможные южнославянскиефольклорные истоки летописного фрагмента. Замечтательным является существованиенародного предания об Ольге на территории Болгарии и в наше время. В городе Мелникеживет воспоминание о княгине, приуроченное к тав называемому боярскому дому, вкотором, якобы, она остановилась, приехавши лечиться от астмы.31 Привлекаемые длясравнения схожие болгарские фольклорные материалы также имеют западную июгозападную болгарскую или в целом балканскую локализаци. Традиция храмовогоизображения Ольги-Елены тоже ведет в этом направлении: ее лик воссоздан на стенехрама в городе Банско. Производят впечатление и данные ономастики, а именнораспространенность имени Олга, вариант – Олгица, в западной части Болгарии, вМакедонии и Сербии, что логично указывает на культ почитания святой Ольги в этихгеографических ареалах Балканского полуострова. Значение аргумента получает фактобнаружения древнейших списков жития первой русской христианки княжеского дома вюжнославянских Прологах XIII–XIV вв. (болгарской и сербской редакции).32 Все это, безсомнения, свитедельствует о довольно заметном и давнем присуствии образа княгиниОльги на Балканах, о рефлексии восточнославянского культа среди южных славян.
Ряд фактов делают вероятным складывание южнославянских фольклорныхинтерпретации по теме пребывания киевской правительницы в Царьграде. Предание обэтом могло проникнуть в русское летописание при посредстве болгарских летописныхсочинений, участие которых в складывании русских летописей принимаетсямедиевистами33.
Пространный экскурс в фольклорную семантику локуса Царьград бросает свет нетолько на фольклорную специфику и предысторию летописного фрагмента, но помагаетпри выяснении сущности биографического времени. Иными словами, здесь и полной мерепроявляется фольклорный хронотоп. Народно-мифологиеская отмеченность городаКонстантина притягивает к себе такое же понимание времени. Его свадебнаямаркированность сопря-жена с соответствующей физической характеристикой участниковсвадбеного действа. Естественно, что невеста достойна величавых эпитетов: она молода,хороша собой и разумница. Княгина Ольга „добра сущи зЬло лицемъ и смыслену“.
15
Кроме обязательной взаимозависимости между временем и мифопоэтическимпространством, оно отличается и другой важной особеностью – „вещественнымнаполением“, при чем разные обозначения этого вещественного наполения могутсовпадать с обозначением пространства: „вещи сами суть места, а не только принадлежатопределенному месту“34. Отголоски таких архаических преставлении можно усмотреть ввыражении „Иде Ольга въ Греки“. Греки, населяющие греческую землю и являющиеся ее,так сказать, „вещественным наполением“, отождествляются с самой территорией.Подобных примеров в летописи не мало. Называя этнос, летописец понимает место егопоселения: „бЬ путь изь Варягь въ Греки“, „из Руси можеть ити по ВолзЬ в Болгары и въХвалисы“, „приде въ словЬни“ и др.
Рассмотренные до этого момента пространственные классификаторы втянуты в болеекрупную мифопоэтическую парадигму, обладающую еще болюшей инвариантностью.
Основные элементы мифопоэтического пространство это центр и путь, соединяющийпрофаническое периферийное пространство с сакральным центром. Топографическаямодель пути княгини Ольги из Руси в Царьград и обратно вполне укладывается вуниверсальную мифологическую схему: дом иное царство дом. По систематизации В.Н. Топорова можно отнести ее путь как целое к первой радзнодивности, но следуютотметить некоторые особенности и второй разновидности: „1) путь к сакральному центру,строящийся как овладение все более и более сакральными концентрическими зонами снаходящимися в них объектами, вплоть до совмещения себя с этим сакральным центром,обозначающим полноту благодати, причастия, освещенности и 2) путь к чуждой истрашной периферии, мешающей соединению с сакральным центром или жеуменьшающей сакральность этого центра.“35
Образ пути связывает профаническое периферийное пространство языческой Руси(Киев) с сакральным средоточием христианской благодати – византийской столицей.Горизонтальную сегментацию все более сужающегося к центру сакрального пространстваможно выразить, пользуясь типовой структурой: своя страна город его центрхрам алтарь жертва.36 Применительно к летописной статье она получает следующеенаполнение: Киевская Русь – Царьград – императорский дворец – кафедральный храм Св.Софии – алтарь храма – крещение.0 Сакральность отдельных окружностей, осваиваемыхОльгой в качестве субъекта пути, постепенно нарастает, а само пространство сужается помере приближения к чаемому месту. Прибыв из языческого Киева в столицу православнойимперии, Ольга попадает во Дворец к самому царю, а потом в кафедральный храм, гдеполучает крещение от рук царя и патриарха. Финальный момент обряда крещенияпредусматривает проведение неофита в пространство перед иконостасом, являющимсяотделителем общего помещения церкви от алтари. Так, новообращенная княгиня достигаетточку, находящуюся в максимальной близости
16
к алтарю – самому сакральному месту храма – месту епифании, воплощающемумаксимальную приближенность к „божественному“. Русская правительница приносит вжертву свои языческие убеждения, отказываясь от них во имя Христа. Достигнута цельпервото отрезка пути: свой дом иное царство: княгиня приобщена к высшей сакральнойценности центра – христианству. Достижение цели субъектом пути в мифопоэтическойили религиозной моделях мира „всегда влечет за собой повышение ранга в социально-мифологическом или сакральном статусе“37. Язычница Ольга становится христианкойЕленой. Однако амбивалентное отношение к Византии и Царьграду отражается и нахарактере пути. Это не только усвоение сакральных ценностей центра – егоконфесиональных добродетелей, но и преодоление скрытых подвохов опасного места, гдеможно потерять свою государственную идентичность. Опасностоями черват и второйучасток пути, обратная дорога: иное царстводом. Максимально причастившейся кисточающему благодать центру и парировавшей также его „вредоносность“ христианкеОльге предстоит вернуться в свой, ставший для нее враждебным, языческий дом.Предугадывая будущие трудности, связанные с отстаиванием новой веры среди „поганых“и „нЬвеигласных“, она обращается к патриарху. „Она же хотящи домови, приде къпатреарху, благословенья просящи на домь, и рече ему: „Людье мои погани и сынь мой,дабы мя богь съблюлъ от всякого зла“. В Киеве любящая мать безуспешно пытаетсяприобщить своего сына к христианской вере. „Живяше же Ольга съ сыном своимъСвятославомъ, и учашеть и мати креститися, и не брежаше того в уши приимати“; „Азсыну мой бога познахь и радуюся; аще ты познаеши, и радоватися почнешь.“
Княгиня Ольга выступает в роли медиатора между „своим“ и „чужим“, „близким“ и„далеким“, „сакральным“ и „профанным“, который смягчает противопоставление междунекрещенной Русью и христианской Византией, между государственными запросамисвоего княжества и политическими амбициями империи. Летописец видит в крещениисамой правительницы только промежуточную цель к конечной точке пути, а именно приобщение ее дома, сына, рода и всей русской земли к христианству. Логичнымзавершением путешествия Ольги и финалом летописного фрагмента является упоминаниео стремлениях правительницы в плане их будещого осуществления: „Воля божья да будет;аще богъ хочеть помиловати рода моего и землЬ рускиЬ, да възложить имь на сердцеобратитися къ богу, якоже и мнЬ богь дарова“. И се рекши, моляшеся за сына и за люди повся нощи и дни...“
В данном тексте мифологема пути реализует не только свой физический, зримый образдороги, но и свой метафорический смысл – как обозначение нравственно-религиознойстези киевской княгини и древней Руси к православию.
Модель пространства и его квинтэссенция – путь, так же, как и отмеченные вышетемпоральные параметры, имеют ряд общих черт в четырех
17
привлеченных текстах: в летописном фрагменте, в двух библейских эпизодах и врусской исторической песне. Структура пути в них имеет общий вид: свой дом иноецарство свой дом.
Сарра вместе в Авраамом и другими евреями покидают свою землю (свойпервоначальный дом) в поисках обетованной земли (своего нового дома). По пути онипопадают в „иное царство“ (царство фараона и царство Авимелеха).
Главный персонаж русской исторической песни – Авдотья Рязаночка, отправляется впуть из своего родного города Рязани (в тексте Казань) в „землю турецкую“ к „королюБахмету“, чтобы выпросить пленных и снова вернуться в свой дом.
В отлични от летописного повествования, в этих текстах полностью конструируетсяпуть второго вида.
„Царством все возрастающей неопределенности, негарантированности, опасности“38становятся для Сарры и ее родственников царства фараона и Авимелеха. Если женаАвраама не заверит египтян, что он ее брат, то как мужа „женщины прекрасной видом“ егождег гибель. А Сарре все равно неизбежать гарема. Существует опасность, что путь кобетованной земле останется незавершенным.
В песне об Авдотье еще более контретизирована картина все возрастающей „энтропиии ужаса по мере развертывания пути: дом двор поле лес болото теснина яма дыра, колодец, пещера иное царство“.39 „Три заставы велике“, поставленныекоролем Бахметом по дороге от Казани к его царству, заставляют вспомнить поэтикусказочных препятствий:
„Становил на дороги три заставы велике:Первую заставу великую –Напустил реки, озера глубокие;Другую заставу великую –Чистые поля широкие,Становил воров-разбойников;А третью заставу темны леса,Напустил зверьев лютыих.
(Вариант А. Гильфердинга).Препятствием на пути к осуществителнию цели Авдоты является и загадка Бахмета,
нерешение которой грозит ей гибелью:„А не умеешь ты попросить головушки,Так я срублю тебе по плеч буйну голову“.
(Вариант П. Н. Рыбникова).Летописный Царьград тоже полон некоторых неожиданностей. Невозможность понять
метафорический смысл речей греческого царя и освободиться от его притязний, привелабы к подчинению княгини Ольги и ее
18
государства. Главные действователи отмеченых сюжетов – женщины. Сарра, Ольга иАвдотья попадают в типологически схожую ситуацию диалога и/или антитезы с мужскимперсонажем знатного статуса: фараон, царь Авимелех, греческий царь Константив,турецкий король Бахмет.
Все трое преодолевают препятствия на своем пути христостью и через соблюдениеопределенных нравственных норм родства.
Сара заверяет египтян, что она не жена, а сестра Аврама. Так он остается в живых иболее того: „И Авраму хорошо было ради ее; и был у него мелкий и крупный скот и ослы,и рабы и рабыни, и лошаки и верблюды“. И все же слова Сары не ложь, Авраам объясняетцарю Авимелеху: „Да она и подлинно сестра мне: она дочь отца моего, только не дочьматери моей; и сделалась моею женою“. И библейские эпизоды, и летописноеповествование строятся на обыгрывани терминов родства: в библии – „сестра“, „жена“ и„дочь“, а в летописи – „жена“ и „дочь“ (в церковном и государственом смысле). Сара взятав дом фараона, а потом, будучи Сарррой, – в дом Авимелеха, но они не дотрагиваются донее. Вещий сон открывает Авимелеху, что у Сарры есть муж, и это Авраам, а он сверх того– богоизбранный пророк. Библейский etos исключает связь с женщиной, имеющей мужа.Подобная связь является табу, и даже возможность его невольного нарушения ведет котрицательным последствиям. „Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом егоза Сару, жену Аврамову“. „И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: вот, тыумрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа“.
Хитроумная Ольга, вникнув в метафорический смысл речей царя Константина, делаетвид, что соглашается с его предложением. На самом деле оно не устривает ее и она ищетнеобходимую форму индиректного отказа. Выполняя условие невесты о личном участии вобряде ее крещения, царь, таким образом, делает брак между ним, крестным отцом, иОльгой, его крестной дочерью, ритуально неосуществимым. Нарушение этих нормхристианской морали было бы грехом: „А въ хрестеянехъ того нЬсть закона, а ты самвЬси“. Под конец княгине добивается свесткого титула „дочь“.
Авдотья Рязаночка преодолевает сопротивление материальной среды – „три заставывеликие“, снова, как ее предшественницы, благодаря своей сообразительности инаходчивости:
„Шла-де она не путем, не дорогою,Да глубоки ты реки, озера широкиеТе она плавом плыла,А мелкие ты реки, озера широкиеДа те ли она бродком брела.Да прошла ли она заставу великую.А чистые поля те широкие,Воров-разбойников тех о полдень прошла,
19
Как о полден вори лютыеТе опочив держа.Да прошла-де вторую заставу великую.Да темны ты леса дремучие.Лютых зверей тех о плночь прошла.Да во полночь звери лютыиТе опочив держа.
(Вариант А. Гильфердинга)
Король Бахмет удивляется и признает хитроумие Авдотьи подобно греческому царю:„Переклюкала мя еси Ольга“. Однако он ставит новую заставу на ее пути, а именно –трудную задачу. Ее суть заключается в умении разобраться в иерархию родства ивыполнить объязательства родственого порядка:
„Когда ты умела пройти путем да и дорогую,Так умей-ка попросить и головушкиИз трех единыя. “
(Вариант П. Н. Рыбникова).„Да умела с королем ричь говорить,Да умей попросить у короля полону-де, головушки,Да которой головушки боль век не нажить буде.“
(Вариант А. Гильфердинга).
Авдотья дает правильный ответ, определим кровным узам высшую ступень на шкалеродства:
„Не видать мне буде единыя головушки,Мне милаго братца, родимаго:Не видать буде век да и по веку.“
(Вариант П. Н. Рыбникова).А не нажить-то мне той буде головушки,Да милого-то братца любимого.А не видать-то мне братца буде век и по веку“
(Вариант А. Гильфердинга).В награду за правильную разгадку Бахмет разрешет Авдотье увести в Казань весь
русский полон:„За твои-то речи разумныя,За твои-то слова за хорошияТы бери полону, сколько надобно:Кто в родстве, в кумовстве, в крестном братстве.“
(Вариант П. Н. Рыбникова).Сравнивая библейские эпизоды, летописный текст и историческую песню, мы видим
общий характер препятствий на пути и общий способ их преодоления. В их основе лежитузловая ситуация и/или задача, которую можно разрешить, соблюдая табу и нормыродства (брачного, крестного, и кровного).
20
Трудная ситуация распутывается благодаря соблюдению запретов и правил, как состороны субьекта пути (женского персонажа), так и со стороны антагониста (мужскогоперсонажа).
Опасность попрать брачные связи и нормы морали сокрушает фараона и царяАвимелеха. Они торопятся поправить случившееся, оправдать свое незнание и нанесенныйурон чести Сарры материальным возмещением:
И взял Авимелех (сребра тысячу сиклей и) мелкого и крупного скота, и рабов и рабынь,и дал Аврааму; вот, и возвратил ему Сарру, жену его. И сказал Авимелех (Аврааму): вот,земля моя пред тобою; живи, где тебе угодно. И Сарре сказал: вот, я дал брату твоемутысячу сиклей сребра; вот, это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, ипред всеми ты опрадвана“.
Может быть, в этом плане нужно истолковать и дары, полученые Ольгой от царяКонстантина: „И дасть ей многи, злато и сребро, паволоки и съсуды различные, и опустию, нарек ю дъщерью собЬ. Всем этим царь замаливает греховность своих помышлений.
Король Бахмет относится с уважением к преданности Авдотьи кровному родству. Онсопреживает ее выбор, имея личные причины для этого:
„Сижучись де царь пораздумался,Пораздумался царь, порасплакался:„Ты, Авдотья, женка Рязаночка!Когда я разорял вашу сторонуКазань город подлесную,Тогда у меня убили милаго-то братца, родимаго:Не видать буде век да и по веку.“
(Вариант П. Н. Рыбникова).Тут также присуствует мотив материального возмещения за испытание:„Да за твои ты слова за учливые,Да ты бери себе золотой казны,Да в моей-то земли во турецкие,Да ли только бери себе, сколько надобно.“
(Вариант А. Гильфердинга)В анализируемых текстах ясно различаютсья путь как зримая реальная дорога и как
линия духовного, нравственного поведения, как житейская миссия. Метафорическийсмысл пути проясняется при соотнесении его нынешних резултьтатов с некой большойцелью, осуществимой в будущее. Путь Сарры, Ольги и Авдотьи составляет часть болеедолгого пути, конечная цель которого реализуется за пределами настоящего моментанарратива.
Желаемое конечное благополучие, ради которого Сарра, Авраам и их родственникипроходят множество перипетий, воплощается в образе обетованной земли. К ней онистремятся и ее получают, заключив договор с Бо-
21
гом. „И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отцатвоего (и иди) в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, иблагословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение.“ Достижение этойцели стоит за пределами рассматринаемых библейских эпизодов, но все, что в нихпроисходит, подразумевает ее будуще осуществление. Миссия Сарры – статьродоначальницей рода, давшего обет Богу.
Путешествие русской княгини в Царьград и ее обратное возвращение с христианскойверой становится частью более далъней линни поведения: христианизации княжескогодома, рода и всей русской земли. „Волья божья да будет; аще бог хощет помиловати родамоего и земле руские, да възложить имь на сердце обратитися къ Богу, ако же и мне Богдарова“. Миссия Ольги оценнивается в связи с будущим крещением Руси. В летописномтексте о ее кончине под 969 г. читается: „Си бысть предътекущия христианской земли акоденьница предъ солнцем и аки зоря предъ свЬтом“... Мы же рецЬм к ней: радуйся русскоепознанье к Богу, начаток примиренъю быхом. Си превое вниде в царство небесное от Руси,сию бо хвалят русские сынове аки началницю; ибо по сметри моляше бога за Русь“.
В песне об Авдотье Рязаночке возвращение полона в Казань – конечная цель толькотопографического пути. Сакральным вожделением и венцом стези Авдотъи являетсябудущее возрожение разоренного Бахметом города. Ее мисия – стать родоначальницейновой Казани.
„Да привела-де народ полненыеДа во ту ли Казань во опустелую,Да она построила Казань город на ново.Да с той поры Казань стала славная,Да с той поры стала Казань-де богатая,Да тут ли в Казани Авдотьино имя возвеличилось,Да и тем дело кончилось.“
(Вариант А. Гильфердинга)„Привела-де полон во свою Казань, город подлесную,Расселила Казань город по-старому,По-старому, да по-прежнему.“
(Вариант П. Н. Рыбникова)В конце пути как нравственно-религиозной стези-подвига все женские персонажи
приобретают более высокий мифо-социальный статус.Общая структура художественного хронотопа в четырех приводимых текстах наводит
на мысль о существовании общего досюжетного повествования мифологического типа. Вовсех текстах главное место отведено женским персонажам, выступающим в ролиродоначальниц, охранительниц, возродительниц своего дома, рода и земли. Сарра, Ольга иАвдотья медиаторы между „своим“ и „чужим“. Обладая бесспорной хронотопичностью,они включены в следующий семантический ряд: 'молодость', 'красота', 'ум',
22
'хитрость-мудрость', 'семья', 'дом', 'род', 'земля', 'путь', 'норма', 'вера', 'благо', 'охранение','возрождение', 'возвеличение'. Вполне ясно проступает миф о женщине – охранительницерода. Яркое метафорическое звучание эта идея получает в библейском тексте в словахАврама к Саре: „скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, дабы живабыла душа моя через тебя.“
Подведя итоги анализу летописного хронотопа, отметим взаимодействие разных формусвоения реального времени и пространства. Пространственно-временной континуум„Повести временных лет“ отличается своеобразной многомерностью. Имея своей цельюфиксировать действительно совершившиеся однократные события–происшествия,летописное повествование генерирует мифопоэтические универсалии. Линейниый отсчетвремени год за годом в границах реального георгафическото пространства сосуществует стипичной для мифа циклической замкнутостью времени в сакрально иерархизованныхареалах.
БЕЛЕЖКИ
1 Повесть временных лет. Ч. 1. Подготовка такста Д. С. Лихачева и Б. А. Романова. М.Л., 1950 (Серия „Литературные памятники“), 44-46.
2 Библия книги Свещянного писания Ветхого и Нового завета. Книга Бытие, изданиеМосковской патриархии, М., 1992, с. 14, 20-21.
3 Гильфердинг, А. Онежские былины. 1873, 1187-1190 & 260; Песни, собранные П. Н.Рыбниковым, изд. 2, М., 1910, т. II, с. 553.
4 Топоров, В. Н. Пространство и текст. – В: Текст: семантика и структура, М., 1983, с.229, 233.
5. Constantini Porphyrogeniti imperatoris De cerimoniis aulae Byzantine libri duo / Rec. I. I.Reishe Bonnae, 1829, 1, 595-598. Признавая достоверными пространственные параметрыпоездки Ольги, историки не единодушны по отношению отмеченной в летописи даты ицели визита. См.: Литаврин, Г. Г. Русско-византийские связи в середине Х века. – В:„Вопросы истории“, 6, 1986, 41-52 и др.
6. Бахтин, М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по историческойпоэтике. – В: Литературно-критические статьи, М., 1986, с. 185.
7. „Етничен хронотоп“ – термин Т. Ив. Живкова, см.: Живков. Т. Ив. Етничносамосъзнание и епично творчество. – В: „Култура“, 6, 1989, с. 20.
8. Данилевский, И. Н. Библия и Повесть временных лет (К проблеме интепрпетациилетописных текстов). – В: „Отечественная история“, 1, 1993, 89-90.
9. Лихачев, Д. С. Летописное время. – В: Поэтика древорусской литературы.Избиранные работы, т. 1, Л., 1987, с. 545.
10. Элиаде, М. Миф о вечтом возращении (архетипы и повторение). – В: Космос иистория, М., 1987, с. 84.
11. Там же, с. 129.12. Павлова, Р. Жития княгини Ольги в южнославянских рукописях XIII-XIV вв. – В:
„Болгарская русистика“, 5, 1987, с. 47.13. Бахтин, М. Формы времени... с. 183.14. Груевич, А. Что есть время. – В: „Вопросы литературы“, 11, 1968, с. 157.
23
15 Чекова, И. Летописное повествование о княгине Ольге под 6453 г. в свете русскойнардной сказки (Опыт определения жанровой природы) – В: „Старобългарска литература“,кн. 23-24, 1990, 77-98.
16. Байбурин, А., Левинтон, Г. „Князь“ и „княгиня“ в русском свадебном величании. В:Русская филология, Тарту, 1975, Вып. IV.
17 Бадаланова-Покровская, Ф. К., Плюханова, М. Б. Средновековые историческиеформулы. – В: Учен. зап. Тарт. ун-та. Труды по знаковым системам. Т. XXXII, с. 84;«Основание царства» в болгарских средновековых представлениях. – В: Сб. Механизмыкултуры, М., 1990 с. 137.
18. О метафоре „женщина-город“ и о параллелизме “взятие города (брак) воцарение“см. В: Бадаланова-Покровская, Ф. К., Плюханова, М. Б. Средновековные историческиеформулы..., 88-90; Бадаланова-Покровская, Ф. К. „Основание, царства“... 138-140.
19. Шлецер, А. Нестор. Ч. III, СПб., 1819, с.372.20. Сахаров, А. Н. Диполматия древней Руси: IХ – перв. половина Х в., М., 1980, с. 278,
„Подобное политическое толкование таких понятий как „дочь“, „сын“ в применении киностранным правителям было вполне в духе византийской власти“, там же и др.
21. В анализе образа Константина опираемся на следующие исследования: Бадаланова-Покровская, Ф. К., Плюханова, М. Б. Средневековая символика власти: крест Константинав болгарской традиции. – В: Учен. зап. Тарт. ун-та: Труды по русской и славянскойфилологии. Тарту, 1987, 132-148; Плюханова, М. Б. Средневековая символика власти:крест Константинов в русской традиции. – В: Учен. зап. Тарт. ент-та: Труды по русской иславянской филологии. Тарту, 1987, 149-170.
22. Де cermoniis I, p. 638.23. Плюханова, М. Б. Средновековая символика власти..., с. 154 и др.24. Платонов, С. Летописны рассказ о крещении княгини Ольги в Царьграде. – В:
„Историческй архив“, кн. I, 1919, с. 285, 287.25. Бадаланова-Покровская, Ф. К. Плюханова, М. Б. Средновековые исторические
формулы..., с. 90, 91 и др.26. Mazon, A. Dokuments, contes et chansons slaves de l’Albanie du Sud, Paris, 1936, 162-
166, 43.27. Бадаланова-Покровская, Ф. К. Плюханова, М. Б. Средноваковая символика власти...,
с. 145.28. Памятики болгарского народного творчества (Собр. В. Качановский). – Спб., 1882. –
Вып. I, с. 217.29. Там же, 531-538.30. Павлова Р. Нов Владимирски летописец. – В: „Език и литература“, 5, 1980, 2-3.31. Информант – Васил Божиков из г. Мелника; из передачи болгарското телевидения
22. VI. 1991 в рубрике „Времена и хора“ и личная запись на месте.32. Павлoва, Р. Жития княгини Ольги... 42-53.33. Боева, Л., „Повесть временных лет“ – болгарские источники и паралели. – В:
„Славянска филоголия“. Т. 18, 1983, 27-36.34. Топоров, В. Н. Пространство и текст..., с. 234, 235, 238.35. Там же, с. 262.36. Там же, с. 256. 37. Там же, с. 258. 38. Там же, с. 262. 39. Там же.
24
KÜNSTLERISCHE ZEIT- UND RAUMRELATIONEN IN DERCHRONIKERZÄHLUNG VON FÜRSTIN OLGA IN KONSTANTINOPEL
ILIANA TSCHEKOVA
(Zusammenfassung)
Im folgenden Aufsatz wurde die Zeitspanne des Jahres 955 in der altrussischen Chronik„Powjest wremennich let“ („Überlieferung über die vergangenen Jahre“) aus dem 12 Jahrhundertuntersucht. Dort spiegeln sich die wesentlichen Merkmale der chronikalischen interpretation derWelt wider.
Die Behandlung des zeitlich – räumlichen Kontinuums in der Erzählung von der Reise derFürstin Olga nach Konstantinopel führt zum Verständnis der Folkloregeschichte der SlaviaOrthodoxa von der ersten russischen christlichen Herrscherin. Der Text wurde auf demsemantischen Parallelismus konstruiert, der sich wie folgt darstelt: „Besteigen desZarenthrons/Erstürmen der Stadt/ Taufe/ Eheschließung. Er erfasst einige beständige historischeAuffassung des Mittelalters. Konstantinopel, der mythische Locus der Zaren- und kirchlichenMacht, bildet im Zusammenhang mit der Figur des klassischen christilchen HerrschersKonstantin das epische Zentrum, um das sich die Folklorefabel über die staatliche undkonfessionelle Ordnung drehen.
Einige Fakten zeugen davon, dass die Erscheinung der Heiligen Olga seit langer Zeit undnachhaltig auf dem Balkan gegenwärtig ist.
Mit Hilfe von Vergleichsmaterial aus der Bibel, der bulgarischen und russischen Folklorewurde der mythologische Archityp der Folklorabel erreicht, die von der Chronik akzeptiertwurde. Hier wurden die konstante epische Jugend der Hauptdarstellerinnen, die die Rolle desMediators in der Opposition „mein Land – fremdes Land“ übernehmen, des Modell des Wegesund andere charakteristische Besonderheiten analysiert.
Die Komponenten der Zeit und des Raums in der altrussishen Chronik wurde durch eineeigenartige Polyvalenz charakterisiert. Die Überlieferung setzt sich zum Zeil, die wirklicheneinmaligen Ereignisse zu vermerken. Gleichzeitig generiert sie mythopoetische Stereotypen. Daslineare Abbildung der Zeit Jahr um Jahr im Rahmen eines realen geographischen Raumskoexistiert mit der für das Mythos typischen zyklischen Geschlossenheit der Zeit in sakralenhierarchischen Räumen.
25