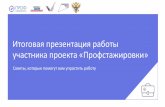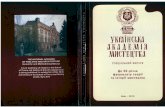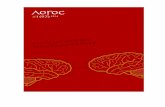Время субъекта как аспект личного проекта человека
Transcript of Время субъекта как аспект личного проекта человека
Кимберг А.Н. Время субъекта как аспект личного проекта человека / Личность как
субъект организации своей жизни. Сб.научных статей. Краснодар: Кубанский гос.ун-т,
2008. С.74-86.
Время субъекта как аспект личного проекта человека
Хотя исследователями накоплено множество данных о связях
отдельных психологических черт и свойств как друг с другом, так и с
результативностью деятельности человека, однако уже сформировалось
настойчивое понимание того обстоятельства, что знание множества
отдельных связей по-прежнему не приближает нас к хорошему прогнозу
поведения конкретного человека. Психология личности все более ощущает
потребность в работе с регулятивными механизмами интегрального уровня,
объясняющими долгосрочную целостную активность человека. Отсюда
интерес к крупным психологическим феноменам жизни человека, одним из
которых является субъективное время.
С другой стороны, надо понимать, что психология как наука,
существующая в социальном поле, представляет для общества интерес ровно
настолько, насколько она оказывается способной решить задачу понимания
конкретного человека, прогноза его социального поведения и улучшения его
субъективного состояния. Эта задача требует от исследователя большего
внимания к идиографическому пониманию личности, основывающему
прогноз ее жизненного пути на выявлении уникального сочетания
личностных регулятивных механизмов человека как субъекта своей жизни.
Представления человека о его настоящем и будущем отображают понимание
субъектом текущей ситуации и становящейся ситуации, что существенным
образом определяет конфигурацию его активности и субъективную картину
мира.
Есть и третье соображение, о котором хотелось бы сказать. Поскольку
психологическое знание все более становится не только средством познания
субъективного мира человека, но и инструментом его конструирования, оно
приобретает ценностно-этический характер. Та или иная теоретическая
модель психологических процессов должна оцениваться, помимо прочего,
еще и по тому, какие последствия для человека и человечества несет вера в
нее (принятие ее как реальности). Поэтому определимся в базовых посылках
обсуждаемой темы изначально. Они происходят из взглядов Джорджа Келли,
который положил в основу своей теории личности как исследователя мира и
создателя системы персональных конструктов два основных принципа:
рефлексивность, то есть способность человека осознавать и вербализовать
свой субъективный опыт1, и доверие по отношению к клиенту или
респонденту как к источнику информации.
С отношением к этим принципам дело обстоит не так просто. За
исключением отдельных направлении гуманистической психологии
значительная часть классической психологии исходила из неявного, но
глубоко укорененного чувства превосходства психолога над клиентом.
Считается, что последний не способен оказать себе помощь хотя бы потому,
что не способен упорядочить и интерпретировать свой опыт, понять характер
собственных проблем и тем более справиться с ними. Для значительной
части психологов характерно имплицитное представление о типичном
человеке как о плохо приспособленном, не обладающем эффективными
механизмами совладания с проблемами, движимым неудачными
безусловными связями, порабощенном различными комплексами или
циклами развития. Этот слабый и даже опасный для самого себя человек
разрушает свою жизнь, не будучи способен к достойному странствию через
ее пространства.
Ни проективные тесты, ни сконструированные на основе факторизации
эмпирических данных личностные опросники не предполагают
самопонимание и «самовменяемость» испытуемого. Главный же фокус,
своего рода чудо психолога, использующего их, состоит в том, что он как
фокусник из цилиндра достает за уши привязанности, страхи и желания
человека, в которых тот боится себе признаться, а потом несколькими
магическими средствами налаживает его жизнь. Это отношение устраивает и
психолога, и клиента. Нет ведь ничего привлекательного в том, чтобы
укреплять здоровье физическими упражнениями и закалять волю
преодолением трудностей, гораздо более захватывающим было бы под
действием особых психологических средств за несколько оплаченных
сеансов приобрести уверенность в себе на долгие годы.
Мы полагаем, что люди обладают способностью влиять на
собственную судьбу, они способны предвидеть будущее и строить свою
активность так, чтобы добиваться как личных, так и общественных целей,
развивая в этом процессе как свой опыт, так и личностный потенциал.
Рефлексивность выступает неотъемлемым свойством человека: даже если
субъективный опыт или личные проекты клиента, психолога или
исследователя будут различны, они могут быть прояснены с помощью
принципиально одного и того же метода. Келли полагал, что если психолог
интересуется тем, почему некто поступает особым образом, ему надо только
спросить его об этом. Самые сложные задачи своей жизни человек решает
как субъект собственной жизни, целостный носитель интенции, как Я.
Многочисленные примеры отклонении реальности от этого утверждения не
отменяют его истинности в целом как ведущей тенденции развития человека
и общества. Способность не обязательно есть действительность, и формы
организации человеком своей жизни могут различаться от не требующего
1 На этом постулате держится вообще вся теория и практика всех личностных измерений
осознания хабитуального поведения, «…когда люди пребывают в достаточно
бодрствующем состоянии, чтобы заниматься бизнесом, но еще недостаточно
пробудились, чтобы ощутить «Я» как активный центр в нас самих» (Фромм,
[19, с.282]) до идейного социального подвижничества.
Возможно, благодаря работе теоретиков и практиков психологии
тенденция к разумности, полноценности и контролю личностью социальной
жизни станет еще сильнее. Роль же психолога переместится из области
выдачи разрешении на полноценную жизнь к роли специалиста по тому, как
жить, который консультирует, тренирует и иногда прописывает некие
жизненные процедуры, такие как овсянка, свежий воздух и секс с
удовольствием.
Время в субъективном мире человека
Теперь обозначим наше понимание роли времени в строительстве
субъективного мира личности. Время играет множество ролей в жизни
человека, но для жизненного мира человека две функции представляются
главными. Одна из них – функция синхронизации, связывающая мир
человека с социальными процессами и служащая механизмом его включения
в эти процессы – в определенное время в указанном месте с заданными
действиями. Вторая – и наиболее интересная для нас – это время как функция
жизненного пути или как одно из измерении тех процессов, в которые
вовлечен субъект. Человек, выходя за ограниченные рамки реагирования на
ближайшие обстоятельства его мира, строит свою преобразовательную
активность, создавая что-то в этом мире, преобразуя его, осваивая течение
больших системных процессов (смены времен года и разливов Нила) и
запуская собственные процессы (строительство дома или возведение
пирамид). То, что человек делает и делает протяженно, относя ожидаемый
результат к будущему, опирается на систему его смыслов и отношений к
миру, которая может иметь форму (или которой может быть приписана
форма) различных психологических функциональных систем, регулирующих
активность человека. Они могут иметь разный уровень обобщенности и
концептуализироваться исследователями разным образом, но все они тем или
иным способом основаны на субъективных образах времени.
Особенность образа времени такова, что мы считаем время только
через процесс физического или социального мира. Время не существует вне
процесса, оно есть универсальный аспект процессов. Вот почему мы считаем
возможным операционально рассматривать субъективное время как одно из
измерений отнесенных в будущее процессов активности субъекта.
Совершим обзор известных исследователям крупных психологических
конструктов, тем или иным образом регулирующих или обеспечивающих
активность человека. Мы пока не ставим вопрос о том, как соподчинены эти
конструкты и соподчинены ли они вообще. Сам по себе конструкт
личностного уровня осмысленным образом связывает личность с
социальным миром в каких-то его аспектах, продуцирует и модерирует ее
активность. Личность в нем выступает как целостность и именно таком
качестве она взаимодействует с другими людьми и социальным миром.
Брайаном Литтлом [30] был предложено общее название для
обозначения семейства функциональных психологических систем уровня
интегральной организации поведения – конструкты личностного действия
(Personal Action Constructs (PAC)). К таковым Литтл отнес такие во многом
сходные регуляторные образования личности как текущие интересы (Klinger
[26]), личные стремления (Emmons [ 23; 24]), персональные проекты (Little
[29; 30 ]) жизненные задачи (Cantor [22]). Мы добавили бы к таким
конструктам еще самоэффективность (или «эффективность селф»)
А.Бандуры и «возможные селф» Х.Маркус.
Альберт Бандура предложил широкой публике концепт
самоэффективности, который он определил как веру человека в
собственную способность контролировать события, происходящие в его
жизни (как применительно к конкретной задаче, так и по отношению к жизни
в целом) (Bandura [21]). Самоэффективность относится к будущему, точнее к
отношению к нему. Она опирается на представление о целях, которые
субъект принимает как свои. Обычно человек берется за дела, которые, как
он считает, ему по силам, и избегает дел, с которыми, как он полагает, ему не
совладать. Кроме того, вера в успех предприятия мотивирует усердие и
настойчивость в достижении цели, включая преодоление возможных
трудностей, а также облегчает решение сложных творческих задач. Но как
возможна мотивационная сила переживания самоэффективности? Только как
переживаемый в особых аспектах собственного состояния образ
необходимого для субъекта будущего. Предполагая действие (с текущим
результатом или же с отсроченным), субъект, по Бандуре, опережающе
переживает образ его позитивного завершения и собственное состояние
успеха. Вместе они дают то переживание уверенности в своих силах, которое
получило название самоэффективность. Образ успешного будущего, как
представляется, появляется как невербализуемый результат синтеза
предыдущего опыта субъекта, восприятия им совокупности условии
действии и нерефлексивной оценки собственного потенциала.
Близкая идея личностного регулятора, соединенного с образом
будущего, была развита Хезел Маркус, сформулировавшей такой конструкт
как возможные селф. Актуальное или действующее селф можно определить
как представление или переживание личностью себя в настоящем. Селф как
ядро личности регулирует поведение, ставит цели и формулирует ожидания,
организует и переживает мотивацию достижения поставленных целей,
регулирует выполнение отдельных задач и оценивает степень достижения
намеченного результата (выполнения задачи). Мотивация при этом
рассматривается как отражение стремления человека выстроить свою жизнь
некоторым позитивным образом и избежать возможных, но нежелательных
вариантов ее развития.
Возможные селф определяются как предполагаемая личностью
концепция селф в будущем. Они четко обособлены от текущей или рабочей
концепции селф, но глубоким образом связаны с ней. В некотором роде
возможные селф присутствуют как особые регулятивные образования в
текущем активном селф, задавая его особый модус одновременного бытия
прошлого, настоящего и становящегося будущего личности. Собственно
говоря, возможные селф выступают как личностные регуляторы,
опосредующие связь селф как преимущественно когнитивной структуры с
мотивационной сферой личности. (Markus & Nurius [31]). В понимании Х.
Маркус возможные селф вызывают к жизни будущие итоговые состояния
субъекта как комплексные рационально-эмоциональные переживания, что
позволяет извлечь позитивный аффективный заряд для активации планов и
стратегии, релевантных для достижения этих состояний. Цели легче
переходят в намерения и инструментальные акции, когда они подкреплены
переживанием привлекательного и манящего образа ожидаемого результата
(Markus & Ruvolo [33]).
Реализация желаемой цели зависит также от того, настолько субъект
оказывается способен удержать возможное селф как доминирующий
элемент в рабочей селф-концепции. Люди, видимо, в значительной степени
различаются способностью думать о будущем и относиться к нему как
становящемуся в настоящем. Следующим шагом Маркус было выделение в
конструкте нескольких частей: желаемые селф (те позиции и состояния,
которые являются для субъекта положительно мотивированными и
используются им для целостной организации своей активности,
ориентированной на будущее); «опасаемые селф» (позиции и связанные с
ними состояния, которые переживаются субъектом как дискомфортные,
депрессивные и пугающие, но, тем не менее – возможные). Мы не
поддерживаем идею выделения рядоположно с желаемыми и опасаемыми
селф еще и возможных селф, поскольку а) и желаемые, и опасаемые селф
являются возможными, иначе бы они не присутствовали бы здесь; б)
феноменологический анализ показывает, что чаще всего люди имеют дело с
двумя вариантами будущего. Один рассматривается как желаемый или хотя
бы приемлемый, другой как неблагоприятный и неприемлемый. Последний
исход субъект старается избегнуть, разумеется, в том случае, если он его
принимает как вызов и предмет для работы.
Вместе с тем, критические замечания в концепции «возможных селф»
вызывает и то, что Маркус фактически подходит к ним как к состояниям,
схватываемых рефлексивным процессом. Разумеется, можно отображать
актуальное (или потенциальное) положение субъекта двумя способами: а)
фиксируя его отношения с многочисленными релевантными его жизни
сущностями социального мира (и тогда мы имеем дело с идентичностью
субъекта) или же б) схватывая, переживая и описывая нюансы субъективных
состояний личности, находящейся в названной в пункте «а» позиции в
системе социальных и межличностных отношений. Можно согласиться, что
внутреннее состояние субъекта «ближе» к мотивационным системам
регуляции поведения и поэтому представление себя как одинокого и
брошенного всеми в старости будет служить мотиватором активности по
принципу «что надо сделать, чтобы это не состоялось».
Но является ли внимание, обращенное на селф, действительно
действенным мотиватором активности? Есть данные, противоречащие этому
утверждению. Кул [27; 28] исследовал факторы, препятствующие
осуществлению намерений. Он выделяет два типа когнитивной обработки
информации в проблемной ситуации: ориентацию на действие и ориентацию
на состояние. При ориентации на действие человек сосредоточивается на
действиях, необходимых для реализации намерения. При ориентации на
состояние человек прежде всего переживает мысли и чувства относительно
самого себя, он примеряет на себя последствия своих действии и их значение
для него.
Есть экспериментальные данные о том, что мышление,
ориентированное на состояние, не способствует эффективной реализации
намерений, даже когда действия, которые намеревался осуществить человек,
полезны и потенциально выполнимы. В экспериментах Кула ориентация на
состояние вызывалась у испытуемых просьбой сосредоточиться на
собственных мыслях и чувствах во время выполнения задания. Было
установлено, что после неудачи в выполнении экспериментального задания
результативность испытуемых, концентрированных на собственных
переживаниях, снижалась; у тех же, кто не получил подобной инструкции,
ухудшения результатов не отмечалось [27].
Эти данные ставят под вопрос способ функционирования возможных
селф, предложенный Х.Маркус. В ее модели именно переживание будущего
состояния в настоящем задавало мотивационный импульс поведению по
организации достижения перспективных целей.
Нам же представляется, что, по крайней мере, для части людей образ
возможного будущего как мотиватор целенаправленной активности
организован другим образом. В нем схвачены желаемые характеристики
предмета деятельности и внимания субъекта, но не собственные переживания
субъекта. Лишняя рефлексивная инстанция снимается, что не делает
регулятивный механизм менее действенным: архитектор, начиная строить
собор, руководствуется видением белоснежного устремленного вверх
величественного здания, а не переживанием ожидаемых чувств
удовлетворенности, известности, гордости.
В этом обстоятельстве скрывается одна из сложных для
психологической науки проблем: все параметры целенаправленной
активности человека, ее условия, цели и препятствия на пути их достижения
формулируются селф (носителем субъективного опыта) в терминах внешнего
мира. Все психологические процессы, в которых отражается активность
личности, описываются исследователями в терминах психологического мира.
Ни один из этих способов описания не дает полной картины происходящего,
а их соотношение не проработано.
Личный проект: цель в будущем
Наиболее близко к задаче включения будущего в функциональные
психологические системы регуляции поведения подходит конструкт «личных
проектов». Концепт личного проекта фиксирует последовательность
мотивированных действий субъекта, организованных образом ожидаемого и
желаемого субъектом результата.
Личные проекты выступают как структуры, опосредующие и
организующие отношения человека с окружающим его миром и наделяющие
смыслом как обстоятельства деятельности человека, так и его
индивидуально-психологические особенности. И те, и другие становятся
элементами новой системы, выстроенной под жизненный проект человека.
Когда мы слышим вопрос о смысле для личности некоего объекта или
поступка, то следовало бы уточнить: «О смысле в системе какого жизненного
проекта или дела личности?».
Сам термин «личные» или «персональные проекты» был предложен
Брайаном Литтлом в 1983 году. «Персональные проекты» Литтла довольно
близко смыкаются с группой таких регулятивных образований как
«возможные селф» Маркус и «жизненные задачи» Кантор, но тем не менее,
различия между ними можно проследить. Возможные селф у Маркус
фокусируются главным образом на мотивационном компоненте
представлений о целях и заметно в меньшей степени на связанных с ними
действиях. Выбор возможного селф основывается на переживании и,
возможно, визуализации субъектом своего желаемого состояния, достижение
же этих состояний побуждает субъекта включиться в нормативные
«жизненные задачи», такие как завершение университета, нахождение
работы, достижение авторитета и установление позитивных отношении
среди коллег на работе.
Конструкт личных проектов позволяет исследователю охватить всю
линейку активности человека от кратких проектов до долгосрочных
жизненных предприятий и целей. Как основанный на действиях конструкт,
он понятен для респондентов, которые хорошо ориентируются в его
применении, и используют его для структурирования своего опыта.
Исследование психологического отображения времени (субъективного
времени) более конструктивно вести исходя не из феномена времени как
такового (мы уже показывали превращенный характер этого феномена для
психологии, когда его конструкция скорее затемняет, чем открывает
сущность процесса), а из функции будущего в регуляции перспективной
активности субъекта.
Ряд исследователей тем или иным образом указывает на факт
детерминации поведения человека будущим, данном субъективно в целях и
предполагаемых результатах жизнедеятельности (Головаха, Кроник [6]);
личностных целях и жизненных ценностях (Зайнагабдинов [7], Лец [ 11 ],
Люсова [13]); жизненной программе (Ахмеров [3]); личных проектах (Литтл [
29; 30 ], Кимберг [9]).
Получены данные, что испытуемые, имеющие положительную
установку относительно своего будущего, способны добиться больших
успехов в грядущей деятельности. Другая важная характеристика будущих
ожиданий связана с длиной временной перспективы. Люди, имеющие более
длинную временную перспективу, предпочитают ставить цели, которые
могут быть реализованы в отдаленном будущем, а имеющие более короткую
– кратковременные (Березина [4]). Утверждается, что планирование
жизнедеятельности является одной из важнейших проблем психологии
(Миллер, Галантер, Прибрам [14]).
Но все же регулирует активность человека не время как таковое, а
уровень тех процессов, в которые он вовлечен, и глубина выстраивания их в
будущее. Иными словами, не время является носителем процессов и
событии, а развертывание и становление процессов мира позволяет
описывать себя как время. В этом смысле можно говорить о том, что
будущее присутствует здесь же, в настоящем, поскольку процессы
детерминистичного характера, законы развертывания которых нам известны,
должны содержать свое будущее в свернутом виде, как возможность с
высокой степенью вероятности уже сейчас. Садовод, который высаживает
фруктовое дерево, создает (и видит) будущее лет на двадцать вперед. Он
видит мысленным взором рост дерева, моменты формирования скелетных
ветвей, рост кроны, начало плодоношения, расстояние до кроны соседнего
дерева в период плодоношения и общий вид сада, условия опыления,
возможности опрыскивания и его экологичность, удобство сбора плодов
(высота кроны), этап омоложения кроны, наконец, раскорчевку старого
дерева и рекультивацию места его обитания. Странно, что когда все
продумано правильно, момент формирования будущего в настоящем мало
кто осознает. Но как только проявляются неудачные решения, которые были
приняты десятилетия назад, тотчас же возникает вопрос о допущенной ранее
ошибке и о том кто за нее отвечает.
Таким образом, можно утверждать, что будущее как результат
социального процесса присутствует в каждый момент времени. Одной из
компонент его является определенность и предсказуемость.
Подход, при котором будущее рассматривается через понятия,
связанные с проектами или программами, то есть с образами процессов,
выводит нас на такой конструкт как цель.
Цель обычно определяется как ожидаемый результат деятельности, и
он, естественным образом, всегда размещен в будущем. Цель не дана
субъекту онтологически, она имеет статус представления субъекта о
будущем состоянии процесса, причем такого представления, которое
способно организовать деятельность по его достижению. Нам надо различать
цель как субъектный феномен (представление субъекта) и как
онтологическое состояние системы. Именно принципиальный разрыв (сдвиг)
между ними побудил Роберта Мертона сформулировать представление о
латентных следствиях человеческой деятельности. Для теории человеческого
действия это было необходимым и существенным уточнением:
изменившееся состояние системы только частично совпадает с тем образом
цели, которым руководствовался субъект. Ряд системных изменении вовсе не
был ему открыт заранее, а часть из них вообще оказывается нежелательной
для субъекта (как правило, в иных аспектах, чем тот, в котором
формулировалась цель). «Побочным» эффект является только для
целеполагающего субъекта, для универсального наблюдателя это просто
один из эффектов его активности.
Цель, включенная П.К.Анохиным [2] в модель регуляции
деятельности, как механизм «наводки» активности, начинает при более
пристальном внимании функционировать более сложно. Активность
человека не только уточняется и побуждается в ходе циклического сравнения
желаемого (образа состояния системы) с достигнутым в результате
деятельности, но и происходят еще несколько циклов уточнения. Это
следующие уточнения: 1) системные (латентные) последствия достижения
результата ставят задачи по их компенсации, то есть достижение
манифестированной цели тут же порождает еще несколько целей, которые
имеют уже иной статус: в определенном смысле они указывают на
ограниченную успешность реализованного проекта; 2) в процессе движения к
цели сама цель претерпевает изменения, особенно тогда, когда она была
выведена из социальных ценностей и социальных стандартов (меняются
стандарты, а актуальность ценностей для индивида меняется по законам, не
связанным с первоначальным порождением цели); 3) цель ставится
применительно к обстоятельствам, а обстоятельства меняются2 …
Тем не менее, цель, как и предполагал Курт Левин, остается одной из
наиболее «сильных» форм описания будущего. «Принятая субъектом цель
деятельности является важнейшим центральным звеном процесса
осознанного регулирования. Регуляторная роль цели деятельности может
быть в наиболее общем виде определена как системообразующая функция,
благодаря которой все частные компоненты и этапы процесса саморегуляции
формируются и осуществляются как функциональные компоненты единой
системы…» (Конопкин О.А. [10, с.17]). Можно сказать, что субъект в
будущем видит себя через цели, и если мы взглянем на «желаемые селф» у
Маркус, то уловим некоторое сходство идей. Но кроме целей будущее может
восприниматься как ряд надвигающихся событии. Структурирование
социальной жизни обеспечивает нас представлением о будущем и за счет его
цикличности будущее может быть более или менее структурировано. И в
этом есть одна из сильных функции совладания человека с жизнью (причем
совсем напрасно эти функции совладания рассматриваются как
индивидуальные находки, они вполне могут быть институционализированы и
не только и не столько церковью, сколько институтами и ритуалами
сообщества).т
Но вернемся к цели. Субъект выстраивает свое будущее через цели. Он
также фиксирует и осознает свое нахождение в структурирующих время
процессах. Но вот новация, фиксируемая в последние годы в самосознании и
субъекта, и исследователей. Так, под влиянием работ исследователей
этнометодологического направления интересные изменения происходят со
взглядами относительно роли приобретения и освоения определенных норм
2 Эти слова приписывают маршалу Г.К.Жукову в качестве ответа союзникам, когда те стали упрекать его за
то, что вопреки взятым обязательствам (договоренностям) он взял Берлин: «Обязательства берутся при
определенных обстоятельствах. А обстоятельства меняются».
взаимодействия в социальном процессе. Нормы теперь видятся, в первую
очередь, как оптимизированные приспособления для каких-либо действий, а
не как усвоенные на уровне социальных установок приобретенные
предрасположенности поведения (Heritage, [25]). Личность все более и более
становится деятельной личностью, субъектом многообразных активностей,
«вовлеченном в мир нормативно, осведомленно и интенционально»
(Andersen, Mørch [20]). Западная психология открывает для себя те идеи,
которые были давно сформулированы российскими психологами, но не
получили культурного и идеологической поддержки. Сравните здесь текст
С.Л.Рубинштейна, который пишет о «… личности как «Я», которая в
качестве субъекта сознательно присваивает себе все, что делает человек,
относит к себе все происходящие от него дела и поступки и сознательно
принимает на себя за них ответственность в качестве их автора и творца»
(С.Л.Рубинштейн, цит.по: К.А.Абульханова [1, с.37]).
Аналогично, осознание своего нахождения в том или ином
структурирующем процессе воспринимается теперь не как повод для борьбы
с рамками общества, ограничивающими реализацию самости, а как
необходимый момент ориентации в картах движения по социальным трассам. 3 Понимание же того, что сам процесс во многом является текущим
результатом социального конструирования, позволяет исследовать
возможности его деконструкции и сборки в измененном виде.
Цель становится важным инструментом овладения ситуацией,
продлевая ее в будущее и связывая настоящее с будущими результатами.
Цель реализуется в процессах целеполагания и целеосуществления. Человек
как субъект активности выбирает условия, соответствующие актуальной
задаче, подбирает способы преобразования исходной ситуации, затем
оценивает полученные результаты и решает, нужно ли вносить какие-либо
изменения в осуществляемые им действия, а также определяет очередность
выполнения имеющихся у него задач (Осницкий [15; 16]). Субъектное
отношение к выполняемой человеком деятельности реализуется в осознании
и овладении человека своими внутренними и внешними ресурсами, а также в
возможностях выбора направлений, средств и способов осуществления
деятельности. «Мы понимаем под субъектной активностью прежде всего
проектируемую человеком активность, которую человек развивает как
авторский проект преобразований в окружений и в себе» [16, с.238].
В определенном смысле можно сказать, что цель структурирует
процесс, но не в жесткой последовательности действии, а в пучках тех
культурных форм деятельности, которые оказываются инструментальными в
3 Полагая инструментальный подход к социальным обстоятельствам в целом более полезным (и более
здоровым) чем экзистенциальный, считаю все же нужным напомнить здесь предостережение Бродского:
«Человек с головой, конечно, пытался перехитрить систему - изобретая разные обходные маневры, вступая
в сомнительные сделки с начальством, громоздя ложь на ложь, дергая ниточки семейных связей. На это
уходит вся жизнь целиком. Но ты поймешь, что сплетенная тобой паутина - паутина лжи, и, несмотря на
любые успехи и чувство юмора, будешь презирать себя. Это - окончательное торжество системы:
перехитришь ты ее или же примкнешь к ней, совесть твоя одинаково нечиста» Бродский Й.[4 . С.702-703].
данной области. Приехать в июне в Ростов-на-Дону - это пример достаточно
четко поставленной цели, которая способна организовать целую ветвь
деятельностей по решению ряда обеспечивающих ее задач, распределенных
во времени относительно друг друга. Цель плюс способы ее достижения
задают структуру и темп ряда самостоятельных процессов, завязанных в
итоге на процесс собственно моего перемещения из Краснодара в Ростов.
Мое будущее приобретает структуру и определенность, которая позволяет
ему стать инструментом организации моей активности на несколько месяцев
(но может также – и на несколько лет).
Организующая роль цели приводит к тому, что она становится
системообразующим фактором особой линии деятельности и должна браться
в рассмотрение вместе со средствами ее достижения, ресурсами, условиями и
обстоятельствами. Поэтому более точно описывать будущее через такие
конструкты как жизненная программа (Р.А.Ахмеров) или личный проект
(Б.Литтл; А.Н.Кимберг).
В исследовании Р.А.Ахмерова для группы здоровых, успешных и,
очевидно, оптимально относящихся к будущему людей был выделены ряд
характеристик их субъективного будущего. К ним относилась, в первую
очередь, способность оптимально сочетать процессы целеполагания и
целеосуществления (высокая рациональность). Кроме нее в списке
дифференцирующих личностных характеристик стояла способность видеть и
осознавать свои более отдаленные перспективы. Р.А.Ахмеров называет ее
высоким уровнем стратегичности или биографическим дальновидением, нам
же более точным по смыслу представляется привлечение конструкта
контекста. Речь идет, несомненно, о высокой контекстуальности видения
будущего, позволяющей видеть ожидаемые состояния системы (будем
называть ее жизненным миром человека) в контекстах нескольких его
основных активностей, в том числе и на уровне мета-контекста жизненного
пути в целом. Существенной характеристикой выступает также гибкость в
суждениях, способность к видению многовариантных отношений в мире, его
богатства и сложности (принятие конфликтующих оценок, средний уровень
уверенности в наступлении конкретного варианта будущего) [3].
В частности, об эффективной жизненной программе можно говорить
тогда, когда имеет место продуманность средств достижения цели и
избегания жизненной неудачи (учет жизненных обстоятельств и условий в
жизненных планах). Индивидуальные различия в стратегиях выбора, как
показывают исследования, могут быть достаточно велики и служить
основаниями для типологии (Улько, Киреева [18]).
Такие характеристики субъекта, как неспособность оптимально
сочетать процессы целеполагания и целеосуществления, суженный диапазон
восприятия возможностей самореализации, большая категоричность
суждений о вероятности межсобытийных связей и неспособность или
нежелание видеть возможные негативные последствия событий являются
факторами формирования неоптимальной жизненной программы.
Р.А.Ахмеров описывает неоптимальную жизненную программу через такие
характеристики как слабую продуманность средств достижения целей,
наличием узкого спектра линий самореализации, рассчитанных лишь на
ближайшее будущее (немасштабность), излишней категоричностью в
определении характера связи событий и отсутствием представленности
негативных межсобытийных связей [3].
Время как проект: эмпирическое исследование будущего
При изучении представлении человека о своем будущем основной
способ сбора эмпирических данных – это запись беседы с ним. Вопросы
собеседника о том, что с ним будет завтра, и далее по жизни, какие события
он ждет или предвидит, каким он видит себя, побуждают человека облечь в
рассказ свои представления или предчувствия будущего. Одновременно
рассказ о будущем является структурирующим представления респондента о
жизни действием.
Выбор для исследования контрастных групп респондентов с отчетливо
различающейся ситуацией настоящего позволяет более отчетливо увидеть
переменные модели. Качественный анализ материала самоотчетов о
будущем4 позволил выделить следующие релевантные параметры будущего
как личного проекта:
Уровень контекста, в котором размещен проект: будущее
респондента ограничено нормативными событиями частной жизни;
личное будущее явно размещено в контексте будущего страны, а в
некоторых случаях – в контексте будущего человечества.
Способ задания цели проекта: когда респонденты
определяют будущее через события, к которым они стремятся (цели),
то эти цели задаются либо а) преимущественно через некое
эмоциональное переживание (состояние) субъекта в будущем,
ожидаемое им («желаемое селф» у Х.Маркус) или же б)через описание
состояния некоего значимого для респондента объекта или
процесса социального мира. В последнем случае цель задается
указанием на ожидаемые результаты и достижения в конкретных
сферах жизни, соответствующих направленности респондента. Образ
селф в будущем у респондента здесь также присутствует, но
отраженным образом, через ожидаемую позицию в системе
деятельности и отношении.
Степень раскрытия пути к цели: указание на
вспомогательные задачи и способы их решения; описание и учет
условий, в которых предполагается реализовывать жизненный план
(условия); описание реальных и возможных трудностей в реализации
жизненного плана (трудности).
4 Исследование Ф.Г.Ловпаче, выполненное в 2006-7 гг.под нашим руководством, выборки
законопослушных старшеклассников и воспитанников исправительной колонии, юноши, возраст
14-16 лет [12].
Важнейшей характеристикой личного проекта человека является его
временная продленность. Обозреваемое и конструируемое в определенной
степени человеком будущее занимает некоторый промежуток времени,
отделяющий настоящее от предполагаемых событий. Как личная цель
(желаемое или предполагаемое событие) может быть размещена на шкале
хронологического времени? Представляются два дополняющих друг друга
варианта: а) респондент имеет в качестве принятого им стандарта
нормативную последовательностью жизненных событий, предписываемых в
текущий момент культурой его поколению, и вычерпывает цели (и сроки их
должной реализации) из культурного стандарта; б) респондент владеет
представлениями о способах и путях достижения цели и способен их оценить
по протяженности. Первый способ применяется при прогнозе на большую
протяженность, когда путь движения построить не представляется
возможным. Такая цель, отнесенная в отсроченное будущее, не является
достаточно действенным мотиватором личных проектов. Испытуемые этой
группы выдвигают образы будущего, привлекающего их, но не могут
представить реальные пути их достижения, в связи с чем и относят
возможные границы этого будущего за пределы отчетливого круга
планирования. Примеры отчетов испытуемых этой группы:
- « Я на дорогой машине с женой, двумя детьми и огромным домом.
Это будущее далеко. Оно может случиться через 15 – 18 лет. Пока не знаю».
- « …я представляю, что я буду жить в государстве, которое может
предоставить своему гражданину защиту прав, бесплатное образование,
хорошую профессию, рабочие места и достойную пенсию. Это будущее, по
моему мнению, будет не скоро, лет через 10-20».
При сравнении показателей выборок социально благополучных
юношей и их сверстников, находящихся в колонии, были выявлены явные
различия в определении респондентами границ представляемого ими
будущего. Возьмем наиболее существенные отличия: не установили или не
конкретно определили границы будущего 44,7% старшеклассников против
14,3% воспитанников колонии; отнесли жизненные цели к отсроченному
будущему 34,2% старшеклассников и только 17,8% воспитанников колонии.
Эти различия указывают, что в группе школьников более явно выражена
тенденция откладывать поэтапное планирование собственной жизни на
неопределенный срок, что может быть связано с большим количеством
социальных возможностей, открытых для школьников, нежели для их
сверстников в колонии. Вместе с тем более определенные и более
конкретные жизненные проекты, обладающие поэтому и большей
регулятивной силой, демонстрируют юноши, находящиеся в колонии. Более
структурированная среда, в том числе и выраженная темпоральность
организации жизни побуждают к большей определенности в занятии позиции
по отношению к собственному будущему. С точки зрения теоретиков
идентичности большая определенность человека в отношении собственной
жизни и проектов будущего является характеристикой личностной зрелости.
Видимо, стабильное и благополучное существование юношей в семье имеет
обратной стороной торможение развития личностной зрелости. Личностная
зрелость не является «естественным» результатом самореализации ничем не
ограничиваемой личности в среде, не оказывающей сопротивления. Для ее
становления необходим субъективный опыт освоения и преодоления данных
человеку условии его социального мира.
В некотором смысле, будущее для воспитанников колонии планирует
институт перевоспитания и результаты этого планирования налицо. Стоит
вспомнить, что управление временем активно практиковалось в
социалистическом обществе, вся жизнь которого была построена во
временном отношении как очередность осуществления намеченных планов,
продолжительность которых колебалась от пяти до семи лет. Несмотря на то,
что эти планы носили исключительно коллективный характер, они задавали
устойчивые рамки планирования времени. Вместе с тем наличие
коллективных планов снимало в определенной степени ответственность за
жизненный путь с самого индивида, который при добросовестном труде и
полном доверии к руководителям оказывался проведенным и направленным
по жизненному пути некоторым «правильным» и «справедливым» образом.
Еще одним наблюдением, извлеченным из интервью, является то, что
отдаленность границы будущего оказывается содержательно связанной со
степенью проработанности субъектом путей достижения намеченных
состоянии или статусов. Для группы испытуемых, ориентированных на
«ближайшее будущее», способы реализации желаемого оказываются
наиболее проработанными. Остальные же испытуемые обнаруживали
непроработанные организационно, а иногда просто туманные представления
о том, как достичь желаемого.
Уровень проекта будущего. Будущее выступает перед молодыми
людьми как проект, в том случае если они занимают по отношению к нему
позицию субъекта. Если же субъектность юноши снижена, то он
воспринимает будущее как процесс, по отношению к которому он выступает
в роли либо наблюдателя, либо объекта, полностью зависящего от сил,
характер и направленность которых он не понимает и на которые не может
повлиять.
В выборке воспитанников колонии все проекты будущего
ограничиваются только сферой частной жизни, в которую входят родные и
близкие друзья и события возможные в этом кругу. В выборке школьников
несколько более половины испытуемых ориентируют свое будущее
аналогично, но 42% выборки благополучных старшеклассников
рассматривают свое личное будущее в контексте будущего страны и
человечества в целом, указывая на свой ожидаемый личный вклад ("служить
на пользу России", "поднять экономические показатели" и т.д.) или же
определяя явно или неявно контекст движения общества как условие
построения личной биографии.
Вот пример ответов респондента, не только размещающего личное
будущее в контексте его социального мира, но и формулирующего задачи по
преобразованию этого мира: «У меня есть картина своего будущего. Это
будет хорошая и не бедная жизнь. Я буду учиться на врача и им работать.
Это будет лет через восемь. Надо хорошо учиться и достичь своей цели, но
для этого нужны большие деньги, а сейчас мало у кого из Адыгеи будут
такие деньги. Я не понимаю, как можно учить будущего врача за деньги, он
будет платить за каждый зачет, ему выдадут диплом и что? Он даже не будет
знать, как кровь остановить. И я знаю, что экзамен по русскому языку не
очень честен, есть иноязычные люди, например, как я. У меня не очень
хорошо с русским».
Интервью старшеклассников вместе с тем содержат и проекты
будущего, которое наступает само, без определения человеком своего места
в нем. Это будущее, отвлеченное от человека, представленное ему как
результат исторического процесса или действии абстрактного обобщенного
субъекта - человечества или страны. У юношей-старшеклассников 39,5%
респондентов ожидают изменений в мире, по отношению к которым они
выступают не как субъекты, а скорее как наблюдатели или потребители. Они
видят свое будущее вместе с будущим общества, но рассматривают
ситуацию в стране и в мире как неотъемлемое условие их личного
благополучия, которое должно появиться само собой (государство должно
предоставить защиту прав, бесплатное образование, хорошую профессию и
рабочее место, пенсию и т.д.). « …я представляю, что я буду жить в
государстве, которое может предоставить своему гражданину защиту прав,
бесплатное образование, хорошую профессию, рабочие места и достойную
пенсию. Это будущее, по моему мнению, будет не скоро»;
Цель является одним из центральных элементов анализа представлений
о будущем. Этот элемент является системообразущим в таких понятиях как
жизненная стратегия и жизненный план.
В среднем в описаниях будущего на одного воспитанника колонии
приходится 4,7 описания целей, в то время как на одного старшеклассника
приходится 3,5 описании целей (различия средних статистически значимы
при p ≤ 0,05). Цели представлены в основном в двух модусах: а) как указание
собственного состояния определенного качества и б) как указание на особую
включенность в деятельность или в социальные/ межличностные отношения.
В выборке школьников преобладают представления о целях-
состояниях, как неких эмоциональных и оценочных переживаниях
собственного будущего (59% выборки), тогда как в выборке заключенных
преобладают представления о целях, отражающих некий результат или
достижение в конкретных сферах жизни, обусловленных направленностью
респондентов (64,4% выборки) (различия статистически значимы на уровне p
≤ 0,05).
Для благополучных старшеклассников сравнительно чаще образы
будущего даются через представляемое состояние себя, проецируемое в
определенную точку будущего. Предполагаемое состояние обозначает и
показывает человеку желаемый результат, но ничего не говорит о способах
его достижения. В отличие от этого позиция в отношениях или место в
деятельности содержат более прямое указание на необходимый способ
достижения желаемого будущего.
Примеры смысловых единиц, в которых цель дана в терминах
будущего/ желаемого состояния респондента или мира «…я вижу себя в
будущем человеком независимым и очень сильно хочу помогать всем
возможным моим родным», «Быть доброжелательным, справедливым,
помогать людям …».
Примеры смысловых единиц, в которых цель дана в терминах
отношений и позиции в социальной деятельности: «Я бы хотел хорошую
работу и семью», «Устроиться на работу, обзавестись личным жилищем. И
чтобы не сидеть у родных на шее, обзавестись семьей и обеспечивать ее»
Очевидно, что оба способа представления желаемого результата или
положительной цели возможны для регуляции долгосрочного поведения, но
ориентация на социальное действие кажется более эффективным способом.
По наличии понятного или развернутого для субъекта способа
достижения заявленного результата цели могут быть классифицированы на
реалистичные и нереалистичные.
Реалистичность личных целей в образе будущего по выборкам
представлена следующим образом (% от численности выборки).
Старшеклассники:
личная цель отсутствует 53,1
нереалистичные личные цели 6,3
реалистичные конкретные цели 40,6
Воспитанники колонии:
личная цель отсутствует 14,3
нереалистичные личные цели 3,6
реалистичные конкретные цели 82,1
Воспитанники колонии по этому показателю оказываются безусловно
впереди своих правопослушных и социально благополучных сверстников. По
двум позициям: «отсутствие сформулированных для будущего целей» и
«постановка конкретных и реалистичных целей» различие между выборками
статистически значимо на уровне p ≤ 0,05.
Описанные здесь результаты эмпирического исследования
представлении о будущем в контексте субъективного времени респондентов
позволяют немного точнее привязать к реальности теоретическую модель
процесса. Поскольку сравниваемые выборки дали некоторые данные, не
особенно вписывающиеся в представления о должном, нам остается
присоединиться к К.А.Абульхановой, констатирующей, что выпадение
отдельных эмпирических элементов из теоретической модели может
говорить не о несовершенстве модели, а о несовершенстве действительности.
«Однако если в модели (или теоретической системе) эти качества должны
быть представлены <…>, то в реальности, вероятно, отдельные качества
могут отсутствовать. Не случайно в наших исследованиях реальных
российских личностей ( и их конкретных выборок) мы не могли найти то
инициативы, которая теоретически считалась качеством субъекта, то
рефлексии, которая согласно С.Л.Рубинштейну, является его критерием, то
жизненной перспективы и т.д.» [1, с.35]. В нашем случае неожиданной
оказалась слабая субъектность благополучных юношей, выраженная
наиболее ярко в непроработанном и личностно неосвоенном будущем.
Принцип «здесь и теперь» воплотился в жизнь в таких масштабах, что в
интересах общества становится актуальным другой тренинговый посыл:
«планируй и принимай ответственность».
Заключение: субъектное время вместо субъективного
Одним из важнейших регулятивных механизмов личности как субъекта
собственной жизни выступают ее представления о своем будущем, в
частности, о желаемом и избегаемом будущем. Исследования Х.Маркус о
возможных селф, А.А.Кроника о жизненном пути личности,
К.А.Абульхановой о жизненном времени личности обозначили проблему
места представлений о будущем в организации жизни человека. Можно с
уверенностью полагать, что операционально выстроенный образ будущего
(проект будущего) участвует в регуляции жизни человека как один из
наиболее мощных личностных факторов. Будущее в таком проекте выражено
как желаемое, ожидаемое и проектируемое состояние дел человека, это
состояние того жизненного процесса, который человек считает своим, а себя
его частью. Достижение такого состояния требует структурированной
активности человека по движению к нему, последовательности решения
задач, и личных усилии субъекта по особой организации системы отношений
с другими людьми и миром. Будущее, несомненно, выступает для человека
как время, но именно «его» время, время действующего в пространстве
жизни субъекта (по выражению К.А.Абульхановой – время жизни). Это
меняет предмет исследования, сдвигая его с частных особенностей
восприятия хода тотальной социальной машины времени на жизнь человека,
взятую по отношению к самой себе. Это время (как и пространство) субъекта
жизни, в иной формулировке – субъектное время.
Таким образом, субъектное время для человека репрезентируется ему
как предстоящая последовательность событии, и восприятие времени
всецело определяется размерностью тех жизненных процессов, которые он
способен схватывать в логике их событии. Время есть длящиеся дела
человека и это единственное достойное его описание. «Какое отношение
«дело» или «призвание» имеют к единицам анализа психического? Самое
непосредственное. <…> В категориях «дело», «призвание» есть постоянная
устремленность в будущее. Это означает, что избранный путь, линия жизни
направляют поведение человека в конкретных обстоятельствах, кристаллизуя
и шлифуя новые грани его субъектных качеств» (Знаков [8, с.95]).
Человеческая деятельность психологически направляется ожиданиями
событии (Келли, цит. по [17, с.393]), то есть потоком времени, но сам этот
поток и состоит из ткани человеческой деятельности, возвращаемой в виде
особой синхронизирующей репрезентации каждому погруженному в него
человеку как субъекту своей жизни.
Литература
1. Абульханова К.А. Идеальность или реальность субъекта /Субъект и
личность в психологии саморегуляции / Под ред. В.И.Моросановой. –
М. – Ставрополь, 2007.
2. Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональных систем
М.: Наука, 1978.
3. Ахмеров Р.А. Биографические кризисы личности: Автореф. дисс. ...
канд. психол. наук. М., 1994 г.
4. Березина Т.Н. Многомерная психика. – М.: 2001
5. Бродский Й. Сочинения: Стихотворения. Эссе. 2-е изд. – Екатеринбург.
2003.
6. Головаха Е.И., Кроник A.А. Психологическое время личности. Киев,
1983
7. Зайнагабдинов И.Р. Динамика временной трансспективы в становлении
образа «Я» подростка. Автореф. дис...канд.психол.наук. М., 2007
8. Знаков В.В. Экзистенциальная психология, психология субъекта и
психология человеческого бытия / Субъект и личность в психологии
саморегуляции / Под ред. В.И.Моросановой. – М. – Ставрополь, 2007.
9. Кимберг А.Н. «Личные проекты» в профессиональной социализации
молодых ученых / Проблемы социальной психологии личности:
Межвуз.сб.науч.тр.—Саратов. 2007. Вып.5. С.230-239.
10. Конопкин О.А. Механизмы осознанной саморегуляции произвольной
активности человека/ Субъект и личность в психологии саморегуляции
/ Под ред. В.И.Моросановой. – М. – Ставрополь, 2007.
11. Лец Ю. А. Особенности восприятия будущего в старшем школьном
возрасте/ Педагогика развития: социальная ситуация развития и
образовательные среды. - Красноярск., 2005
12. Ловпаче Ф.Г. Особенности личностной регуляции у правопослушных и
девиантных юношей: Автореф. дисс. ... канд. психол. наук. Краснодар,
2007.
13. Люсова О.В. Цель как смысложизненная детерминанта настоящего в
юношеском возрасте. Автореф. дис... канд.психол.наук. Ярославль,
2007
14. Миллер, Галантер, Прибрам План и структура поведения. М., 1971
15. Осницкий А.К. Проблемы исследования субъектной активности //
Вопросы психологии 1996. № 1. С.5-19
16. Осницкий А.К. Структура и функции регуляторного опыта в развитии
субъектности человека / Субъект и личность в психологии
саморегуляции / Под ред. В.И.Моросановой. – М. – Ставрополь, 2007.
17. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования –
М.: Аспект Пресс, 2000.
18. Улько Е.В., Киреева О.В. Особенности субъектной/ объектной позиции
в ситуации выбора вуза у юношей и девушек / Личность и бытие:
субъектный подход. Становление и реализация субъектности личности
в образовании: Матер. 3 Всерос.науч-практ.конф./ Под ред.
З.И.Рябикиной, В.В.Знакова. Краснодар, КубГУ, 2005. С.36-40.
19. Фромм Э. Революция надежды /Фромм Э. Психоанализ и этика, - М.,:
Республика, 1993.
20. Andersen H., Mørch S. Individualization and the Challenged Subject \\
Identity: An International Journal of Theory and Research, 2005. № 5(3).
Рр. 261–285
21. Bandura, A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral сhange //
Psychological Review 1997. № 84. pp. 191-215.
22. Cantor, N., Norem, J.K., Langston, C.A., Zirkel, S., Flleson, W. and Cook-
Flannagan, C. Life tasks and daily life experience. Journal of Personality.
1991. № 59. рр. 425 - 451.
23. Emmons, R.A. and King, L.A. Personal Strivings differentiation and
affective reactivity. Journal of Personality and Social Psychology. 1989. №
56. pp.478-484.
24. Emmons, R.A. Personal strivings: an approach to personality and subjective
well- being. Journal of Personality and Social Psychology. 1986. № 51.
pp.1058-1068.
25. Heritage, C. J. Garfinkel and ethnomethodology. Oxford: Polity Press. 1984.
26. Klinger, E and Barta, S. G. and Maxeiner, M.E. Current concerns: assessing
therapeutically relevant motivation / Kendall P.C. & Hollon S.D. (Eds.)
Assessment strategies for cognitive behavioral interventions. New York:
Academic Press, 1980.
27. Kuhl J. Volitional aspects of achievement motivation and learned
helplessness: Toward a comprehensive theory of action control / Mahler
B.A.(Ed.) Progress in Experimental Personality Research. Vol.13. N-Y.,
1984.
28. Kuhl J., Goschke T. A theory of action control: Mental subsystems, modes
of control, and volitional conflict-resolution strategies / Kuhl & Beckmann
(Eds.)Volition and personality: Action versus state orientation. Seatle:
Hogrefe&Huber, 1994.
29. Little , B.R. Personal projects and the distributed self: Aspects of a conative
psychology/ Suls J. (Ed.) Psychological Perspectives on the Self (IV)
Hillsdale: Erlbaum. 1993.
30. Little, B. R. Personal projects: A rationale and method for investigation.
Environment and Behaviour. 1983. №15 (3). pp. 273-309.
31. Markus, H. & Nurius, P. Possible selves: the interface between motivation
and the self-concept / Yardley K.& Horness T. (Eds) Self & Identity:
psychosocial perspectives. Chichester, John Wiley. 1986. pp. 157-172
32. Markus, H. & Nurius, P. Possible selves, American Psychologist. 1986. №
41. pp. 954-969.