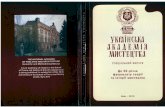Тексти, що змальовують політичний аспект діяльності Г. Ф. Лавкрафта
Динамика эмоций в деятельности: дифференциальный...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Динамика эмоций в деятельности: дифференциальный...
Горбатков А.А. Динамика эмоций в деятельности: дифференциальный аспект // Психологический журнал. 2007. № 4. С. 101-113.
ДИНАМИКА ЭМОЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
© 2007 г. А. А. Горбатков
Кандидат психологических наук, Институт педагогики и психологии
Свентокшиской Академии, Кельце, Польша;
e-mail: [email protected]
На основе анализа литературных данных осуществлена попытка сравнительного теоретического исследования интереса–тревоги, оптимизма–пессимизма и радости–огорчения в их соотнесении с ранее разработанными автором моделями деятельностной динамики эмоций. Для трех указанных аффективных пар предлагаются гипотетические субмодели, в которых динамика позитивных и негативных эмоций по мере изменения параметров деятельности – эффективностных, информационных и энергетических – описывается асимметричнымиодновершинными кривыми. Динамика вторичных измерений баланса и активации в этих парах описывается с помощью, соответственно, синусоидальных и колоколообразных кривых. Специфичность деятельностной динамики каждой из указанных эмоций характеризуется, главным образом, местом точки перелома соответствующей кривой. Кратко обсуждаются возможности использования моделей в исследовательской практике, предположительные методические проблемы, а также перспективы включения в модели новых аффективных единиц.
Ключевые слова: деятельностная динамика эмоций, позитивные и негативные эмоции,интерес–тревога, оптимизм–пессимизм, радость–огорчение.
В психологии эмоций (а также родственных проблемных областях,
изучающих явления типа аттитюдов, субъективного благополучия,
мотивации и т.п.) в последнее время можно наблюдать тенденцию
изменения дименсиональных (от дименсия – измерение) акцентов.
Положительные и отрицательные эмоции (как и другие аффективные
образования), которые ранее рассматривались в качестве полюсов
биполярного измерения, все чаще понимаются как отдельные
униполярные измерения позитивности и негативности. В рамках
такого подхода полюса приведенных пар трактуются как
содержательно противоположные, но не взаимоисключающие
(относительно независимые один от другого) элементы целостного
переживания, выполняющие взаимно дополнительные, парные функции
[15, 17, 25, 26, 28, 32, 37, 40, 55, 59, 62, 63]. Радость и
грусть, например, в рамках такого подхода, могут рассматриваться
не только в плане их «конкуренции» между собой, но также и
взаимного «сотрудничества». Позитивно-негативное биполярное
измерение при этом не «исчезает со сцены», а находит свое место
в дименсиональной структуре переживания, выражая соотношение
позитивных и негативных эмоций (эмоциональный баланс), наряду с
другим вторичным измерением, представляющим собой интеграцию тех
же позитивных и негативных эмоций (эмоциональная активация) [6,
10, 19, 25, 36, 50, 55, 63]. Среди причин такой метаморфозы
исследовательских подходов можно выделить не только вхождение в
научный обиход достаточно сложных представлений о системе
аффективных измерений, формирование (и понимание) которых
требовало и требует немалых теоретических и эмпирических усилий
(см. [6, 10, 25, 50, 55, 63]), но и выдвижение более простых для
восприятия аргументов, например, что пользование указанным
биполярным измерением без обращения к двум униполярным не дает
возможности изучения таких явлений, как амбивалентность [37].
2
В настоящее время паре измерений позитивности и негативности
(положительные и отрицательные эмоции) уделяется достаточно
большое внимание в психологической литературе [25, 26, 29, 40,
63], в том числе при изучении влияния изменений в параметрах
деятельности на динамику эмоций, или, иначе говоря, в аспекте
деятельностной динамики эмоций (ДДЭ) [6–9, 39]. Но, как правило,
данная проблема рассматривается в обобщенном виде, без выделения
отдельных позитивно-негативных пар эмоций, которые бы
различались между собой по существенным признакам. Разного рода
аффективные единицы, которые потенциально могли бы составить
такие пары (например, «радость» и «грусть», «интерес» и
«тревога»), включаются в такие методики, как, например,
популярная во многих странах «Шкала позитивных и негативных
эмоций» [62]. Однако самостоятельным предметом сравнительного
изучения они, как правило, не становятся: используется только
общность компонентов этих пар, но не их специфичность. Когда же
изучаются отдельные позитивно-негативные пары эмоций (например,
«пессимизм (безнадежность) – оптимизм (надежда)» [28, 38] или
«тревога–интерес» [59]), они не сопоставляются с другими парами.
Вместе с тем, сравнительное рассмотрение эмоций – одна из
традиционных задач «аффективной» психологии. Проведено немало
исследований, посвященных сопоставительному анализу эмоций,
3
принадлежащих как к одной, так и разным «знаковым» категориям
[4, 14, 16, 30, 34, 35, 53]. Однако, осуществляется такой
анализ, как правило, не в рамках деления эмоций на позитивно-
негативные пары. Мы полагаем, что наступило время пробных шагов в
сравнительном изучении такого рода пар эмоций и ставим в
настоящей работе перед собой именно такую задачу, ограничивая
при этом сферу анализа рамками деятельностного контекста с
преимущественным обращением к разработанным нами ранее моделям
ДДЭ [6–8]. Указанные модели в данной работе выступают как
основной источник «языка» для конкретизации (в форме
дифференциальных субмоделей ДДЭ) сформулированных на основе
литературы обобщенных гипотез относительно выбранных нами пар
эмоций.
Для рассмотрения в аспекте деятельностной динамики мы взяли
три пары эмоций, которые, как показал анализ проблемы [13, 17,
19, 20, 24, 27, 28, 30, 31, 41–43, 51, 53, 57– 59], могут быть
признаны основными («фундаментальными»), выделенными по критерию
знака парными составляющими эмоциональной подсистемы деятельности.
Эти три пары включают эмоции интереса–любопытства и тревоги–
беспокойства, оптимизма–надежды и пессимизма–безнадежности1, 1 «Оптимизм» и «пессимизм» берутся здесь не как диспозиционные образования
(черты личности), а как переживания, имеющие ситуационный характер, связанныес конкретными событиями. Имеется в виду значение этих терминов, которое характерно для таких контекстов, как: «выполняя эту деятельность, я был настроен оптимистично». Именно в таком их значении, на наш взгляд, они могут рассматриваться как наиболее сходные с надеждой и безнадежностью, хотя
4
радости–удовольствия и огорчения–печали2. Другие эмоции из
списков, встречающихся в литературе, либо являются в большей или
меньшей мере «синонимическими» по отношению к указанным (они
обычно используются в соответствующих шкалах аффективных
методик, как, например «веселье», «восторг», «ликование» в
шкалах радости–удовольствия или «угнетенность», «подавленность»,
«удрученность» в шкалах огорчения–печали), либо не составляют с
другими эмоциями позитивно-негативные пары (например, «гнев»)
и/или не являются определенными с точки зрения знака (например,
«удивление»3). Не брались нами в расчет также эмоции, имеющие не
слишком ясную связь с проблематикой деятельности, мало
«проработанные» в этом аспекте (как, например, «отвращение»,
«презрение»), а также те, которые насыщены не учитываемыми нами
морально-нормативными факторами («стыд», «вина»). Кроме того, из
существует также практика трактовки этих пар эмоций как сходных и в диспозиционном плане [23, 58].
2 Далее в тексте мы будем пользоваться сокращенными названиями указанных пар эмоций: «интерес–тревога», «оптимизм–пессимизм» и «радость–огорчение».
3 Удивление многие авторы не считают ни позитивной, ни негативной эмоцией (см., например, [55]). В некоторых российских учебниках эту эмоцию издавна называют неопределенной, не имеющей знака. Ряд исследователей относит удивление к измерению активации [63]. Согласно некоторым эмпирическим данным,удивление входит в фактор активации, не входя при этом значимо ни в фактор позитивности, ни в фактор негативности [45]. Сходные данные дает использование методов, предназначенных для получения круговых (circumplex) дименсиональных моделей [52]. По другим данным, удивление в круговой модели соседствует с состоянием амбивалентности [50]. Изард хотя и включает удивление в состав фундаментальных эмоций [13, 14], все же считает, что «удивление нельзя назвать эмоцией в собственном смысле этого слова …» [14, с.190]. При этом, в некоторых конкретных популяциях или/и ситуациях (например, в выборке студентов-американцев, относящихся к среднему классу) переживание удивления может оцениваться как приятное [13, 14].
5
поля рассмотрения были исключены явления, относящиеся не столько
к собственно эмоциям (в том значении этого слова, которое
имеется в виду в большинстве публикаций по проблеме эмоций [14,
25, 30]), сколько к иным аффективным явлениям типа аттитюдов
(«нравится – не нравится»), субъективного благополучия
(«удовлетворен – не удовлетворен»), мотивации («хочу – не хочу»,
«влечет – отталкивает») и т.п.
Если «радость» и «огорчение», «оптимизм» и «пессимизм»
(«надежда» и «безнадежность») образуют как бы «естественные»
позитивно-негативные пары на основе их аффективной
антонимичности, то с парой «интерес–тревога» дело обстоит
сложнее. Хотя эти две эмоции довольно часто фигурируют в
качестве позитивно-негативной пары [13–15, 33, 59], не менее (а
быть может и более) непосредственным языковым антонимом для
«интереса» может представляться «скука»4 [42]. Почему же мы
остановили свой выбор именно на «тревоге» как антониме
«интереса»? Причина заключается в том, что в данной работе нас
интересуют эмоции, детерминированные динамикой параметров
деятельности. Между тем, скука детерминирована не динамикой этих
переменных, а ее отсутствием, т.е. застоем. Наиболее вероятная
временнáя последовательность указанных эмоций по мере
4 В литературе контекст интереса нередко включает в себя и тревогу, и скуку[41].
6
повторяющегося выполнения деятельности выглядит так: тревога–
интерес–равнодушие–скука [13, 24, 59]. Первые три этапа – это
элементы процесса освоения деятельности, в последней точке
которого (максимальная величина информационно-эффективностных
переменных и минимальная величина энергозатрат) возникает
равнодушие. И лишь позднее, если поступательное движение
деятельности прекратилось и наступила стагнация достигнутого
уровня успешности (отсутствие изменений в деятельности при
продолжающемся движении времени), возникает скука5. Таким
образом, скука – это не столько динамико-деятельностное, сколько
стагнационно-временнóе образование. Иногда тревоге в качестве
противоположности ставят в соответствие «надежду» [15, 19].
Объясняется это, видимо, тем, что при формировании данной
позитивно-негативной пары эмоций исследователем в качестве точки
отсчета берется не «надежда», а «тревога», что, как можно
думать, является следствием ее монопольного положения в
психологии эмоций и мотивации до недавнего времени. Если же в
качестве точек отсчета взять «надежду» и «интерес» и именно для
5 Множество деятельностей, достигших максимума своего развития – освоения, мы выполняем спокойно равнодушно, не испытывая никакой скуки. Они составляют нижний, инструментальный уровень каждой деятельностной системы. Такого рода деятельность становится скучной лишь в том случае, если начинает выступать в качестве основной, т.е. выполнять функции не нижнего, а верхнего уровня системы. Это случается, когда индивид не имеет возможности найти для себя что-то «новое», подняться выше в своем субъектно-деятельностном развитии, чтопозволило бы данной деятельности занять «свое» (инструментальное) место в системе активности.
7
них искать «антонимы», то ими окажутся (по крайней мере, в
контексте деятельностной детерминации эмоций) «безнадежность» и
«тревога».
Оставшиеся после отбора по указанным критериям три
вышеупомянутые пары эмоций мы рассматриваем далее в соотношении
друг с другом, опираясь на ранее разработанные модели влияния
изменений в параметрах деятельности на динамику эмоций, или,
иначе говоря, модели ДДЭ [6–9, 39]. При этом, речь будет идти не
только о составляющих каждую из выбранных для анализа пар
позитивной (П) и негативной (Н) эмоциях, но также об их балансе
(ПНБ = П–Н) и общей (в рамках данной пары) эмоциональной
активации, т.е. их интегральной величине (ПНИ = П+Н). Иначе
говоря, мы будем пользоваться теми четырьмя измерениями, которые
характеризуют всю аффективную сферу [6, 10, 19, 25, 36, 50, 55,
63 и др.].
МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ДИНАМИКИ ЭМОЦИЙ
Известно, что успешная деятельность и способствующие ей
знания, умения, навыки, способности («информационно-
эффективностные» переменные), повышая возможность удовлетворения
потребностей, имеют тенденцию вызывать рост положительных и
снижение отрицательных эмоций (улучшение позитивно-негативного
аффективного баланса) [6, 8]. Напротив, разного рода затраты,
8
требующиеся для выполнения деятельности («энергетические»
переменные), имеют тенденцию влиять на эмоции противоположным
образом [8]. Т.е. имеют место линейные зависимости эмоций от
параметров деятельности (прямая и обратная), или, иначе говоря,
линейная, монотонная деятельностная динамика эмоций. С другой
стороны, согласно общетеоретическим представлениям,
эмоциональное переживание имеет место тогда, когда ожидаемое
значимое событие является неопределенным и нет уверенности в
том, произойдет ли это событие или не произойдет. Если же такая
уверенность (например, в том, что нас ожидает успех или,
наоборот, неудача) есть, т.е. мы видим близкую к единице или
нулю возможность удовлетворения потребности, то вероятность
появления связанных с этими событиями эмоций минимизируется. А
значит, по мере роста такого параметра деятельности, как ее
успешность, и положительные, и отрицательные эмоции будут
сначала расти, а потом падать. В этом случае можно говорить о
нелинейной, немонотонной ДДЭ.
В поисках решения задачи интеграции этих представлений и
соответствующих им данных, а также ряда других, описанных в
психологии эмоций и родственных ей проблемных областях [9] и
нередко производящих впечатление не согласующихся между собой,
были разработаны модели, содержащие асимметричные одновершинные
9
кривые позитивных и негативных эмоций, синусоидальную
(двухвершинную) кривую аффективного баланса, а также
симметричную одновершинную (колоколообразную) кривую активации
[6–8]. Эти модели представлены в компактной форме на рис. 1.
Векторы независимых переменныхЭффективностная модель
Рост эффективности (рост результата, падение «затрат») «Информационная» модель
Рост «информации» (как фактор роста результата)«Энергетическая» модель
Рост «затрат» (как фактор роста результата)
Примечание. Ось абсцисс на рисунке репрезентирует три независимые переменные (эффективность, «информация» и «затраты»), направления векторов которых обозначены с помощью стрелок. В случае информационной и эффективностной моделей независимая переменная растет слева направо, в случае энергетической – справа налево
Рис. 1. Модели деятельностной динамики эмоций.
В случае информационной и эффективностной6 моделей независимая
переменная растет слева направо, в случае энергетической – 6 Переменная эффективности деятельности рассчитывается как ее
непосредственный результат минус затраты на его получение.
10
Баланс эмоций (ПНБ=П–Н)
Интегральнаявеличина эмоций
Позитивныеэмоции (П)Негативные
эмоции (Н)
Модальная зона активности
справа налево, поскольку между информационным и энергетическим
аспектами деятельности в наиболее общем случае в качестве
доминирующей предполагается тенденция обратной связи. Чем менее
освоенной является деятельность, т.е. чем выше уровень ее
сложности–новизны для субъекта, тем большее количество затрат
необходимо осуществить для «компенсации» недостатка имеющихся
знаний, умений, навыков, способностей (цена деятельности) и тем
более трудной и утомительной она является для выполнения. А
характер ДДЭ при росте непосредственного результата деятельности
(успеваемости учащегося, количества изготовленной рабочим
продукции и т.д.) зависит от его «цены». Если рост результата
опережает рост затрат (например, при ведущей роли способностей в
сравнении с затратами усилий и времени как факторе хорошей
успеваемости), то динамика эмоций описывается с помощью
информационно-эффективностной модели. В противном случае (рост
результата опережается ростом затрат) – инструментом описания
становится энергетическая модель.
Прямоугольником на рисунке обозначена та часть модели
(модальная зона активности – МЗА), которая соответствует
деятельностям, выполняемым обычными людьми в нормальных
условиях, для которых характерно преобладание приобретений над
потерями. Применительно к МЗА деятельностную динамику
11
положительных эмоций характеризуют немонотонные одновершинные
кривые, динамику отрицательных эмоций – монотонные кривые. В
литературе имеются данные в поддержку этих кривых (см. [9]).
Так, интерес к сообщению является максимальным, если оно
содержит в себе как новые, так и знакомые элементы [61], или,
иначе говоря, если оно не является ни слишком непонятным, ни
слишком понятным (тривиальным). Надежда принимает меньшую
величину при низкой и высокой результативности деятельности, чем
при некотором промежуточном ее уровне [7]. Эмоции типа радости
чаще всего переживаются не в тех случаях, когда проблемы
отсутствуют, а при решении проблем умеренной (но не слишком
большой) трудности [31].
Многие результаты, полученные для тревоги [56], безнадежности–
пессимизма [7], огорчения–печали–горя [32], можно, на наш
взгляд, рассматривать как аргументы в пользу существования
тенденции снижения отрицательных эмоций по мере роста
информационно-эффективностных переменных и тенденции их
повышения по мере увеличения затрат. Наряду с указанными
межпарными сходствами, касающимися кривых эмоций одного знака,
входящих в разные пары, по данным литературы можно прийти к
заключению о том, что детали этих кривых, как и кривых вторичных
измерений баланса и активации, могут быть неодинаковыми
12
(межпарные различия). А значит, наряду с вышеописанными общими
моделями ДДЭ, возникает необходимость разработки
дифференциальных субмоделей.
РАЗРАБОТКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СУБМОДЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ДИНАМИКИ ЭМОЦИЙ
Позитивные и негативные эмоции. Интерес, являясь аффективной
реакцией на параметры типа новизны и сложности объекта [13],
связан, прежде всего, с реализацией функции оценочной
антиципации (априорной оценки). С выполнением той же функции
связывается, обычно, и тревога–страх7 [там же]. А отношения
противоположности между этими эмоциями возникают по критерию
связи с приближением–избеганием. Новое, неизвестное через
посредство интереса влечет субъекта, через посредство тревоги
отталкивает, причем, умеренные степени новизны–сложности
вызывают интерес и приближение, большие – тревогу и избегание
[13, 33, 59]. Переживание интереса представляет собой как бы
первичную позитивную оценку перспектив, связанных с объектом
(говорят, например: «этот вариант решения меня заинтересовал»). 7 Тревога в психологии эмоций чаще всего рассматривается как содержательно
близкая страху (см., например, [49]). Различаются же они по параметру ясности–определенности ситуации угрозы: страх возникает при ощущении угрозы сболее уверенной идентификацией опасного объекта (что делает возможной попыткунемедленного бегства/избегания), тревога же – при ощущении угрозы в менее определенной ситуации, которая в большей степени требует дополнительного исследования на предмет опасности. Кроме того, существует различие между этими эмоциями по параметру интенсивности, что может являться отражением как разной степени определенности опасности, так и различной ее величины.
13
Переживание же тревоги выступает чем-то вроде первичной
негативной оценки («боюсь, что этот вариант решения заведет меня
в тупик»). Аналогичным образом находят свое место в рамках
выполнения функции антиципации и надежда–оптимизм с
безнадежностью–пессимизмом [13, 27, 50, 57, 58], являясь
формируемыми в процессе исследования-ориентировки вторичными
оценками ожидаемого. Радость и огорчение, как принято считать,
связаны, прежде всего, с функцией оценочной констатации
(апостериорной оценки) совершившихся событий, в том числе
полученных результатов деятельности [13, 14, 22, 48].
Отмечается, однако, участие этих эмоций и в реализации функции
оценочной антиципации результатов (промежуточных и конечных):
радость и огорчение можно испытывать по поводу как
констатируемого, так и антиципируемого успеха–неуспеха [2, 12–
14, 48]. Радость в такой функции («радостное ожидание» [3],
«радостная антиципация» [48]) можно проиллюстрировать словами:
«я рад, что появился, наконец, вариант решения, который может
привести к успеху».
В некотором смысле указанные эмоции складываются в
последовательность на оси информационно-эффективностных
переменных, где действующая на предыдущем этапе освоения
деятельности эмоция как бы готовит условия для возможности
14
переживания другой эмоции на следующем этапе. Так, возникающий в
ситуации сравнительно большой степени новизны–сложности интерес
инициирует исследовательскую активность, которая, повышая
компетентность (информированность) субъекта и снижая степень
новизны–сложности ситуации для него, создает условия для
увеличения эффективности действий и возможности переживания
радости [51]. Надежда–оптимизм, можно полагать, занимает
промежуточную позицию на оси независимой переменной: она
подготавливается интересом и, в свою очередь, сама готовит
условия для переживания радости. По той же логике можно
представить динамику негативных эмоций, которая предшествует
описанной динамике позитивных [6]. Огорчения по поводу неудач
«заставляют» человека осваивать деятельность, что создает
условия для редукции этих переживаний, хотя некоторый пессимизм
относительно достижимости целей на нужном уровне в течение
какого-то времени может сохраняться. Дальнейшее освоение
деятельности редуцирует и пессимизм, доминирование которого
сменяется выходящей на первый план тревогой (для неверия–
пессимизма оснований уже нет, хотя остаются условия для
осторожности). Динамика негативных эмоций в противоположном
направлении может выглядеть следующим образом. Тревога,
возникшая как «гипотеза» о малой вероятности получения желаемого
15
результата, после подтверждения ее в ориентировочно-
исследовательской активности может смениться чувством
безнадежности–пессимизма, которое, в свою очередь, оказавшись
оправданным (получение негативного результата), приведет к
огорчению–печали. В опытах М. Селигмана [57] получение животным
удара электрическим током на первом этапе вызывало негативные
эмоции с доминированием страха. Если попытки совладать с
ситуацией путем основанного на страхе бегства–избегания
оказывались бесполезными, доминирование страха сменялось
доминированием страдания–беспомощности, что приводило к отказу
от поведенческой активности (прекращение «бессмысленной» траты
энергии).
Согласно представлениям ряда исследователей, разные эмоции
одного знака могут быть в неодинаковой степени нагружены
фактором субъективной вероятности или (связанным с ним
нелинейно) фактором неопределенности, что может обусловливать
различия в параметрах соответствующих кривых ДДЭ. В центральной
точке 3 оси абсцисс моделей ДДЭ (см. рис. 1) предполагается
максимальная неопределенность исхода деятельности, которой
соответствует максимум эмоциональной активации (ПНИ).
Соответственно, вершины кривых позитивных (П) и негативных (Н)
эмоций в зависимости от степени нагруженности их фактором
16
неопределенности должны находиться ближе или дальше от этой
центральной точки с левой (Н-эмоции) или правой (П-эмоции)
стороны. Вывод о том, что степень неопределенности события
влияет на модальность переживаемых эмоций, следует, например, из
концепции И. Розмана: неопределенные события, согласно этому
автору, вызывают такие эмоции, как надежда, определенные –
такие, как радость [53]. Сравнивая радость и интерес, К. Изард
пишет: «…для радости знание, “знакомость” – то же самое, что
новизна для интереса» [13, с. 213]8. Это, очевидно, нужно
понимать как связь радости и интереса, соответственно, с меньшей
и большей неопределенностью вызывающих их событий. И если
справедливо сказанное выше о функциональных различиях между
интересом и надеждой–оптимизмом (как первичной и вторичной
оценками ожидаемого), можно предположить следующую
последовательность П-эмоций (см. рис. 1) по мере роста
вероятности успеха в правой части оси абсцисс моделей ДДЭ и,
соответственно, падения степени неопределенности исхода
деятельности в этой зоне (или, иначе говоря, по мере роста
информационно-эффективностных переменных и падения переменных
типа сложности–новизны): интерес → оптимизм → радость. Эту
гипотетическую последовательность можно выразить на языке кривых
8 В согласии с этим находятся экспериментальные данные К. Изарда, свидетельствующие о том, что в ситуации радости уверенность в себе выше, чем в ситуации интереса [13].
17
ДДЭ. Учитывая одновершинность зависимости эмоций от
информационно-эффективностных переменных и тот факт, что
максимум эмоции (вершина кривой) возникает при характерной для
нее величине субъективной неопределенности (некоторой
промежуточной величине субъективной вероятности) события9,
указанный ряд эмоций следует представить как последовательность
вершин соответствующих кривых (рис. 2)10.
Примечание. Ось абсцисс представлена теми же векторами, что и на рис. 1.
Рис. 2. Дифференциальная модель деятельностной динамики трех пар позитивных инегативных эмоций.
Если говорить о высоте кривых (о которой приблизительно можно
судить по средневыборочной величине эмоций), то, согласно
Изарду, сравнительно трудные деятельности возбуждают интерес,
9 Подчеркнем еще раз, что именно фактор неопределенности (вероятности) делает кривые ДДЭ немонотонными одновершинными – без участия этого фактора П-эмоции с ростом, например, эффективности, монотонно росли бы, а Н-эмоции – падали.
10 На рисунках 2 и 3 эскизно представлены составленные из прямых линий упрощенные кривые, показывающие основные гипотетические различия в тенденцияхдеятельностной динамики эмоций.
ОптимизмИнтерес РадостьОгорчение
Пессимизм
Тревога
Модальная зона активности (МЗА)
Эмоции
1 2 3 4 5
18
сравнительно легкие активируют радость [13]. Надежда–оптимизм в
этом отношении, вероятно, заняла бы промежуточное место. Такое
представление о соотношении эмоций не противоречит взаимному
положению кривых на рис. 2. При выполнении деятельностей с малой
степенью трудности–новизны, т.е. хорошо освоенных субъектом
(зона 4–5), радость имела бы наибольшую из трех рассматриваемых
позитивных эмоций величину, а интерес – наименьшую. В случае же
сравнительно трудных деятельностей (например, в зоне 2–3)
наблюдалось бы обратное соотношение эмоций: наибольшая величина
интереса при наименьшей величине радости.
Примечание. Тр – тревога; Ин – интерес; Ог – огорчение; Рд – радость; Оп – оптимизм; Пе – пессимизм. Ось абсцисс представлена теми же векторами, что и на рис. 1.
Рис. 3. Дифференциальная модель деятельностной динамики баланса и активации втрех парах эмоций.
Оп–ПеРд–Ог
Ин–Тр
Рд+Ог
Оп+Пе
Ин+Тр Модальная зона активности (МЗА)
1 2 3 4 5
Эмоции
19
Что касается негативных эмоций, то, по мнению ряда авторов,
неопределенные события вызывают такие эмоции как тревога–страх,
определенные – эмоции типа огорчения–печали (см., например, [20,
53]). Сравнительно хорошо поддаются дифференциации (несколько
осложненной явлением коморбидности, когда симптомы разных
аффективных нарушений появляются одновременно) и их клинические
эквиваленты, выступающие в составе тревожных и депрессивных
расстройств [47]. Если же проводить различение пессимизма–
безнадежности и огорчения–печали, то здесь, видимо, можно
рассуждать так же, как мы это выше делали в случае парных к ним
позитивных эмоций, придя к выводу о, соответственно, большей и
меньшей степени неопределенности событий, вызывающих эмоции
надежды и радости [53]. В отличие от огорчения и печали,
связанных с более определенными событиями, пессимизм и
безнадежность испытываются, когда остается несколько больший
элемент неопределенности относительно негативного события. На
основании вышесказанного, мы считаем возможным предположить
следующую последовательность негативных эмоций, связанную с
падением вероятности неудачи в левой части оси абсцисс моделей
ДДЭ и, соответственно, увеличением степени неопределенности
исхода деятельности в этой зоне: от огорчения к пессимизму и далее к
тревоге по мере роста информационно-эффективностных переменных.
20
Причем, учитывая одновершинность зависимости эмоций от
информационно-эффективностных переменных, указанный ряд Н-
эмоций, как и в случае П-эмоций, следует представить как
последовательность вершин соответствующих кривых (см. рис. 2).
В итоге получается, что вершины кривых интереса и тревоги,
связанных с наибольшей степенью неопределенности событий, должны
быть расположены ближе других к центральной точке моделей,
вершины кривых радости и огорчения (наименьшая степень
неопределенности) – дальше других (рис. 2). Такое положение
последней пары в какой-то степени соответствует представлениям о
том, что огорчение–печаль является эмоцией, наиболее отдаленной
от позитивного полюса на биполярной шкале типа удовольствия-
неудовольствия [54], т.е. является как бы «наиболее негативной»
эмоцией. Радость же, фигурируя обычно в качестве основной
аффективной составляющей счастья [1, 14, 21], фактически,
рассматривается в качестве «наиболее позитивной» эмоции11.
Позитивно-негативный баланс и активация. Положительные и
отрицательные эмоции, как принято считать, лежат в основе
поведенческих функций приближения и избегания. Однако выполняют 11 Пиковые точки базовых кривых на рис. 1 и 2 расположены нами на одной
высоте по причине отсутствия достаточных оснований для их дифференциации по этому параметру. Даже популярное представление о большей величине негативно-эмоциональной активации в сравнении с позитивно-эмоциональной [10, 25] мы оставили за пределами нашего рассмотрения вследствие нерешенности ряда важныхаспектов проблемы, в частности вопроса о том, к каким зонам полного континуума независимых переменных в моделях ДДЭ [7] можно отнести это представление и лежащие в его основе эмпирические данные.
21
они указанные функции не непосредственно воздействуя на
поведение, а через посредство позитивно-негативного баланса,
являющегося своеобразной мерой исхода «борьбы» между ними. Было
бы, например, неразумно приближаться к возбудившему сильные
позитивные эмоции объекту, не принимая в расчет того, насколько
сильными являются в то же самое время возбужденные им негативные
эмоции. Отсюда роль баланса в регуляции деятельности и
стремление обеспечить позитивную его величину (гедонизм). Однако
человек нуждается не только в минимизации негативного и
максимизации позитивного баланса эмоций, но также в оптимизации
уровня эмоциональной активации безотносительно к ее знаку [11,
44]. В этой связи возникает вопрос о роли измерения активации в
рамках функции оценки. Очевидно, его задачей является оценка
интегральной значимости объекта, в данном случае, выполняемой
деятельности, в единстве ее позитивных и негативных сторон
(тогда как роль баланса состоит в оценке их соотношения), что
определяет степень ангажированности в нее субъекта [6].
Посредством баланса и активации, вероятно, реализуется что-то
вроде взаимоисключающего («конкуренция») и взаимодополняющего
(«сотрудничество») взаимодействия между положительными и
отрицательными эмоциями. В рамках измерения баланса имеет место
обратная связь между ними (разнонаправленное изменение уровней
22
позитивной и негативной активации), одновременно с которой
выступает прямая связь между теми же эмоциями в рамках измерения
активации (однонаправленное изменение уровней позитивной и
негативной активации). На это указывают, например, результаты
факторного анализа множества оценок эмоций, который (после
ротации) наряду с двумя факторами, выражающими измерения П-эмоций
и Н-эмоций, дает также (до ротации) двухфакторную структуру,
содержащую факторы-измерения баланса и активации, с которыми
показатели разных П-эмоций и Н-эмоций коррелируют,
соответственно, разнонаправленно и однонаправленно [10, 36].
Функция баланса в паре интерес–тревога – первичная оценка
значимости того, насколько ситуация, в которой оказался субъект,
похожа на ситуации из его прошлого опыта, насколько она нова–
знакома и сложна–проста для него и каково связанное с этим
соотношение вероятностей благоприятных и неблагоприятных
последствий функционирования в ней. Умеренная степень новизны–
сложности (как в основных видах деятельности большинства людей
[7, 8]) через посредство позитивного баланса эмоций данной пары
(доминирование интереса) способствует инициации ориентировочной
активности. В противном случае (при «слишком» большой степени
новизны–сложности), вследствие негативного баланса эмоций
(доминирования тревоги) может возникать ограничение такого рода
23
активности (преобладание избегательных тенденций). Одновременно
с «борьбой» в рамках измерения баланса, интерес и тревога, по
всей видимости, «сотрудничают» между собой в рамках измерения
активации. Тесная связь интереса с активацией–возбуждением [13,
14] означает возможность его прямой связи с негативными
эмоциями, прежде всего тревогой12. А прямая связь интереса с
тревогой, помимо прочего, как можно думать, означает следующее.
Доминирующая активизация интереса как «инициатора» поиска
сопровождается «фоновой» (ведомой) активизацией тревоги, как
«инициатора» осторожности при его осуществлении. Говорят,
например: «меня этот вариант решения заинтересовал». Подходят,
однако, к его рассмотрению, не «бросая» на это все
энергетические и временные ресурсы, а с некоторой осторожностью,
активируемой фоновой тревогой-страхом относительно перспективы
потерять эти ресурсы «напрасно». В случае доминирующей
активизации тревоги также трудно признать оправданным слишком
«решительное» отбрасывание возбудившей эту эмоцию идеи – «с
водой – как известно – можно выплеснуть и ребенка». За
предупреждение этого и отвечает «фоновый» интерес.
12 Истоки развиваемых здесь представлений можно найти, например, у В. Макдауголла [15], в концепции которого интерес и страх не исключают друг друга и могут выступать как составляющие целостного переживания (единство исследовательской и избегательной тенденций). Прямая связь между ними – одновременный рост по мере увеличения степени новизны–сложности ситуации – является также гипотетическим элементом модели Спилбергера–Старра [59].
24
Функция баланса во второй паре (оптимизм–пессимизм) сходна с
ситуацией, имеющей место в паре интерес–тревога, однако, с той
спецификой, которая была обозначена выше и связана со стадией
эмоциональной регуляции деятельности и величиной субъективной
вероятности получения успешного или неуспешного результата. Это
вторичная оценка ситуации в аспекте возможности «справиться» с
ней, участие в обеспечении продолжения деятельности,
инициированной балансом и активацией в первой паре (интерес–
тревога), и тем самым подготовка актуализации соответствующих
измерений третьей пары. Функция баланса в третьей паре (радость–
огорчение) – дать констатирующую (или завершающую процесс
антиципации) оценку соотношения результата и затрат. Что
касается измерения активации, то, как мы полагаем, и в отношении
последних двух пар эмоций оно происходит по вышеописанной
эмоционально-деятельностной логике, которую можно выразить в
следующих словах: «надейся на лучшее (оптимизм), но помни о
возможности худшего (пессимизм)» (см. [5]); «радуйся хорошему,
но не забывай обращать внимание и на плохое (огорчение)». Верно
также и обратное утверждение, нашедшее отражение в пословице
«нет худа без добра». В целом динамика (позитивного) баланса в
этих трех парах эмоций по мере освоения деятельности в рамках
МЗА выглядит примерно так: этап интереса–тревоги этап оптимизма–→
25
пессимизма этап радости–→ огорчения ( → «точка» индифферентности).
Однако в некоторых ситуациях указанные этапы предваряются
динамикой негативного баланса эмоций (задачи повышенной степени
трудности). Если с точки зрения дальних целей деятельность
необходимо выполнить, но в качестве ее ближайшего эффекта
предполагается негативный баланс приобретений и потерь, то
возникает негативный баланс эмоций, антиципирующий этот
ближайший эффект и как бы «отталкивающий» субъекта от
деятельности13. В этом случае выполнение деятельности требует
участия регулятора более высокого уровня – механизма
«рационально-волевой» регуляции, при работе которого негативный
баланс эмоций обеспечивает повышенное внимание субъекта к
негативным элементам ситуации: неудачам, событиям, им
13 Такое «отталкивание» субъекта от деятельности делает его пассивным по отношению к ней. Из числа трех рассматриваемых негативных эмоций наиболее сильно это выражено в случае грусти–печали, которая, по результатам многих исследований (в частности, кросскультурных), является наименее «стеничной», наиболее близкой к апатии, эмоцией (см., например, [22]). При этом, однако, апатия представляет собой реакцию на ощущаемую неизбежность неудачи (в нашей модели апатии соответствует точка 1 оси абсцисс на всех рисунках [8]), тогда как грусть–печаль возникает при ощущении некоторой, хотя бы и очень малой, неопределенности относительно неудачи [34]. Апатия означает общую пассивность,тогда как грусть, главным образом, – «внешнюю», бихевиоральную пассивность. Вэтом случае субъект как бы погружается в себя, его внимание переключается с «внешнего» на «внутренний» мир [34], что позволяет не расходовать энергию на деятельность, ощущаемую чрезмерно трудной, и переключиться на «внутренний» поиск новых возможностей [22]. Несколько вправо от зоны доминирования грусти сдвинуты зоны преобладания пессимизма и тревоги. При доминировании этих эмоций субъект, если есть возможность, избегает выполнения данной деятельности. Если такой возможности нет, он (под влиянием воли) выполняет деятельность при исполнении пессимизмом и тревогой функции эмоционального обеспечения осторожности и избегания опасностей и ошибок.
26
способствующим, и т.п.14 Выполняемая по самопринуждению
деятельность по мере ее освоения субъектом теряет часть
«излишней» сложности–новизны и ее регуляция вступает в этап
(зону) интереса, рост которого позволяет преодолевать тревогу и
другие Н-эмоции15. Здесь деятельность по своей аффективной
окраске пока еще мало оптимистична (негативный баланс оптимизма–
пессимизма) и в еще меньшей степени радостна–приятна (негативный
баланс радости–огорчения), но уже интересна настолько
(позитивный баланс интереса–тревоги), что самопринуждение
становится излишним.
На следующем этапе доминирует оптимизм (позитивный баланс
оптимизма–пессимизма) и далее, если освоение деятельности
является успешным, в свои права может вступить радость
(позитивный баланс радости–огорчения). Интерес же начинает
снижаться. На этом этапе деятельность, будучи радостной–
14 Логично предположить, что на включение–выключение механизма «рационально-волевой» регуляции (как и на особенности кривых ДДЭ), помимо прочего, может влиять нормативный статус эмоций. Для грусти–печали, например,он зависит от целого ряда факторов: исторического периода (уважительное отношение к этой эмоции в средние века и его динамика в направлении требования «держать себя в руках» по мере движения к современности), социокультурного контекста (более позитивный статус грусти–печали в «коллективистических», нежели «индивидуалистических» сообществах), классовой принадлежности (более выраженное требование «держать себя в руках» в высших, чем низших классах общества), возраста («взрослые не плачут»), пола («мужчиныне плачут») и т.д. [22].
15 Видимо, именно к этому этапу можно отнести следующее высказывание К. Изарда: «…при переживании отрицательных эмоций мотивационная сила устойчивогоинтереса имеет решающее значение для преодоления препятствий…» [13, с. 203].
27
приятной, может быть сравнительно мало интересной16. Теряет свою
«силу» и переживание оптимизма. При дальнейшем течении процесса
начинают редуцироваться эмоции типа радости. Движение идет к
этапу индифферентного, спокойно-автоматичного выполнения
деятельности. Описанный процесс, протекая на одном уровне,
выступает как «фундамент» освоения деятельностей нового, более
высокого уровня с повторением той же динамики эмоций, хотя и не
обязательно во всей полноте ее этапов. Если, учитывая
собственные способности и опыт, выбирать для выполнения
(освоения) такие виды деятельности, которые не окажутся слишком
трудными, то волевое принуждение в таком случае может не быть
необходимым. Это согласуется, в частности, с теми из
верифицируемых в практике педагогических и управленческих систем
и теорий, авторы которых стремятся к нахождению способов
снижения роли волевой мотивации в пользу мотиваций интереса,
16 На возможность отрицательной связи между этими положительными эмоциями указывают, например, данные Изарда [13, 14] о ситуации интереса, где переживается, но слабее, также радость, и ситуации радости, где одновременно,хотя и в более слабой форме, переживается интерес. Смена ситуации интереса ситуацией радости (например, при переходе от одного уровня освоения деятельности к другому) означает падение первой эмоции и рост второй, т.е. негативную связь между ними. Обратная связь между этими эмоциями выступает и как элемент одновершинной кривой (ее падающая ветвь), выражающей зависимость удовольствия–радости от интереса, испытываемых в процессе восприятия произведений изобразительного искусства [46]. Вообще, в искусстве черты, способные вызывать указанные эмоции нередко не являются характеристиками одного и того же персонажа. При этом образы «положительных» персонажей в сравнении с менее «положительными» часто более приятны, но менее интересны. Это же касается и других объектов художественного изображения, например, рая и ада (взять хотя бы «Божественную комедию» Данте). О сходном говорит и обыденный опыт – в одном из писем Л.Н. Толстого читаем: «…здесь много нового для меня и интересного, но не скажу – приятного» [18, с. 55].
28
оптимизма и радости посредством оптимизации степени трудности
деятельности [31].
Что касается формы кривых деятельностной динамики баланса и
активации, то концепций и данных, описывающих баланс и активацию
в рамках отдельных позитивно-негативных пар эмоций, в литературе
нами обнаружено не было. Поэтому их гипотетические параметры
были выведены с учетом представлений о трех парах положительных
и отрицательных эмоций как первичных измерений, а также
предполагаемых параметров кривых их динамики, показанных на рис.
2. На основе этих посылок получены кривые для вторичных
измерений, представленные на рис. 317. Для измерения
внутрипарного баланса эмоций – это синусоидальные кривые,
вершины которых (позитивная и негативная) в случае интереса и
тревоги, связанных с наибольшей степенью неопределенности
событий, расположены ближе других к центральной вертикальной оси
модели; в случае радости и огорчения (наименьшая степень
неопределенности) – дальше других. Имеются также различия по
высоте между кривыми баланса. Баланс интереса и тревоги в
пиковых точках имеет наименьшую ординату, т.е. является как
наименее положительным среди трех пар эмоций, так и наименее
отрицательным. В случае радости и огорчения эти характеристики
17 Строя схематические рисунки 2 и 3 с помощью прямых линий (для простоты) мы имеем в виду кривые того же типа, что и на рис. 1. Поэтому на рис. 3 кривые ПНИ являются одновершинными, а не кривыми со «срезанной» верхушкой.
29
являются противоположными: в пиковых точках баланс имеет
наибольшую ординату, т.е. является как наиболее положительным,
так и наиболее отрицательным. Кривые активации в каждой из трех
пар оказываются симметричными и расположены одна над другой.
Другими словами, взаимного сдвига по оси абсцисс для этого
измерения не предвидится, предполагается лишь сдвиг по оси
ординат: вершина кривой активации интереса–тревоги должна быть
расположена выше других, активации радости–огорчения – ниже
других18. Суммируя, можем сказать, что пара эмоций интереса–
тревоги характеризуется наибольшей активацией при наименьших
абсолютных величинах баланса (что означает наибольшую
амбивалентность), пара же радости–огорчения отличается
наименьшей активацией при наибольших абсолютных величинах
баланса (что означает наименьшую амбивалентность). Для кривых
пары оптимизма–пессимизма во всех рассмотренных случаях можно
предположить некоторое промежуточное положение.
Подводя итоги проведенного в статье анализа сделаем некоторые
выводы.
1. Наряду с тем общим, что характеризует разные позитивно-
негативные пары эмоций в аспекте влияния на их динамику
18 Следует подчеркнуть, что различия между кривыми ПНБ и ПНИ по высоте на рис. 3 в значительной степени следуют из допущения о равенстве по этому параметру базовых кривых на рис. 2. В случае получения информации о различияхмежду первичными кривыми должны будут скорректированы и вторичные.
30
изменений в параметрах деятельности есть основания говорить о
существовании заметных различий между ними в этом плане, что
показано применительно к парам интереса-тревоги, радости-
огорчения и оптимизма-пессимизма, рассмотренным не только в
рамках измерений позитивности и негативности, но и в рамках
вторичных измерений баланса и активации.
2. Специфика деятельностной динамики указанных пар эмоций
может быть выражена с помощью немонотонных кривых, главным
различием между которыми является место точки перелома
(вершины), отражающее уровень освоения деятельности, при котором
величина эмоции становится максимальной.
3. Динамика интереса и тревоги может быть описана посредством
кривых, вершины которых расположены ближе других к центральной
точке оси независимой переменной (максимум неопределенности в
плане ожидаемого успеха-неуспеха деятельности), вершины кривых
радости и огорчения были бы расположены дальше других от
указанной точки.
4. Динамика внутрипарного баланса эмоций может быть
охарактеризована с помощью синусоидальных кривых, позитивная и
негативная вершины которых в случае интереса и тревоги имеют
меньшую ординату и расположены ближе других к центральной точке
оси абсцисс, в случае радости и огорчения – бóльшую ординату и
31
расположены дальше других от указанной точки. Динамику
внутрипарной эмоциональной активации есть основания представить
симметричными одновершинными кривыми с вершинами на линии
центральной точки оси абсцисс: вершина кривой интереса-тревоги
была бы расположена выше других, радости-огорчения – ниже
других.
5. Из представленных характеристик кривых, составляющих
дифференциальные субмодели ДДЭ, наряду с прочим,
предположительно, следует, что переживание в процессе
деятельности (в модальной зоне активности) интереса и тревоги
характеризуется (в границах трех пар) минимальным позитивно-
негативным балансом при максимальной позитивно-негативной
активации–возбуждении, в то время как паре радости-огорчения
должны быть свойственны максимальный баланс при минимальной
активации–возбуждении. Характеристики динамики оптимизма–
пессимизма представляется возможным рассматривать как занимающие
свое место между упомянутыми гипотетическими параметрами двух
других пар эмоций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье предпринята попытка разработать дифференциальные
субмодели деятельностной динамики интереса–тревоги, оптимизма–
пессимизма и радости–огорчения. Эти субмодели, которые
32
представляют собой конкретизацию ранее предложенных автором
общих моделей деятельностной динамики эмоций (ДДЭ) [6–8], на наш
взгляд, могут оказаться полезными при обобщении данных,
полученных в рамках иных подходов. Например, концепция и данные
Изарда [13, 14] указывают на то, что разные эмоции, как правило,
выступают не в одиночку, а группами переживаний, релевантных
определенным классам контекстов-ситуаций, и при переходе от
одной ситуации к другой (например, от одного уровня освоения
деятельности к другому) сменяют друг друга не столько эмоции
(как это часто «звучит» в литературе), сколько их иерархия в
комплексе. В настоящей работе данный феномен представлен нами
наглядно-динамически на «языке» моделей ДДЭ. Например, при
переходе от меньшей к большей успешности деятельности сменяют
друг друга не огорчение и радость, а их баланс. То же касается
эмоций одного знака – при росте успешности имеет место не
замещение надежды радостью, а меняется лишь их соотношение. В
терминах Изарда последний пример звучал бы как переход от
ситуации надежды (где переживаются и другие эмоции, в том числе,
радость) к ситуации радости (где переживаются и другие эмоции, в
том числе, надежда).
При этом модели ДДЭ реализуют относительно новую для данной
проблемной области «немонотонную» логику сравнительного
33
рассмотрения разных положительных и отрицательных эмоций, а
также производных от них измерений баланса и активации.
Предложены также конкретные варианты немонотонных кривых для
всех четырех измерений в разных позитивно-негативных парах
эмоций. Выше упомянутые взгляды К. Изарда [13, 14], которые по
сути характерны для большинства исследователей (см., например,
[30, 53]), укладываются в модель прямой монотонной зависимости
радости от степени «знакомости» объекта. В моделях ДДЭ такая
зависимость характеризует лишь линейный тренд кривой, главной
особенностью которой является одновершинность динамики,
обусловленной изменением деятельностных, в том числе
информационных, переменных. С некоторыми из известных
теоретических представлений наши модели вступают в противоречие.
Так, в модели Ч.Д. Спилбергера и Л.М. Старра [59] рост
сложности–новизны объекта обусловливает монотонный рост кривых
не только тревоги, но и интереса, различия в наклоне и характере
кривизны которых дают одновершинную кривую баланса. В нашем же
случае (в границах МЗА) последняя порождается прежде всего
немонотонностью кривой интереса [8]. Чья модель является более
валидной, должна показать эмпирика.
Оптимистической установке относительно принципиальной
возможности верификации дифференциальных субмоделей ДДЭ
34
способствуют как интуитивно ощущаемые, так и теоретически и
эмпирически выявленные разными авторами различия между эмоциями
одного знака в рамках рассмотренного нами в работе комплекса.
Возникают, однако, опасения, что на практике «тонкая»
дифференциация кривых деятельностной динамики этих эмоций может
оказаться нелегкой задачей. Некоторые данные указывают на то,
что эмпирически уловить различия между эмоциями одного знака не
просто. Например, при построении эмоционального круга (circumplex)
на основе эмпирических данных, позиции эмоций интереса,
оптимизма и радости оказываются довольно близкими [50]. А в
случае негативных эмоций, например, в составе депрессивных
реакций на разного рода сильные, стрессовые изменения жизненной
ситуации пессимизм–безнадежность и огорчение–печаль–горе
выявляются как зачастую выступающие совместно [57]. Как особенно
близкая депрессии воспринимается эмоция безнадежности (близкая
переживанию беспомощности), которая хотя и трактуется как
синоним пессимизма [23], видимо, в полной мере им не является
[60]. В одной функциональной группе находятся депрессия, печаль,
безнадежность и беспомощность в концепции Р. Плутчика [50]. Эти
эмоции также занимают близкие позиции в эмпирически полученном
эмоциональном круге [50]. Кроме того, депрессивные эмоции
сравнительно высоко коррелирует с тревожностью [36, 47], хотя
35
теоретически могут быть отнесены к ортогональным измерениям:
тревожность – к измерению негативных эмоций, депрессивные эмоции
– к нулевому полюсу в измерении позитивных эмоций [9, 36, 50,
55, 63]. Все это указывает на необходимость особо тщательной
подготовки эмпирических исследований по данной проблеме, в
первую очередь их процедурно-методического обеспечения.
Затрагивая вопрос о перспективах, укажем на то, что
разработанные в настоящей работе дифференциальные субмодели ДДЭ
могут дополняться другими эмоциями, отличающимися от
представленных в этих моделях по параметрам типа новизны и
неопределенности ситуации, в которой они возникают. При этом в
модели могут войти не только позитивно-негативные пары, но и
функциональные парные системы эмоций одного знака, как,
например, пара тревоги и гнева, актуализирующаяся в ситуациях
выбора между бегством и нападением. В этом случае, по-видимому,
вершина кривой деятельностной динамики гнева заняла бы свое место
между вершиной кривой тревоги и центральной точкой оси абсцисс
[4]. Элементами дифференциальных субмоделей, наряду с
указанными, могут стать также эмоции без знака, такие как
удивление, кривая которого, если исходить из теоретических
представлений и данных о сходстве этой эмоции по своей природе с
измерением активации [52, 63] окажется похожей на кривую этого
36
измерения. Мы не видим препятствий также к тому, чтобы объектом
рассмотрения в логике представленных в работе моделей стали
изучаемые в родственных проблемных областях явления, такие как
субъективное благополучие, установки, мотивация, в тех их
аспектах, которые касаются позитивно- и негативно-значимых для
субъекта объектов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аргайл М. Психология счастья. СПб.: Питер, 2003.
2. Выготский Л.С. Лекции по психологии // Собр. соч. в 6 т. Т. 2.
М.: Педагогика, 1982.
3. Выготский Л.С. К вопросу о динамике детского характера // Собр.
соч. в 6 т. Т. 5. М.: Педагогика, 1983.
4. Горбатков A.A. Тревога, гнев и радость: взаимные связи //
Психол. вестник Ростовского гос. ун-та. 2000. Вып. 5. Ч. 1–2.
С. 274–281.
5. Горбатков А.А. О пользе оптимизма и пессимизма // Прикладная
психология. 2001. № 3. С. 50–56.
6. Горбатков А.А. Успешность деятельности и эмоции. Эскиз модели //
Мир психологии. 2002. № 4. C. 48–65.
7. Горбатков А.А. Модальная зона активности: к проблеме зависимости
эмоций от успешности деятельности // Психол. журн. 2003. Т.
24. №. 4. С. 78–92.
8. Горбатков А.А. «Информационная» и «энергетическая» модели
влияния результатов деятельности на эмоции // Психол. журн.
2004. Т. 25. № 4. С. 41–55.
37
9. Горбатков A.A. Деятельностная динамика основных измерений
эмоций: модель и литературные данные // Психология. Журн. ГУ
ВШЭ. 2005. Т. 2. № 3. С. 19–42.
10. Горбатков А.А. Об одном способе понимания и измерения
дименсиональной асимметрии // Мир психологии. 2006. № 1. С.
75–89.
11. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. М.: Политиздат, 1978.
12. Запорожец А.В., Неверович Я.З. К вопросу о генезисе, функции и
структуре эмоциональных процессов у ребенка // Вопросы
психологии. 1974. № 6. С. 59–73.
13. Изард K. Эмоции человека. М.: МГУ, 1980.
14. Изард К. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2006.
15. Макдауголл У. Различение эмоции и чувства // Психология
эмоций. Тексты / Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер.
М.: МГУ, 1984. С. 103–107.
16. Ольшанникова A.E., Рабинович Л.А. Опыт исследования некоторых
индивидуальных характеристик эмоциональности // Вопросы
психологии. 1974. № 3. С. 65–74.
17. Симонов П.В. Мозг: эмоции, потребности, поведение //
Избранные труды в 2 т. Т. 1. М.: Наука, 2004.
18. Толстой Л.Н. Письма // Собр. соч. в 22 т. Т. 19–20. М.:
Художественная литература, 1984.
19. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. М.: Смысл, 2003.
20. Шакуров Р.Х. Психология эмоций: новый подход // Мир
психологии. 2002. № 4. C. 30–44.
21. Averill J.R., More T.A. Szczęście // Psychologia emocji / Eds. M.
Lewis, J.M. Haviland-Jones. Gdańsk: GWP, 2005. P. 831–850.
22. Barr-Zisowitz C. «Smutek» – czy istnieje takie zjawisko? //
Psychologia emocji / Eds. M. Lewis, J.M. Haviland-Jones.
Gdańsk: GWP, 2005. P. 761–779.
38
23. Beck A.T., Weissman A., Lester D., Trexler L. The measurement of
pessimism: the hopelessness scale // Journ. of consulting and
clinical psychology. 1974. V. 42. P. 861–865.
24. Berlyne D.E. Aesthetics and psychobiology. N.Y.: Appleton-
Century-Crofts, 1971.
25. Cacioppo J.T., Gardner W.L. Emotion // Annual review of psychology.
1999. V. 50. P. 191–214.
26. Carver C.S., Scheier M.F. Origins and function of positive and
negative affect: a control-process view // Psychological
review. 1990. V. 97. P. 19–35.
27. Carver C.S., Sutton S.K., Scheier M.F. Action, emotion, and
personality: emerging conceptual integration // Personality
and social psychology bulletin. 2000. V. 26. P. 741–751.
28. Chang E.C. Optimism and pessimism: implications for theory,
research, and practice. N.Y.: Simon & Schuster, 2000.
29. Charles S.T., Reynolds C.A., Gatz M. Age-related differences and
change in positive and negative affect over 23 years // Journ.
of personality and social psychology. 2001. V. 80(1). P. 136–
151.
30. Cornelius R.R. The science of emotion: research and tradition
in the psychology of emotion. L.: Prentice-Hall, 1996.
31. Csikszentmihalyi M. Beyond boredom and anxiety: experiencing flow
in work and play. San-Francisco: Jossey-Bass, 2000.
32. Czapiński J. Psychologia szczęścia. W.: Akademos, 1992.
33. De Catanzaro D.A. Motywacje i emocje. W ujęciu ewolucyjnym,
fizjologicznym, rozwojowym i społecznym. Poznań: Wydawnictwo
Zysk i S-ka, 2003.
34. Ellsworth P., Smith C. From appraisal to emotion: differences
among unpleasant feelings // Motivation and emotion. 1988. V.
12(3). P. 271–302.
39
35. Ellsworth P., Smith C. Shades of joy: Patterns of appraisal
differentiating pleasant emotions // Cognition and emotion.
1988. V. 7. P. 301–331.
36. Feldman B.L. Discrete emotions or dimensions? The role of
valence focus and arousal focus // Cognition and emotion.
1998. V. 12. P. 579–599.
37. Frijda N.H. Emotions and hedonic experience // Well-being. The
foundations of hedonic psychology / Eds. D. Kahneman, E.
Diener, N. Schwarz. N.Y.: Russell Sage, 1999. P. 190–212.
38. Gorbatkow A.A. On the dependence of hope and hopelessness on a
level of performance // VIIth European Congress of Psychology.
Book of abstracts. L.: EFPPA. 2001. P. 132.
39. Gorbatkow A.A. Model of the dependence of affective dimensions
on activity efficiency // VIIIth European Congress of
Psychology. Abstract book. Vienna: BOP. 2003. P. 318.
40. Higgins E.T. Beyond pleasure and pain // American psychologist.
1997. V. 52. P. 1280–1300.
41. Kashdan T.B. Curiosity // Character strengths and virtues: a
handbook and classification / Eds. C. Peterson, M.E.P.
Seligman. Wash.: APA and Oxford university press, 2004. P.
125–141.
42. Litman J.A., Spielberger C.D. Measuring epistemic curiosity and its
diversive and specific components // Journ. of personality
assessment. 2003. V. 80. P. 75–87.
43. Loewenstein G. The psychology of curiosity: a review and
reinterpretation // Psychological bulletin. 1994. V. 116. P.
75–98.
44. Maio G.R., Esses V.M. The need for affect: individual differences
in the motivation to approach or avoid emotions // Journ. of
personality. 2001. V. 69(4). P. 583–614.
40
45. Mauro R., Sato K., Tucker J. The role of appraisal in human
emotions: a cross-cultural study // Journ. of personality and
social Psychology. 1992. V. 62. P. 301–317.
46. Messinger S.M. Pleasure and complexity: Berlyne revisited //
Journ. of psychology interdisciplinary & applied. 1998. V.
132(5). P. 558–561.
47. Mineka S., Watson D., Clark L.A. Comorbidity of anxiety and unipolar
mood disorders // Annual review of Psychology. 1998. V. 49. P.
377–412.
48. Oatley K., Jenkins J.M. Understanding emotions. Cambridge:
Blackwell, 1996.
49. Ohman A. Strach i lęk z perspektywy ewolucyjnej, poznawczej i
klinicznej // Psychologia emocji / Eds. M. Lewis, J.M.
Haviland-Jones. Gdańsk: GWP, 2005. P. 719–744.
50. Plutchik R. Emotion: a psychoevolutionary synthesis. N.Y.:
Harper & Row, 1980.
51. Reis H.T., Sheldon K.M., Gable S.L., Roscoe J., Ryan R.M. Daily well-being:
The role of autonomy, competence, and relatedness //
Personality and social psychology bulletin. 2000. V. 26. P.
419–435.
52. Remington N.A., Fabrigar L.R., Visser P.S. Reexamining the circumplex
model of affect // Journ. of personality and social psychology
2000. V. 79(2). P. 286–300.
53. Roseman I.J. Appraisal determinants of discrete emotions //
Cognition and emotion. 1991. V. 5. P. 161–200.
54. Russell J.A. Reading emotions from and into faces: Resurrecting
a dimensional-contextual perspective // The psychology of
facial expression / Eds. J.A. Russell, J.-M. Fernandez-Dols.
Cambridge: University press, 1997. P. 295–320.
41
55. Russell J.A., Feldman Barrett L. Core affect, prototypical emotional
episodes, and other things called emotion: dissecting the
elephant // Journ. of personality and social psychology. 1999.
V. 76(5). P. 805–819.
56. Seipp B. Anxiety and academic performance: a meta-analysis of
findings // Anxiety research. 1991. V. 4(1). P. 27–41.
57. Seligman M.E.P. Optymizmu można się nauczyć. Poznań: Media
rodzina of Poznań, 1996.
58. Snyder C.R. Hope and optimism // Encyclopedia of human
behavior / Ed. V.S. Ramachandran. V. 2 . San Diego: Academic
press, 1994. P. 535–542.
59. Spielberger C.D., Starr L.M. Curiosity and exploratory behavior //
Motivation: theory and research / Eds. H.F. O'Neil Jr., M.
Drillings. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1994. P. 221–243.
60. Stotland E. The psychology of hope. San Francisco: Jossey-Bass,
1969.
61. Teigen K.H. Intrinsic interest and the novelty-familiarity
interaction // Scandinavian journal of psychology. 1987. V. 28.
P. 199–210.
62. Watson D., Clark L.A., Tellegen A. Development and validation of brief
measures of positive and negative affect. The PANAS scales //
Journ. of personality and social psychology. 1988. V. 54(6).
P. 1063–1070.
63. Watson D., Wiese D., Vaidya J., Tellegen A. The two general activation
systems of affect: Structural findings, evolutionary
considerations and psychological evidence // Journ. of
personality and social psychology. 1999. V. 76. P. 820–839.
Abstract.Gorbatkow А.А. (2007). Dynamics of emotions in activity: differential aspect.Psikhologicheskii zhurnal. V. 28, P. 101-113.
42
On the basis of literary data the attempt of comparative theoretical study ofcuriosity-anxiety, optimism-pessimism and joy-sadness in their relation to earlier elaborated by the author models of emotions activity dynamics is carried out. For three mentioned affective pairs hypothetic submodels are proposed. In this models the dynamics of positive and negative emotions as activity parameters - efficacy, informational and energetical are changing - is described by asymmetric single-peaked curves. The dynamics of secondary measures of balance and activation in this pairs is described correspondinglyby sinusoidal and bell-shaped curves. The specificity of the activity dynamics of each of the mentioned emotions is mainly characterized by the location of inflection in corresponding curve. The possibilities of models utilization in research practice, hypothetical methodical problems, as well as perspectives of including new affective units into model are discussed briefly.Key words: positive and negative emotions, emotions activity dynamics.
43