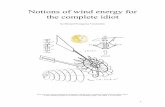Individual notions of distributive justice and relative economic status
К проблеме определения понятий «знак» и «модель»....
Transcript of К проблеме определения понятий «знак» и «модель»....
А. Н. БарулинК проблеме определения понятий «знак» и «модель».
0. Предварительные замечания. «Проблема знака, – писал в своейкниге о семиотике философ А. А. Ветров, – центральная проблемасемиотики. Ее решение в какой то мере предопределяет характер подхода кдругим семиотическим проблемам. Именно поэтому проблема знака образуетначало семиотического исследования» (Ветров 1968, гл.1, § 1). Существуетдовольно большое число попыток дать определение понятию «знак».Определения эти бывают двух типов. Первые, как правило, сводятся к тому,что находится некоторый гипероним для понятия «означающее знака»,например, «предмет», как у Ветрова, или «объект» и далее указывается, чтоэтот объект, нужен тому, кто пользуется понятием «знак» не для него самого,а для какого-то другого объекта, с которым первый связан отношениемссылки, указания или замещения. Довольно часто при этом оказывается, чтопонятие знака сводится к его означающему, как это было в определенииоснователя семиотики Ч. С. Пирса. Знак Пирс определял следующимобразом: «A sign is something which stands to somebody for something in somerespect or capacity. It addresses somebody, that is, creates in the mind of thatperson an equivalent sign, or perhaps more developed sign» ‘Знак есть нечто, чтодля кого-то в некотором отношении или в некоторой роли замещает что-тодругое. Он кому-то адресован, что означает, что он создает в уме того, к комуон адресован, эквивалентный знак, или, может быть, более развернутый знак’(Пирс 1931 - 1958, 2, 228). Определение это, конечно, вряд ли можно назватьточным или даже просто корректным. Начать с того, что термин ЗНАКиспользуется в нем в двух разных смыслах: в первом вхождении терминобозначает собственно означающее, это оно представляет что-то другое. Вовтором и третьем вхождении термин этот уже не может обозначатьозначающего, поскольку означающее не может быть более или менееразвернутым. Этим качеством может обладать только содержание знака.Сомнительно, что определение это удовлетворительно и в содержательномотношении. Представим себе, что кому-то нужен молоток, его под рукой нет,и этому кому-то, кто-то другой передает вместо молотка камень, которымможно вполне заменить молоток. Мы выполнили все условия, которыеуказаны в определении Пирса: камень в некотором отношении замещаетмолоток, и он, этот камень, адресован кому-то, в чьем уме камень создаетэквивалентный знак, т. е. образ камня, который нужно использовать какмолоток. Тем не менее, вряд ли кто-нибудь согласится считать, что каменьздесь знак. Камень здесь инструмент, который выполняет роль другого,стандартного, инструмента для забивания гвоздей. Вполне возможно, чтоПирс и эту ситуацию назвал бы знаковой, а камень признал бы в этом случаезнаком. Однако, хорошие определения должны эксплицировать интуициюносителей знаковых систем, в том же, что пирсовское определение этомуусловию удовлетворяет, можно сомневаться. Тем не менее, оно, как имногое другое, сказанное Пирсом, некритически воспроизводится без всяких
оговорок из работы в работу и более того, считается классическимопределением знака.
В общем, это определение больше подходит к другому понятию, внастоящее время достаточно хорошо разработанному в философии науки, аименно – понятию модели. Если принять эту поправку, многие утвержденияоснователя семиотики станут более прозрачными, а ход его рассуждений –более понятным.
Во втором типе определения исследователи сосредоточиваются на том,что знак представляет собой соответствие в теоретико-множественномсмысле. Вот, например, как определяет понятие знака И. А. Мельчук(Мельчук 1997, 107 – 121). Вначале он вводит три неопределяемых понятия:'быть означающим', 'быть означаемым', 'быть синтактикой', а затемопределяет знак Σ, как тройку: Σ = <X, Y, Z>, где Х – означаемое для Y, Y –означающее для Х, а Z – синтактика пары <X; Y>. Это определениедостаточно строго, но имеет очень ограниченную объяснительную силу:хотелось бы все-таки знать, в каком отношении находятся означающее иозначаемое и какое место в знаке занимает синтактика.
Я, как последователь Московско-Тартуской семиотической школы, ещев годы ученичества обратил внимание на то, что язык в этом направленииисследований, наряду с другими знаковыми системами, трактуется какмоделирующая система. Ничего кроме знака в этой системе моделировать неможет, из чего следует, что основатели этой школы имели в виду, что воснове отношения между означающим и означаемым знака лежит отношениемоделирования, а сам знак представляет собой частный случай модели. Длятого, чтобы разобраться в этом, однако, следует определить понятие модели.
1. Объяснительное определение понятия ‘модель’ вобщефилософском (нематематическом) смысле.
1. 1. Краткая история вопроса.В качестве научного термина понятие модели, по свидетельству Чжао
Юань Женя (Чжао 1962), было введено математиками Эудженио Бельтрами иФеликсом Клейном в связи с неевклидовыми геометриями в семидесятыхгодах ХIХ века. Затем - Фреге и Расселом в математической логике.
«… Одно из важных применений моделей в математике, – писал ЧжаоЮань-жень, – состоит в доказательстве внутренней непротиворечивоститеории путем нахождения для нее интерпретации в виде фактическисуществующей модели, поскольку то, что существует, не может бытьвнутренне противоречивым. В этом отношении, как отмечает Хиж,употребление моделей в математике, по-видимому, почти полностьюпротивоположно применению их в общественных науках, в частности, влингвистике (если считать ее общественной наукой). В математике модельболее конкретна, чем то, что моделируется, в то время как в общественныхнауках модель более абстрактна» (Чжао 1965, 281). Подобное мнениевысказывалось и другими учеными (ср., например, Брэйтуэйт 1960, Шаумян1965).
Математическое понятие модели1 и формальной теории в связи сдругими способами понимания этого термина было подробно рассмотренороссийским математиком Ю. А. Шрейдером (1973), Ю. А. Шрейдером и А.А. Шаровым (1982). «В математике моделью (или реляционной системой)называется некоторое множество М с заданной на нем совокупностьюотношений {R1, R2, … Rn}. Иначе говоря, модельм (т. е. модель вматематическом смысле – А. Б.) понимается как некоторый набор: M = <M;{R1…Rn}>, где R1…Rn – отношения на множестве М2. Пример 1. Модель M= <M1; {<}>, где М1 – множество всех вещественных числе, а < – отношение«меньше». Пример 2: модель M = <M2; {R1, R2}>, где М2 – множествословоформ русских существительных, R1 – отношение «входить в общуюпарадигму», а R2 – отношение «иметь одинаковый род, число и падеж»(Шрейдер 1973, 64).
В математике понятие модели тесно связано с понятием формальнойтеории. Именно этот термин заполняет здесь обязательную валентностьпредиката 'модель' (модель чего?): модель M формальной теории Т. Понятиетеории также имеет свое строгое определение. Как пишет Ю. А. Шрейдер,для того, чтобы определить этот термин «нам потребуется множествоформул Ф, с помощью которых мы сможем делать высказыванияотносительно свойств той или иной модели. Каждая формула строится изсписка названных отношений R1, R2,…Rn, названий переменных илогических символов (иначе говоря, на базе вполне определенного точногоязыка (см. Шиханович 1965), например, можно принять, что все формулыпишутся на языке узкого исчисления предикатов). Для нас важно сейчас, чтокаждая формула, выражающая высказывание о моделим M, может быть в этоймодели либо истинна, либо ложна. Кроме этого определяются правилавывода, позволяющие выводить новые истинные формулы из данных,например:
1) Если истинны Ф1à Ф2 и Ф1, то Ф2 тоже истинна.
2) Если истинна Ф1 (х), то ("х) Ф1 (х) истинна.Итак, Теория Т определяется некоторым множеством формул Ф1… Фm,
<…>, называемых Аксиомами Теории, и набором правил вывода r1, r2, … rk.Модельм M = <M; {R}> называется модельюм теории Т = <{R}, {r}, {Ф}>,если каждому названию отношения Ri сопоставлено отношение Rj так, что,если переменные x, y, z интерпретируются как элементы множества М, то всеаксиомы данной теории верны» (Шрейдер 1973, 65). Или по-другому:«Модель М называется моделью формальной теории Т, если: 1) сигнатурамодели совпадает с сигнатурой теории и 2) после интерпретации каждогоимени отношения в теории как одноименного отношения в модели каждая
1 Математического образования для чтения этого параграфа не требуется.2 В этой формуле M обозначает имя модели, M имя множества, из которого выбираются элементы,вступающие в определенные отношения с другими элементами, R1, R2… – имена различных отношений, вкоторые вступают друг с другом элементы множества M . <…> – знак того, что имена объектов, указанныхвнутри этих угловых скобок, составляют части единого целого – модели M .
аксиома теории становится истинным высказыванием, т. е. выполняется дляданной модели. Тем самым модель позволяет интерпретировать каждуюаксиому теории как истинное высказывание о структуре модели.
Главная особенность понятия формальной теории в том, что здесь нетникакого базового множества. Это некоторые аксиомы, заданные «ни начем», аксиомы в чистом виде. Фактически это экспликация платоновскойидеи. Формальная теория описывает некоторые свойства объектов, но неуказывает эти объекты. Это можно сравнить с ситуацией, описанной Ст.Лемом в «Звездных дневниках Иона Тихого»: Ион Тихий прилетает нанекоторую планету. Он хочет попасть на некоторое торжество, но емуговорят, что надо достать сепульки. Как их достать? Их надо купить. Онприходит в магазин и спрашивает: «У вас есть сепульки?» – «Есть, но толькосо свистом». – «Ну, дайте мне». – «Простите, а вы – женаты?» – «Нет, а какоеэто имеет значение?» – «Нет, неженатым не продаем». И дальше идет долгийсюрреалистический разговор, из которого можно узнать про сепульки массуинтересных вещей, кроме того, что это такое. Здесь в некотором смыслерассказывается формальная теория без реализации» (Шрейдер, Шаров 1982,27).
Поскольку далее я буду обсуждать, как понимает термин модель С. К.Шаумян, воспользуюсь его примером, позаимствованным из работы чешскихученых К. Берки и М. Млезивы.
«Рассмотрим миниатюрную теорию, которую будем называть теориейотношения Е.
I. Язык теории отношения Е. 1. Основные символы: а) константы:
i) логические константы:à, ˉ, (х)3
ii) специальные константы: Е4 – символ двучленного отношениямежду индивидами;
b) переменные: i) индивиды: x, y, z, …
2. Понятие формулы: а) если a, b есть индивидуальные переменные, то Е (a, b)5 есть
формула;
3 «à» - логический знак импликации, в естественном языке соответствует союзу ‘если…., то….’; «ˉ» –логический знак отрицания, чаще изображается значком «¬», в естественном языке соответствуетвыражению ‘неверно, что…’; «(х)» – логический знак так называемого квантора общности, чащеизображается перевернутым А: «" (х)», в естественном языке соответствует выражению ‘для любого хверно, что…’4 E – отношение эквивалентности, т. е. грубо говоря, обобщение (генерализация) отношений равенства,тождества и функциональной идентичности. «Двучленное» здесь обозначает, что имеется в виду отношениемежду двумя, а не тремя, четырьмя и т. д. элементами.
b) если А (х) есть формула, заключающая в себе свободнуюпеременную х, то (х) А (х) есть формула6;
с) если А и В есть формулы, то Aà B и Ā есть формулы7.II. Логические средства теории отношения Е: а) теория квантификаторов (в которую включаются только
индивидуальные переменные).III. Аксиомы теории отношения Е:Е 1. (х) Е (х, х)Е 2. (x) (y) [E (x,y)à E(y, x)]Е 3. (x) (y) (z) {E (x,y)à [E (y, z)à E (x, z)]Эти формулы надо читать так:Е 1. Для всякого х, х находится в отношении Е к х.Е 2. Для всякого x и для всякого y, если (х находится в отношении E к
y), то (у находится в отношении E к x).Е 3. Для всякого x, для всякого y и для всякого z, если [x находится в
отношении E к y], то если [у находится в отношении E к z], то [х находится вотношении E к z]» (цит. по кн. Шаумян 1965, 66 – 67).
Отношение Е с описанными с помощью формального языка и аксиомсвойствами можно назвать инвариантом большого класса отношений,имеющих те же самые свойства (и некоторые другие, которые для даннойтеории являются не существенными), но определенных уже на множествеэлементов, имеющих вполне определенные свойства. Так, например, намножестве конкретных предметов можно определить бинарное отношение«иметь одно и то же наименование». Это отношение должно считатьсямоделью приведенной теории, так как для него выполняются все аксиомыэтой теории. Моделями этой теории будут и отношения «х и у являютсяаллофонами одной фонемы», определенное на множестве фонов данногоязыка, «х и у имеют один и тот же рост», определенное на множестве людей,«х и у параллельны», определенное на множестве прямых и т. д. ОтношениеЕ, как известно, в математике называется отношением эквивалентности, а егосвойства – рефлексивностью (х находится в отношении Е к х),симметричностью (если (х находится в отношении E к y), то (у находится вотношении E к x)) и транзитивностью (если [x находится в отношении E к y],то если [у находится в отношении E к z], то [х находится в отношении E к z]).
Теперь для того, чтобы показать, как модель используется в математикев качестве орудия, применяемого для исследования свойств
5 Читается: ‘отношение Е между элементами a и b’ или ‘a эквивалентно b’6 Читается: ‘то для любого х – А от х есть формула’7 Читается: если А и В есть формулы, то «если А, то В» и «не-верно, что А» суть формулы.
соответствующей теории воспользуемся примером, придуманномзамечательным польским логиком А. Тарским.
А. Тарский строит миниатюрную дедуктивную теорию. В этой теориипеременные х, у определены на множестве отрезков прямой. В качествеисходных терминов принимаются символы «S» (имя множества всехотрезков) и «@» (отношение конгруэнтности8).
Аксиомы теории.
Аксиома 1. Для всякого элемента х множества S х @ х (т. е. каждыйотрезок конгруэнтен самому себе).
Аксиома 2. Для всяких элементов х, у, z множества S, если x @ z, и y @ z,то х @ y (т. е. если два отрезка конгруэнтны одному и тому же третьему, тоони конгруэнтны и между собой).
Из этих аксиом могут быть выведены различные теоремы, например:
Теорема 1. Для любых элементов y и z множества S, если y @ z, то z @ y.
Теорема 2. Для любых элементов x, y и z множества S, если x @ y и y @ z,то х @ z.
Для приведенной выше теории можно построить следующую модель.Обозначим символом N множество всех чисел. Два числа x и y будем считатьэквивалентными (в символической записи х ≡ у), если разность х – усоставляет целое число. Для этой модели, например, формула 1,5 ≡ 6,5 верна,а 1,5 ≡ 6 – неверна.
По определению модели М теории Т, приведенному выше, мы должныпоставить в соответствие исходным символам теории исходные символымодели. Ставим в соответствие символу, обозначающему множествоотрезков (S), символ, обозначающий множество чисел (N). Элементаммножества отрезков (по определенному правилу) ставим в соответствиемножество чисел. На модели действуют те же аксиомы, что и в теории.Теоремы теории также оказываются в модели истинными.
С помощью полученной модели можно исследовать свойства ееоригинала, т. е. теории. Тарский приводит пример такого рода исследования.Он ставит задачу, доказать с помощью данной модели, что из системыаксиом теории не могут быть выведены некоторые высказывания:
«Рассмотрим следующее высказывание А (сформулированное только влогических терминах нашей теории).
А. Существуют два элемента х и у множества S, для которыхневерно, что х @ у (другими словами: существует два отрезка, неявляющихся конгруэнтными).
8 В геометрии под отношением конгруэнтности понимается отношение, связывающее геометрическиефигуры, совпадающие при наложении. Конгруэнтные фигуры эквивалентны.
Это высказывание кажется, несомненно, истинным. Тем не менее,никакие попытки доказать его на основании аксиом 1 и 2 не приводят кположительным результатам. Так возникает догадка, что высказывание Асовсем не может быть выведено из наших аксиом. Для подтверждения этойдогадки, мы рассуждаем следующим образом. Если бы высказывание Амогло быть доказано на основании наших аксиом, то, как мы знаем, каждаямодель этой системы удовлетворяла бы этому высказыванию; если поэтомунам удастся указать такую модель системы аксиом, которая не будетудовлетворять высказыванию А, мы тем самым покажем, что высказываниенельзя вывести из системы аксиом 1 и 2. Затем оказывается, что построитьподобную модель не составляет никакой трудности. Рассмотрим, например,множество всех целых чисел I (или какое-либо другое множество, хотя бынапример, множество, состоящее только из 0 и 1) и отношениеэквивалентности ≡ между вышеописанными числами. Из предшествующихзамечаний мы уже знаем, что множество I и отношение ≡ составляют модельнашей системы аксиом, однако высказыванию А эта модель неудовлетворяет, потому что нет таких целых чисел х и у, которые не были быэквивалентными, т. е. таких, разность между которыми не была бы целымчислом <…> Только что примененный вид рассуждения известен подназванием метода доказательства при помощи демонстрации модели илипри помощи интерпретации» (Тарский 1948, 172 – 173).
Из математики научное понятие модели перекочевало во многие другиенауки. На протяжении долгого времени оно разрабатывалось в философии идаже стало отдельным направлением в западной философии, по которомубыло написано не только большое количество научных работ, но и учебникии сборники задач, прослеживающие его интерпретацию на материале самыхразных наук, начиная от математики и квантовой механики и кончая такимигуманитарными науками, как социология или лингвистика (см., например,работы Марио Бунге). Однако содержание этого понятия в нематематическихдисциплинах значительно отличалось от такового в математике и построгости и по наполнению. Философы и математики, пытавшиесяпроследить типологию смысловых оттенков термина «модель» выявили дваполярных способа его понимания: математический, описанный выше, иестественнонаучный и кибернетический. Посмотрим вначале, как описываютразличие в его понимании в этих двух областях знания представители первойиз них – математики.
«Введя нужные математические определения, – пишут Ю. А. Шрейдери А. А. Шаров, – рассмотрим вопрос о том, как используется понятие моделипри описании сложных объектов реальности <…> рассмотрим, какиспользуется понятие модели в лингвистике» (Шрейдер, Шаров 1982, 30).Далее из многочисленных попыток определить понятие лингвистическоймодели и из тех многочисленных ее трактовок в лингвистике, которымлингвисты следуют на практике, авторы берут на вооружение только то,которое было заимствовано из математики, но при этом перевернуто с ног на
голову, и опираются на него в качестве единственно возможного. Я имею ввиду то понимание, которое изложено в книге И. И. Ревзина «Модели языка»(Ревзин 1962): «Модель строится следующим образом. Из всегомногообразия понятий, накопленных данной наукой, отбираются некоторые,которые удобно считать первичными.
Фиксируются некоторые отношения между этими первичнымипонятиями, которые принимаются в качестве постулатов. Все остальныеутверждения выводятся строго дедуктивно в терминах, которые определяютв конечном счете через первичные понятия. Модель в этом смысле не естьчасть языка как системы, а представляет собой некоторое гипотетическоенаучное построение, некоторый конструкт» (Ревзин 1962, 9). Сразу жеоговорюсь, что таким образом построено лишь очень небольшое числолингвистических моделей-теорий, например, дедуктивная теория Л.Ельмслева, ранние работы по порождающей грамматике Н. Хомского (см.,например, Хомский 1961), аппликативная модель С. К. Шаумяна (см.,например, Шаумян 1965) и некоторые другие.
«Ревзин, – пишут далее авторы цитированной выше работы, – довольноотчетливо выразил распространенное представление лингвистов о том, чтоесть модель языка. Если вдуматься в приведенную цитату, то окажется, чтоавтор называет моделью именно то, что в математике называется теорией<…> То обстоятельство, что модельл (т. е. лингвистическая модель – А. Б.),как мы постараемся показать ниже, есть понятие, в точностипротивоположное моделим, является весьма отрадным. Из него следует, чторасплывчатое лингвистическое понятие имеет точную математическуюэкспликацию, хотя для сравнения лингвистического понятия моделил сэталонным математическим понятием моделим приходится «перевернуть»эталон» (Шрейдер, Шаров 1982, 31).
Для того, чтобы показать, что лингвисты, когда имеют дело с моделью,на самом деле, работают с теорией языка, авторы подробно прослеживаютэтапы индуктивного лингвистического рассуждения и вводят дляобозначения этих этапов термины «изучение собственно объектов языка» (т.е. изучение конкретных единичных фактов), изучение наблюдаемыхобъектов (в результате применения абстракции отождествления,позволяющей перейти от изучения самих объектов к изучению классовобъектов): «Итак, изучая объект А, мы сопоставляем его с некоторыммножеством А, иначе говоря, рассматриваем объект А как множество А,которое назовем «наблюдаемым объектом» <…> На каждом из этихмножеств определены одноименные отношения R1, R2, …Rn, т. е. заданаобщая сигнатура. <…> В лингвистике, однако, интересуются не самимиотношениями в наблюдаемых множествах, а свойствами одноименныхотношений, общими для всех (или, в некотором не очень ясном смыслебольшинства) одноименных отношений в наблюдаемых объектах» (Шрейдер,Шаров 1982, 31 – 33). Далее из этого рассуждения делается вывод:«…модельл есть Теория, описывающая свойства отношений в наблюдаемых
множествах, представляющих исходные лингвистические объекты»(Шрейдер, Шаров 1982, 33).
Не ограничиваясь описанием процедуры индуктивного построениямодели-теории, авторы затем описывают и обратный процесс – процессинтерпретации теории, для чего также вводят новые понятия, отражающиеотношения между теорией и описываемым ею объектом: «Теория Тназывается состоятельной для класса К наблюдаемых моделей, если любойобъект из этого класса является моделью этой теории. Теория Т называетсяполной для класса К наблюдаемых объектов, если любая (конечная) модельмэтой теории изоморфна хотя бы потенциальному объекту из класса К»(Шрейдер, Шаров 1982, 39).
Итак, подведем итоги приведенного выше сравнения моделей класса«м» и моделей класса «л»: понятие модели в лингвистике по Ю. А. Шрейдеруи А. А. Шарову совпадает с понятием теории в математике, понятию же«модель в математике» в лингвистике соответствуют так называемыенаблюдаемые объекты. Согласно мнению этих авторов понятия модели итеории в лингвистике и математике прямо противоположны. Если лингвистызахотели бы привести свои термины в соответствие с математическими имследовало бы просто переименовать соответствующие понятия и называтьтеорией то, что они называли моделью, и моделью – то, что они называлиобъектом моделирования.
К совершенно другому выводу после аналогичного рассмотренияпроцедуры лингвистического исследования приходит лингвист С. К.Шаумян. Опираясь на глубокие традиции исследования структурырассуждения в эмпирических науках, он показывает, что в этих последнихсама сущность обобщения носит принципиально иной характер, чем в наукахчисто дедуктивных. В рассуждениях математика Ю. А. Шрейдераприсутствует идея о том, что теория может иметь бесконечное множествоконкретных интерпретаций (моделей), однако отсутствует идея о том, чтоматериал исследования эмпирических наук (объект в интерпретации Ю. А.Шрейдера), к которым с полным правом можно отнести и лингвистику,допускает бесчисленное множество трактовок, «теоретических», абстрактныхпредставлений объекта исследования. Более того, один и тот же объектреального мира может быть по-разному представлен в зависимости от целиего использования или от угла зрения, под которым он рассматривается. Так,в анатомии человек интересует исследователя с одной точки зрения, впсихологии – с другой, в лингвистике – с третьей, а в этнологии – счетвертой. Другими словами, если обозначить через ча человека каканатомический объект, через чп человека как объект изучения в психологии ичерез чэ человека как объект изучения в этнологии, то ча ¹ чп ¹ чэ (ср. этоположение с аксиомой арифметики: а = а). Поэтому «теория» в естественныхнауках ни при каких условиях не может быть вполне свободна, с однойстороны, от исследуемого материала, с другой стороны, – от точки зрения, скоторой рассматривается данный объект. Поэтому всякое утверждение об
объекте изучения естественной науки выглядит как гипотеза о его сущности,о его структуре и т. д. с некоторой вполне определенной точки зрения.Совокупность согласованных (не противоречащих друг другу) гипотезсоставляют гипотетическую теорию. Дедуктивная система гипотезподразумевает наличие в ней гипотез верхнего яруса (наиболее абстрактных),гипотез среднего яруса (менее абстрактных), гипотез нижнего яруса(наименее абстрактных). При этом, как отмечает Р. Б. Брэйтуэйт «Тообстоятельство, что большинство дедуктивных систем обладают более чемодной гипотезой верхнего яруса, имеет важное последствие дляэмпирической проверки этих гипотез. Как было показано, достаточно однойконтрарной инстанции для опровержения генерализации, а опровержениягенерализации (т. е. гипотезы нижнего яруса) достаточно для опровержениягипотезы верхнего яруса, из которой генерализация следует. Представим,однако, один из частных случаев, когда гипотеза нижнего яруса вдедуктивной системе следует не из одной, а из нескольких гипотез верхнегояруса. В таком случае опровержение гипотезы нижнего яруса будет означатьопровержение конъюнкции этих двух или нескольких гипотез верхнегояруса; логическим следствием из ложности гипотезы нижнего яруса будетутверждение, что по крайней мере одна из гипотез верхнего яруса – ложная.
Таким образом, в отношении почти всех научных гипотез, заисключением прямых обобщений наблюдаемых фактов, служащихгипотезами нижнего яруса в дедуктивной системе, полное опровержение также невозможно, как и полное доказательство. Опыт может толькосвидетельствовать о том, что в системе существует какой-то изъян; но мысами должны выбрать между разными решениями, какая часть системыдолжна считаться ложной» (Брэйтуэйт 1960, 19 – 20, цит. по Шаумян 1965,51). Уже это соображение говорит в пользу сомнения в том, что отношениямежду теорией и описываемым ею объектом так просты, как это изобразилицитированные выше математики.
Поведение же объекта исследования, его свойства, изначальносчитаются до конца неопределенными, и остаются таковыми всегда.
«Представим себе, – рассуждает далее С. К. Шаумян, – что мы решиливоспользоваться в эмпирических науках определением модели, принятым вматематических науках. Спрашивается: если принять для эмпирических наукопределение модели в математических науках, то можно ли считать, чтопознавательная функция модели будет в эмпирических науках такая же,какая она есть в математических науках?
На этот вопрос можно ответить только отрицательно. Вматематических науках модель – это орудие исследования теории; теория вкачестве объекта исследования представляет собой оригинал, отображениемкоторого служит модель. Дело, однако, должно в корне измениться, если мыперенесем дедуктивную теорию и ее модель из математических наук вэмпирические науки. Здесь дедуктивная теория уже не будет объектом,
который исследуется с помощью модели, здесь теория и модель уже не будутсоотноситься как оригинал и его отображение, а превратятся в орудиепознания эмпирической действительности. Теперь оригиналом модели будетне дедуктивная теория, а соответствующая область эмпирическойдействительности. Что касается дедуктивной теории, то в качестве орудияпознания эмпирической действительности, она должна считаться гипотетико-дедуктивной системой, которая нуждается в правилах корреспонденции,связывающих ее с соответствующей областью эмпирическойдействительности» (Шаумян 1965, 73-74).
Интересным моментом в этом рассуждении является то, что С. К.Шаумян для выявления противопоставленности математического иестественнонаучного представления о модели вводит понятиепознавательной функции, которое и позволяет ему усмотреть в двух этихтипах понимания существенное различие. Именно этого важного аспекта нехватает в рассуждениях математиков9 и философов, идущих за математикамислед в след10. Казалось бы следующим шагом в рассуждении С. К. Шаумянадолжно было быть введение в схему моделирования познающего субъекта,исследователя, наблюдателя, однако, видимо, увлеченный идеейобъективности процесса моделирования, автор этого важного шага не делает.Вот чем заканчивается его рассуждение: «Итак, в эмпирических наукахтеория и модель имеют эквивалентную познавательную функцию. Отсюдаследует, что в эмпирических науках нет никаких оснований для того, чтобыпротивопоставлять друг другу теорию и модель как разные вещи <…> теорияи модель должны быть подведены под одно понятие, как гипотетико-дедуктивные системы с эквивалентной познавательной функцией» (Шаумян1965, 77). Понимая все же, что имеет смысл развести эти два понятия, автор«Структурной лингвистики» предлагает считать понятие модели гипонимомпонятия ‘теория’. Вот его определение модели: «…модель – это теория,имеющая наглядное содержание в виде образов, служащих аналогаминенаблюдаемых объектов» (Шаумян 1965, 77). Это мнение С. К. Шаумянапрямо противоположно мнению целого ряда философов11, считающих, чтокак раз понятие теории является разновидностью модели. Подобнаятрактовка соотнесенности указанных понятий представляется мне болееобоснованной, чем трактовка почтенного автора аппликативной модели, хотя
9 Ю. А. Шрейдер и А. А. Шаров, хотя и цитируют сочувственно философа Б. С. Грязнова («Охарактеризоватьмоделирование – это прежде всего выяснить отношение между исследователем, моделью и оригиналом»(Грязнов 1967, 66)), однако никаких выводов из этого утверждения не делают.10 Ср., например, высказывание Р. Б. Брэйтуэйта: «В психологии и социальных науках слово «модель» частоупотребляется просто в качестве синонима формализованной или полуформализованной теории. <…>употребление слова «модель» вместо «теория» не ставит никаких специфических проблем, связанных спонятием теория» (Braithwaite 1962, 224 – 225, цит. по Шаумян 1965, 72 – 73).11 Ср., например, в одной из работ Ракитова: «Теория, таким образом, может рассматриваться как особый,хотя и чрезвычайно важный в гносеологическом смысле вид модели» (Ракитов 1969).
бы потому, что моделями называются и вполне материальные объекты(например, модель самолета мало похожа на теорию)12.
Ю. А. Шрейдер, кроме моделей в математике и моделей в естественныхнауках, выделяет еще и кибернетический тип моделей и, соответственно,особое понимание специалистами по кибернетике термина модель. «Вкибернетике часто слово «модель» употребляют в третьем смысле, которыйтакже может быть описан в рамках принятой нами схемы. Именно модельнаблюдаемого объекта – это обычно модельм той же Теории, котораяописывает класс наблюдаемых объектов. Например, когда демонстрируетсядвижущаяся модельк черепахи в виде тележки на колесах с мотором, то это,строго говоря, не модель самой черепахи, а модель той (довольно слабой)Теории, которая описывает класс объектов, способных совершать простыедвижения и выполнять несложный набор команд» (Шрейдер 1973, 75). Авторстатьи прав в том, что при обсуждении структуры ситуации моделирования вкибернетике необходимо учитывать ту теорию, которая и позволилапостроить модель черепахи. Следует отметить, однако, что в моделичерепахи важным было не то, что это тележка, а то, что в ней былоуправляющее устройство с прямой и обратной связью, имитирующеесоответствующие механизмы живых существ (см., по этому поводу Винер1958). Следовательно, исключение из моделируемых объектов живогосущества (черепахи) и теории, описывающей существенные для данногоисследования свойства этого живого существа, является сильным инеправомерным огрублением реальной ситуации.
Подведем теперь некоторые итоги нашего рассмотрения и выделим врассмотренных ситуациях моделирования их общие компоненты.
В математике постоянным объектом моделирования является теория.При этом моделируемый объект и модель этого объекта «сделаны» из одногои того же материала, и это понятно: объектом исследования математикиявляются абстрактные объекты: числа, множества. Ю. А. Шрейдерутверждает, что модель всегда более конкретна, нежели теория, что в теорииотсутствует множество объектов, на которых определяется теория, однако, впримере, который приводит А. Тарский, теория определена на множествеотрезков прямой, а модель определена на множестве рациональных чисел.Таким образом, модель в примере Тарского имеет ту же степеньгенерализации, что и теория. Этот пример показывает, что даже в математикеотношения большей или меньшей абстрактности не являютсясущественными для определения модели (и теории). Зато существеннымоказывается, что один из объектов (в данном случае абстрактных) служит длянекоторого наблюдателя объектом, исследование которого позволяет емусделать выводы относительно свойств другого объекта (также абстрактного)на основании некоторых, вполне определенных отношений между
12 Ср. в этой связи высказывание философа В. Штоффа: «Отличие модели от теории особенно очевидно вслучае материально-ве щественных моделей, которые представляют собой практически- предметнуюреализацию теории» (Штофф 1966)
сигнатурами данных математических объектов. Другими словами, еслиговорить о примере А. Тарского, то вполне возможно, что модель здесьможно сделать объектом моделирования, а теорию – моделью этого новогообъекта, если вдруг обнаружится, что исследование второго может помочь вдоказательстве того, что у первого имеются свойства, которые труднообнаружить при непосредственном наблюдении оригинала. Из этого следует,что понятие модели и объекта моделирования относительны, а не стативны,другими словами понятие модели функционально и зависит от намеренийнаблюдателя. Именно это имелось в виду в работах Л. Апостела, К. Д.Вюстнека, Б. С. Грязнова и его соавторов и других философов, когда ониписали о сложном отношении между моделью, моделируемым объектом иисследователем. Ср., например, в работе Грязнов и др. 1965:«Охарактеризовать моделирование – это прежде всего выяснить отношениямежду исследователем (выделено мною – А. Б.), моделью и оригиналом»(Грязнов и др. 1965). Элементы пары объектов, связанных отношениеммоделирования могут поменяться местами: то, что вначале было моделью,может стать объектом моделирования и наоборот. Это принципиальноезамечание, конечно, не значит, что не бывает так, что назначение некоторогообъекта ограничивается тем, что он всегда должен служить моделью другогообъекта. Если, например, опираться на понимание моделим Ю. А. Шрейдера,а не А. Тарского, то теория должна по отношению к реляционным системамбыть только объектом моделирования. Однако генерализация понятиямодели предполагает возможность для модели и объекта поменяться местамив процессе исследовательской работы.
Вторым существенным наблюдением, которое, в противоположностьпервому, можно считать установленным математиками, является то, покоторому между элементами модели и объекта должно быть установленосоответствие, которое собственно и позволяет на основании наблюдений надсвойствами модели, делать выводы относительно свойств исследуемогообъекта.
Третьим важным наблюдением над свойствами моделей являетсяуказание Ю. А. Шрейдера на то, что, когда речь идет о материальных типахмодели, то нельзя упускать из вида то обстоятельство, что в основерассмотрения материальной модели лежит теория, описывающая еесущественные свойства (и оставляющая без внимания несущественные).Единственное, что еще необходимо добавить к этому наблюдению, состоит втом, что если моделируется материальный объект, то и его рассмотрениеопирается на некоторую теорию этого объекта.
В последнее время важность присутствия в любом акте моделированиянаблюдателя, встроенность в понятие модели этой решающей фигуры всебольше осознается учеными, см. по этому поводу, например, Патти 1995,1997, Sharov 1998, 1999. Это рассуждение может быть подкрепленонаблюдениями еще одного математика, а именно выдающегося венгеро-американского ученого, создателя математической теории игр, одного из
создателей кибернетики, консультанта по математическим вопросам приразработке атомной бомбы в Лос Аламосе Джона фон Неймана (1903 –1957).
В своей работе «Математические основания квантовой механики»(1955) он писал: "That is, we must always divide the world into two parts, the onebeing the observed system, the other the observer . . . . That this boundary can bepushed arbitrarily deeply into the interior of the body of the actual observer is thecontent of the principle of the psycho-physical parallelism - but this does notchange the fact that in each method of description the boundary must be putsomewhere, if the method is not to proceed vacuously." ‘Таким образом, мыдолжны всегда делить мир на две части: исследуемую систему иисследователя …То, что эта граница (граница между свойствами,навязываемыми системе исследователем и свойствами самой системы – А.Б.) может быть отодвинута произвольно глубоко в недра подсознанияконкретного исследователя, является содержанием принципа психо-физического параллелизма, однако это не меняет сути дела: в каждом методеописания эта граница где-то должна быть проведена, если этот метод несоздан, чтобы работать впустую’ (цит. по Pattee 1997, электронная версия(http://www.ssie.binhampton.edu), с. 7 (14 кегль)).
Это свое утверждение фон Нейман подкрепляет следующимлогическим рассуждением. Пусть нам дана физическая система S, конкретноеповедение которой определяется физическими законами, посколькуфизические законы описывают все возможные способы поведения. Однако,если мы хотим измерить конкретные параметры поведения S, мы должныизмерить начальное состояние S с помощью прибора М. Таким образом,существенной функцией измерения является порождение вычислимогосимвола, как правило, числа, соответствующего некоторому аспектуповедения физической системы.
Далее, прибор М также должен подчиняться физическим законам,естественно, и в процессе измерения тоже. Таким образом, с помощьюзаконов физики мы можем корректно описать и поведение прибора. Теперьсоединим систему S и измерительный прибор и представим их как новуюфизическую систему S¢ = (S + М). Для того, чтобы предсказать, как будетвести себя новая система, мы должны прибегнуть к новому измерительномуприбору, чтобы замерить начальное состояние S¢. Этот новый прибор мывновь можем соединить уже теперь с S¢ в новую физическую систему S¢¢ и т.д.
Суть описанного мысленного эксперимента состоит в том, что функцияизмерения не может быть описана с помощью фундаментальногодинамического описания измерительного прибора, даже если подобноеоснованное на физических законах описание может быть достаточнодетальным и абсолютно корректным. Суть в том, что физический приборсуществует как физическая система и ничего больше, но для того, чтобы он
исполнял функции измерительного прибора, он нуждается в исследователе,который должен выбрать, какие параметры физической системыпроигнорировать, и обосновать выбор тех параметров, которые являютсясущественными для ее описания. Процесс отбора является результатомдействий исследователя или организма и не может быть выведен изфизических законов.
Известный специалист по биосемиотике Г. Патти подчеркивает в этомрассуждении фон Неймана отношения взаимной дополнительности, вкоторых находятся законы физики и измерения в физических исследованиях.Физики чаще всего стараются избежать обсуждения того, где проходитописанная выше эпистемическая граница, отстаивая взгляд на информацию,как на нечто абсолютно объективное, очищенное от присутствияиследователя, как на нечто существующее в структурах физического мира исовершенно независимое от исследователя.
В наших терминах измерения представляют собой модель физическогообъекта, вся структура которой зависит не только от отбора. Сам отборзависит еще и от целей исследования, от того, что исследователь хочетпонять в объекте в данном акте своего взаимодействия с ним. Очевидно, чтопонять все сразу нельзя, значит необходимо еще и разбить исследование наэтапы. А это разбиение еще одна составляющая моделирования и егорезультатов.
1. 2. Схема ситуации моделирования. Обобщение понятия «модель»в науке.
После этих замечаний, можно уже попытаться дать общенаучноеопределение модели.
Введем понятие эйдоса13 объекта. Определения ему не дается. Скажемлишь, что под эйдосом объекта мы в дальнейшем будем пониматьнематериальные объективные свойства данного объекта, существенные дляданных целей взаимодействия с ним живого существа или биологическойфункциональной системы (например, генома, клетки, мозга и т. п.). Вот чтописал по поводу такого рода свойств Г. Фреге: «Я отграничиваю объективноеот осязаемого, пространственного, реального (wirkliches). Земная ось, центртяжести Солнечной системы объективны, но я не могу назвать их реальными,в отличие от самой земли. Экватор называют воображаемой (gedachte)линией, но было бы неправильно называть эту линию выдуманной (erdachte);экватор не создается мыслью» (Frege 1884, S. 34). К эйдетическим объектамследует относить и числа. Эйдосом объекта, может, например, быть егоразбиение на существенные для данного способа взаимодействия с ним части
13 Введенный когда-то Платоном, этот термин в нашем случае хорош своей изначальнойнеопределенностью. Близкие к нему термины либо слишком узки (например, концепт,противопоставляемый, например, эмотивному, этическому и некоторым другим компонентам семантикиязыковых знаков), либо слишком многозначны (как, например, информация). Термин ЭЙДОС всовременной семиотической литературе (если не относить к ней работы А. Ф. Лосева) пока не занят, и внего можно вложить ту семантику, которая нам здесь нужна.
(ср. части человека, которые выбирают дети, когда рисуют (руки, ноги,голова, глаза, брови, рот, нос), и части человеческого тела, которые выделяетанатом), ими могут быть параметры физического объекта, которые в данномвзаимодействии с ним исследователь считает существенными, эйдосомреплицируемого участка ДНК является разбиение последовательностиоснований нуклеотидов этого участка на кодоны, эйдосом может быть способупорядочения вагонов в составе поезда, отношения симметрии, асимметрии,вообще любые отношения, эйдетической сущностью являются и классыобъектов, отношений, свойств и т. д. Эйдетический компонент материальныхобъектов противопоставляется их материальному компоненту, которомутакже трудно дать определение. В настоящее время противопоставление это,введенное еще Платоном, активно обсуждается в физике, биологии, химии,computer science. Так, упоминавшийся выше фон Нейман в книге,посвященной теории самовоспроизводящихся автоматов (Нейман 1966),отмечал, что в обычном употреблении материя и символ14 категориальноразведены, так, нейрон порождает импульс, но импульс и нейрон непопадают в один и тот же класс объектов, компьютер порождает биты, нобиты и компьютер не относятся к одному и тому же классу, измерительныеприборы порождают числа, но и они относятся к разным классам объектов.
Г. Патти определяет материю и энергию следующим образом: «I willmean by matter and energy those aspects of our experience that are normallyassociated with physical laws – ‘Под материей и энергией я буду понимать теаспекты нашего опыта, которые обычно ассоциируются с физическимизаконами’.
Соответственно, символы определяются так: «I could alternativelydescribe a symbol as a relatively simple material structure that, while correctlydescribable by all normal physical laws, has significance or semantic function thatis not describable by these laws» – ‘я мог бы в качестве альтернативногопонятия описать символ как относительно простую материальную структуру,которая хотя и описывается вполне корректно всеми обычными физическимизаконами, наделена еще и значением, или семантической функцией, котораяне может быть описана этими законами’. Под символами при этом Паттичаще всего понимает ту их часть, которая не может быть описанафизическими законами.
Российско-американский биолог Алексей Шаров, как и многие другиепредставители естественных наук называет второй член упомянутой вышедихотомии информацией15. При этом он различает два вида информации:потенциальную (видимо, по аналогии с потенциальной энергией) и
14 Фон Нейман противопоставляет материю символу потому что мы можем обсуждать эйдетическиекомпоненты, только используя для их представления знаки (символы). В общем, это не очень корректныйспособ обозначения эйдоса, но в науке до сих пор не выработано единого способа обозначения этогообъекта.15 Следует отметить, что понятие информации у А. Шарова, в основном, ограничивается значениембиологического сигнала, которое он противопоставляет структурным характеристикам объекта (в моемпонимании тоже эйдетическим), таким, например, как форма, которую также вряд ли можно описать спомощью физических законов.
актуальную). Потенциальная информация не зависит от субъекта восприятияи не выполняет никаких функций в сложно организованных системах.Актуальная информация либо изначально связана с системой, в которой онавыполняет определенные функции, либо воспринята этой системой извне иконтролирует ее деятельность, причем эта деятельность может носить какфизический, так и ментальный (видимо, в широком, биологическом, смыслеэтого слова) характер. Введенное мною понятие эйдоса имеет отношение кактуальной, в понимании Шарова, информации.
Важным свойством эйдоса в моем понимании является еще и то, что впротивопоставлении информации и энтропии эйдос отделяет отнеопределенной, энтропической части всех идеальных свойств объектаопределенные, освоенные, информационные его свойства и имеет отношениетолько к ним. В этом смысле эйдос – разновидность информации.
В том же смысле высказывается по поводу теории моделей, например,датский исследлователь С. Кёппе: «Models are useful means to thinking. It is,however, necessary to realize that they imply a theory; a theory about theproperties that the model selects, isolates, and qualifies» – Модели с успехомиспользуются в мыслительном процессе. Онако необходимо понимать, чтоих использование предполагает теорию, теорию, касающуюся свойств(объекта моделирования), которые модель отбирает, обособляет и делаетопределенными (Кёппе 1999, аннотация).
Следует отметить, что любая теория объекта является моделью егоэйдоса.
После всех этих предварительных замечаний дадим рабочееопределение модели16.
Пусть нам дан некоторый объект произвольной природы О и выбраннекоторый эйдос объекта Е(О), отображающий существенные длявзаимодействующего с ним субъекта, или биологической функциональнойсистемы I свойства объекта О, и пусть нам дан объект М и выбран некоторыйэйдос объекта Е(М). Если теперь имеется система соответствий междупростыми или сложными элементами Е(О) и Е(М), S(E(О) <==> E(М)),содержанием которой являются: 1) множество соответствий междуэлементами E(О) и E(М) и/или между конструктами, образованными из этихэлементов и/или 2) набор правил, по которым строятся эти соответствия, и,на основании (1) и/или (2), программа взаимодействия с М для I при решениипроблемы Р становится основой для построения программы взаимодействияс О, то М называется моделью О для субъекта или биологической системы Iпри решении ими проблемы Р. Схематически ситуацию моделированияможно изобразить следующим образом:
16 Определения, которые будут даны ниже используемым мною терминам, не являются математическистрогими (они нужны для того, чтобы читатель достаточно точно понял, что я имею в виду, когдаупотребляю то или иное специальное слово), я не буду следовать математическому правилу, по которомутермины должны вводиться последовательно, в том смысле, что в определении должны содержаться либонеопределяемые, либо уже определенные слова. Для моих целей достаточно, чтобы в их определении небыло так называемых порочных кругов, т. е. чтобы не было такой ситуации, при которой термин Аопределялся бы через термин В, а термин В – через А.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (I)
Е(O)-------------------S(E(O) <==>E(M))-------------------E(M) | | | | O M
Замечу, что отношение моделирования (т. е. отношение междуобъектом моделирования и моделью) антирефлексивно и антисимметрично,транзитивность17 для него, свойство, в общем случае (см. об этом ниже),несущественное. Отмечу еще раз, что понятие модели относительно иопределяется целиком намерениями (и возможностями) пользователя. Впринципе, если система соответствий S(E(О) <==> E(М)) обеспечиваетвозможность по свойствам О строить гипотезы об М, то О и М в другойцелевой программе поведения у пользователя модели могут менятьсяролями. Причем свойство это не противоречит утверждению обантисимметричности отношения моделирования, поскольку нечто называетсямоделью чего-то при фиксированной для пользователя задаче или прификсированном классе задач.
Поскольку это последнее утверждение для дальнейших рассужденийочень важно, продемонстрирую указанное свойство модели на конкретномпримере. Попробуем установить отношения моделирования междувосстановленным храмом (например, восстановленным сейчас в МосквеХрамом Христа-Спасителя), образом этого восстановленного храма в головевосстановившего его архитектора, проектом реконструкции, объектомвосстановления (в моем примере - Храмом Христа-Спасителя), проектом егопостроения, его макетом и образом этого храма в голове архитектора, когдаон еще не был построен.
Оригинальным объектом, которому должна быть по некоторымправилам поставлена в соответствие его модель, является идея структурыздания, которая могла прийти в голову, видимо, только профессиональномуархитектору. Идея выражается на языке чертежей и воплощается вначале вмакете, а затем в проекте. Проект по отношению к идее является моделью(которая, заметим, как и макет, во много раз конкретнее своего оригинала).Затем по проекту строится храм (еще более конкретный объект, чем проект).
17 Отношение R на множестве {М} называется антирефлексивным, если в {М} не существует ни одноготакого элемента а для которого было бы верно, что aRa (объект не может быть моделью самого себя).Отношение R на множестве объектов {М} называется антисимметричным, если в {М} не существует парытаких элементов a и b, для которых было бы верно, что aRb & bRa (не может быть такого положения, прикотором при выполнении некоторой задачи одновременно с тем, что М является моделью для О, а О –моделью для М. Отношение R на множестве {М} называется транзитивным, если для любых пар х1Rx2 иx2Rx3 отношение R выполняется и для пары x1Rx3.
Храм по отношению к проекту является моделью, а проект - объектом-оригиналом. Будчи построенным, Храм вступает во взаимодействие сдругими объектами, с которыми его связывают отношения, которых не былов оригинале. Он начинает, как и макет, подчиняться законам тяготения,вступает в пространственные и физические отношения с землей, воздухом,атмосферными осадками, другими зданиями и т. д. У него начинается своя«жизнь», не похожая на жизнь оригинала. Далее Храм разрушается.Сохраняются чертежи. Возникает идея воссоздания Храма. Новыйархитектор (новый пользователь моделей) по сохранившимся чертежам ифотографиям (моделям построенного Храма) рождает – и это уже другаязадача – новую идею его структуры (модель по отношению к чертежам ифотографиям). Затем по новой идее структуры храма делается новый егопроект (модель идеи). Затем по проекту строится новый Храм (модель поотношению к проекту). Изобразим теперь все эти отношения схематически:идея Храма (объект) <==> (правила соответствий между элементами объектаи элементами проекта) - проект (модель). Проект (объект) <==> Храм(модель). Проект и фотографии (объект) <==> идея структурывоссоздаваемого храма (модель). Идея Храма (объект) <==> новый проект(модель). Новый проект (объект) <==> воссозданный Храм (модель).Заметим, что в пределах определенного наблюдателя и определеннойпоставленной задачи у нас есть начальный объект моделирования, конечныйобъект моделирования (цель построения всей цепочки моделей) ипромежуточные модели, которые должны удовлетворять определеннымсвойствам процесса. Каждая следующая модель в этой цепочке являетсямоделью не только по отношению к своему непосредственному объектумоделирования, но и по отношению к объекту моделирования своегообъекта, т. е., если через RM обозначить отношение ‘быть моделью’, черезО1, О2… – объекты моделирования, а через М1, М2… модели в этомотношении, то если нам даны О1 RM М1 и О2 RM М2, и М1 = О2, то О1 RM М2,т. е. М2 будет моделью и для О1. Таким образом, в этой цепочке моделейотношение моделирования становится транзитивным. Но как толькоменяется наблюдатель и заканчивается цепочка, отношения транзитивностиперестают быть обязательным свойством цепочки. Так, нынешний ХрамХриста Спасителя является моделью разрушенного для того, кто егопроектировал, для строителей, которые должны были стараться сделать так,чтобы сходство было соблюдено. Но для наблюдателя, ничего не знающего оразрушенном Храме, он не будет расценен, как модель разрушенного Храма.А если он сфотографирует этот новый храм, то единственным объектом, длякоторого фотография будет моделью будет новый храм. Для человека,который знает о нем, новый храм – модель старого, если он захочет понятьпо новому, как выглядел старый, при этом промежуточные модели для негоне важны.
Еще одним важным свойством модели по приведенному вышеопределению является то, что, поскольку всякое моделирование связано спредварительным построением эйдосов объекта и модели пользователем, эти
два компонента являются в схеме моделирования обязательными, другимисловами, объект моделирования может совпадать с эйдосом объекта, амодель – с системой соответствий S: в ситуации моделирования может бытьтак, что эйдос объекта и есть объект, эйдос модели – и есть модель, но неможет быть так, что объект моделирования, не совпадающий с эйдосом,напрямую сопоставлялся с модельным объектом, не совпадающим с эйдосоммодели.
Введу теперь еще одно общее понятие, которое мне понадобится вдальнейшем. Вся ситуация моделирования представляет собой еще ипроцесс, с одной стороны, построения нужной модели по заданному объектумоделирования и применительно к данной задаче (назовем его синтезоммодели), с другой стороны, распознавания степени адекватности данноймодели по отношению к данному объекту моделирования (назовем этотпроцесс анализом модели). Кроме того, вся ситуация моделирования бываетнеобходима, когда сопоставляются две модели одного и того же объекта, дваразных объекта моделирования для одной и той же модели, с третьейстороны, важно бывает оценить эйдосы модели и объекта, системусоответствий между элементами эйдосов объекта и модели. В этом случаенам следует говорить обо всей ситуации моделирования, со всеми еекомпонентами. Конструкция, в которую включены все компоненты ситуациимоделирования: объект и модель, эйдос объекта и эйдос модели, системасоответствий между элементами эйдоса объекта и эйдоса модели, будетназываться модельной системой. Можно считать, что в сложных модельныхобъектах модельная система представляет собой квант модельного процессаи элементарную единицу уже построенной сложной модели.
Рассмотренный выше пример с Храмом позволяет нам выделить оченьважный частный случай использования связки модельных систем, внутрикоторой отношения моделирования становятся транзитивными. Назовемтеперь множество модельных систем, на котором задано отношение строгогопорядка, такое, что в каждой последующей модельной системе объект,который служил моделью другого объекта в предыдущей, становитсяобъектом моделирования, а отношения моделирования приобретают свойстватранзитивности, модельными цепями. Модельная система, входящая вмодельную цепь будет называться звеном модельной цепи.
1. 3. Типы моделей.Убедимся теперь в том, что под приведенное выше (нестрогое)
определение модели подпадают уже исследованные отношения междутеорией и моделью в математике.
Поскольку в математике не исследуются объекты реального мира, Е(О)и О, а также Е(М) и М в математических исследованиях совпадают. Так,например, в миниатюрной теории А. Тарского и ее модели, рассмотренныхвыше, нет нужды строить «эйдос теории», поэтому «эйдос теории» и теориясовпадают, то же можно сказать и о модели: эйдосом модели являетсясобственно миниатюрная теория. Выводы о свойствах объекта (т. е.миниатюрной теории) делаются на основе теории соответствий между
элементами сигнатур теории и модели, а также на основании неформальногопостулата, по которому, как писал Чжао Юань-жень, «то, что существует, неможет быть внутренне противоречивым». Схема моделирования в данномслучае выглядит следующим образом:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (I)
Е(O)-----------------------S(Е(O) <==>Е(M))-------------------Е(M) = О = М
Теперь посмотрим, подпадает ли под данное определение понятиемодели в кибернетике. Как уже было сказано выше, когда мы имеем дело скибернетическим устройством, оно выполняет роль модели некоторогоживого существа в интересующем исследователя отношении (а именно, вотношении сходства управляющих систем). В принципе, на рольмоделируемого объекта в данном случае подходит и черепашка, и мышь, илягушка, поэтому мы можем говорить в данном случае о классе ситуациймоделирования, в котором модель – одна и та же, а моделируемых объектов –множество. Такие объекты я буду называть эквивалентными относительноданной модели или вслед за Ю. А. Шрейдером – сомодельными объектами.Подобная ситуация обусловливается бедностью эйдоса объекта, которойвполне соответствуют бедность эйдоса модели и системы соответствиймежду элементами Е(О) и Е(М). Тем не менее, когда мы выбираемконкретный объект моделирования, ситуация становится вполнеоднозначной.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (I)
Е(O)-----------------------S(Е(O) <==>Е(M))-------------------Е(M) | | | | черепаха кибернетическое устройство
Введем здесь же еще одно полезное понятие, связанное с отношениемсомодельности, а именно понятие, которое отображает ситуацию,противоположную сомодельности. Я имею в виду ситуацию, при которойодному и тому же объекту соответствует несколько разных моделей. Так,например, один и тот же корабль может моделироваться чертежом,различными макетами и т. д. Две модели, которые моделируют один и тот жеобъект будут называться кореферентными.
В лингвистике дело обстоит сложнее. Здесь все зависит от того, каковацель исследователя в данный момент.
Процесс исследования здесь, как впрочем и в любой другойэмпирической науке, можно представить как последовательную смену ролей
объекта и модели: в начале, на основе наблюдений над объектом, строитсяего теория, которая затем становится логической моделью объекта изучения,так как на основании исследования ее структуры исследователь начинаетсудить о структуре самого объекта. При этом теория как объект, отличный отисходного, при своем развитии начинает приобретать свойства, либонеизвестно каким образом соотносящиеся со свойствами исходного объекта,либо вообще не соотносимые со свойствами объекта. В этом случаеисследователь должен произвести дополнительные исследования самогообъекта, чтобы проверить неизвестные свойства теории и здесь уже объектстановится моделью теории. Затем теория дополняется или изменяется иснова объект и теория меняются ролями и т.д.
Некоторое время назад в лингвистике выдвигалась идея построениякибернетической модели языка. В этом случае ситуация моделированиядолжна выглядеть так же, как и в случае с кибернетической моделью живогосущества.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (I)
Е(O)-----------------------S(Е(O) <==>Е(M))-------------------Е(M) | | | | | | | | язык кибернетическое устройство (Я/О) (КУ/М)
Компьютерные программы типа «Элиза» могут вполне считатьсяпримитивными моделями языка.
Легко убедиться, что и в технике то, что обычно считается ситуациеймоделирования вполне укладывается в нашу схему. Скажем, когда намнужно построить корабль, и мы хотели бы предварительно убедиться вправильности наших расчетов, мы предварительно строим макет корабля илидействующую его модель и проверяем свойства модели в специальныхбассейнах, затем экстраполируем результаты наших наблюдений нанастоящий большой корабль и начинаем его строить. При этомубедительность нашей экстраполяции придает теория соответствий междумоделью корабля и большим настоящим кораблем: мы строим модель встрогих пропорциях по отношению к большому кораблю, например 1:200.Мы можем быть уверены в наших рассуждениях благодаря тому, чтосуществует теория соответствий между компонентами большого корабля икомпонентами его макета. Таким образом схема моделирования в данномслучае будет выглядеть так же, как и в предыдущих случаях:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (I)
Е(O)-----------------------S(Е(O)<==>Е(M))-------------------Е(M) | (масштаб) | | | | | | | большой корабль модель корабля
Е(БК) в нашем случае – техническая документация, по которой строитсябольшой корабль, а Е(МК) – техническая документация, по которой строитсямакет или модель корабля.
Моделирование в настоящее время используется как научный метод вомногих естественных научных и научно-технических дисциплинах, таких какфизика, механика, гидравлика, аэродинамика, химия, биология, такихгуманитарных дисциплинах, как лингвистика, социология, психология,экономика, этология. В качестве яркого примера такого рода моделей можнопривести математическое моделирование физических процессов, т. е. методыисследования физического процесса путем опытного изучения аналогичныхявлений, имеющих иное физическое содержание, но описываемых теми жематематическими уравнениями. На электрических, например, моделяхисследуются свойства процессов распространения электромагнитных извуковых волн, диффузии газов, фильтрации жидкостей в пористых средах,явления кручения валов и стержней, тепловые явления и т. д. Для этогоиспользуются аналогии между электрическими величинами исоответствующими величинами, с помощью которых описываются объектымоделирования. Ср., например, таблицы аналогий между механическими иэлектрическими величинами:
Первый вид аналогийЭлектрический заряд – механическое перемещениеНапряжение – силаСила тока – скоростьИндуктивность – массаЕмкость – упругость
Второй вид аналогийМагнитный поток – механическое перемещениеНапряжение – скоростьСила тока – сила
Индуктивность – упругостьЕмкость – массаОснованием для этих аналогий является математическая теория
дифференциальных уравнений. В моей схеме ситуации моделирования этианалогии заняли бы позицию Е(О) и Е(М), т. е. позицию способовпредставления объекта и модели в терминах теории дифференциальныхуравнений. Система соответствий S в этом случае получится тривиальной.
Начиная с 50-х годов ХХ в. в философии появляются попытки созданияобщей теории моделей в рамках философской дисциплины «логика иметодология науки». Основными направлениями исследований в рамкахобщей теории моделирования является классификация и исследованиеструктуры и функций конкретных моделей, уже построенных на базеразличных отраслей знания, выявление общих моментов в построении ифункционировании моделей, выработка единого метаязыка для их описания,логическое обоснование метода моделирования, классификация отношениймежду элементами Е(О) и Е(М) (теория подобия, теория аналогий,исследование структуры логического вывода при моделировании инекоторые другие). Наиболее интересными результатами исследований вэтой области были классификация моделей и общие характеристикиполученных классов.
По цели, которую преследует пользователь модели, их можноразделить на исследовательские, репрезентативные и инструментальные.
На исследовательских моделях ставятся эксперименты,предназначенные для выявления свойств, которые можно (гипотетически,доказательно или экспериментально) экстраполировать на исследуемыйобъект. Хорошим примером исследовательской модели являютсядействующие модели (или образцы) самолетов, свойства которыхпроверяются в моделях среды (например в аэродинамических трубах, или вестественных условиях, и затем согласно определенной теории соответствияпереносятся на объекты моделирования – серии самолетов, построенных поаналогичным проектам. Другим примером исследовательской моделиможет служить существовавшая когда-то гидравлическая модель спроса ипредложения в экономике. Она состояла из системы трубок, заполненныхразноцветными жидкостями и имитировала изменения в состоянииэкономики относительно указанных двух параметров. В настоящее время всеэти модели строятся на компьютере. Математические модели теории такжеможно отнести к классу исследовательских, поскольку на них проверяютсвойства теорий. С другой стороны, например, всякая теория в эмпирическихнауках может рассматриваться как исследовательская модель, поскольку наней проверяются свойства описанного теорией объекта.
Репрезентативные модели предназначены для того, чтобы фиксироватьпредставления исследователя об объекте моделирования, сохранять ивоспроизводить их в наглядной форме и/или обучать по модели других
исследователей. Примерами таких моделей могут служить различного роданаучные теории, макеты (например, Луны, Земли), географические карты и т.п. Важнейшей разновидностью репрезентативных моделей являются знаки изнаковые системы. В языковых текстах исследователь фиксирует полученныерезультаты и представляет их коллегам.
Инструментальные модели используются либо для облегчения иливыполнения тяжелой работы, либо как промежуточный этап в сложныхисследованиях, либо как способ фиксации результатов исследования. Вкачестве примеров такого рода моделей можно привести искусственнуюруку, компьютерную модель автоматического перевода, естественные иискусственные языки и т. п. Языковые знаки и здесь находят свое место.Язык – инструмент исследования мысли. Всякий иследователь знает, что дотого, как мысль записана и истолкована с помощью языковых знаков, онапредставляет собой лишь сырой продукт.
По соотнесенности объекта моделирования и модели в качествеосновных классов можно выделить аналоговые модели и моделиреляционные. Аналоговые модели предполагают отношения подобия,сходства, модели и объекта моделирования по определенному наборупараметров, реляционные модели предполагают лишь наличие соответствиймежду элементами модели и элементами объекта моделирования. Объектмоделирования и модель могут обнаруживать сходство в форме, материале,структуре, функции, а также в перцепции. Портрет, например, – аналоговаямодель. В реляционных моделях никакого сходства между объектоммоделирования и моделью не предполагается. Так, при счете пальцы на рукеслужат нам универсальной моделью для исчисления множеств какматериальных, так и идеальных объектов, при этом мы ставим один палец всоответствие той части множества, которую мы считаем далее неделимой.Какую из этих частей мы поставим в соответствие какому пальцу –безразлично. Безразлично и будут ли в качестве моделей выбраны пальцы,счетные палочки или костяшки счетов.
Слова естественного языка совмещают в себе свойства как аналоговых,так и реляционных моделей: содержательный компонент слова (интенсионал)содержит в себе набор параметров, который воспроизводит частьхарактеристик обозначаемого объекта, он может отображать структуруобъекта (концептуальный или функциональный ее аспект), например,воспроизводить элементы его физической структуры и отношения междуними. Ср., например, толкование лексемы СТОЛ у С. И. Ожегова: «предметмебели в виде широкой горизонтальной пластины на опорах, ножках». В немвоcпроизводится структура стола: выделены элементы структуры (широкаягоризонтальная пластина и ножки). И установлены пространственныеотношения между ними: пластина располагается на ножках, а не рядом сними и не под ними. Таким образом, содержательный компонентозначаемого лексемы может представлять собой аналоговую модель
обозначаемого объекта (бывают и другие типы моделей18), а точнее – классаобъектов (экстенсионала), имеющего общие свойства, и наоборот: всодержательном компоненте знака, подобного рассмотренному,отображаются только общие для всего класса свойства объектов.Означающее же словоформы стол – в письменном языке – упорядоченнаяцепочка из четырех букв представляет собой реляционную модельсодержательного компонента. Связь между означающим словоформы и еесодержанием, в данном случае, условна, она обусловлена традициейсвязывания данного означающего и данного означаемого отношениемобозначения (моделирования). В немецкоговорящем сообществе традициядругая. Там эквивалентному содержанию сопоставлена другая реляционнаямодель – Tisch (упорядоченная цепочка из пяти букв, соответствующаяупорядоченной цепочке из трех звуков). В турецком – третья masa и т. д.Важно отметить, что мы имеем здесь две «связки» модельных систем:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (I)
Е(O1)-----------------------S(Е(O) <==>Е(M))------------------Е(M1) Эйдос объекта интенсионал | | | | Обозначаемый Класс подобных Объект (ОО) ОО объектов (экстенсионал)И вторая:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (I)
Е(O2)--------------------S(Е(O) <==>Е(M))-----------Е(M2) интенсионал эйдос звуковой цепочки | | | | | | Класс подобных ОО Последовательность объектов (экстенсионал) звуков (означающее)
18 Так, например, интенсионал лексемы РЕЗИНКА обозначает свой объект по материалу, из которого этотобъект сделан, интенсионал лексемы ПАРУСИНА – по тому объекту, который изготовляют из материала,обозначемого этой лексемой, ПОДАРОК – по ситуации, в которой некто Х дарит некоему Y то, чтообозначает данная лексема и т. д.
Причем, так же, как и в случае с Храмом Христа Спасителя, отношениямоделирования в этих сопряженных модельных системах транзитивны: еслиМ2 является моделью для О2 и М1 является моделью для О1 и О2 = М1, то М2является моделью и для О1. Из этого следует, что в языковых знаках мыимеем дело с модельными цепями, включающими в себя как минимумдва модельных звена, и отношения моделирования в цепочкетранзитивны.
Последним важным параметром в классификации моделей являютсяприемы построения системы соответствий между элементами эйдосамоделей и эйдоса объекта моделирования, связанные с возможностямиперцептивного аппарата человека. Так, для экспериментальных наук оченьважным оказывается разграничение внутренних и внешних параметровмоделируемого объекта. Это разграничение часто очень тесно связано сдругим разграничением – наблюдаемых и ненаблюдаемых параметровобъекта. Особенно важным деление параметров на эти два классаоказывается в случаях, когда внутренняя структура объекта оказываетвлияние на его внешнее поведение. Так, например, структура атомаопределяет и его физические, и его химические свойства. То же можносказать о молекуле.
Впервые теории, учитывающие разграничение внутренних и внешнихпараметров моделируемого объекта, появились в электротехнике, где частоприходилось описывать объекты, внутренняя структура которых быланедоступна для непосредственного наблюдения. Инженеры назвали объектыподобного типа «черными ящиками». Наблюдаемыми в них были тольковнешние параметры, т. е. параметры, отражавшие взаимодействия данногообъекта с другими. Параметры, описывающие воздействие на объект былиназваны входными, параметры же описывающие поведение объекта, котороерасценивалось как результат воздействия были названы выходными. В 60-егоды прошлого века сформировалась общая теория моделей типа «черныйящик», была определена роль подобных теорий в научных исследованиях,общая методология разработки подобного рода теорий, сфера и границы ихприменения.
В теориях черного ящика учитывались только наблюдаемыепараметры, такие, например, как форма, порядок расположения, внешнееповедение, внешние измерения и т. п. Объекты такого рода в теориях черногоящика описываются так, как будто они не имеют внутренней структуры.Подобный способ описания обеспечивает полную объективность,отделяющую факты от домыслов, простоту описания, высокую степеньобщности, точность и надежность. Однако наряду с достоинствамиисследователи отмечают и недостатки, являющиеся, как водится,продолжением достоинств таких моделей. Так, по наблюдениям ужеупоминавшегося выше М. Бунге (Бунге 1963) простота оборачивается
поверхностностью, высокая степень общности – отсутствием детализации, авысокая степень адекватности, не сопровождаемая глубиной и надежностью,ставит подобного рода теории в опасную близость к неопровержимости, чтотакими исследователями, как К. Поппер, расценивается как признакненаучности. Как показывает история науки, теории типа «черный ящик»применяются чаще всего, как обязательный этап развития, на начальныхстадиях становления научной дисциплины и обычно дополняются илизамещаются теориями, использующими в той или иной мере гипотетическиеили опытные данные о внутренней структуре объектов, позволяющиеобъяснить их внешнее поведение. Теории последнего типа называютсятеориями полупрозрачного ящика. Теории черного и полупрозрачного ящикапротивопоставляются теориям прозрачного ящика, которые строятся наоснове прямых наблюдений за процессами, происходящими внутри объектаисследования. Довольно часто при этом теории черного, полупрозрачного ипрозрачного ящика сосуществуют. «Бытовым» примером такого родасосуществования является, например, случай с компьютером. Дляпрограммистов и пользователей компьютер представляет собой черныйящик, они пользуются только данными, касающимися входа и выхода вкомпьютер. Для разработчиков же и конструкторов компьютер представляетсобой прозрачный ящик. Если говорить, например о языковых объектах, то,скажем, словоформа для синтаксиста – черный ящик, для морфолога –прозрачный.
Рассмотрим теперь две «гуманитарных» модельных ситуации.Анализ примера 1.Вспомним мифологию. Известно, что в различного рода
мифологических системах фигурирует понятие Arbor Mundi - МировогоДрева, как структуры, определившей переход от мирового (т. е."беззнакового и беспризнакового" - Топоров 1980) хаоса купорядоченности (т. е. к появлению знаковости и признаковости)
составных частей мира.Нанайский вариант схемы
мирового древа. Три дерева, надкоторыми висят девять духов. Уразвилки центрального дерева —солнце, у ствола — две человеческиефигуры, сзади них — жертвенныйстол, к стволу дерева привязанылошади. Изображение на ткани (изХимик 1994).
Известно, что в Древе, как вмодели мирового порядка, выделялось
три компонента - крона, ствол и корни. В первую очередь мировое древомоделировало деревья реального мира. И в этой элементарной
аналоговой модели собственно абстрактная крона интерпретировалась19
кроной любого прямо растущего дерева (в некоторых мифологическихсистемах порода была указана, в некоторых – не указывалась по разнымпричинам, например, потому что дерево было волшебным), ствол –стволом, а корни – корнями. Главным отношением между частями древабыл аналог пространственных отношений: крона выше, чем ствол, аствол выше чем корни. Поскольку отношения выше ниже отличаются отбольше – меньше только меньшей абстрактностью, можно изобразитьотношения между ними аналитически следующим образом Крона >Ствол > Корни по расположению относительно земли (в этом смыслеможно считать, что расстояние от поверхности земли у корнейхарактеризуется отрицательной величиной). Крона ближе к небу, ствол –к земле, а корни под землей. Отношения между частями древа,представленные выше (Крона > Ствол > Корни по расстоянию отземли), собственно, и есть эйдос модели. Элементы мирового древабыли универсальными моделями для многих элементов макрокосма имикрокосма. Главное назначение древа в этом аспекте эксплуатацииэтого мирового символа – единообразно упорядочивать эти элементы. Вэтом и состоит переход от хаоса к порядку. Попытаемся установитьмодельные соответствия между этими тремя компонентами икомпонентами мира в представлении древних - небом, землей иподземным царством. Попробуем теперь описать систему соответствийS между элементами эйдоса модели и элементами эйдоса объекта иобъяснить, почему соответствия выбраны именно таким образом.Проделаем то же самое с делением людей, относящихся к одному и томуже роду на предков, современников и потомков; с делениемдревнерусского общества, грубо говоря, на княжеский род, дружину исмердов; с делением фауны на птиц, "наземных животных" и гадов:земноводных, мышей, пресмыкающихся.
Вначале опишем эйдос первого объекта моделирования. Главныеутверждения для него здесь также должны состоять из утверждений оботношениях больше – меньше: Небо > Земля > Подземелье и тоже повысоте. Система соответствий S связывают элементы объекта и моделисогласно теории установления соответствий между элементами эйдосаобъекта и эйдоса моделей: система соответствий выглядит следующимобразом:
Х1 > X2 > X3 по расположению относительно земли Е(О)
19 Под отношением интерпретации я буду далее понимать отношение, которое связывает абстрактныйобъект или абстрактное понятие с множеством конкретных объектов, над которым построена абстракция.Так, абстрактное понятие ‘человек’ интерпретируется любым представителем рода человеческого:Пушкиным, Хвостовым, Толстым, Чернышевским, Сократом, Геростратом, нами с Вами и т. д. При этомабстрактный объект, как известно, отображает только те черты (характеристики, свойства) объектов данногокласса, которые являются общими для всех конкретных объектов данного класса. Так абстрактный человек– ни мужчина, ни женщина, ни красавец, ни урод. Отношение, обратное к интерпретации я буду вслед за Г.Фреге называть отношением подпадения конкретного объекта под данное абстрактное понятие, или подданный абстрактный объект. Так мы с Вами подпадаем под абстрактное понятие ‘человек’.
поэлементно соответствуетY1 > Y2 > Y3 по расположению относительно земли Е(М).Наши соответствия можно описать как тройку множеств: {M1} -
область отправления, {M2} - область прибытия и множествокортежей ,<a1, b1> ...<an, bn>, где a1, ... an принадлежат {M1}, а b1... bnпринадлежат {M2}, в нашем случае пары состоят из элементов областиотправления - множества компонентов Мирового Древа {крона, ствол,корни} - и элементов области прибытия - множества пространственныхсоставляющих мира {небо, земля, подземное царство}. Парывыстраиваются следующим образом <крона, небо>, <ствол, земля>,<корни, подземное царство>. С точки зрения теории моделей кроназдесь, таким образом, по теории соответствий между элементами теорииобъекта и теории модели будет моделировать небо, ствол – землю, акорни – подземное или подводное царство. Это реляционный типмодели, поскольку никаких аналогий между небом и кроной, стволом иземлей, корнями и подземельем не постулируется.
В случае сопоставления компонентов Древа с генетическимиклассами рода пары выбирались следующим образом: <крона,потомки>, <ствол, современники>, <корни, предки>. Эйдос модели былописан, он здесь не меняется. Эйдос объекта выглядит следующимобразом. Предки, современники и потомки противопоставлены попараметру времени. Моменты времени упорядочены друг относильнодруга линейно, следовательно, и здесь мы имеем дело со случаем болееконкретным, чем отношения «больше» – «меньше», т. е. это «больше» –«меньше» по параметру «время» (что эквивалентно отношениям раньше– позже, просто и здесь мы выразили их более аналитично).Соответственно этой теории, поскольку время отсчитывается отбольшей древности к меньшей, предки и потомки выстраиваются вследующую цепочку: Потомки > Современники > Предки. Если теперьотвлечься от параметров («по высоте» vs. «по времени»), у нас остаетсяопять формальная теория соответствий между элементами эйдосаобъекта и элементами эйдоса моделей. Содержательно же теориясоответствий выглядит следующим образом. Если совместить древо илинию времени, то, поскольку различные компоненты дереваупорядочены по вертикали, она должна слиться со стволом, который видеале должен быть прямым, и пойти перпендикулярно земле. Далее,время должно быть направленным, т. е. должно, на самом делепредставлять собой вектор. Если линия времени слита со стволом, товектор должен быть направлен вверх. Это обусловлено тем, что вектор-линия должна указывать направление пространственного развития илиперемещения объекта в пространстве. Поскольку деревопространственно неподвижно, выбирается развитие. Развивается же оно(в данной теории), т. е. растет, вверх. Это тоже элемент эйдоса объекта:дерево вообще-то растет и вниз, корнями.
Формально система соответствий описывается так же, как и в
предыдущем случае: Х1 > X2 > X3 по высоте эйдоса объекта поэлементносоответствует
Y1 > Y2 > Y3 по времени эйдоса модели.В случае сопоставления компонентов Древа с компонентами
древнерусского общества множество кортежей будет выглядетьследующим образом: <крона, княжеский род>, <ствол, дружина>,<корни, смерды>. В качестве основного отношения, которое определяетвыбор пар в данном случае выбирается отношение 'более социальнозначимый' - 'менее социально значимый', которое эквивалентноотношению 'больше' - 'меньше', но по параметру социальнойзначимости. Из этого следует, что ствол вновь может оказаться намполезным при моделировании этих отношений. Так же, как и временныеотношения, отношения социального неравенства могут бытьпредставлены в виде вектора. Нам остается только выбрать направлениевектора. Отношение социального неравенства старше человека и во всехизвестных мне системах социальных иерархий животных это отношениемоделируется отношением 'выше' - 'ниже'. Так, некоторые видыживотных на собраниях прайда соблюдают физическую высотурасположения относительно земли соотвественно своему рангу.Думается, эта модель построена по аналогии с управляющими иподчиненными центрами организма. Мозг у представителей царстваживотных всегда располагается в верхних и передних отделахорганизма, а не в задних и нижних. Таким образом, вектор социальныхотношений направлен вверх, а далее все просто: Х1 > X2 > X3 по высотеэйдоса объекта соответствует Y1 > Y2 > Y3 по важности эйдоса модели.
В последнем случае пары выстраиваются следующим образом:<крона, птицы>, <ствол, "наземные животные">, <корни,пресмыкающиеся и т. д.>. Этот случай сходен с первым: в качествебазового отношения, определяющего выбор пары, можно предложитьотношение 'близости основной среды обитания к компонентам древа', аследовательно, и компонентам мира: птицы - небо, "наземныеживотные" - поверхность земли, земноводные - вода, мыши -подземелье.
Анализ примера 2. Обратимся к детской игре в родителей идетей. Представим себе, что играют четверо детей - Кирилл, Маша,Николка и Наташа. Они решают между собой, что сначала Маша иКирилл будут родителями, а Николка и Наташа - детьми. Попробуемописать эту ситуацию, используя приведенную выше схемумоделирования. Попробуем понять также, какова система соответствийS, позволяющая, например, Кирилла считать отцом в этой игре, иописать некоторые ролевые перестановки в игре. Например, детирешают, что Кирилл - плохой отец, поэтому теперь пусть отцом будетНиколка. Подумаем, из-за чего вдруг они так решили; какие компонентымодели изменяются при замене, а какие остаются прежними; чтопроисходит, если дети решают, что Маша уже достаточно побыла
мамой, поэтому пускай теперь она побудет дочкой; что изменяется, еслидети решат, что папой должна быть Маша.
В каждом случае, когда мы имеем дело с игрой, мы имеем дело снекоторым ирреальным универсумом, который моделируется в реальноммире реальными объектами, которые с момента вступления в действиеправил игры становятся моделями объектов того ирреального мира, которыйпостроен в головах играющих и регламентирован правилами, которые можнооговорить заранее, а можно и не оговаривать. В двух этих случаях играведется по-разному. В первом случае играющие ориентируются наустановленные заранее правила, и нарушение этих правил штрафуется. Вовтором случае играющие ориентируются на то, что у них совпадают эйдосымоделируемых объектов и теории соответствий между элементами Е(О) иЕ(М). Когда же обнаруживается, что эйдосы и теории не совпадают,происходит анализ несовпадений, результатом которого может бытьэкспликация положений несовпадающих параметров эйдосов, а может быть ипрекращение игры. Рассмотрим теперь наш случай. Дети строят ирреальныймир соответственно тем эйдосам ПАПЫ и МАМЫ, которые имеются укаждого из играющих в его собственной голове, и a priori считают, чтопредставления у них одинаковы. В игре, при этом, и ПАПА, и МАМА -оригиналы - объекты вполне конкретные, но эйдосы этих объектов упрощаютих до схематической роли. Эйдосы эти имеют нечто общее, но в целом несовпадают у каждого из играющих. Поэтому в игре действуют четыреоригинала (по одному у каждого из играющих и пять их эйдосов: один –общий для всех) ПАПЫ и четыре оригинала и пять эйдосов МАМЫ.Соответственно и взаимодействующих миров также будет пять: четыреоригинальных и один модельный. Итак, О - это объект моделирования,определенный в общем для играющих ирреальном мире, Е(П)о – эйдосПАПЫ со свойствами, общими для оригиналов, определенных виндивидуальных мирах Uсi (игровой мир Кирилла), Uma (игровой мир Маши),Uni (игровой мир Николки), Una (игровой мир Наташи). С - это Кирилл. Е(П)о– эйдос ПАПЫ, общий для всех играющих: обязательный общий - человекмужского пола, факультативные общие: например, ходит на работу, читаетгазету, обязательные индивидуальные: у каждого из играющих на этот счетсвое мнение, которого прочие не знают, например, Кирилл может считать,что папа всегда ругает маму, а Маша - наоборот, что мама всегда ругает папу.В игре их индивидуальные эйдосы могут вступить в конфликт, тогдаиграющие должны решить, кто из них прав. Е(М) - человек мужского пола(что позволяет его поставить в соответствие О (объекту)), в игре долженходить на работу и читать газету. Таким образом, система соответствийсостоит здесь из соответствия обязательного параметра - пола играющих ипола родителей по природе - и соответствий общих факультативных, а такжесоответствий индивидуальных обязательных. Пока в действиях Кирилла непроявляется расхождение индивидуальных эйдосов ПАПЫ, все хорошо. Кактолько оно обнаруживается, дети начинают обсуждать, что делать с этимнесоответствием. Если решают, что Кирилл не справляется с ролью - значит,
вступили в конфликт индивидуальные обязательные параметры Е(П)о покрайней мере у двух играющих. Если дети просто захотят поменяться ролямии, в частности, поменяют роль Маши, изменятся только модели МАМЫ иДОЧЕРИ. А вот если дети решат, что ПАПОЙ должна быть девочка, этобудет свидетельствовать о том, что поменялась теория соответствий.
1. 4. Элементы схемы модельной системы и метаязык их описания.Поскольку основным объектом нашего рассмотрения является наука,
нам необходимо рассмотреть еще и вопрос о главных инструментах, спомощью которых наука исследует свой объект. Будем считать в рабочемпорядке, что основной целью научного исследования является описание егообъекта, т. е. его свойств, способов его функционирования, его статуса вуниверсуме, способов его взаимодействия с другими объектами и, преждевсего, с человеком. Научное описание в идеале должно быть представлено ввиде системы истинных утверждений о перечисленных выше аспектахсуществования объекта, такой системы, которая бы, с одной стороны,позволяла неограниченно усложнять и совершенствовать наши знания обобъекте, с другой стороны, позволяла бы единообразно рассматривать всемножество конкретных сущностей, которые представляют объектисследования данной науки. Для создания научного описания требуетсяспециальный язык, который далее будет называться метаязыком описанияобъекта научного исследования, сокращенно – метаязыком. Метаязыкнеобходим каждой научной дисциплине по нескольким причинам. Во-первых, только с его помощью (иногда и с помощью специальныхмодельных и метазнаковых систем) можно отобразить (сделать видимыми,ощутимыми, фиксируемыми, наглядными) эйдетические и недоступные дляпрямого наблюдения материальные компоненты объекта исследования. Во-вторых, только с помощью метаязыка (иногда и специальных модельных иметазнаковых систем) можно единообразно отображать как материальные,так и эйдетические компоненты объекта, исследовать и фиксироватьотношения между ними, их роль по отношению друг к другу. В-третьих,только с помощью метаязыка можно обосновывать адекватность научныхпостроений, делать выводы из наблюдений, строить по их поводуправдоподобные теоретические рассуждения и проверять ихнепротиворечивость.
Метаязык описания, как правило, строится на базе естественногоязыка. Однако естественный язык обычно является лишь материалом, изкоторого метаязык изготавливается. Чем же может не устроитьисследователя естественный язык? Прежде всего, тем, что, исследуя свойобъект, всякая наука открывает в нем новые материальные и эйдетическиеобъекты, для обозначения которых в естественном языке нет специальныхслов. Так создается терминология. В таких продвинутых областяхисследования как математика, физика, химия и др. к терминологиипредъявляются жесткие требования. Каждый термин должен бытьоднозначным (из чего в идеале следует, а) что он должен быть лишенсинонимов, и б) что у него не должно быть полисемии). Между терминами
должны быть строго распределены обязанности, что означает, что терминыдолжны быть жестко увязаны друг с другом (а, следовательно, достаточноточно определены). С точки зрения смысла они должны представлять собойпрозрачную структуру, в которой каждый элемент зависит от наличия илиотсутствия другого. Кроме того, «семантическое поле» терминов должнопокрывать всю область исследования, т. е. терминов должно бытьнеобходимое и достаточное количество для отображения всех существенныхдля описания объекта деталей и нюансов их функционирования.Терминологическая система в идеале должна быть обязательной дляиспользования всеми специалистами, работающими в данной областизнаний. Хотя в таких науках, как семиотика этого добиться довольно сложно,поскольку в них сосуществует большое количество школ, традиций инаправлений, каждая из которых придерживается своих исходных понятий ипринципов исследования и описания своего объекта. В этой связи я будупридерживаться такой стратегии построения терминологии: она должнабазироваться на наиболее точно определенных и самых генерализованных извсех согласованных друг с другом терминов. Таким образом, если в моемраспоряжении будут два конкурирующих термина, я буду выбирать тот изних, который точнее определен и более генерализован.
Уже из этих требований следует, что, даже если термин совпадает поозначающему со словом естественного языка (как, например, в химии терминВОДА), у него должно быть содержание, которое удовлетворяет всемтребованиям, предъявляемым к терминам (по химическим понятиям вода вморе, реке и т. д. – не вода, вода – вещество, имеющее химическую формулуH2O). Так же и в моей книге термин МОДЕЛЬ не может обозначатьуспешную девушку, профессией которой является демонстрация одежды илисебя как эталона красоты и здоровья. Его содержание ограничено егоопределением.
Одним из первых исследователей, специально обративших внимание наметаязык как на важнейший инструмент научного исследования и описанияего результатов, был Г. Фреге. Вот что пишет он о соотношенииестественного языка и метаязыка, который он создал для описания основанийарифметики: «В абстрактных разделах науки всякий раз ощущаетсянедостаток средств избежать непонимания со стороны собеседника иодновременно ошибки в собственном рассуждении. И то и другое коренитсяв несовершенстве языка» (Фреге 1962, с. 89). В своем самом знаменитомсочинении Begriffsschrift ‘Алфавит понятий’(1879): при попытке описатьотвлеченные от всяких частностей законы мышления «…я обнаружилпрепятствие, которое заключалось в несовершенстве языка: чем сложнеебыли рассматриваемые отношения, тем меньшей точности, отвечающеймоим целям, я мог добиться, какие бы громоздкие и запутанные словесныевыражения не возникали для их представления. Это и были те причины,которые привели меня к замыслу моего <…> Begriffsschrift» (Фреге 2000, с.66). Для понимания того, как и чем отличается естественный язык отспециального научного Фреге приводит очень хорошее сравнение с рукой: "В
этом отношении язык можно сравнить с рукой. Несмотря на все еевозможности, она не может быть пригодной для всех различных целей,которые может преследовать человек. Мы создаем искусственные руки,инструменты, которые мы используем для выполнения особых задач икоторые работают так точно, как рука работать не может. <...> Вот и язык неможет быть пригодным для выполнения всех задач, которые можетпоставить перед собой человек. Нам необходим цельный знак, из которогобудет устранена вся его многозначность и чья строгая логическая форма непозволит его содержанию выскользнуть из него" (Фреге 1962, с. 92). Задачанауки по представлениям Фреге – «…сломить господство слова надчеловеческим духом (Geist), раскрывая заблуждения, касающиеся отношениймежду понятиями, которые часто почти неизбежно возникают из-заупотребления языка, освободить мысль от того, что навязано ей лишьсвойствами словесного способа выражения…» (Фреге 2000, с. 67).
Идеал описания объекта с помощью метаязыка должен был быудовлетворять четырем основным требованиям: непротиворечивости,формализованности, адекватности и полноте. По поводу первого егосвойства можно сказать, что оно обязательно для всех научных построений.По поводу последних трех выясняется, что с ними не так все просто. Какудалось доказать логику Гёделю в начале ХХ столетия, научное описание изтрех свойств в полной мере может обладать только двумя: оно может бытьполно и адекватно, но не формализовано, формализовано и адекватно, но неполно, формализовано и полно, но не адекватно. Кроме того, можноотметить, что высокая степень формализации описания может бытьдостигнута только в науках уже обладающих точно определеннойтерминологией. Этим может похвастаться математика, может быть, физика,но не такие науки гуманитарного цикла, как лингвистика, семиотика, неговоря уже о литературоведении социологии, психологии и прочих. В этомотношении я буду придерживаться обычной в таких науках стратегии: если уменя будет возможность изложить какое-то наблюдение более или менееформально, я буду выбирать первое.
Из сказанного выше следует, что определения, которые даются здесьсемиотическим терминам не формальные. Это лишь экспликация, толкование(в первом приближении) терминов, чтобы читатель понимал, что я имею ввиду, когда употребляю тот или иной термин. При тепершнем положении делв семиотике определения терминов – обязательная мера предостережениячитателя от возможных случаев механического переноса ранее усвоенных издругих источников толкований, которые в моей трактовке имеют другоесодержание.
Итак, мы выяснили, что формирование, совершенствование иисследование существенных для описания свойств метаязыка является однойиз главных забот каждой науки. Роль метаязыка хорошо подчеркнул в своемисследовании «Введение в математическую логику» А. Чёрч (Черч 1960):«Метаязык и есть теория (данной науки – А. Б.)».
2. Теория знака. Общие замечания и определения.
2. 0. Предварительные замечания.Для семиотики теория знаковых систем и теория главного их
компонента – знака представляет по понятным причинам исключительныйинтерес. Поэтому я остановлюсь на ней особенно подробно. Проблематрактовки знака в семиотике по важности и по функции сходна с проблемойтрактовки структуры атомного ядра в физике, молекулы в химии, или клеткив биологии. От того, как будет представлена теория знака в семиотическойтеории зависит все ее построение.
2. 1. Рабочее определение понятия ‘знак’. Знак как разновидностьмодельной цепи.
Рассмотрим теперь структуру какого-нибудь объекта, по поводукоторого ни у кого не возникает никаких сомнений в том, что это знак, ипокажем на его примере, что знаковая ситуация является частным случаемситуации моделирования.
Возьмем, например, слово естественного языка, для которого известенприблизительный анализ его означаемого. Пусть это будет словоформа папав предложении Папа пришел. Пусть будет известно, что речь идет обо мне,что произносит эту фразу мой сын Николка, обращаясь к моей дочери Маше.И пусть нам будет известен сценарий событий, которые вызвалинеобходимость приведенной выше фразы. В этом случае языковой знак папа,если чуть упростить ситуацию, состоит из следующих компонентов:последовательности звуков, которую я изображу в транскрипции как [p oáo poəo]20, роль этой последовательности в знаке состоит в том, чтобы Маша, ккоторой обращается Николка, восприняла ее и, поняв, что это не просто звук,произнесенный ради самого звучания, а русская звуковая реляционнаямодель некоторого объекта, который она может опознать благодаря тому, чтоа) она может распознать эйдос звуковой цепочки так же, как это бы сделаллюбой носитель русского языка, в частности, Николка, б) системусоответствий между эйдосом этой цепочки звуков и интенсионалом, или, чтото же, эйдосом множества объектов, с которым по транзитивности связанацепочка звуков (это также входит в ее компетенцию носителя русскогоязыка), кроме того (по той же причине), она должна понять, что папа стоитздесь в именительном падеже единственного числа, из чего следует, с однойстороны, что папа связан с глаголом отношением подлежащее – сказуемое (иследовательно, обозначает того, кто пришел), с другой стороны, она знает,что тот факт, что папа – в единственном числе, означает, что это слово неможет значить множество объектов, в том числе и экстенсиональное, аобозначает только один его элемент, который нужно вычислить. Такимобразом замыкается первая модельная система. Далее, из знания того факта,
20 Сразу же оговорюсь, что эта запись представляет собой уже теорию звуковой оболочки этой формы слова.В ней не отражаются голос моего сына со всеми его параметрами, которые позволили бы распознать в неммальчика-подростка лет 11-12, а также понять, что он давно уже меня ждет, интонация, с которой онпроизнес это слово, особенности его артикуляции и т. д.
что толкование слова папа (≈ эйдос экстенсионального множества, которыйтеперь выступает как модель объекта обозначения) выявляет в егосодержании отношение между тем, кто этим самым папой является и тем,кому он является папой, а также из правила, по которому, если при словеПАПА в предложении явно не указано, чей он папа, то это означает, вчастности, что имеется в виду либо папа того, кто говорит (папа адресантавысказывания), либо папа того, к кому обращаются с речью (папа адресатавысказывания), а также из знания развертывающегося сюжета (они сНиколкой ожидали моего прихода), поскольку у адресата и адресанта папаодин и тот же, через отношение к ним (т. е. к себе и к Николке) благодарясистеме соответствий между эйдосом экстенсионального множества иэйдосом своего отца (ее теорией моей персоны) она распознает, о ком идетречь (исходный объект моделирования). Таким образом, следующийкомпонент знака – объект обозначения – автор этой книги, обозначу себя вметаязыке описания знака константой b1.
Эйдос экстенсионального множества (в данном случае – множестваносителей свойства, которое очень приблизительно можно описать как ‘Х1является папой Х2’, которое представляет собой аналогово-функциональноепредставление объекта в виде некоторым образом упорядоченного наборапараметров или свойств, а именно – как взрослого человека мужского пола,находящегося в отношении b1Pb2, где b1 – условное обозначение меня внашем метаязыке (т. е. языке на котором я описываю знак ПАПА), b2 –условное обозначение в метаязыке моего сына Николки, Р – условноеобозначение двухаргументного (двухместного) отношения, описанного вметаязыке выше. У Николки, как и у Маши, должна иметься своя теориямоей персоны. Она представляет собой некоторую подсистему знаний обовсем, что связано у Николки (он – адресант-интерпретатор модели) спонятием рождения и моими функциями по отношению к нему, как отца. Вкогитологии такие подсистемы знаний описываются так называемымифреймами или сценариями. Для этой своей теории Николка подбирает словорусского языка, содержание которого в существенных чертах было бысходно с эйдосом объекта моделирования. Интенсионал слова ПАПАсводится (очень приблизительно) к следующему: ‘класс {M1} (взрослых)людей мужского пола, которые имели непосредственное отношение крождению некоторого множества людей {b2… bn}, на котором заданодвухместное отношение ‘Х1 является папой Х2’’. Интенсионал вполнеадекватно для целей сообщения, отображает эйдос объекта моделирования,между ними устанавливается система соответствий. Он отображает общиесвойства класса людей мужского пола, имеющих детей. Замечу, что модельобъекта b1 представляет собой типовое отношение между отцом и сыном.Именно известность, типичность отношений между отцом и сыном,известность адресату того, кто такой Николка, известность ему того, кто егоотец, и, наконец, известность адресату сценария происходящих событий,позволяет понять, кто называется (моделируется) словом ПАПА.
Выше уже было показано, что указанные компоненты знака образуют
как минимум две модельные системы, упорядоченные друг относительнодруга таким образом, что эйдетический компонет знака играет две роли: рольмодели для обозначаемого объекта в модельной системе b1Rm{M1} и рольмоделируемого объекта в модельной ситуации {M1}Rm[p oáo p oəo] (см. вышеаналогичную схему моделирования для словоформы стол). Эти модельныесистемы образуют модельную цепь, для которой соблюдается свойствотранзитивности в отношениях моделирования. Свойство образовыватьтранзитивные модельные цепи – необходимое (хотя и недостаточное)условие для отнесения их к знаковым образованиям.
Новое свойство, которое здесь необходимо отметить для знаковыхсистем, состоит в том, что каждый из компонентов знака, как модельнойцепи, характеризуется своими собственными отношениями с аналогичнымикомпонентами других знаков, входящих в данную знаковую систему.Имеется в виду следующее: означающие знаков противопоставлены другдругу, и в комбинациях их элементов соблюдается принцип относительнойэкономии: изменение одного звука может повести к изменению смысла. Вэтом отношении словоформа папа минимально противопоставлена,например, словоформам лапа, сапа (от САП (тихим сапом)), капа(от КАП –нарост на деревьях), цапа; попа; паба, пава, паза, пала(от глагола ПАСТЬ),пана, пара, пата, паха, Паша, пая; папе, папу, папы. Если взять теперьотличия нашей формы слова от других словоформ более, чем на одну буквуили на один звук, станет понятно, что список подобных словоформ сильноувеличится, в конечном итоге вобрав в себя, видимо, весь словарь21.
Далее, содержательный (эйдетический) компонент языкового знакатакже противопоставлен другим словам по минимуму компонентов. Скажем,достаточно изменить компонент ‘пол’ с мужского на женский, нужно будетвыбирать другую реляционную модель, для второй модельной системы. Папапреобразуется в мама.
Важной характеристикой обозначаемого объекта является оценка,которая встраивается в означаемое знака. Так, отца-пьяницу, принесшегомного горя своим родственникам в семье могут назвать грубо, например,этот урод.
Кроме этих компонентов можно отметить наличие в характеристикахданной словоформы социального компонента. Название класса объектов,описанного выше, колеблется в зависимости от того, к какой социальной,возрастной и гендерной группе принадлежит говорящий. Так, в некоторыхсоциальных группах его называют ОТЕЦ, а слово ПАПА их члены считаютдля себя чужим, в других принято слово БАТЯ и его производные –БАТЯНЯ, БАТЯНЬКА, в третьих – ПАПАНЬКА, ПАПАНЯ. В некоторыхсоциальных группах бытуют смешанные типы номинации, распределенныепо возрастным и гендерным группам. Так, если в семье принято называтьотца и папой, и отцом, то маленькие дети и девочки предпочитают первый
21 Из этих противопоставлений, кстати, становится ясно какое огромное число незадействованныхчетырехбуквенных сочетаний имеет язык в запасе: аапа, бапа, вапа, гапа, дапа, еапа, жапа, запа, иапа, япа,мапа, напа, оапа, рапа, тапа, уапа, фапа, хапа, чапа, шапа, щапа, эапа и т. д.
способ, а юноши – второй. Трудно представить себе, чтобы мальчики любоговозраста могли при любом эмоциональном состоянии выбрать допустимое врусском языке именование ПАПУСЯ, или ПАПУСИК. Важно также и то, скем общается в данный момент говорящий. Так, именования ПРЕДОК,ПАПАХЕН предназначены для варианта, когда говорящий-подростокбеседует с ровесником, не принадлежащим к членам семьи. Слово ОТЕЦ впротивоположность ПАПА также ориентирован на внешнюю по отношениюк семье социальную среду. Разнятся в зависимости от социальнойпринадлежности говорящего и оценочные слова.
Еще одним типом характеристик, который влияет на выбор номинацииобъекта обозначения, является эмоциональное состояние, в которомнаходится говорящий и эмоциональный фон разговора в целом. Этот типконтекста будет далее называться эмотивным. Так, целую гамму чувствможет отобразить набор синонимов, выбор которых зависит от этогопараметра: ПАПА, ПАПКА, ПАПОЧКА, ПАПУЛЯ, ПА. Выбор этихвариантов номинации сопровождается выбором тембра голоса и интонации.
Следующий тип такого рода характеристик будет называтьсядискурсивным. Он определяется тем, какова коммуникативная роль того, ккому обращается говорящий, в каком месте текста появляется герой, ссодержательными характеристиками, указанными выше, как его называли всоседнем предложении и т. д. Повествование об отце может, например,начаться так: «Мой отец, полковник Барулин, происходил из рода, испоконвека жившего в селе Хорошово». Далее его по правилам построения текстаследует назвать местоимением ОН, в повествовании о детстве героя принятоименовать его именем, которым называют мальчиков, например, «маленькийКоля», «Коля», подросток и т. д. Если же речь говорящего будет обращена котцу, его положено назвать в зависимости от принятых в семье традиций на«ты» или на «вы».
Выбор того или иного способа номинации зависит еще и от цели(иллокуции), которую преследует говорящий в отношении адресата. Так,обращение, ориентированное на мгновенную реакцию собеседника в случаегрозящей ему опасности, вряд ли заставит человека выбрать эмотивно илиоценочно окрашенные слова, в таких ситуациях подходят тольконейтральные способы обозначения «Папа!» или «Отец!» (ср. невозможные втаких случаях типы обращений *«Папуля!!»22, *«Козел!!», *«Урод!!»).
Все эти социальные, эмотивные, дискурсивные, иллокутивныехарактеристики не входят в означаемое данного знака, они составляютсоциальный, эмотивный, иллокутивный или дискурсивный контекступотребления знака.
Кроме социального контекста употребление его ориентировано накультурно-исторический контекст. Он характеризуется тем, что он, в отличиеот предыдущих типов контекстов, не определяется волей говорящего илиправилами выбора способа номинации, действующими в настоящий период
22 Звездочка перед примером указывает на недопустимость его в нормативной речи.
времени. Он характеризуется типом культуры, в которую погруженосуществование социальной среды, неотъемлемой частью которой являютсякак говорящий, так и его язык. Так, в дореволюционном дворянскомобществе были приняты и другие способы именования главы семьи:например, ПАПÁ, ПАПЕНЬКА, БАТЮШКА, в мещанской среде былопринято именование ПАПАША и т. д.
Подводя итоги рассмотрения элементов языкового знака можнозаметить следующее. 1) Компоненты знака всегда естественным путемразбиваются на модельные системы. 2) Модельные системы в составе знакаобразуют модельные цепи, обладающие свойством транзитивности. 3)Главной поведенческой целью построения знаков является коммуникация, изчего следует, что у модельных цепей должно быть минимум двапользователя; даже если они физически сливаются в один объект (живоесущество, машину, биологический аппарат), они используются вдиалогическом режиме23 и предполагают минимум две роли пользователя,которые можно назвать ролью адресанта (того, кто строит модель исходногообъекта моделирования) и ролью адресата (того, кто реконструирует помодели исходный объект моделирования24). 4) В сложных семиотическихсистемах, каковой является, например, естественный язык, каждый элементкаждой модельной системы находится в ассоциативных (парадигматических)отношениях с аналогичными элементами модельных систем других знаков,образующих с некоторой точки зрения замкнутую систему ассоциативно(парадигматически) связанных друг с другом элементов, при этомпротивопоставления однородных модельных объектов попарно связаны скоррелирующими другими однородными объектами, относящимися к той жемодельной системе (ср. противопоставление звуковых цепочек папа – лапа,ориентированное на противопоставление модельных эйдосов, относящихся ксодержательной стороне знаков; в лингвистике такие пары называютсяминимальными, т. е. противопоставленные всего по одному звуку п/л; в своюочередь эйдетические компоненты знака также встроены в системупротивопоставлений, так, в системе терминов родства РОДИТЕЛИ являютсяпо отношению к лексемам ОТЕЦ и МАТЬ обобщающим словом,гиперонимом, а эти последние по отношению к нему – гипонимами.Связаны они друг с другом таким образом: в эйдосе (интенсионале) лексемОТЕЦ и МАТЬ содержится общий содержательный компонент – они оба –родители, и по одному противопоставительному: отец мужского пола, мать –женского, в лексеме РОДИТЕЛЬ компонент ‘пол’ отсутствует). 5) Всямодельная цепь, составляющая структуру знака, представляет собой
23 Ср. ставшую теперь общим местом в работах по семиотике идею М. Бахтина о диалогичностикоммуникации.24 Даже если речь идет об общении человека с самим собой роль адресата необходима для того, чтобыпроверять «вычислимость» объекта моделирования. Т. е. необходимо действие, которое бы позволилоадресанту проверить, может ли хотя бы какой-нибудь адресат понять по представленной модели исходногообъекта, какой именно объект моделирует последняя в модельной цепи модель, и нужно ли добавить в цепьмодельных объектов еще какие-то для того, чтобы цепь стала вычислимой. Это действие можнорассматривать как элемент самопроверяемой обратной связи адресанта и адресата.
некоторое единство, проявляющееся в нескольких моментах; во-первых, всяцепь функционально «работает» как целое и с функциональной же точкизрения неделима: обозначаемый объект без эйдоса остается неопределенным,глубоко «энтропичным» объектом в том смысле, что он обладаетбесчисленным числом свойств, частично известных пользователю (т. е.адресанту и адресату), но все же на большую часть – неизвестных; эйдос (т.е. те его свойства, которые отбирают адресант и адресат в качестведостаточных для моделирования при решении данной коммуникативнойзадачи) задает информационную структуру обозначаемого объекта, не тольковыделяет в нем существенные с точки зрения коммуникативных целейсвойства, но и упорядочивает их, т. е. одни делает более важными, другие –менее важными; так, упрощая семантический анализ, можно, например,сказать, что в лексемах КОШКА, КОШАТНИК, ЧЕЛОВЕК, ЛЮБИТЬприсутствуют компоненты ‘кошка’ (КОШКА, КОШАТНИК), ‘человек’(КОШАТНИК, ЧЕЛОВЕК), ‘любить’ (КОШАТНИК, ЛЮБИТЬ), при этом вКОШКА компонент смысла ‘кошка’ является главным, а в КОШАТНИК –подчиненным (‘человек, который любит кошек’) не только компоненту‘человек’, но и компоненту ‘любить’; компонент ‘любить’ в ЛЮБИТЬглавный, а в КОШАТНИК – подчиненный; об этом говорят игиперонимические отношения в которые вступают первые два слова:гиперонимом лексемы КОШАТНИК является лексема ЧЕЛОВЕК, агиперонимом лексемы КОШКА – ЖИВОТНОЕ; во-вторых, без реляционнойчасти модельной цепи знак останется неизвестным адресату, что нарушаеткоммуникативные намерения адресанта и, тем самым делает бессмысленныммодельное построение; в-третьих, именно вся модельная цепочка целикомимеет свои правила использования в том или ином классе контекстов –синтактику, у отдельных компонентов модельной цепочки синтактикасовершенно другая, чем у всей цепочки целиком. Так, у звука /p/сочетаемость определяется отчасти его внутренними структурнымисвойствами, отчасти правилами сочетаемости звуков в русском языке. Он,например, хорошо сочетается с глухими согласными, поскольку он самглухой, и не сочетается с парными звонкими согласными, поскольку врусском языке есть правило оглушения парного звонкого согласного передпарным же глухим. Например, в словоформе подполз /d/ оглушается ипревращается в /t/ (читается /pâtpóls/). Сочетаемость словоформы папаопределяется не сочетаемостью составляющих ее звуков, а возможнымисмысловыми (синтаксическими) связями ее с другими словоформами врамках предложения. Синтаксические связи слова определяются отчастивнутренней структурой его интенсионала (содержания), отчасти правиламирусского синтаксиса. Так, внутренняя структура его интенсиональнойорганизации дает ему возможность заполнять структурно неполные позициипри других типах слов, например, глаголах (ср. структурную неполноту,которую задает глагольная форма нахóдится: для того, чтобы устранить ее,необходимо дополнить содержание этой глагольной словоформы поименнымуказанием на то, кто находится и где находится: папа находится сейчас за
границей; незаполненность обеих структурных позиций расценивается какграмматическая неправильность фразы: *папа находится или *находится заграницей; еще острее носители языка реагируют на структурную неполнотутипа *папа находится за;). При этом, как уже было отмечено выше, словоОТЕЦ, синонимичное слову ПАПА имеет другую сочетаемость, чем этопоследнее, так, в официальных документах, например, в свидетельстве орождении слово ПАПА, как и МАМА не употребляется. Пишется, например,
Отец Сидоров Федор КузьмичРОДИТЕЛИ: Мать Сидорова Марфа Саввишна
Таким образом, синтактика (сочетаемость) должна приписываться некомпоненту знака, а целиком всей модельной цепочке. Знак представляетсобой единство означающего (реляционной модели и ее эйдоса), означаемого(объекта моделирования, эйдосов и экстенсиональной модели) и синтактикивсего знака (всей модельной цепочки). Из этого последнего замечанияследует, в частности, что в знаке противопоставления, свойственныеотдельной модельной системе переосмысливаются, вводится другая, новаясистема противопоставлений компонентов цепи, существенных с точкизрения функционирования знака, как особого вида модельных цепей, хотя ипрежние отношения между компонентами цепи остаются в силе. Особымсвойством знаков является их двойное использование двумя пользователями– адресантом и адресатом, причем используются они по-разному. Вкоммуникативном акте адресант строит модель объекта (синтез знака), какправило, не для себя, а для другого субъекта, построение моделиориентировано на процедуру, обратную построению модели, а именно, напроцедуру реконструкции по модели моделируемого объекта, т. е. напроцедуру, которую должен выполнить адресат знака, его интерпретатор.
Итак, рассмотрение языкового знака подтверждает гипотезу о том, чтознак можно представить в виде модельной цепочки. При этом, как это можнобыло заметить, крайними звеньями в этой цепочке выступают объекты,способные быть воспринятыми органами чувств. Для одного из этих двухэлементов это не обязательное условие: обозначаться может не только объектреального мира, но и объект одного из внутренних миров человека. Длявторого из них это почти обязательное условие. В общем, оно можетнарушаться только в том случае, когда тот, кто синтезирует знак (адресант),совпадает с тем, кому этот знак адресован, и то, только в том случае, когдаосуществляется процесс вербализованного диалога человека с самим собой,не произносимого вслух. Впрочем, и это утверждение может бытьподвергнуто сомнению, поскольку слабые артикуляционные сигналы, какпоказывают исследования, на органы артикуляции при внутренней речи всеже поступают.
Еще один вывод, который следует сделать из рассмотренияпроанализированного примера, состоит в том, что знак – это не просто
модельная цепочка. В процессе становления и развития знаковых систем, ониприобрели ряд специфических свойств, не обязательных для всех модельныхцепочек, но обязательных для знаков и знаковых систем. Именно этисвойства и должны исследоваться семиотической теорией. Ниже, прирассмотрении конкретных знаков и знаковых систем я постараюсь каждыйраз отмечать их индивидуальные свойства, обобщение же этих свойств, как яполагаю, дело будущего.
Теперь приведу предварительное рабочее определение знака.Под знаком S в рабочем порядке будет пониматься транзитивная
модельная цепь С из конечного числа (n ³ 1) упорядоченных звеньев М1,М2…Мn, в которой некоторым субъектом, ЭВМ или биологическойфункциональной системой (клеткой, геномом, ганглием и т. д.), которыйв дальнейшем будет называться адресантом (Ant), выделен главный,целевой, объект моделирования Mk, который будет далее называтьсязначением (Mn), и последняя модель (Mn) которой воспроизводится имже таким образом, чтобы некоторый другой субъект или биологическаяфункциональная система, который далее будет называться адресатом(At), необязательно отличающийся от адресанта, воспринял этупоследнюю модель Mn, которая будет далее называться означающим(Sgnft), как модель некоторого объекта моделирования и, благодарязнанию модельной системы соответствий SC и собственному опытупостроения модельных цепочек аналогичных С, знанию классаконтекстов, в которых может использоваться данная модельная цепь(синтактика S), (ре)конструировал значение (Mn) модельной цепи сточностью, необходимой для решения данной конкретной поведенческойзадачи T, и отреагировал на Mn в соответствии с правиламикоммуникативного взаимодействия (и ожиданием субъекта Ant),установленными в данном коммуникативном сообществе SG для даннойзнаковой системы SS и для данного набора контекстов CS.
Отмечу еще раз, что Ant и At могут совпадать, и в этом случае,например, человек может использовать некий объект Х для того, чтобы понему, зная систему соответствий, распознать объект Y, изучать объект Y, илиотреагировать на означающее знака программой поведения в соответствии спринятыми им по отношению к себе и данному означающему правилами.Так, если, например, человек, или животное используют знаки дляпрохождения некоторого линейного маршрута, и эти знаки «изготовлены»ими для индивидуального использования, то, распознав соответствующийзнак, адресант (и адресат в одном лице) реагируют на него в соответствии сустановленным им самим для себя способом действия. Скажем, еслиадресант отметил, что ему удобно изменить направление движения рядом сопределенным деревом, то, дойдя до него и распознав его, как знак дляизменения поведения, он изменяет маршрут, как это было намечено припостроении знака.
Следует специально обратить внимание на то, что в представляемойздесь концепции под знаком понимается не материальное означающее, какэто часто имеет место у Ч. С. Пирса и у многих его последователей, атранзитивная модельная цепь целиком плюс ее синтактика и прагматика. Т.е. знак можно представить как четверку главных его составляющих:Означающее, Означаемое, синтактику и прагматику. В виде формулы егоможно представить, так: S = <Snft, Snfé, Σ, π>, где Snft – означающее, Snfé –означаемое, Σ – синтактика и π – прагматика знака. Изменение любого изэтих параметров может означать, что мы имеем дело уже с другим знаком. Вэтом мы еще убедимся.
2. 2. Структура знака. Знак и его компоненты25. Понятиекоммуникативного акта.
Воспроизведу еще раз схему анализа знаковой структуры словоформыстол. Первая схема:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (I)
Е(O1)--------------------S(Е(O) <==>Е(M))------------------Е(M1) Эйдос объекта (экстенсиональный эйдос) интенсионал | |
| | | |
Обозначаемый Класс подобных Объект (ОО) ОО объектов (экстенсионал)
И вторая:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (I)
Е(O2)--------------------S(Е(O) <==>Е(M))-----------Е(M2) интенсионал последовательность | матриц дифференциальных
| признаков звуков (фонем) | |
Класс подобных ОО Последовательность объектов (экстенсионал) звуков (означающее)
25 Отмечу сразу же, что структура знака неравномерно исследована для разных семиотических систем.Поскольку самым исследованным с точки зрения теории знака является лингвистический материал, я будуопираться прежде всего на него. Из этого следует, что уровень обобщения формулируемых ниже положенийбудет не таким высоким, как хотелось бы. При рассмотрении всех последующих типов знаков я будуспециально оговаривать возможность экстраполяции теоретических обобщений, которые излагаются вданном параграфе.
Эти схемы удобны с той точки зрения, что на них можно нагляднопоказать модельное происхождение знака, его восхождение к модели как кродовому понятию. Однако они не очень удобны с той точки зрения, что взнаке существенными, функциональными оказываются не те компоненты,которые существенны и функциональны для структуры модели. Кроме того,сейчас нам нужно будет сделать шаг навстречу традиционным трактовкамструктуры знака и переназвать ее компоненты так, чтобы эти названия как-тосоотносились с терминами, традиционно используемыми в семиотике.Договоримся предварительно о том, как мы будем называть важнейшиекомпоненты знака. Прежде всего, противопоставим означающее,означаемое и синтактику знака.
Означающее26 в приведенной выше последней схеме занимает правыйее столбец. Это эйдос звуковой цепочки27 – например, матрицыдифференциальных признаков28 звука (каждая матрица – теоретическоепредставление одного звука речи, например, русский звук /п/ в папапредставляет следующая матрица дифференциальных признаков: согласный гласный смычный среднего ряда взрывной нижнего подъема губно-губной неогубленный глухойтвердый гласный /а/ представляет другая матрица:
и т. д.) – и сама последовательность звуков (реляционная модельозначаемого). При подробном рассмотрении структуры означающего мыувидим, что звуковая модель обозначаемого объекта несет в себе не толькоинформацию о дифференциальных признаках. В звук встраивается тембр,напряженность звучания, тон, фонация, которые являются несущественнымиэйдетическими компонентами звука для моделирования тогоэкстенсионального множества, который моделирует последовательностьматриц дифференциальных признаков. Но они могут стать существеннымиэйдетическими компонентами для моделирования других экстенсиональныхмножеств, например, для экстенсиональных множеств, выделяемых пополовому, возрастному и прочим принципам. Выбор этих эйдетическихкомпонентов той же экспоненты (т. е. того же звукового наполнения сигнала)
26 Термин означающее (signifiant) в противоположность означаемому (signifié) был введен 19 мая 1911 г. влекции по общему языкознанию Ф. де Соссюром.27 Понятие эйдоса означающего впервые было введено в совместной работе автора настоящей монографии иего ученицы Е. Ю. Глазуновой (Барулин, Глазунова 2002). В настоящей работе положения упомянутойвыше статьи углубляются и расширяются.28 Под дифференциальным признаком в лингвистике понимается акустическое или артикуляционноесвойство произносимого звука, отличающее его от другого звука (используемого в данном языке) такимобразом, что это отличие хотя бы в одном случае противопоставления оказывается достаточным дляразличения семантики двух языковых единиц. Так, например, словоформы пар и бар различаются на звуки/п/ и /б/. А звуки эти различаются только на свойство ‘быть глухим’ или ‘быть звонким’. Благодаряпротивопоставлению по глухости – звонкости (все прочие существенные артикуляционные свойства /б/ и /п/совпадают) мы различаем смыслы указанных выше слов. Из этого следует, что противопоставление поглухости – звонкости является парой дифференциальных признаков.
будет означать и построение другой модели, а, следовательно, и другогознака.
Место означающего в письменном языке занимает цепочкаэлементарных письменных знаков: букв, знаков слогового алфавита илииероглифов.
Конечно, в качестве означающего может быть избран и другойфизический материал, например, электрический импульс, движение руки иликакой-нибудь другой части тела, запах и т. д. Важным типом означающегоявляются операторы, как, например, удаление сегмента означающего, еготрансформация (например, растягивание гласного) и т. д.
Для адресанта означающее – последняя модельная система вмодельной цепочке. Оно строится из материала, который ориентирован наопределенный орган чувств адресата: визуальный, аудиальный, тактильныйолфакторный, вкусовой или какие-то другие. Для адресата это, наоборот«вход» в знак, это первый модельный объект, с которым он имеет дело привосприятии знака. По нему он должен вычислить первый модельный объектозначаемого: интенсиональный компонент знака.
К означаемому относится вся прочая часть модельной цепи:обозначаемый объект, его эйдос, эйдос класса объектов, к которомуотносится обозначаемый объект (интенсионал) и класс объектов(экстенсионал). Однако в контексте современных знаний о структуре знакаэтого соссюровского термина недостаточно. Я буду исходить изпредположения о том, что у означаемого есть своя собственная структура,которая довольно сложно взаимодействует со структурами означаемыхдругих знаков.
Экстенсиональный эйдос или интенсионал (далее он будетназываться только интенсионалом29) – левая верхняя часть схемы. Вдостаточно изученных областях семиотики под интенсионалом понимаетсяэйдетический компонент знака, моделирующий единичный объект(ситуацию) или класс объектов (ситуаций), и выполняющий в знакеследующие функции: а) моделирует и позволяет распознатьэкстенсиональное множество объектов, б) моделирует и позволяетраспознать конкретный объект экстенсионального множества, в) определяети ограничивает именно тот набор свойств, которые необходимо учесть длядля поведенческой цели, которую преследует адресант при построениизнака, и для построения сложной модели ситуации, в которой участвуетисходный объект модельной цепочки, г) определяет отношениеэквивалентности элементов экстенсионального множества, д) определяетсущественные признаки, отличающие объект данного класса от объектовдругих классов, е) участвует в построении сложного интенсионала в
29 В семиотической литературе в качестве эквивалента термина ИНТЕНСИОНАЛ иногда используются идругие термины: значение, смысл, дезигнат (или десигнат), интерпретант(а) (у Ч. С. Пирса). Два первыхтермина в излагаемой теории будут использованы для обозначения других компонентов знака. Двапоследних не будут использоваться совсем. Термины экстенсионал и интенсионал для анализа структурызнака были введены Р. Карнапом в работе «Значение и необходимость» (Карнап 1959).
сочетании с другими знаками. Означающее, например, языкового знака чащевсего является реляционной моделью интенсионала. Именно этот точныйсмысл, по моему мнению, должен быть вложен в утверждение Соссюра, покоторому знак произволен.
Экстенсиональное множество, или экстенсионал – левая нижняячасть второй схемы. Экстенсионал определяется как множество такихобъектов, каждый из которых мог бы занять место исходного объектамоделирования, тем самым экстенсионал знака строится как сомодельное дляданного интенсионала множество. Напомню, что множество объектовназывается сомодельным, если каждый его элемент моделируется или можетмоделироваться одним и тем же модельным объектом. Важно отметить, что вреальном употреблении знака экстенсионал чаще всего остается за рамкамисемиозиса: он служит лишь множеством, из которого выбираетсяобозначаемый объект. Исключение составляют те случаи, когда обозначаетсявсе экстенсиональное множество, или когда, например, в языке имянарицательное взаимодействует с так называемыми кванторнымиместоимениями типа ВСЕ, КАЖДЫЙ, ЛЮБОЙ, ВСЯКИЙ и т. п. (см. поэтому поводу, например, Сепир 1993). Тем не менее, это важный компонентмодельной цепочки, особенно в тех случаях, когда множество сомодельныхобъектов является более определенным, чем интенсионал.
Эйдос обозначаемого объекта – верхняя левая часть первой схемы.Этот компонент структуры языкового знака впервые был описан всовместной работе автора настоящей монографии и его ученицы Е. Ю.Глазуновой (Барулин, Глазунова 2002), идеи указанной статьи были развитызатем в работе Барулин 2002.
Обозначаемый объект, или исходный объект моделирования –левая нижняя часть первой схемы, которая может быть дополнена ещеодним звеном в модельной цепи. Для обозначения этого компонента знака внаиболее исследованных областях семиотики используются несколькотерминов: ЗНАЧЕНИЕ, НОМИНАТ, РЕФЕРЕНТ и ДЕНОТАТ. Первыйтермин будет использоваться в другом значении, второй использоваться небудет вообще. Я буду пользоваться двумя последними терминами. Обычноони выступают как синонимы, или как эквивалентные термины в различныхсемиотических теориях. В теории, представленной в моих работах, онидействуют как противопоставленные термины, у каждого из которых своеопределение (см., например, Барулин 1996, 2002). В настоящей работе ониопределяются несколько по-другому.
Под денотатом bi данного знака S будет пониматься объект илисобытие реального мира, взятые как целое (столы, стулья, стены, действия,ситуации, отношения, состояния и проч.) и связанные с интенсиональнымкомпонентом определенным отношением wk из множества допустимыхотношений w1…wn при данном интенсионале I знака S в данной позиции P вданном контексте Кi. Отображается индексированными латинскими b: b0, b1,b2 и т. д. b без индекса будет обозначать значимое отсутствие денотата данноготипа в описываемой ситуации.
Для определения термина РЕФЕРЕНТ необходимо ввести еще терминУНИВЕРСУМ. Под (биоинтеллектуальным) универсумом будет пониматьсяестественный моделирующий модуль живого существа, позволяющий емустроить модели объектов реального мира, объекты не соответствующиеникаким реальным объектам, ориентироваться в пространстве и социальныхотношениях, определять в них свое положение, планировать свои действия,ставить и решать поведенческие задачи. В данной работе я буду исходить изпредположения, что такого рода универсум состоит из системы однородныхобъектов, правил их функционирования и взаимодействия, а такжесовокупности событий, определенных во времени и условном пространстве,уже происшедших в рамках заданного времени и пространства.Противопоставляется памяти и сенсорной системе живых организмов.
Под референтом ai будет пониматься эйдетическая модель денотата,взятая как единое неанализируемое целое (в метаязыке отображается какточка с индексом, отличающим данный референт от всех других), илиобъект, построенный по тем же принципам, что и модель денотата, имеющийодинаковые с ним общие свойства, определенный в некотором модельномуниверсуме адресанта и адресата и функционирующий по тем же законам,что и модель денотата, аi связан с интенсиональным компонентомопределенным отношением wk из множества допустимых отношений w1…wnпри данном интенсионале I знака S в данной позиции P в данномсемиотическом тексте T. В метаязыке отображается индексированнымилатинскими а: а0, а1, а2 и т. д. а без индекса обозначает значимое отсутствиереферента данного типа в описываемой ситуации. Референты должны бытьопределены в каком-то конкретном модельном универсуме, который уадресанта и адресата при успешной коммуникации должны бытьэквивалентными.
Кроме указанных выше таксономических компонентов, я будувыделять в означаемом два функциональных - значение и смысл. Введениедвух этих понятий связаны с особыми свойствами знаков, отличающих их отмодельных цепочек. В общем случае в модельной цепочке все объектымоделирования равны. В знаке же из всех объектов моделированиявыделяется главный, и главным, т. е. тем, ради которого строится всямодельная цепочка можеть быть только один объект моделирования, вприведенных выше примерах – тот, который я называл исходным. Этотобъект является целью введения знака в текст и передачи его адресату. Будемговорить о таком объекте, что он находится в фокусе обозначения. Возначаемом, например, языковых знаков могут присутствовать два референтаи/или денотата, притом, что в фокусе обозначения находится лишь один изних. Например, в означаемое словосочетания спутник Одиссея входятпредметный референт а1, обозначенный словоформой спутник, и предметныйреферент а2, обозначенный словоформой Одиссея. Референтом, которыйнаходится в фокусе обозначения всего сочетания, естественно, является а1 иего эйдос, все прочие компоненты означаемого всего этого сочетания, то естьинтенсионалы и референт а2 с его эйдосом, противопоставлены а1 в том
смысле, что во всей модельной цепочке они выполяют функцию элементов,которые нужны для того, чтобы распознать а1. Этот пример показывает, чтотерминов типа референт или денотат для отображения этой тонкостинедостаточно. Условимся теперь называть компонент знака, находящийся вфокусе обозначения значением. Всю прочую, противопоставленнуюзначению часть означаемого знака будем называть смыслом. Основнымназначением смысла является «запуск» процедуры распознавания значенияданного знака. Смысл - это то, что позволяет нам распознать обозначаемыйобъект, противопоставить его объектам других классов. В рассматриваемомслучае мы распознаем объект а1 благодаря пониманию того, что такоеСПУТНИК, и знанию эйдоса объекта а2. В языковых знаках фокусобозначения может сдвигаться на интенсиональный компонент и даже наозначающее. Это еще одна причина, которая заставляет кроме терминовреферент и денотат ввести термин значение.
Под синтактикой знака я буду понимать правила его сочетаемости сдругими знаками в сложных знаках, в рамках тех поведенческих задач,которые ставит перед собой адресант, а также относительно правилкоммуникации, принятых в сообществе, использующем данный знак вобщении.
Под знаковой системой я буду понимать множество знаков, накотором задан набор взаимно ориентированных отношений между ними и ихкомпонентами, отношений, определяющих как способ их удержания впамяти, так и способы построения из простых знаков сложных30. Простымпримером взаимной ориентации являются, например, арифметические знаки-операторы и знаки отношений между числами, с одной стороны, с другойстороны, – числа. Правильно построенными арифметическими выражениямибудут, например, 2+5, 3+6=9, 5>3. Неправильно построеннымиарифметическими выражениями являются +, 2+, 5> и т. д. Это следует изправил сочетаемости знаков друг с другом: грубо говоря, слева и справа отзнаков +, –, > и т. п. должны стоять числа. Это правило «грамматически»делит арифметические знаки на числа (они могут занимать позиции слева исправа от знаков-операций и знаков отношений) и знаки-операторы и знакиотношений (они задают структурную неполноту, которую должнывосполнить числа). Знаки-операторы и знаки отношений не могут идтиподряд: *++, *>> – неправильно построенные арифметические выражения.
Введем теперь еще два важных понятия, которые нам понадобятся длядальнейших построений, а именно понятия коммуникативного акта исемиозиса. Под коммуникативным актом будет пониматься актвзаимодействия между а) живым существом в момент времени t1 (адресант) иим же в момент времени t2 (t2 > t1) (адресат), или б) его автономными частямиА (адресант) и Б (адресат), или в) двумя живыми существами А (адресант) иБ (адресат), или г) двумя социальными системами А (адресант) и Б (адресат),
30 Под простыми знаками здесь имеются в виду знаки, не представимые через сочетания других знаков.Соответственно под сложными знаками имеются в виду знаки, представимые через другие знаки.
такой что у адресанта имеется цель и поведенческое намерение (илинеобходимость) воздействовать определенным образом на адресата, адресантв качестве способа воздействия выбирает знаковый и производит иливоспроизводит знак S или связную последовательность знаков S1…Sn не длясебя (в момент времени t1), а для адресата, предполагая, что в означающемзнака S или связной последовательности знаков S1…Sn адресат распознаетмодель обозначаемого ими значения, и отреагирует на S или связнуюпоследовательность знаков S1…Sn одним из возможных для данногосообщества живых организмов или их автономных частей, или ихсоциальных систем, способов, и адресат реагирует на S или связнуюпоследовательность знаков S1…Sn указанным способом31. Коммуникативныйакт обычно сопровождается энергетическим, информационным,эмоциональным обменом, подчиняется общему для адресанта и адресатаритму.
Под семиозисом я буду понимать акт создания, или воспроизведениязнака и акт его понимания.
ЛитератураАпостел – Ароste1, L. Towards the formal study of models in the non-formalsciences. Synthese , vol . XII , № 2/3, p . 128).Барулин 1994 – Барулин А. Н. О структуре языкового знака — В кн.: Знак. М.1994.Барулин 1996 – Барулин А. Н. К построению модели синтеза русскихнумеративов (глубинное и поверхностно-семантическое представление). //Московский лингвистичеcкий журнал. № 2. М. 1996.Барулин 1996а – Барулин А. Н. Язык мой – вруг мой, язык мой – драг мой//Вестник РГГУ №1. М. 1996.Барулин 1998 - Барулин А. Н. Введение в семиотику. Электронный курс наCD. М.: РГГУ, 1998. 35 Mb.Барулин 2002 – А. Н. Барулин. Основания семиотики. Знаки. Знаковыесистемы, коммуникация. Ч. 1. Базовые понятия. Эволюционная теорияпроисхождения языка. Послесловие Ю. С. Степанова. М.: Изд-во "Спорт икультура-2000". 2002. 464 стр.Барулин 2002 – А. Н. Барулин. Основания семиотики. Знаки. Знаковыесистемы, коммуникация. Ч. 2. Краткая предыстория и история семиотики (доФреге, Пирса и Соссюра). М.: Изд-во "Спорт и культура-2000". 2002. 402 стр.
31 В случае, если адресат отреагирует на знак, поданный адресантом каким-то другим образом (например,отреагирует на означающее знака не как на означающее, а как на фон), мы будем иметь дело не скоммуникативным актом, а с противопоставленным ему коммуникативным провалом.
Барулин и др. 2002 – А. Н. Барулин, Е. Ю. Глазунова. Платоновскоепредставление о структуре знака / Языки мира. Типология. Уралистика. ПамятиТ. Ждановой. Статьи и воспоминания. М.: «Индрик», 2002.Бунге 1963 – Bunge, M. A general black box theory / Philosophy of Science 30:346-358 (1963).Бунге 1967 – Bunge, M. Scientific research I: The search for system. Berlin:Springer-Verlag 1967. Revised edition in 1998 with the title: Philosophy ofscience: from problem to theory - New Brunswick - Transaction PublishersБунге 1967A – Bunge, M. Scientific research II: The search of truth. Berlin:Springer-Verlag 1967. Revised edition published in 1998 with the title: Philosophyof science: from explanation to justification - New Brunswick - TransactionPublishers.Брэйтуэйт 1960 – Braithwate, R. B. Scientific explanation. N.-Y.: Harper. 1960.
Ветров А.А. Семиотика и ее основные проблемы. М.: Издательствополитической литературы. 1968.Винер 1958 – Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном имашине. М.: Изд -во «Советское радио». 1958.Вюстнек 1963 – К . D. Wüstneck. Zur philosophischen Verallgemeinenmg undBestimmung des Modellbegriffs. Deutsche Zeitschrift f . Philosophie , 1963, № 12,S . 1514.Грязнов и др. 1965 – Б. А. Глинский, Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, Е. П.Никитин. Моделирование как метод научного исследования. Изд. МГУ, 1965.Кёппе 1999 – Køppe S. Videnskabelige modeller // Almen Semiotik, no. 14, pp.33-47. 1999Мельчук 1997 – Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. 1: Пер с фр. /Москва – Вена: «Языки русской культуры», Венский славистическийальманах, Издательская группа «Прогресс», 1997.Нейман 1966 – von Neumann, J. Theory of Self-Reproducing Automata, Burks,A. W., ed., Univ. of Illinois Press.Патти 1995 – Pattee, H. H. "Evolving self-reference: matter, symbols, andsemantic closure". Communication and Cognition - Artificial Intelligence, 12 (1-2), 9-28. 1995Патти 1997 – Pattee, H. H. The Physics of Symbols and The Evolution ofSemiotic Control". Workshop on Control Mechanisms for Complex Systems:Issues of Measurement and Semiotic Analysis, Las Cruces, New Mexico, Dec. 8-12, 1996. To be published as Santa Fe Institute Studies in the Sciences ofComplexity, Proceedings Volume, Addison-Wesley, Redwood City, CA, 1997.Пирс 1931 – 1958 – Peirce 1931-1958 - Peirce C. S. Collected Papers. Vv 1- 8.Cambridge: Harvard University Press.Пирс 1940 – Peirce 1940 - Peirce C. S. The philosophy of Peirce. SelectedWritings. N.-Y. Harcourt, Brace. 1940.Пирс 1958 – Peirce C. S. Values in a Universe of Chance. Stanford, Calif.:University Press.
Пирс 1963 – 1966 – Peirce C. S. The Charles S. Peirce Papers. Cambridge, Mass.:Harvard University. 1963 – 1966.Ракитов 1969 – Ракитов А. И. Анатомия научного знания (популярноевведение в методологию науки). М., 1969Ревзин 1962 – Ревзин И. И. Модели языка М: Изд-во АН СССР. 1962.Тарский 1948 – Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивныхнаук. М.: Иностранная литература, 1948.Сепир 1993 – Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. -М., 1993.Топоров В. Н. Древо мировое // Мифы народов мира. Т. 1. М.: Изд-во«Советская энциклопедия». 1980, с. 398 - 406.Фреге 1879 - Frege G. Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildeteFormelsprache des reinen Denkens. Halle, 1879. 88 S.Фреге 1884 - Frege G. Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathematischeUntersuchung über den Begriff der Zahl. Breslau, 1884.Фреге 1893 - Frege G. Grundgesetze der Arithmetik. Beghriffsschriftlichabgeleitet. Bd. I. H. Pohle, Jena 1893Фреге 1903 - Frege G. Grundgesetze der Arithmetik. Beghriffsschriftlichabgeleitet. Bd. II. H. Pohle, Jena 1903.Фреге 1962 - Frege G. Funktion, Begriff, Bedeutung. Düsseldorf. 1962.Фреге 1973 - Frege G. Aus dem Nachlass. Jena. 1973.Химик 1994 – Химик И. А. (сост.) Художественная культура первобытногообщества. С.-Пб.: изд-во "Славия", 1994. 416 с.Хомский 1961 – Хомский Н. Три модели описания языка / Кибернетическийсборник, М. 1961, с. 237 – 253.Хомский 1961 – Хомский Н.Чёрч 1960 – Чёрч А. Введение в математическую логику. Т. 1. М.: Изд-воиностранной литературы. 1960.Чжао 1965 – Чжао Юань-жень, Модели в лингвистике и модели вообще /Математическая логика и её применения, пер. с англ., М., 1965, с. 281-92.Шаров 1998 – Sharov A. From cybernetics to semiotics in biology// Semiotica120: 403-419. 1998.(Short Internet-version: Towards the semiotic paradigm inbiology).Шаров 1999 – Sharov A. The origin and evolution of signs. Semiotica 127: 521-535. 1999.Шаумян 1965 – Шаумян С. К. Структурная лингвистика. М.: Наука. 1965.Шиханович 1965 – Шиханович Ю. А. Введение в современную математику.М. 1965.Шрейдер 1973 – Шрейдер Ю. А. Модели в лингвистике и математике //Математическая лингвистика. М.: Наука, 1973, с. 63 - 83.Шрейдер и др. 1982 – Шрейдер Ю. А., Шаров А. А. Системы и модели. М.:Радио и связь, 1982. 152 с.Штофф 1966 – Штофф В. А. Моделирование и философия.http://sbiblio.com/biblio/archive/shtoff_mod/00.aspx