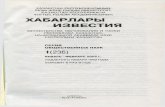«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА: ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОМПРОМИСС?
История, экономика и культура средневековых...
Transcript of История, экономика и культура средневековых...
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН
ÈÑÒÎÐÈß, ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÊÓËÜÒÓÐÀÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÛÕ ÒÞÐÊÎ-ÒÀÒÀÐÑÊÈÕ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИГ. КУРГАН, 22 - 23 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
КУРГАН 2011
2
УДК 94(57) “04/14” (063)ББК 63.3 (253.3)4л0И 90
История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сиби-ри: Материалы Международной конференции (Курган, 21-22 апреля 2011 г.) / отв.ред. Д.Н. Маслю-женко, С.Ф. Татауров. – Курган: Изд-во Курганского гос.ун-та, 2011. - 136 с.
Печатается по решению научного совета Курганского государственного университета
Рецензенты:И.К. Загидуллин, доктор исторических наук, доцент, заведующий отделом средневековой ис-
тории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ;Н.А.Томилов, доктор исторических наук, профессор, директор Омского филиала Института
археологии и этнографии СО РАН, заведующий кафедрой этнографии и музееведения Омскогогосударственного университета им. Ф.М. Достоевского.
Настоящее издание представляет сборник докладов участников Всероссийской научной кон-ференции «История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств ЗападнойСибири».
В сборник включены доклады по проблемам археологии, этнографии, источниковедения иполитической истории сибирских тюрко-татарских государств, а также по проблемам их взаимо-отношений с Русским государством и включения Западной Сибири в его состав.
Книга предназначена для историков, археологов, этнографов, культурологов и всех интере-сующихся историей Западной Сибири в средние века.
ISBN 978-5-4217-0075-3
Курганский государственныйуниверситет, 2011 Авторы, 2011
3
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
KURGAN STATE UNIVERSITY
OMSK BRANCH OF INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY SB RAS
HISTORY, ECONOMY AND CULTURE OF MEDIEVALTURKIC-TATAR STATES OF WESTERN SIBERIA
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE
KURGAN, APRIL, 21-22, 2011
KURGAN 2011
4
UDK 94(57) “04/14” (063)BBК 63.3 (253.3)4лОH-90
History, economy and culture of medieval Turkic-Tatar states of Western Siberia: Proceedings of theInternational conference (Kurgan, April, 21-22, 2011) / executive editor D.N. Maslyuzhenko, S.F. Tataurov.-Kurgan: Kurgan State University Press, 2011. - 136 P.
Printed on the resolution of the Scientific Council of Kurgan State University
Reviewers:I. K. Zagidullin, Doctor of Historical Sciences, Docent, the Head of the Medieval History Department,
Institute of History named after S.Mardzhani, AS RT,N.A. Tomilov, Doctor of Historical Sciences, Professor, the Head of Omsk Branch of IAE SB RAS,
Chairholder, Chair of Ethnography and Museology, Omsk State University named after F.M. Dostoyevsky
The reports of the participants of the All-Russian scientific conference «History, economy and cultureof medieval Turkic-Tatar states of Western Siberia» have been represented in the present edition.
The collection includes reports on archeology, ethnography, source and political history of the SiberianTurkic-Tatar States, as well as on their relationship with the Russian State and admission of WesternSiberia in its structure.
The book will be useful for historians, archaeologists, ethnographers, cultural studies explorers andall those interested in the history of Western Siberia in the Middle centuries.
ISBN 978-5-4217-0075-3
© Kurgan state university, 2011© Authors, 2011
5
АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКО-ТАТАРСКИХГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
А.А. Нуржановг. Алматы
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОРОДАСЕМИРЕЧЬЯ В ЭПОХУ ТЮРКСКИХ
КАГАНАТОВ (СОЦИАЛЬНАЯСТРУКТУРА)
Как известно, в структуре средневекового обществагород играл существенную роль, сосредотачивая в себеполитические, социальные, культурные и религиозныефункции и активно воздействуя на соответствующие сфе-ры жизни общества. Именно в средневековье город при-обретает значение экономического центра, концентри-руются и развиваются мелкотоварное производство, ре-месла, внутренняя и внешняя торговля, денежные от-ношения и международные связи. Изучение функцио-нирования средневекового города включает в себя нетолько определение строительных горизонтов и хроно-логических отрезков жизни - это прежде всего много-компонентный процесс, протекавший на фоне различ-ных социально-экономических коллизий на протяжениитысячелетий.
Археологические памятники Южного Казахстана иСемиречья свидетельствуют о постоянном взаимодей-ствии двух хозяйственных укладов, соотношении двух куль-турных комплексов, связанных со скотоводством и земле-делием, со степью и городом. В первые десятилетия VII в.вдоль Великого Шелкового пути, переместившегося в Юж-ный Казахстан и Семиречье, появились города. Некото-рые них сформировались как ставки тюркских каганов,другие были основаны согдийцами. Оседлый и городс-кой уклад жизни стал расширяться и вплоть до началаХIII в., то есть на протяжении семи столетий, в рамкахтаких государств, как Тюргешский, Карлукский, Караханид-ский каганаты, можно видеть сочетание скотоводства иземледелия, сопровождающееся ростом и расширени-ем последнего и появл многочисленных поселений и го-родов. В Карлукском и особенно Караханидских государ-ствах происходило массовое оседание степняков в горо-дах, наблюдался симбиоз земледелия и скотоводства,обусловивший многие достижения того времени а такжепродолжение этногенеза тюркоязычных народов Сред-ней Азии и Казахстана.
Движение (миграция, переселение) больших группсогдийцев в конце VI в. в Чу-Таласское междуречье име-ло ярко выраженную социальную окраску и было связанос кризисом и распрями в эфталитском и затем в тюркскомкаганатах, повлекшими, в свою очередь, массовый при-ток переселенцев-тюрков в Бухарский оазис.
В этой борьбе определяющим моментом были отнюдьне этнические, а политические и социальные факторы,продиктованные попытками закабалить свободных общин-ников. В этой борьбе рядовые тюркские переселенцы,оседавшие на земле, находились в одном лагере с согдий-ской беднотой, а тюркские князья и военачальники ста-новились царями и владельцами новых земель. СюаньЦзань перечисляет целый ряд согдийских, тохарис-танс-ких, шашских городов, где царями были тюрки, а титулправителей оставался иранским - шерри, шах, малик,худат [4, 229-231]. Широкое и массовое расселение тюр-ков в Средней Азии и Казахстане зафиксировано архео-логически. Чаще всего с этим связывают каменные изва-яния с подкурганными захоронениями. Происходило рас-
пространение тюркского костюма, вооружения, грубойлепной керамики и монет.
Вместе с тем, источники содержат сведения о том,что поселения и города Семиречья в VII-VIII вв. представ-ляют собой некое политическое объединение в системекаганата. Об этом можно судить, например, по даннымдревнетюркской эпиграфики. Так, в надписи в честь Кюль-Тегина в числе посольств, прибывших в конце 731 г. в Ор-хонскую ставку восточно-тюркских каганов для участия впохоронах Кюль-Тегина, упоминаются послы согдийских ибухарских городов страны Аргу (Чу-Таласа). Этот фактпозволил сделать заключение о существовании в Семи-речье в первой половине VIII в. территориальной конфе-дерации согдийских городов [5,216], границы которой оп-ределяются восточной зоной Чуйской долины.
О значительной роли согдийцев в тюркском этноге-незе не только в VI-IX вв., но и в X-XI вв. свидетельствуютданные письменных источников, в которых отмечается, чтожители «Баласагуна говорили по-согдийски и по-тюркски,так же как жители Испиджаба и Тараза» [3, 71].
Ценные сведения о внутригородской жизни согдий-цев в Семиречье, социальном составе населения их го-родов, правовых и этических нормах в каганате содержат-ся в некоторых документах Мугского архива. Вниманиепривлекает брачный контракт, составленный в столицеСогда - Самарканде 25 марта 711 г. Как явствует из брач-ного договора, знатный тюрок по имени Ут-Тегин взял вжены согдиянку Дугдгончу, находившуюся под опекой (ибывшую одной из жен) правителя Навекета, согдийскогогорода в Семиречье [8,147].
О численности населения городов раннего средне-вековья можно судить лишь по косвенным данным. Горо-да юго-западного Семиречья по населенности уступалигородам центральной части Средней Азии. По расчетамК.И. Петрова, основанным на топографических данныхизучения городищ Чуйской долины с учетом специфики«аграризованных городов», численность населения в нихбыла до 21 тыс. человек. К.М. Байпаков находит расчетыК.И. Петрова реальными. Общая численность городскогонаселения Чуйской и Таласской долин, по даннымК.М. Байпакова, составляла около 100 тыс. человек [1, 256].
Значительную часть городского населения состав-ляли иностранцы - выходцы из других стран, занимавши-еся миссионерской деятельностью в религиозных общи-нах. Как отмечают источники, тюркские каганы покрови-тельствовали различным культам и разрешали селитьсяв городах (особенно в ставках) приверженцам таких ре-лигий, как христианство, буддизм, манихейство. Среди ис-поведавших эти религии поселенцев большинство состав-ляли сирийцы, армяне, тохары, уйгуры и другие племенаи народы Переднего и Дальнего Востока, впоследствииассимилированные согдийским и тюркоязычным насе-лением, и постепенно в процесс тюркизации были вов-лечены все слои населения городов Семиречья, а тюрк-ский язык, нравы и обычаи тюрков, по свидетельству Мах-муда Кашгарского, уже к середине XI в. стали обычнымидля жителей городов Восточного Туркестана и Семире-чья. Рядом с тюрками, пишет он в «Диван лугат Ат-тюрк»,жили согдаки и кенжеки, аргу и хотанцы, тибетцы и тангу-ты, языки которых непосредственно влияли на язык тюр-ков [6, 78-83], равно как само соседство сказывалось навсех сторонах хозяйственной и культурной жизни страны.Оказавшись в зоне мощного воздействия оседлой циви-лизации, тюркские племена были втянуты в новую систе-му экономических и социальных отношений, получивших
6
дальнейшее развитие на следующем этапе тюркской го-сударственности и жизни городов.
Это подтверждает и высокий удельный вес тюркско-го населения в городах X-XII вв. Так, ас Самани (X в.) пи-шет, что «Джикиль - один из городов тюрков» [3, 81-82]около Тараза, а Ибн Хаукаль (X в.) - что «Тараз был мес-том торговли мусульман со стороны тюрк» [2, 69].
Ал Массуди указывает, что в 893 г. Исмаил ибн Ахмеднаправился из Бухары в страну тюрок и взял город за го-родом (царя тюрков) [3, 90].
Существование между населением Тараза и горо-дами его округи на протяжении всех трех периодов эт-нической истории VI-XI вв. тесных контактов, с одной сто-роны, с населением городов Средней Азии, с другой - скарлуками, кипчаками близлежащих степей, способство-вали не только ускорению развития феодальных отно-шений, но образованию казахского народа. В городахбыл сосредоточен административный аппарат, казна,дружина и большие капиталовложения членов правя-щей семьи. Караханиды заимствовали у Саманидовструктуру госаппарата, который делилась на две катего-рии: дергах (дворец) и диван (канцелярия). При верхов-ном правителе (арсланхане) имелся хаджиб - посред-ник между каганом и подданными, являвшийся, по сути,советником кагана или удельных правителей (богра-ханов, тегинов, елиг-илеков, тарханов и др.). О чинов-никах разных категорий Караханидского каганата боль-шую информацию дает Юсуф Батасагунский в «Кутадгубилиг». Он перечисляет придворные должности: агычи(кухмистер), битигчи (писарь), ылымча (секретарь),кушчы (сокольничий) и т.д. [7, 495-517]
У Махмуда Кашгарского визир назван югруш, он сто-ял на второй ступени иерархии в каганате, а князья - бегинаходились в подчинении правителей верховного кагана.Далее место военачальников - субашлар, исфахсалар,которые в поэме Юсуфа Баласагунского следуют за визи-ром. Во главе общин и селений стоял староста - аскакал,коксин сакал по Юсуфу Баласагунскому, помощник ста-росты назывался чубан.
Западное Семиречье до середины X в. не зналоединой религии. По мере исламизации населения удель-ный вес горожан, живших по старым нормам, все умень-шался, что наблюдалось и в более западных районах.Если в государстве саманидов города стали жить по нор-мам мусульманского права с IX в., то в государстве Кара-ханидов - со второй половины X в.
У средневековых авторов основным критерием дляобозначения города как административного центра яв-ляется наличие соборной мечети, такой город называл-ся «медина»; город - не административный центр, име-новался иначе (карйа или дех). В перечне категорий го-рожан фигурируют одни и те же звания и должности: сей-иды, улемы, имамы, шейхи, военная знать и «простойнарод». Существовала преемственность в наследованиидуховных должностей и титулов, таких как факих (законо-вед), муфти (глава духовного управления) или имам (гла-ва мусульманской общины), нередко шейх был одно-временно и кази (судьей).
Археологические раскопки памятников IX - началаXIII в. свидетельствуют о формировании городской му-сульманской культуры на юге Казахстана. В Таразе и Мир-ки христианские церкви были превращены в мечети [3,80-82].
Таким образом, со второй половины X в. началсяновый этап в истории Семиречья - города становятсяцентрами исламской науки, просвещения и культуры издесь складывается элитарная культура. Тюрки-мусуль-мане, оседлые горожане и кочевые племена смогли по-нять друг друга и в конечном итоге создать самобытную
культуру, которая вписалась в многообразие древних куль-тур человечества.
Именно в это время возникли народы и государства,ставшие прямыми предками современных тюркоязыч-ных наций, в том числе и казахской. Тогда же поднимает-ся на новую ступень духовная культура степняков - воз-никла тюркская письменность, заимствованная и соб-ственная, появилась запечатленная этими письменамитюркская литература, древние тюрки впервые приобщи-лись к мировым религиям - буддизму, христианству, исла-му, широко освоили достижения иных цивилизаций - араб-ской, византийской, иранской, индийской, китайской. Вусловиях кочевой жизни, а иногда после перехода к осед-лому и городскому быту, как, например, в Южном Казах-стане и Семиречье, древними тюрками была созданановая самобытная культура, занявшая свое место в ми-ровой цивилизации того времени.
Все это нельзя раздробить на «истории» отдельныхплемен и народов Великой Степи и отнести исключитель-но к прошлому какого-либо одного современного наро-да. Тюркоязычные народы Евразии, в том числе и каза-хи, как и их предки, в течение веков имели общую исто-рию и общую по происхождению культуру, ставшую сегод-ня их общим наследием. Земля, на которой они роди-лись и живут, в разное время называлась по-разному:Тураном, Степью Огузов, Дешт-и-Кыпчаком, Туркестаном.Но независимо от названия она всегда осознаваласьединым и нераздельным целым Тюркским миром и неотличала детей разных тюркских народов друг от друга.Их национальные культуры взошли из единой корневойсистемы, уходящей в глубь тысячелетий, и по-прежнемупереплетаются стволами и корнями.
Список источников и литературы1.Байпаков К.М. Средневековая городская культура ЮжногоКазахстана и Семиречья (VI - начало XIII в.)/ - Алма-Ата:Наука, 1986.2.Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. - Л.,1927.3.Волин С.И. Сведения арабских источников IX-XVI вв. одолине р. Талас и смежных районах// Труды ИИАЭ АНКазССР. - Т.8. - Алма-Ата, 1960.4.Гафуров Б.Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековаяистория. - М.: Наука, 1972.5. Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятникикак источник по истории Средней Азии. - М.: Наука, 1964.6.Кляшторный С.Г. Эпоха Махмуда Кашгарского//ТС, 1972, -№ 1.7.Кононов А.Н. Поэма Юсуфа Баласагунского «Благодатноезнание»//Юсуф Баласагунский. Благодатное знание. - М.:Наука, 1983.8.Лившиц В.А. Согдийские документы с горы Муг. - Вып. II.Юридические документы и письма. - М.: Наука, 1971.
А.М. Илюшинг. Кемерово
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮКЫПЧАКСКОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА
В период развитого средневековья на степных, гор-ностепных и лесостепных просторах западной части Ев-разии фиксируется историко-культурный феномен подназванием Дешт-и-Кипчак (Кипчакская степь). В ЗападнойСибири появление этого феномена объясняют разнымипричинами [2; 26, 124-130; 29, 53-72; 30; 32, 77-99; 31; 34,114-121; 37, 138-152; и др.]. По нашему мнению, в Кузнец-кой котловине и на других территориях Сибири этот фе-номен появился в результате миграции сюда тюркоязыч-
7
ных кочевников, образующих различные социально-по-литические и этнокультурные конфигурации, известныепо письменным источникам как многочисленные кып-чакские орды. Эти явления в период развитого средне-вековья имели место и на территории Кузнецкой котло-вины, расположенной в юго-восточной части ЗападнойСибири. Культура кыпчакских орд этого региона былаотождествлена с шандинской археологической культуройXI-XIV вв. и двумя археолого-этнографическими комплек-сами – погребенных по обряду ингумации с тушей илишкурой коня XI-XIV вв. и погребенных по обряду трупообо-жжения на месте захоронения с тушей или шкурой коняXIII-XIV вв. [5, 98-108, 120-126]. Эти выводы были сделаныпо материалам, известным на начало XXI века. В резуль-тате разведок и раскопок Кузнецкой комплексной архео-лого-этнографической экспедиции (ККАЭЭ) за последниегоды было накоплено большое количество новых мате-риалов, в частности погребальных памятников Солнеч-ный-1 (остатки курганного могильника Новокамышенкапо А.Т. Кузнецовой – А.И.), Ишаново, Конево, Мусохрано-во-1 и на поселениях Усть-Канда-2, Мусохраново-6а и То-ропово-7 [6, 75-77; 8, 95-105; 9, 118-124; 10, 71-82; 11, 83-94; 12, 25-27; 13, 98-100; 14, 441-443; 15,407-409; 16, 175-184; 17,163-168; 18, 79-83; 19, 60-66; 20, 165-179; и др.].Новые вещественные источники позволяют не толькоболее углубленно изучать статику и динамику культурывосточных кыпчакских орд этого региона Западной Сиби-ри, но и исследовать вопросы социо- и культурогенеза. Вчастности, нами была высказана гипотеза о возможнос-ти расположения ставки Урус-хана в среднем течении р.Ур. В этом месте зафиксировано большое скоплениеобъектов, датируемых периодом жизнедеятельности ос-новоположника династии первых казахских ханов [7,74-82]. Цель настоящей работы - познакомить с новыми ма-териалами из полевых исследований ККАЭЭ, поделить-ся наблюдениями, сделанными в ходе раскопок отдель-ных объектов и обследования памятников развитогосредневековья в Кузнецкой котловине.
Рис.1 Находки посуды: 1,2 - горшки, керамика.Курганная группа Мусохраново-1 (курган №4, могила
1 (1) и 3 (2))
Рис.2. Находки посуды: 1-3 – чаши. 1 – железо,2,3 – керамика. 1– каменная группа Мусохраново–1 (курган
№4, могила 1), 2,3 – поселение Топорово–7
О том, что в предмонгольский период на территориюКузнецкой котловины мигрировали значительные потокитюркоязычного населения, свидетельствуют появившие-ся в это время в большом количестве погребальные па-мятники, оставленные пришлыми этническими группами.Сейчас их насчитывается более двух десятков. При этомобращает на себя внимание, что все эти объекты, соотно-симые с шандинской археологической культурой, распо-лагаются в пределах западной и северо-западной терри-торий Кузнецкой котловины в бассейне среднего теченияр. Иня, где преобладают степные и присутствуют лесостеп-ные ландшафты. Последнее объясняется хозяйственнымукладом кыпчакских орд, который был ориентирован наразведение коней, овец, коров и верблюдов. Памятникирасполагаются, как правило, близ водных артерий ручьеви рек притоков первого и второго порядка р. Иня. Наблю-дается определенная закономерность в расположениипогребальных памятников. Крупные курганные могильни-ки, как правило, располагаются в среднем течении левыхпритоков р. Иня. На р. Бачаты это курганный могильникШанда, на р. Ур – комплекс погребальных памятников близс. Ур-Бедари, на р. Касьма это курганный могильник Торо-пово-1. Среди погребальных объектов шандинской архе-ологической культуры по количеству преобладают курган-ные группы, насчитывающие от 2 до 9 курганных насы-пей, и немного реже встречаются одиночные курганы. Сре-ди курганных групп преобладают объекты, насчитываю-щие от 4 до 5 курганных насыпей. Любопытно, что и кур-ганные могильники практически отражают эту же законо-мерность, так как в основном они представляют собойскопления курганных групп на одном могильном поле, гдекаждая из них занимает конкретное положение. Эта осо-бенность фиксируется при проведении планиграфическихисследований курганных могильников. Курганные группы,как правило, ориентированы в меридиональном направ-лении с небольшими отклонениями по оси ССЗ-ЮЮВ.
Наблюдения за расположением погребальных объек-тов и их раскопки позволяют сделать ряд выводов о соци-альной структуре кыпчакских орд на территории Кузнец-кой котловины в развитом средневековье. Во-первых, какправило, каждый курган представляет собой погребаль-
8
но-поминальный комплекс для всех членов семьи и прак-тически выполняет функцию ее дома в потустороннеммире. Во-вторых, каждая курганная группа представляетсобой родовое кладбище, а количество курганов на нейозначает количество колен этого рода, которые прожи-вали на данной территории. Сама курганная группа мо-жет быть отождествлена с родовым поселением в потус-тороннем мире и практически маркирует территорию, за-нимаемую родом, как при его функционировании, так ипосле его исчезновения. В-третьих, наличие курганныхмогильников, где фиксируется наличие нескольких кур-ганных групп, отражает факт совместного проживания не-скольких родов на одной территории, что и означает на-личие орды, представляющей собой объединение двух иболее родов.
Материалы исследования курганной группы Коневоявляются яркой иллюстрацией функционирования родо-вого кладбища, и раскрывают динамику происходящих из-менений в каждом колене этого рода. Этот памятник на-считывает 4 земляных курганных насыпи, каждая из кото-рых возведена во внутреннем сакральном пространстве,оконтуренном рвом подчетырехугольной формы. Цепоч-ка курганов вытянута по оси ССЗ-ЮЮВ и ее сооружениешло с севера на юг (не исключено, что эта традиция име-ла место и при сооружении других погребальных памят-ников этой культуры. – А.И.). В первом кургане была по-гребена семья (мужчина и женщина) основателей рода нановом месте проживания. У погребенных фиксируетсяодинаковый способ захоронения, а в грунтовой могиле,занимающей центральное положение и самой глубокойна памятнике, где погребен мужчина-родоначальник,фиксируется большое количество погребального инвен-таря, что свидетельствует о его высоком социальном ста-тусе. Второй по очередности возведения курган по пара-метрам своих конструкций и сооружений не уступал пер-вому. Под его насыпью выявлено семь грунтовых могил,где фиксируется несколько способов захоронений. Пос-леднее свидетельствует, что члены рода брали в мужья ижены представителей других родов и даже, вероятно, издругих племен, порой проживавших на значительном уда-лении от Кузнецкой котловины. При этом уважительноотносились к их погребальным традициям и погребали всвоей семейной усыпальнице по тому способу, которыйбыл характерен для их этнической группы. Третий курганотличается меньшими размерами и представляет собойпогребение молодой семьи, где по родовой традиции по-гребена лишь молоденькая женщина, которая, судя поукрашениям одежды, занимала высокое социальное по-ложение и, вероятно, была родовой шаманкой. Четвер-тый курган свидетельствует о завершении функциониро-вания рода как социальной ячейки общества на ранеезанимаемой им территории. В нем из 11 могил лишь одна,в которой был погребен мужчина, была совершена по томуже способу захоронения, что и у основателей рода, лишь снебольшими инновациями. Все другие захоронения со-вершены по разным способам, что и свидетельствует обисчезновение родовой традиции.
Результаты раскопок кургана №3 на могильнике Иша-ново позволяют предполагать, что в орде, соорудившейэтот памятник, родство определялось по отцовской ли-нии. Под насыпью кургана была погребена семья (муж-чина, женщина, девушка и двое детей). Женщина (пред-положительно супруга) была погребена на спине с согну-тыми и приподнятыми в коленях ногами и ориентирова-на головой на восток. Все другие члены семьи погребеныпо тому же обряду, что и мужчина (супруг, глава семьи) – ввытянутом положении на спине с ориентацией головына восток.
Раскопки на поселениях позволили установить факт
наличия наземных жилищ типа юрты, где в центральнойчасти жилого пространства, как правило, фиксируетсяналичие кострища диаметром не более одного метра.Культурный слой преимущественно небольшой. На посе-лениях выявлены фрагменты керамической столовой икухонной посуды. Для отождествления с культурой кып-чакских орд керамического комплекса с поселений оченьважными оказались новые находки фрагментов керами-ческой посуды, сделанные при раскопках погребальныхпамятников. В частности, на курганной группе Мусохрано-во-1 в могилах 1 и 3 кургана №4 были найдены остаткикерамической и железной посуды, подвергнутые реконст-рукции (рис. 1, 1, 2; 2, 1). По форме и орнаментации онинаходят близкие аналогии на других памятниках, датиру-емых этим временем. В том числе и на рядом располо-женных поселениях Мусохраново-6а, Торопово-4 и Торо-пово-7 (рис. 2, 3, 4). Последнее обстоятельство позволя-ет с большой долей вероятности предполагать, что этипамятники были сооружены представителями одной эт-нической группы.
Очень важным обстоятельством для характеристикикультуры кыпчакских орд является традиция установки всвятилищах или в курганных насыпях каменных изваяний[27, 213-221; 28, 152-169; 35, 166-193; 37, 146, рис. 2;38,179-190; 39, 213-234; 40, 199-209; и др.] (предположи-тельно погребенных предков-родоначальников. – А.И.).У восточных кыпчаков, проживавших на значительномудалении от долины р. Иртыш, эта традиция ранее непрослеживалась. В 2009 году в ЮВ поле насыпи кургана№4 на Мусохраново-1 был впервые зафиксирован фактустановки каменного и деревянного изваяний. При этомони располагались во внутренней части сакрального про-странства, которое было ограничено деревянной изго-родью. Конструкция изгороди представляла собой четы-рехугольное сооружение, размеры которого составляли15,85 х 12,63 м, длинной осью вытянутого по линииЗСЗ-ВЮВ. В основе сооружения были опорные деревян-ные столбы, углубленные в почву или материк. На опор-ные столбы крепились горизонтальные перекладины, меж-ду которыми вставлялись путем изгиба и опоры на днев-ную поверхность стволы молодых березок впритык друг кдругу. Вход шириной 1,56 м был с восточной стороны, на-против него располагались каменное, а за ним деревян-ное изваяния.
Выявленный факт установки деревянного изваянияпозволяет высказать предположение, что дерево исполь-зовалось как основной материал для изготовления скуль-птуры у восточных кыпчаков, поэтому она и не сохрани-лась до наших дней. Это обстоятельство позволяет пред-полагать, что многие из ранее зафиксированных в насы-пях раскопанных курганов восточных кыпчаков деревян-ные столбы, как правило, интерпретируемые исследова-телями как сэргэ (коновязь) в отдельных случаях моглибыть остатками деревянных изваяний. Последнее позво-ляет предполагать, что традиция установки деревянныхизваяний могла появиться на территории Кузнецкой кот-ловины еще в раннем средневековье. О наличии тради-ции установки западными кыпчаками (половцами) дере-вянных изваяний известно давно [28, 154-155].
Среди находок в закрытых погребальных комплексахзафиксировано много уникальных предметов, которыеукрашали узду (рис. 3, 1-10) или одежду человека. В ос-новной массе эти предметы представляют собой изде-лия, выполненные ремесленниками по конкретным за-казам на изготовление парадных и повседневных укра-шений. Изделия по заказу отличает то, что они, как пра-вило, выполнены из одного материала (бронза, сереб-ро, присутствует золочение) по одной и той же техноло-гии и украшены одним орнаментом (в случае его присут-
9
ствия). Многие из этих изделий украшены растительнымили геометрическим орнаментом. Среди мотивов пре-обладают вьющиеся побеги и виноградная лоза. Выяв-ленные орнаментальные мотивы известны на предме-тах аналогичного назначения, на широких просторах степ-ной Евразии и локальных территориях Саяно-Алтая вконце I – начале II тыс. н.э., которые интерпретируют какевразийский стиль «степного орнаментализма» [2; 3; 4;21, 185-191; 22, 3; 24; 25; и др.]. Многие изделия былиизготовлены по сложным технологиям, что предполага-ет их ремесленное производство, наиболее вероятно, вгородах Семиречья и Средней Азии. К числу традицион-ных кыпчакских предметов одежды можно отнести пар-ные бронзовые крепления с двумя крючками для ноше-ния длинных кожаных сапог [1,164-168; и др.]. Среди ук-рашений – массивные черные стеклянные бусы, подвес-ки из лазурита, кольчатые серьги из серебра и бронзы[26, 92-93; 33, 118-128; и др.]. Комплекс вооружения
(рис. 4, 1-9) традиционный для кыпчаков состоит из лукасо стрелами и сабли для ведения дистанционного и ближ-него боя [18, 79-83; 19, 60-66; 36, 106-120; 37, 145; и др.].В качестве уникальных изделий можно назвать различ-ные виды железных и бронзовых заколок, бусы из рако-вин каури и кораллов, которые очень редко встречаютсяв материалах этого периода [23, 87-104; и др.]. Любопыт-но еще одно обстоятельство. При визуальном восприя-тии новых материалов из раскопок разных погребаль-ных памятников складывается впечатление единствакультурных форм кыпчакской культуры. Однако послеклассификации артефактов и сравнительного анализастановится ясно, что каждый памятник, как и объекты нанем, представляет собой уникальное явление. Это об-стоятельство свидетельствует, что традиционная культу-ра восточных кыпчаков на территории Кузнецкой котло-вины еще не сложилась окончательно и находилась впроцессе формирования в исследуемый период.
Рис.3. Находки предметов конской упряжи из кургана № 1 Солнечный–1, могила 3: 1-10 – украшения снаряжения лошади.1,2,5-10 – бронза с позолотой, 3-4 – бронза с позолотой и кожа.
10
Рис.4. Находки предметов вооружения и экипировки из кургана № 10 Мусохраново-1: 1– сабля, 2-6 – наконечники стрел,7 – колчанный крюк, 8-9– пряжки, 1-6 – железо и дерево, 7-9 – железо. 1– могила 1, 2-9 – могила 2
Список литературы1. Адамов А.А. О назначении парных крючков из погребенийпервой половины II тыс. н.э. лесостепного Приобья // Источ-ники этнокультурной истории Западной Сибири. – Тюмень,1991. – С.164-168.2. Адамов А.А. Новосибирское Приобье в X-XIV вв. – Тобольск-Омск: Изд-во ОГПУ, 2000. – 256 с.3. Горбунова Т.Г. Реконструкция конского снаряжения средне-вековых кочевников Алтая: методика и некоторые результа-ты. – Барнаул: Азбука, 2010. – 136 с.4. Горбунова Т.Г., Тишкин А.А., Хаврин С.В. Средневековыеукрашения конского снаряжения на Алтае: морфологическийанализ, технологии изготовления, состав сплавов. – Барнаул:Изд-во Азбука, 2009. – 144 с.5. Илюшин A.M. Этнокультурная история Кузнецкой котлови-ны в эпоху средневековья. – Кемерово: Изд-во КузГТУ, 2005. –240 с.6. Илюшин A.M. Материальная и духовная культура средневе-ковых кыпчаков Кузнецкой котловины // Алтае-Саянскаягорная страна и история освоения её кочевниками. – Барна-ул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. – С. 75-77.7. Илюшин А.М. Гипотеза о происхождении Урус-хана (наоснове комплексного подхода к историческим источникам)// Археология Степной Евразии. – Кемерово: Изд-во КузГТУ,
2008. – С. 74-82.8. Илюшин А.М. Результаты раскопок Кузнецкой комплекснойархеолого-этнографической экспедиции в 2008 году //Вестник Кузбасского государственного техническогоуниверситета. - 2009. - №1. – С. 95-105.9. Илюшин А.М. Новые материалы по средневековой историиаборигенов Кузнецкой котловины // Проблемы археологии иистории Северной Азии: Сборник, посвященный юбилеюЛ.А. Чиндиной. – Томск: Изд-во Аграф-Пресс, 2009. – С. 118-124.10. Илюшин А.М. Об использовании огня в погребальномобряде средневекового населения Кузнецкой котловины (поматериалам раскопок курганной группы Мусохраново-1) //Известия Алтайского государственного университета.- 2009. - № 4/2. – С. 71-82.11. Илюшин А.М. Новые открытия в этнокультурнойистории развитого средневековья Кузнецкой котловины //Известия Алтайского государственного университета.- 2009. - № 4/2. – С. 83-94.12. Илюшин А.М. Торевтика из раскопок Кузнецкой комплекс-ной археолого-этнографической экспедиции // Торевтика вдревних и средневековых культурах Евразии. – Барнаул:Азбука, 2010. – С. 25-27.13. Илюшин A.M., Борисов В.А., Бутьян В.А., Сулейменов М.Г.Исследования Кузнецкой комплексной археолого-этнографи-
11ческой экспедиции в 2006 году // Вестник Кузбасскогогосударственного технического университета. - 2007. -№1. – С. 98-100.14. Илюшин A.M., Борисов В.А., Сулейменов М.Г. ИсследованияКузнецкой комплексной археолого-этнографической экспеди-ции // Археологические открытия 2004 года. – М.: Наука,2005. – С. 441-443.15. Илюшин A.M., Борисов В.А., Сулейменов М.Г. ИсследованияКузнецкой экспедиции // Археологические открытия 2003года. – М.: Наука, 2004. – С. 407-409.16. Илюшин А.М., Бутьян В.А. Раскопки Кузнецкой комплекс-ной археолого-этнографической экспедиции 2009 года накурганной группе Мусохраново-1 // Вестник Кузбасскогогосударственного технического университета, - 2010.- №4. – С. 175-184.17. Илюшин A.M., Бутьян В.А., Сулейменов М.Г., РоговскихВ.С. Исследования Кузнецкой комплексной археолого-этног-рафической экспедиции в 2007 году // Вестник Кузбасскогогосударственного технического университета. - 2007.- №6. – С. 163-168.18. Илюшин A.M., Сулейменов М.Г. Комплекс вооружениякочевников развитого средневековья на курганной группеКонево // Вестник Кузбасского государственного техническо-го университета. - 2007. - №4. – С. 79-83.19. Илюшин А.М., Сулейменов М.Г. Погребение конноголучника в Кузнецкой степи (к вопросу о развитии военногодела в эпоху средневековья) // Известия Алтайского государ-ственного университета. – Барнаул, 2008. - №4/2. – С. 60-66.20. Илюшин A.M., Сулейменов М.Г., Бутьян В.А. Результатыполевых разведок Кузнецкой комплексной археолого-этногра-фической экспедиции в 2008 году / // Вестник Кузбасскогогосударственного технческого университета. - 2009. - № 3.– С. 165-179.21. Конькова Л.В., Король Г.Г. Художественно-технологичес-кие особенности наиболее распространенной группысредневековой торевтики малых форм Саяно-Алтая. –Кемерово-Алматы, 2008. – С. 185-200.22. Король Г.Г. Искусство средневековых кочевников Евразии.Очерки. – М., Кемерово, 2008. – 332 с.23. Кызласов И.Л. Булавки древних хакасов // АрхеологияЮжной Сибири. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 1977. – С. 87-104.24. Кызласов Л.Р., Король Г.Г. Декоративное искусствосредневековых хакасов как исторический источник. – М.,1990. – 216 с.25. Могильников В.А. Кочевники северо-западных предгорийАлтая в IX-XI веках. – М.: Наука, 2002. – 362 с.26. Плетнева Л.М. Томское Приобье в начале II тыс. н.э. (поархеологическим источникам). – Томск: Изд-во ТГУ, 1997. –350 с.27. Плетнева С.А. Печенеги, торки, половцы // АрхеологияСССР. Степи Евразии в эпоху средневековья. – М.: Наука,1981. – С. 213-221.28. Плетнева С.А. Кочевники южнорусских степей в эпохусредневековья (IV-XIII века): Учебное пособие. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. – 248 с.29. Савинов Д.Г. Об основных этапах развития этнокультур-ной общности кыпчаков на юге Западной Сибири // История,археология и этнография Сибири. – Томск: Изд-во ТГУ, 1979. –С. 53-72.30. Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскуюэпоху. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 176 с.31. Савинов Д.Г. Государства и культурогенез на территорииЮжной Сибири в эпоху раннего средневековья. – Кемерово:Кузбассвузиздат, 1994. – 215 с.32. Савинов Д.Г. Могильник Калтышино-1 (новые материалыпо археологии начала II тыс. н.э.) // Памятники раннегосредневековья Кузнецкой котловины. – Кемерово: Кузбассву-зиздат, 1997. – С. 77-99.33. Савинов Д.Г., Новиков А.В., Росляков С.Г. Верхнее Приобьена рубеже эпох (басандайская культура). – Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН, 2006. – 423 с.34. Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Археология Западно-Сибирс-кой равнины: Учебное пособие. – Новосибирск, 2004. – 136 с.35. Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы подвластью золотоордынских ханов. – М.: Изд-во МГУ, 1966. –270 с.36. Худяков Ю.С. Вооружение кочевников Южной Сибири и
Центральной Азии в эпоху развитого средневековья. –Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН, 1997. – 160 с.37. Худяков Ю.С. О происхождении культуры средневековыхкыпчаков // Древности Алтая. – Горно-Алтайск: Изд-воГАГУ, 2005. - Вып. 12. – С. 138-152.38. Чариков А.А. О локальных особенностях каменныхизваяний Прииртышья // Советская археология. - 1979.- №2. – С. 179-190.39. Чариков А.А. Новая серия каменных статуй из Семире-чья // Средневековые древности евразийских степей. – М.:Наука, 1980. – С. 213-234.40. Швецов М.Л. Половецкие святилища // Советская археоло-гия. - 1979. - №1. – С. 199-209.
Т.Н. Рафиковаг.Тюмень
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЦАРЕВАГОРОДИЩА (2007-2009 ГГ.)
Чинги-Тура, столица Тюменского ханства, известна сдревности. Каждый раз, касаясь вопроса об освоениисибирского края, историки указывали, что Тюмень явля-лась первым русским городом Сибири и была заложенана месте татарского поселка. К сожалению, чаще всегоэтот факт упоминался вскользь [6, 88; 10, 46, 62-64, 204-206; 7, 211; 17,32]. Более подробно вопрос о времениоснования Чинги-Туры и попытка объяснить происхож-дение ее названия предпринята в «Описании Сибирско-го ханства…» Г.Ф. Миллером [15, 38, 44-47]. Описаниегородища и сохранившихся укреплений дал Н.А. Абрамов.К сожалению, в работу краеведа закралась ошибка, спра-ведливо подмеченная И.В. Беличем [5, 158-159]: при опи-сании внешней защитной линии «татарского владычества»указана ее протяженность в 600 сажень, что не соответ-ствует географическим реалиям. Локализация внутреннейобороны затруднительна. Судя по ее протяженности – 70саженей, это могли быть только укрепления Царева горо-дища (цитадели Чинги-Туры), но прочие мерные характе-ристики, а именно глубина рва 2,5 аршин и высота вала«более двух аршин» [1, 385] противоречат сведениям, со-держащимся в экспликации к плану Тюмени 1766 г.
В конце XX – начале XXI в. историки и археологи вновьвернулись к обсуждению вопросов о топографии древне-го города, его планировке, внешнем виде, устройствефортификационных линий и т.д. [14; 4, 143-157; 5, 142-164; 8, 152-154]. Особый интерес представляет научно-популярное издание «Археологические путешествия поТюмени и ее окрестностям», где Н.П. Матвеевой приво-дится план города 1766 г., который на сегодняшний деньявляется одним из основных источников по планиграфииЧинги-Туры [14, 168].
Итак, опираясь на картографические материалы XVII-XX вв. и описания ученных XVIII-XIX вв., можно отметитьзначительные размеры города. Наиболее укрепленнойчастью являлась цитадель Чинги-Туры, расположеннаяв исторической части современной Тюмени, на трапеци-евидном мысу, ограниченном улицами Ф. Энгельса и Ком-муны. С трех сторон мыс окружен оврагами (Вишневый,р. Тюменка и ее приток), с напольной же стороны, посведениям И. Лепехина, был «…обведен земляным двой-ным валом, которой от долговременности обветшал ипочти со всем сравнялся» [9, 2]. У Миллера встречаем:«…Между такими буераками, а не на самом берегу рекиТуры был старинный татарский городок, от которого ещеи поныне видны земляной вал и ров, от буерака до буе-рака проведенные…» [15, 213]. На карте Тюмени XVII-XVIII вв., помещенной П.М. Головачевым в книгу «Тюменьв XVII столетии», в данном месте отмечен только ров [19,
12вклейка]. К сожалению, мерные характеристики валовнам не известны. По экспликации к плану 1766 г. ров был«глубиною 3 сажени шириною 15 сажен». Столь значи-тельные размеры ров приобрел, скорее всего, в резуль-тате эрозии почвы.
Западнее и юго-западнее Царева располагалосьБольшое городище, южнее, на соседнем мысу, – Малое(рис. 1). Укрепления Большого городища, судя по плану1766 г., были представлены тремя оборонительными ли-ниями. Две первые вал-ров линии, протяженностью око-ло 270 м каждая, с проходом в середине, состояли извалов шириной около 1,5 м («2 аршина») и рвов ширинойдо 2 м («1 сажень»), глубиной до 2,5 м (1,5 сажени). Пос-ледняя вал-ров линия защищала полностью Большое го-родище. Ширина вала составила 3,5 м («2 сажени»), вы-сота 1,5 м («2 аршина», ширина рва – 2,5 м («1,5 саже-ни»), глубина чуть более 1 м («1,5 аршина»).
Рис. 1. Схема Чинги-Туры (фрагмент плана Тюмени 1766 г.,по: Матвеева и др., 1994. С. 168): А – Царево городище,
В – лог, С – Большое городище, D – Малое городище, E – внутренние оборонительные линии Большого городища,
F – наружный вал и ров Большого городища
Малое городище, судя по плану, не имело укрепле-ний. Не исключено, что они были уничтожены к моментусоставления карты города.
До городища сибирских татар на мысу существовалобакальское городище или поселение. Опираясь на резуль-таты археологического зонирования, проведенного коллек-тивом ИГИ ТюмГУ на площадках Царева, Большого и Ма-лого городищ [13], предполагаем, что бакальский поселокзанимал стрелку мыса (Царево городище) и, частично,территорию Большого городища – на том мысу, где оноограждено логом Вишневым и притоком р.Тюменки.
К моменту прихода русских Чинги-Тура уже потеря-ла статут столицы ханства и являлась рядовым городом.После захвата города русские построили острог на сосед-нем мысу и долго не позволяли татарам селиться на руи-нах Царева городища.
При строительстве стадиона в 60-х гг. ХХ века основ-ную часть Большого и, вероятно, оборонительные линииЦарева городищ уничтожили. Строительство коттеджейна остальной территории Большого городища привело кпрактически полному уничтожению культурного слоя.Культурный слой Царева городища также сильно испор-чен. Многовековая хозяйственная деятельность привелак переотложенности слоев, смешению материала.
Спасательные археологические раскопки на терри-
тории Царева городища проводились Институтом гумани-тарных исследований ТюмГУ в 2007-2009 гг. Результатыработ позволили изучить материалы нескольких хроноло-гических периодов.
К жилым сооружениям бакальского населения наЦаревом городище отнесено семь построек.
Сооружение 2 изучено лишь частично, юго-западнаячасть постройки снесена при рытье котлована под строи-тельство коттеджа (рис. 2). Подпрямоугольный контур жи-лища прослежен по полоскам тлена от деревянных жер-дей, толщиной 2-4 см. Жилище углублено в материк на 158см. Чувал не зафиксирован, но в центре постройки отме-чены крупные фрагменты обмазки с отпечатками жердей.
Рис. 2. План сооружения 2 Царева городища
Сооружение 4 подпрямоугольной формы, площадьюоколо 16 кв. м (точно установить не удалось из-за непол-ной изученности). Жилище углублено в материк на 75-82см, при этом центральная часть дополнительно углубле-на еще на 45 см. В центре данного сооружения выявленакруглая хозяйственная яма, диаметром 70 см. Несколькокусков глиняной обмазки с отпечатками прутьев, примы-кающих вплотную к материковой стенке, расчищено посеверному борту полуземлянки. Данное наблюдение яв-ляется еще одним доказательством в пользу плетеных стенбакальских жилищ.
Сооружение 5 ромбовидной формы с округлой севе-ро-западной частью, площадью 14,1 кв.м (рис. 3). Пост-ройка углублена в материк до 68 см, при этом централь-ная часть дополнительно углублена на 23-45 см. Такимобразом, внутри котлована с трех сторон была оставленаматериковая ступенька, с юго-восточной стороны ее ши-рина достигала 90 см, с северо-восточной чуть менее 80см, с северо-западной – 70 см. В центре постройки расчи-щена крупная хозяйственная яма сложной конструкции.Никаких очажных сооружений не зафиксировано. В юго-западный контур постройки вписана столбовая ямка, диа-метром 30 см, глубиной до 12 см. В восточном углу фик-сируется крупная яма, размерами 46х48, глубиной 44 см,оставшаяся, скорее всего, от конструкции сооружения.
13
Рис. 3. План сооружения 5 Царева городища
Сооружение 7, подпрямоугольной формы, размера-ми 3х4,2 м. В материк углублено на 70 см, с западной сто-роны отмечена материковая ступенька, шириной до 80 см,высотой 16 см от уровня пола. В центре постройки отме-чено подпрямоугольное углубление с дополнительной хо-зяйственной ямой внутри. Северо-восточная граница по-стройки разрушена современными ямами.
Жилой характер сооружения 10 только предполага-ется, так как оно изучено не полностью. Исследованнаячасть имела г-образную форму, максимальные размеры2,36х1,76 м, в западной части постройки находилась хо-зяйственная яма. В юго-восточном углу постройки расчи-щена ямка от столба, диаметром 24 см, глубиной 10 см.
Сооружение 12 представляло из себя подпрямоуголь-ную постройку, углубленную в грунт на 60 см, с дополни-тельно углубленной на 20-30 см центральной частью (рис.4). В последней расчищена подквадратная хозяйственнаяяма размерами 56х60 см, глубиной 32 см. По сторонам отнее располагались две столбовые ямки, диаметром 10 сми 16 см, глубиной 11 см и 30 см, при этом одна из них (№69) в профиле была наклонена к центру жилища. В юго-западной части постройки устроена крупная хозяйствен-ная яма, размерами 120х172 см, глубиной 45 см. С севе-ро-восточной стороны отмечен совмещенный с жилищемпристрой, скорее всего, хозяйственного назначения (по-довальной формы с крупной хозяйственной части в цент-ре и прокалом в северной части).
Сооружение 17 имело, по всей видимости, подтра-пециевидную форму. Длина по северо-западной стороне– 3,2 м, мерные характеристики остальных сторон снятьне удалось, так как жилище вскрыто не полностью. В севе-ро-восточной части постройки, в округлой нише, вырезан-ной в материке, был устроен чувал. Здесь расчищен его раз-вал, представленный крупными кусками глиняной обмазки сотпечатками прутьев. Размеры ниши 94х114 см. Подобноеустройство чувала было зафиксировано нами в жилище ба-кальской культуры Усть-Терсюкского-1 городища.
Итак, несмотря на малую площадь исследованнойтерритории, можно выявить некоторые черты, характер-ные для бакальского домостроительства. Глубина пост-роек варьировала от 0,4 м до 1,6 м, причем в большин-стве жилищ центральная часть дополнительно углубля-лась. Остов жилища, сооружаемый из каркасных столбов,оплетался прутьями или жердями и дополнительно обма-зывался глиной. Часть обмазки дошла до нас в виде кро-шева, но остальная часть, прокалившаяся при пожаре,сохранила на себе отпечатки прутьев и пальцев. Интересвызывает присутствие в каждой постройке глубоких хо-зяйственных ям. Это позволяет предполагать наличиедеревянных полов.
Рис. 4. План сооружения 12 Царева городища
В верхних слоях раскопа 2 зафиксировано крупноеназемное каркасно-столбовое сооружение, площадьюболее 60 кв.м. Раскопом удалось исследовать основнуюего часть. В юго-западной части постройки расчищенадощатая дверь. Даты, полученные по образцам дерева отостатков данного сооружения (СОАН 7599-7602), помеща-ются в интервале X-XIII вв. н.э. Один образец (СОАН-7600)показал на раннюю дату – 630-900 гг. н.э. с вероятностьюв 95,4% (табл. 1). Мы полагаем, что это не случайный ре-зультат. Функционирование поселка бакальской культурымогло начаться и с периода раннего средневековья. Так,в культурном слое памятника встречены кушнаренковс-кие (очень грубые, вероятно поздние), карымские и юдин-ские черепки [18,47].
Следующие периоды – татарский и переходный отбакальской культуры к культуре сибирских татар, датиру-ют восемь образцов. Сильная испорченность верхних сло-ев памятника не позволяет стратиграфически расчленитьданные периоды. Более того, сооружения датируются вшироких хронологических диапазонах. Уголь, отобранныйот вертикального столбика каркасно-столбовой конструк-ции сооружения 1а, перекрывающего сооружение 1 пери-ода развитого средневековья, датировал постройку в ши-роком диапазоне – 1280-1520 гг.н.э. с вероятностью в93,9%. Второй образец из соседнего участка показал на1440-1530 (72,4%) гг.н.э и 1520-1630 (23,0%) гг. н.э. Со-оружение 3 датировано ХIV-XVII вв. н.э. Также к построй-кам сибирских татар мы относим сооружение 24 в цент-ральной площадке памятника, датированное углем (СОАН-7981) из расположенной рядом хозяйственной ямы XVI-XVII вв. н.э. с вероятностью в 68,2%.
Раскопами изучено большое количество крупных хо-зяйственных ям и сооружений. Их точная хронологичес-кая принадлежность не ясна, скорее всего, они оставле-ны в бакальский период. Интересно, что пол некоторых изних выстилали березовыми полотнищами или досками(соор. 11, 15, яма № 61).
Инвентарь памятника, представленный костяныминаконечниками стрел и многочисленными орудиями тру-да (проколки, ножи и т.д.), не позволяет внести ясность вдатировку объектов. Единственный железный наконечникстрелы, плоский, с упором датируется в рамках развито-го средневековья.
14Таблица 1
Калибровка дат, полученных по углю и древесине из средневековых слоев Царева городища. OxCal, версия 3.10№ код Объект Значе-
ние Вероятность 68,2 % AD
Вероятность 95,4 % AD
бакальский период 1 СОАН-291 Древесный уголь из
заполнения шурфа №14, кв. А-2, гл.отбора 130 см
890±75 1040 (25,6%) 1100 1110(42,6%)1220
1010-1270
2 СОАН-293 Древесный уголь из шурфа №14, кв. Б-2, гл. отбора 100 см.
820±55 1165-1265 1040(8,8%)1100 1110(86,6%) 1290
3 СОАН-599 Раскоп 2, кв. к-8, гл. 39 см
960±40 1020(22,2%)1060 1080(46,0%)1160
990-1170
4 СОАН-600 Раскоп 2, кв. п-р/2-3 1285±70
650(63,4%)780 790(4,8%)810
630-900
5 СОАН-601 Раскоп 2, кв. о-1, гл. 34 см
880±65 1040(22,3%)1100 1110(145,9%)1220
1020-1260
6 СОАН-602 Раскоп 2, кв. н-2, г. 65 см
890±80 1040-1220 1010-1280
переходный и татарский период 7 СОАН-292 Древесный уголь из
шурфа №15, гл. отбо-ра 100 см.
525±70 1310(24,4%)1360 1380(43,8%)1450
1280-1490
8 Ле-8211 Раскоп 1, кв. Г-7, гл. 110 см
520±75 1310 (24,0%) 1360 1380(44,2)1450
1280 (93,9%) 1520 1600(1,5%) 1620
9 Ле-8212 Раскоп 1, кв. Б-4, гл. 190 см
380±20 1450 (53,6%) 1500 1600 (14,6%)
1620
1440 (72,4%) 1530 1570 (23,0%) 1630
10 Ле-8213 Раскоп 2, кв. д-1*, гл. 90 см
290±25 1520 (45,8%) 1580 1630 (22,4%) 1650
1510 (62,9) 1600 1610 (32,5%) 1660
11 Ле-8214 Раскоп 2, кв. е-1*, гл. 90 см
440±100
1400 (47,0%) 1530 1550 (21,2%) 1640
1290 (9,5%) 1370 1380 (85,9%)1660
12 Ле-8215 Раскоп 2, кв. д-2*, гл. 150 см
720±50 1240 (58,4%) 1310 1360 (9,8%) 1390
1210 (78,4%) 1320 1340 (17,0) 1400
13 СОАН-981 Раскоп 4, кв. Л-4, гл. 128 см от поверхности
350±70 1520-1670 1450-1740
14 СОАН-982 Раскоп 2, кв. ф-18, ни-вел. глубина -106 см
420±60 1460-1590 1400-1650
Зоологическая коллекция бакальского времениЦарева городища, рассмотренная совместно с материа-лами городищ Коловского и Усть-Терсюкского, позволи-ла получить новые источники для реконструкции хозяй-ства бакальского населения.
Анализируя зоологические коллекции, отмечаемпреобладающую роль скотоводства (табл. 2). В процент-ном соотношении доля домашних животных по отноше-нию к диким на Усть-Терсюкском городище составила 5:1,на Коловском – 10:1, на Царевом – 26:1. При этом наУсть-Терсюкском городище, также как и на Царевом, пре-обладают кости лошади. А вот на Коловском городищекости крупного рогатого скота практически в два раза до-минируют над останками лошади и более чем в два разанад костями мелкого рогатого скота. К домашним живот-ным отнесены также собаки, на Коловском городище ихзафиксировано три, на Царевом – две. В бакальскомслое Царева городища отмечено шесть костей верблю-да, что указывает на связь населения с южными терри-ториями.
В этнографии соотношение доли скотоводства и зем-леделия в хозяйстве является одним из главных критери-ев при определении хозяйственно-культурного типа и сте-пени подвижности населения. Преобладание костей до-машних животных в зоологических коллекциях, слабоеразвитие земледелия, вспомогательная роль охоты, ры-боловства и собирательства указывают, что скотоводствоявлялось ведущей формой хозяйства в экономике бакаль-ского населения. Для более конкретного определения его
типа – кочевое, полукочевое, подвижное или оседлое –необходимо выявить, какая направленность скотовод-ства преобладала: экстенсивная или интенсивная. Г.Е.Марков указывает, что под «кочевым» необходимо пони-мать такой вид кочевничества, при котором пастбищноескотоводство ведется в очень подвижной форме. Прими-тивное мотыжное земледелие либо отсутствует, либоимеет небольшое значение в хозяйственной деятельно-сти. Могли существовать и прочие занятия – торговля, со-провождение караванов, охота, военный промысел. По-лукочевой тип также основан на пастбищном экстенсив-ном скотоводстве и отличается только меньшей подвиж-ностью и большей ролью вспомогательных видов дея-тельности, в первую очередь земледелия [11, 46; 3, 7-9].Более определенно об отличиях данных видов хозяйстваговорит А.И. Першиц, указывая, что «чистые» кочевникимогли совмещать скотоводство с отхожими промысла-ми, охотой и т.п., но не с земледелием, как полукочевни-ки [16, 140-141]. Б.В. Андрианов полагает, что отличиемежду кочевым и полукочевым хозяйством незначитель-но и рассматривает их как один тип [2, 78]. Подвижноескотоводство, по мнению Г.Е. Маркова, охватывает сово-купность разнообразных видов экстенсивного и интен-сивного скотоводства, которые доставляют основныесредства существования и осуществляются с помощью пе-регона или отгона скота на пастбище; от круглогодичногосодержания на пастбищах до разных форм отгонного иполуоседлого скотоводства. В зависимости от вида под-вижного скотоводства разводится мелкий и крупный ро-
15
гатый скот, транспортные животные [12, 47]. Для оседло-го скотоводства последнее играет только вспомогатель-ную роль на фоне хорошо развитого земледелия.
Таблица 2Состав животных из зоологической коллекции бакальских
памятников1
Усть-Терсюкское
Коловское2 Царево3
Домашние животные Лошадь 29 90/21 438 КРС 4 218/37 373 МРС 1 64/16 300 Псовые - 3/3 2 Верблюд - - 6 Всего домашних
34 375 1119
Дикие животные Косуля 1 8/4 9 Лось 6 13/6 5 Лисица - 1/1 11 Куньи - 1/1 - Бобр - 6/4 - Птица - 6/? 15 Рыба - 1/? 2 Медведь бурый
- - 1
Всего диких 7 36 43 1 Первая цифра – количество костей, вторая – минимальное количество особей (посчитано только для Коловского городища). Определение костей с Коловского городища осуществлено А.С. Поклонцевым и П. Колмогоровым, с Усть-Терсюкского и Царева городищ – Н. Пластеевой. 2Приведены данные за 2003, 2005 и 2006 гг. 3Приведены данные на 2008 г.
Проанализировав состав стада в бакальских комп-лексах, отмечаем, что доля лошади и мелкого рогатогоскота достаточно велика и составляет для Коловского го-родища 27-39 %, для Царева – 21-27% (показатели Усть-Терсюкского городища в силу малой выборки не учитыва-лись). Но и доля крупного рогатого скота уже превышает30% (Царево городище) и 48% (Коловское городище), чтосвидетельствует о значительной интенсивной направлен-ности скотоводства бакальского населения.
Таким образом, значительная доля крупного рогатогоскота в составе стада, зарождение земледелия, занятиеохотой, рыболовством, собирательством, наличие долго-временных и сезонных построек, керамики собственногопроизводства позволяют нам определить хозяйственно-культурный тип бакальского населения как подвижное ско-товодство.
Подводя итог, отмечаем, что археологическое изуче-ние Царева городища позволяет нам относить время воз-никновения бакальского поселка к концу раннего средне-вековья – IX-X вв. н.э. Мы не можем утверждать, что посе-лок был укреплен, но анализ топографии прочих бакальс-ких памятников позволяет нам склоняться к данной точкезрения. На Царевом городище изучены долговременныесооружения этого периода – углубленные полуземлянки,получена серия радиоуглеродных дат.
На месте бакальского поселка было образовано го-родище Чинги-Тура, ставшее столицей Тюменского хан-ства. Оно занимало три соседних мыса и состояло из трехчастей – Царево, Большое и Малое городища. После пе-реноса столицы в Искер Чинги-Тура продолжила существо-вание в роли рядового городища. После захвата городкарусскими на соседнем мысу был построен Тюменский ос-трог.
Список литературы1. Абрамов Н.А. Город Тюмень: Из истории Тобольскойепархии. – Тюмень: СофтДизайн, 1998. – 576 с.
2. Андрианов Б.В. Неоседлое население мира (историко-этнографическое исследование). - М.: Наука, 1985. - 280 с.3. Артамонов М.И. Возникновение кочевого скотоводства//Проблемы археологии и этнографии. -Вып. 1. - Л., 1977.- С. 4-13.4. Белич И.В. К этимологии, семантике и истории происхож-дения средневекового имени г. Тюмени // Вестник археологии,антропологии и этнографии. - Тюмень: ИПОС СО РАН, 2006. -Вып. 7. - С. 143-157.5. Белич И.В. Чертеж г. Тюмени рубежа XVII-XVIII вв. итопография «Царева городища» (Чимги/Цымги-Туры) //Вестник археологии, антропологии и этнографии. - Тюмень:ИПОС СО РАН, 2009. - Вып. 11. - С. 142-164.6. Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт первых ее насель-ников. -Т.1. - Тюмень: Изд-во Ю.Мандрики, 1999. - 328 с.7. Завалишин И. И. Описание Западной Сибири. – Тюмень:Мандр и К, 2005. - 511 с.8. Измер Т.С., Молявина Е.Ю. К вопросу о перспективностиархеологического изучения городища Чимги-Тура // Словцовс-кие чтения-2005: Материалы XVII Всероссийской научно-практической краеведческой конференции. - Тюмень: Изд-воТюменского государственного университета, 2005. - С. 152-154.9. Лепехин И. Продолжение дневных записок путешествияИвана Лепехина, академика и медицины доктора, вольногоэкономического в Санкт-Петербурге друзей природы испыта-телей в Берлине и Гессенгомбургского патриотическогообществ члена по разным провинциям Российского государ-ства в 1771 году. - СПб.: При Имп. Акад. Наук, 1814. - 376 с.10. Летописи сибирские. - Новосибирск: Новосибирскоекнижное издательство, 1991.11. Марков Г.Е. Кочевники Азии. - М.: Изд-во Моск. ун-та,1976. - 317 с.12. Марков Г.Е. Классификация скотоводства и дефиниции//Методологические аспекты археологических и этнографи-ческих исследований в Западной Сибири. - Томск: Изд-во ТГУ,1981. - С. 45-48.13. Матвеев А.В. Отчет о разведочных работах в историчес-кой части г. Тюмени в 2005 г. – Архив ИГИ ТюмГУ, 1-40.14. Матвеева Н.П., Матвеев А.В., Зах В.А. Археологическиепутешествия по Тюмени и ее окрестностям. - Тюмень, 1994.- 190 с.15. Миллер Г.Ф. Описание Сибирского царства и всех произ-шедших в нем дел от начала, а особливо от покорения егоРоссийской державой по сии времена. - СПб., 1750. - Кн. 1. -490 с.16. Першиц А. И. Война и мир на пороге цивилизации: кочевыескотоводы // Война и мир в ранней истории человечества. -М., 1994. - Т. 2. - С. 131-229.17. Полное собрание русских летописей. Т. 36. Сибирскиелетописи. - М.: Наука, 1987. - 381 с.18. Рафикова Т.Н. Отчет о спасательных археологическихраскопках на территории охраняемого культурного слоя в г.Тюмени (Царево городище) в 2008 г. - Архив ИГИ ТюмГУ, 2009.1/201.19. Тюмень в XVII столетии: собрание материалов дляистории города с «Введением» и заключительной статьейприв.- доц. П. М. Головачева «Экономический быт Тюмени вXVII в.», с прил. плана старинной Тюмени и 2 видов Благове-щенского собора начала XVIII в./ изд. А. И. Чукмалдиной .- М. :Типо-литогр. т-ва И. Н. Кушнерев и К° , 1903 .- 166 с.
Е.А. Смагуловг. Алматы
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯГОРОДА ЯСЫ-ТУРКЕСТАН:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕВыдающаяся роль г. Туркестана в истории Казахста-
на обусловливает актуальность всестороннего изученияего истории и культуры. Анализ данных письменных ис-точников, в силу их фрагментарности и специфичности,не дает возможности детальной и научно обоснованной
16
реконструкции истории города. Имеющиеся в научной ли-тературе попытки такого рода реконструкции, включая иранее предложенную нами, недостаточно обоснованы имогут рассматриваться в целом пока лишь как гипотезы[19; 24; 26].
Необходимо отметить, что предшествующие архео-логические работы на городище проводились время отвремени и не были подчинены единой «Программе изу-чения прошлого города Туркестана» и истории его куль-туры. В значительной степени они обслуживали потреб-ности и задачи реставрации здания ханаки и регенерацииокружающей территории [7;11;32]. В настоящее время, нанаш взгляд, назрела задача разработки подобной «Про-граммы» исследования и увязки её с планами регенера-ции охранной зоны музея-заповедника Азрет-Султан.
Со времен первых археологических исследований, входе которых были высказаны первые предположитель-ные суждения об этапах развития города [1;5;8], прошлодостаточно времени и проведены целенаправленные стра-тиграфические исследования на основных структурныхсоставляющих туркестанского археологического комплек-са. Обобщая весь имеющийся материал, можно наме-тить археологически обоснованную периодизацию топог-рафического развития города Туркестан.
Историческая интерпретация стратиграфических дан-ных с целью реконструкции основных этапов развития го-рода может выглядеть следующим образом. Предтечейгорода Туркестана было поселение Ясы, упоминаемое вписьменных источниках XIII – XIV вв. Его местоположениеопределяется на месте холма Куль-тобе на южной окраи-не позднего города Туркестана. Это невысокий двухъярус-ный бугор площадью 200 х 130 м. Стратиграфические ис-следования, проведенные на Культобе в начале 80-х го-дов, показали, что нижние слои могут быть отнесены кпервой половине или середине I тыс. н. э. В V-VI вв. этобыло, очевидно, типичное раннесредневековое поселе-ние с замком и небольшим поселением при нем. При-влекает внимание узел дорог, подходивший к городищу свосточной стороны и запечатленный в позднейшей мик-ротопографии этого участка. Поселению на Культобе син-хронен его некрополь, располагавшийся на противопо-ложном берегу речушки Бавлук, где в XII в. был погребёнсуфийский святой шейх Ходжа Ахмед и сложился мемо-риально-культовый комплекс. Здесь под поздними на-слоениями неоднократно отмечались ранние погребе-ния, впущенные в материк. Участок этого раннего некро-поля удалось исследовать при раскопках центральногозала «казанлык» внутри комплекса мавзолея-ханакиХоджи Ахмеда Ясави [17, 59-70;25, 18-26].
Стратиграфический раскоп на Культобе вскрыл сви-ту культурных отложений общей мощностью 6 м. Выявле-но шесть строительных горизонтов, которые иллюстриру-ют непрерывную жизнь поселения с первой половины Iтыс. н. э. до начала XIV в.
Крупнейшим из объектов туркестанского комплексаявляется городище Туркестан XIV- сер. XIX в. Оно пред-ставляет собой возвышенность подпрямоугольных очер-таний высотой 6-7 м и площадью около 36 га. По перимет-ру городище обведено крепостными стенами (в концеXVII- XVIII в. большая часть их была в руинах) и рвом, пи-тавшимся двумя небольшими речушками, от которых те-перь остались лишь овраги. За пределами стен имеласьразвитая сельскохозяйственная округа. Это был типичнопозднесредневековый город Центральной Азии. Он тра-диционно делился на четыре административные части,управляемых аксакалами. Особый статус имела пятаячасть – участок, окружающий мавзолей-ханаку Ходжа Ах-меда Ясави. Описания города этого времени сохрани-лись в ряде источников XVIII-XIXвв. В архиве первой рос-
сийской академической экспедиции, отправленной Пет-ром I для исследования Сибири, сохранился план-схемагорода Туркестан с печатью хана Тауке (рис.1).
Рис.1. Рисунок плана города Туркестан начала XVIII в.
Время начала застройки этой территории теперь мож-но с достаточной уверенностью датировать XIV в. Об этомсвидетельствуют данные стратиграфического раскопа«Тоган» в западной части городища, а также результатыстратиграфических исследований прошлых лет в районе,непосредственно прилегающем к зданию ханаки (М.Е.Мас-сон, В.А.Левина, К.Шахурин, Т.Н.Сенигова). Можно пола-гать, что в этих границах город благополучно доживаетвплоть до середины XIX века (рис.2).
Раскоп № VIII на берегу водоема Тоган в центре горо-дища Туркестан был доведен до стерильного материка.Выявлено пять последовательных строительных горизон-тов, охватывающих период с XIV в. и до конца XIX в. Общаятолщина культурного слоя составляет 6 м (12 ярусов).
Как и следовало ожидать, стратиграфия городищаТуркестан хронологически продолжила стратиграфию,выявленную нами ранее на городище Культобе [26, 91 исл.]. Теперь можно представить консолидированную стра-тиграфию городища Культобе-Туркестан, являющегосяархеологическим памятником исторического города Ясы-Туркестан.
I. Строительный горизонт - XIXв. (1 (верхний) стр.гор.раскопа №VIII; 7 стр.гор. раскопа №1 на Культобе).
II. стр.гор. – XVIII в. (2 стр.гор. р.№VIII).III. стр.гор. – конец XVI - XVII в. (3 стр.гор. р.№VIII).IV. стр.гор. – XVI в. (4 стр.гор. р.№VIII).V. cтр.гор. – XV(втор.пол.XIV?)в. (5 стр.гор. р.№VIII).VI. стр.гор. – XII- перв. пол.XIV в. (6 стр.гор. р.№1. на
Культобе).VII. стр.гор. - VIII- XI вв. (4-5 стр.гор. р.№1 на Культобе).VIII. стр.гор .- VII в. (3 стр.гор. р.№1 на Культобе)IX. стр.гор. – VI-VII вв. (2 стр.гор. р.№1 на Культобе).X. стр.гор. – IV-V вв. (1 стр.гор. р.№1 на Культобе). Хронологическими реперами для данной колонки
являются следующие находки, четко связанные с опреде-ленными строительными горизонтами:
• погребение коня в VIII стр.гор.(по новой нумера-ции) из 3 стр.гор. раскопа №1 на Культобе;
• находка медно-серебряного клада монет в VIстр.гор.(6 стр.гор. раскопа№1 на Культобе);
• находка медного клада монет в III стр.гор.(3 стр.гор. раскопа №VIII- «Тоган»).
17
Рис.2. Топоплан местности с городищем Туркестан
Получены выразительные стратифицированныекомплексы керамики и других находок (монеты, кладмедных монет, архитектурные остатки и др.). Среди ред-ких изделий прикладного искусства - керамический гла-зурованный трехрожковый светильник в виде фигуры каш-кара и бронзовое зеркало с геральдическим изображе-нием священных драконов у трехногого жертвенника, от-литое, вероятно, по форме, снятой с более раннего (XII-XIII вв.) китайского образца. Находки происходят из слояXVI в. Получена также масса выразительной керамикитак называемого «тимуридского стиля» (бело-синее се-мейство), характеризующая высокий уровень развития ке-рамического искусства Туркестана в XV-XVI вв.[16].
В середине XIX в. в связи с военно-политическимиперипетиями в истории Кокандского ханства, в состав ко-торого в 1816 г. вошел Туркестан со всей округой, обликгорода несколько изменяется. Город окружается новымкольцом стен. Местами они проходят по старым стенам,но большей частью по новым участкам, включая в городдополнительные площади и отдельно окружая участоквокруг ханаки Ходжи Ахмеда Ясави, образуя цитадель(арк) кокандского гарнизона. Можно предположить, чтостена была построена в середине 40-х годов XIX в., т.к.под этими стенами оказались ряд построек XVI-XVIII вв.
Имела ли «кокандская» стена, образующая цита-дель/арк, основание (по всему периметру) в виде разва-лин более ранней стены, достоверно установить в дан-ное время не представляется возможным. Мы можемлишь опираться на наблюдения археологов, осуществ-лявших в 50-х годах археологический надзор за сносомстены. В материалах Левиной В., Шахурина К. и др. нет иупоминания о том, что поздняя стена, окружавшая хана-ку с ЮЗ, Ю, ЮВ и В имела основание в виде горизонта состатками более ранней крепостной стены. Отметим до-полнительно, что и на упомянутом графическом планегорода Туркестан начала XVIII в. отсутствует изображениецитадели, или даже намеки на ее наличие. Добавим так-же, что П.Рычков в описании города, которое можно от-нести к середине XVIII в., отмечал: «Крепостного строе-ния регулярного нет, только имеется круг всего жильястена глиняная и вокруг нее небольшой ров с водою»[13, 18]. И лишь у П.Северцева (1859 г.) есть упоминаниео цитадели [14, 214]. В 1957 г. археолог К.А.Шахурин, на-блюдавший за сносом стены кокандского арка, пришел квыводу: «Археологические раскопки 1957г. и дополнитель-ное изучение источников позволяют говорить, что крепо-стные стены были возведены почти перед самым завое-ванием русскими войсками города Туркестана» [32]. Т.е.
18
вопреки высказанному нами же ранее мнению, что Ясы-Туркестан, переместившись с Культобе на новое место,уже имел «цитадель», теперь можно утверждать, чтоНовый город к юго-западу от ханаки не имел отдельной«цитадели», а городские крепостные стены были пост-роены, скорее всего, только в тимуридское время.
На плане стены этого времени довольно легко вос-станавливаются, тем более что для реконструкции можнопривлечь план г.Туркестана 1875 г., хранящийся в Воен-но-историческом архиве (г. Москва). Можно полагать, чтопо внешнему виду эта позднейшая крепостная стена былаподобна мощному сырцовому забору (дувалу), соединя-ющему круглые толстые башни, на которых располага-лись пушки. Облик этих стен цитадели запечатлен на фо-тоснимках знаменитого «Туркестанского альбома», со-ставленного А.Куном в 70-х годах XIX века. В ходе «благо-устроительных» работ в окрестностях здания ханаки в50-х годах даже следы этих стен были срыты вместе споздним культурным слоем. В 80-х XX в. часть крепост-ных стен отстроена заново.
Таким образом, можно обозначить три основных эта-па в эволюции города Ясы-Туркестан, связанные с суще-ственными преобразованиями его территории:
I этап- поселение-город и некрополь Ясы, IV-нач. XIVв.н.э.;
II этап- город Ясы-Туркестан, XIV-XIX вв.;III этап- город Туркестан, вторая половина XIX в.- нач.
XX в.Датировки строительных горизонтов Туркестана по-
лучены на основе метода относительной хронологии исравнительного анализа керамических комплексов. Есте-ственно, что они не окончательны и нуждаются в допол-нительной аргументации и уточнении. Прежде всего, этокасается VIII-X строительных горизонтов. Малочислен-ность находок и невыразительность нижних слоев Культо-бе, неразработанность периодизации массовых архео-логических материалов начала и середины I тыс. н.э. дляЮжно-Казахстанского региона - все это заставляет вери-фицировать предлагаемую хронологию новыми репрезен-тативными материалами.
В этой связи особо интересна стратиграфия городи-ща Шойтобе (исторический г.Шавгар, в 5 км к югу от г.Тур-кестан). Локализация Шавгара письменных источниковна городище Шойтобе принадлежит А.Н.Бернштаму, ибыла поддержана Е.И. Агеевой и Г.И. Пацевичем [1, 94-95; 5,81]. Альтернативное мнение о локализации Шавга-ра на городище Торткуль I Карачикском, сформулирован-ное К.М. Байпаковым, основано на недостаточно опубли-кованной (и выявленной!) информации по слою IX-XI вв.городища Шойтобе [2, 40-43]. Здесь пока следует отме-тить, что характеристики слоя IX-XI вв. и XII-XIII вв. на Шой-тобе превышают по многим параметрам таковые на Тор-ткуле I [23, 35-44]. Здесь прослежена последовательностькультурных отложений от первых веков н.э. до XII-XIII вв., атакже расположенная в 200-300 м к ЮВ обширная тер-ритория со слоем XIII-XIV вв. (Шойтобе 2). На цитаделипоследовательно вскрыты четыре строительных горизон-та (VII-XIII вв.) и мощный слой раннего поселения. Мощ-ность культурного слоя на цитадели составляет 10-10,5м.По характеру пока малочисленного материала, получен-ного из нижних слоев (обилие каменных орудий труда,каменные зернотерки, преобладание кухонной, «чернойс песком» керамики, лощение по красному, коричнево-му, черному ангобу столовой посуды и пр.), можно заклю-чить, что он подобен комплексу из самых нижних гори-зонтов Культобе. В нижнем слое зафиксированы следыкруглых в плане, видимо, временных жилищ и остатки ме-деплавильных горнов. В ходе раскопок получены наход-ки, характеризующие различные стороны материальной
культуры этого города, отождествляемого традиционно сгородом Шавгаром – центром Туркестанского оазиса в IX– XII вв. Это изделия из керамики, бронзы (зеркало, серьгии т.д.), костяные изделия [25]. К юго-западу от цитаделиШойтобе обнаружено место раннего (домусульманско-го) городского некрополя. Пока расчищено три детскихпогребения. Обнаруженный погребальный инвентарь по-зволяет предварительно отнести некрополь к VI- IX вв.
Неожиданные результаты дали работы на крепост-ной стене шахристана Шойтобе. Оказалось, что мощнаяпахсовая стена сохранилась на высоту около четырехметров. С внутренней стороны она «вросла» в культур-ный слой шахристана, который, надо полагать, здесь со-ставляет также не менее 3-4 метров. Дальнейшее послой-ное вскрытие его до материка может определить времявозникновения города-крепости. Пока, на основе разре-за крепостной стены цитадели в р.№1, возникновениегородских крепостных сооружений можно отнести к VIII-IX вв., а их полное разрушение - к XIII в.
Одним из важных итогов работ, проведенных ТАЭпо Туркестанскому региону, является переоценка масш-табов развития оседло-земледельческой и городскойкультур в регионе. Были заложены стратиграфическиешурфы на 21 средневековом городище. Тем самым уточ-нено время их существования. Выявлено и зафиксирова-но 7 ранее неисследованных городищ и поселений; про-ведена их топосъемка, картографирование и фотофик-сация.
Особенно ярко явление перемещения города на но-вое место в послемонгольское время представлено на Са-уране. В настоящее время установлено, что история Сау-рана представлена двумя городищами: на раннем домон-гольском этапе это городище Каратобе, а в XIV-XVIII вв. -это собственно городище Сауран [23].
Как оказалось, город возник не на пустом месте,как это полагал А.Н.Бернштам [5, 81], а на месте болеераннего некрополя. Под самым нижним строительным го-ризонтом городища Сауран в материке расчищено «му-сульманское» погребение с характерной золотой серь-гой в виде знака вопроса.
Смена местоположения в ходе «возрождения» пос-ле монгольского завоевания свойственна для многих круп-ных городов в Чагатайском улусе, так же как в Джучидс-ком. Т.е. перемещение городов Туркестана, Шавгара иСаурана в конце XIII-нач.XIV в. на новые места, которыерасположены рядом со старыми, как оказывается, отра-жает общеевразийскую тенденцию. В послемонгольскоевремя город Несеф на Кашкадарье «возрождается» нена прежнем месте (городище Шуллюктепа с раннесред-невековыми субстратными слоями), а собственно Новыйгород постепенно складывается в районе юго-восточныхпредместий, вокруг построенного Кепек-ханом дворца-«карши» [28, 28-29; 29, 23-24].
Другой крупнейший среднеазиатский город Термезпосле монгольского разгрома возрождается на новом ме-сте, в десяти километрах к востоку от цитадели СтарогоТермеза на берегах Сурхандарьи. Здесь, на землях вок-руг поместий термезских саййидов (древний клан мест-ных духовных и светских правителей, возводивших своепроисхождение к самому Пророку) складывается Новыйгород. По мнению Е.Некрасовой, «он не походил на сво-его предшественника – Старый Термез и другие средне-вековые города, имевшие длительную историю сложе-ния и состоявшие из нескольких укрепленных частей (ци-тадель, шахристан и рабад)» [10, 9]. Новый город не имелтопографически выраженной цитадели - средоточия вла-сти, не имел крепостных строений, и его пространствен-ное развитие ничем не сдерживалось. Архитектурно-про-странственный облик и застройка Нового города разитель-
19
но отличались от облика прежнего Термеза. «Городскаязастройка имела разреженный характер, жилые дома безвнутренних дворов не образовывали сплошные массивы.Они располагались на некотором расстоянии друг от дру-га и были окружены садами» (там же).
Как известно, и Самарканд в XIII в. переместился сместа, где теперь городище Афрасиаб, на новое место, гдесложился новый город, центром которого стала площадьРегистан. Этот город был обнесен стенами лишь в 1371/2 г.,и лишь в начале XV в. при Улугбеке здесь началось строи-тельство грандиозного медресе и ханаки [9, 2-3].
Интересно отметить, что во втор.четв. XIV в. отмеча-ется смена местоположения ряда крупных поволжскихзолотоордынских городов, включая столицу, в НижнемПоволжье и в целом в северном Прикаспии. Это явле-ние, как известно, породило в историографии ЗолотойОрды условно называемую «проблему двух столиц». Ре-шая ее, исследователи выдвинули ряд гипотез, от внутри-и внешнеполитических до экологических, объясняющихэто явление. Анализ накопившихся нумизматических кол-лекций, по мнению В.В. Пачкалова, решает эту проблемув пользу катастрофической трансгрессии Каспия во вто-рой четверти XIV в. как основного фактора приведшего ксмене местоположения ряда городов в Северном При-каспии, и, в частности, к переносу столицы и основаниюСарая ал-Джедид («Нового Сарая», «Новгорода») [12,171-180]. К сожалению, автору этой теории оказались неизвестными материалы исследования новооткрытого го-родища Жайык на правом берегу р.Урал, которые моглибы усилить его аргументацию гипотезы о решающем фак-торе смещения городов. При интерпретации причин за-пустения города на месте у впадении притока Чаган вр.Урал, у подножия Меловых горок, мы воздержались отоднозначного ответа на этот вопрос, но было отмечено,что в этом однослойном памятнике найдены только мо-неты Узбек-хана. А предположительно выявленное на-звание этого городища «Шакафни» (на «карте Дженкин-сона»), созвучно названию неисследованного ногайско-го городка «Шакашин», что располагался выше по р.Уралу места впадения в него р.Киндалы, и что хотя бы на этомосновании можно предварительно предполагать их пре-емственность, т.е. смещение города вверх по течениюреки [21, 91-102; 3, 121-126].
Конечно же, подобное решение по поволжским ижаикским городам, не снимает актуальности прочих фак-торов, действовавших в тот исторический период в иныхприродно-географических зонах Евразии, в частности, вПриаралье. Известно, что экология Северного Прикаспияи Приаралья находятся в «обратной связи». Предельнообобщая, можно говорить, что при трансгрессии Каспияпроисходит регрессия бассейна Арала и самого этого озе-ра, и наоборот [6, 285-319]. В последнее время появилисьубедительные археологические свидетельства значитель-ного падения уровня Арала в XIV в. Казахстанскими архе-ологами обнаружены и исследованы на обнажившемсявследствие современной регрессии дне Арала остаткинескольких поселений и некрополей, датированных XIVв. [20, 77-82; 4, 120-122]. Существенное обмеление Ара-ла может свидетельствовать о значительной аридиза-ции в XIII-XIV вв. бассейна одной из главных его питающихрек –Сырдарьи, следствием чего становится крайнийдефицит воды в крупных городских центрах ее бассейна,таких как Сауран. Видимо, в этот период здесь в целяхпреодоления водного кризиса, активизируется строи-тельство разветвленной системы кяризов, с помощьюкоторых актуализировались глубоко залегающие грунто-вые воды [22, 172-189; 33,12]. Жизнь в городе становитсяпредельно зависимой от насыщенности водоносных пла-стов, а к древнему Саурану (на месте городища Карато-
бе), вероятно, было затруднительно, если вообще воз-можно, подвести достаточное количество кяризной воды.В более выгодном положении, видимо, была местностьв 3-3,5 км к северу, куда сходились водоносные пластыконусов выноса трех местных небольших рек, стекавшихс гор Каратау.
Вряд ли только одна причина, сколь бы существен-ной она не выглядела, имела следствием перемещениена новое место крупного древнего города. Вероятно, вслучае с Саураном и Туркестаном имел место еще и тотфактор, о котором, применительно к городам ЗолотойОрды, писал Г.А.Федоров-Давыдов [30, 2; 31, 77-80].Стремление местной элиты выйти из-под власти, хоть иноминальной, но приводившей к оттоку налогов, карако-румских Великих ханов, было достаточной дополнитель-ной мотивацией, или поводом, для осуществления боль-ших градостроительных проектов.
О политико-экономических мотивах этого явления,отмечаемого на всей территории бывшей монгольскойимперия, нам приходилось писать в связи с зафиксиро-ванным территориальным перемещением города Туркес-тана. Возможно, что это перемещение города было свя-зано с существенным изменением государственно-поли-тического устройства, ставшим следствием распада мон-гольской империи и появлением на просторах Евразииновых государственных образований. Правитель Ак-ОрдыЭрзен-хан, очевидно, предпринимал активную строитель-ную деятельность по существу в новостроящихся городах.Поэтому можно полагать, что его проекты не ограничи-вались прежними традициями городских застроек илимнением старой городской элиты. Есть основания пола-гать, что наиболее ранние сооружения на центральнойгородской площади нового Саурана, в том числе и расчи-щенная нами «Жума мечеть», была построены при нем.
Вероятно, что аналогичные политические мотивылежали в основе историко-топографических преобразо-ваний внутри основных улусов на всей территории распа-давшейся Монгольской империи. И если для Ясы-Туркес-тана преобразования второго этапа были подчиненыобщеэпохальным причинам, то преобразования третье-го этапа в сер. XIXв были обусловлены сугубо региональ-ными причинами.
Список литературы и источников1. Агеева Е.И., Пацевич В.И. Из истории оседлых поселений игородов Южного Казахстана//Труды Института истории,археологии и этнографии АН Каз.ССР. - Т.5. - Алма- Ата,1958.2.Байпаков К.М. О локализации средневекового городаШавгара//Transoxiana. History and culture. - Ташкент: Изд-воР.Элинина, 2004. - С. 40-43.3. Байпаков К.М., Смагулов Е.А., Ахатов Г.А. Средневековоегородище Жайык. - Алматы, 2005.4. Байпаков К.М. и др. Археологические исследования на днеАрала//Отчет об археологических исследованиях по Государ-ственной программе «Культурное наследие» 2006 года. -Алматы, 2007.5. Бернштам А.Н. Проблемы древней истории и этногенезаюжного Казахстана // Известия АН Каз. ССР. - №67. -Серияархеологическая. - Вып.2. - Алма-Ата, 1950.6. Гумилев Л.Н. Гетерохронность увлажнения Евразии всредние века (ландшафт и этнос)//Ритмы Евразии. Эпохи ицивилизации. - М., 1993. - С.285-319.7. Маньковская Л.Ю. Некоторые архитектурно-археологичес-кие наблюдения по реставрации комплекса Ходжа АхмедаЯсави в г.Туркестане// Известия АН Каз.ССР. Сер. истории,археологии и этнографии. - Вып. 3. - Алма-Ата,1960.8. Массон М.Е. О постройке мавзолея Ходжа Ахмеда в городеТуркестане// Загадки древнего Туркестана. - Алматы: Изд-во«Санат»,1998.9. Масон М.Е. Регистан и его медресе. - Самарканд: Изд-во«Узкомстарис», 1929.
2010. Некрасова Е. Термез и его архитектура. - Ташкент,2001. -С.9.11. Немцева Н.Б. Археологические раскопки у комплексамавзолея Ходжи Ахмеда Ясави (1958г.)//Известия АН-Каз.ССР. Сер. истор., арх. и этнографии. - Вып.1(15). - 1961.12. Пачкалов А.В. Трансгрессия Каспийского моря и историязолотоордынских городов в Северном Прикаспии//Восток-Запад: диалог культур и цивилизаций Евразии. - Вып.8. -Казань, 2007. - С.171-180.13. Рычков П. Топография Оренбургской губернии.1762. -Оренбург,1887.14. Северцев Н. Месяц плена у кокандцев. - СПб., 1860. -С.214.15.Смагулов Е. Городище Культобе //Свод памятниковистории и культуры Казахстана. Южно-Казахстанскаяобласть. - Алматы, 1994. - С.269.16. Смагулов Е. Туркестанские гончары// Города Туркестана.- Алматы, 1999. - С.128-156.17. Смагулов Е.А. Некрополь средневекового Туркестана//Города Туркестана. - Алматы, 1999. - С.59-70.18. Смагулов Е.А. Город Сауран: перспективы исследования,консервации и музеефикации//Отан тарихы. - Алматы, 2000.- №1-2. - С.100-109.19. Смагулов Е.А. Обзор стратиграфических данных инаблюдении по топографии средневекового Туркестана//Известия МОиН РК. - 2000. - №1. - С.3-17.20. Смагулов Е.А. Находка и исследование мазара на днеАральского моря// Отан тарихы. - 2001. - № 4. - С .77-8221. Смагулов Е.А. Проблемы исследования средневековыхгородов в Уральской области// Известия МОН РК, НАН РК.Сер. общественных наук. - 2002. - №1. - С.91-102.22. Смагулов Е.А. Кяризы Туркестанского оазиса// ИзвестияМОН РК, НАН РК. Сер. общественных наук. - 2003. - №1.- С.172-189.23.Смагулов Е.А. Сауранский археологический комплекс//Известия НАН РК. Сер. обществ.наук. - 2007. - № 1.24. Смагулов Е.А., Туякбаев М. Ясы-Туркестан-Шавгар:археологические данные к исторической идентификации//Известия МН-АН РК. - 1997. - №1. - С.35-44.25. Смагулов Е., Туякбаев М. Новое в ранней истории некропо-ля г.Туркестан//Известия МН-АН РК. - 1998. -№1. -С.18-26.26.Смагулов Е.А., Григорьев Ф.П., Итенов А.О. Очеркиистории и археологии средневекового Туркестана. - Алматы:Изд-во «Гылым»,1999.27.Смагулов Е., Туякбаев М., Ержигитова А. Краткие итогиисследований Туркестанской археологической экспедиции в1999г.//Известия МОиН РК. - 2000. - №1. - С.209-214.28. Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб. - Самарканд-Ташкент:Изд-во «Фан», 2000. - С.28-29.29.Сулейманов Р.Х. Карши-Насаф-Нахшаб в системе мировойцивилизации//Роль города Карши в истории мировой цивили-зации: Материалы Международной конференции, посвящен-ной 2700-летнему юбилею города Карши. - Ташкент-Карши,2006. - С.23-24.30. Федоров-Давыдов Г.А. Культура и общественный бытзолотоордынских городов. - М.: Изд-во МГУ, 1964. - С.2.31. Фёдоров-Давыдов Г.А. Общественный строй ЗолотойОрды. - М.: Изд-во МГУ, 1973. - С.76-80.32. Шахурин К.А. Отчет об археологических раскопках в1957г. на территории комплекса Ходжа Ахмеда Ясави//АрхивНИПИ памятников материальной культуры. Инв.№67.33. Deom J.M., Sala R. The 232 Karez of the Sauran region//Сохранение и использование объектов культурного исмешанного наследия современной Центральной Азии. -Алматы, 2005. - С.120-132.
В.И. Молодин, А.И. Соловьевг. Новосибирск
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ ВОБЬ-ИРТЫШСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ
(ЭПОХА ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ)Государственные образования кочевого населения
Сибири занимают особе место в истории Северной Азии.
Тем не менее, многие вопросы, связанные с историчес-кими судьбами населения, входившего в состав таких объе-динений, особенно на фоне событий, связанных с поли-тической историей, освещенной в летописях и запискахсовременников, все еще остаются в тени. Все сказанноеотносится и к Сибирским ханствам, в истории которыхостается достаточное число «белых пятен», в том числеи проблематика, связанная с вопросами изменения гра-ниц, социально-политического воздействия и соподчи-нения населения порубежных, особенно юго-восточных,территорий, которые, несмотря на сделанные в этом на-правлении серьезные шаги [5; 11; 12; 13; 14; 15], ждутновых исследований. Хотя и считается, что Сибирский Юртразмещался, в основном, в междуречье Тобола и Ирты-ша, В.И.Соболев, занимаясь определением его границ,пришел к выводу о том, что территория, заселенная ба-рабинскими татарами, входила в сферу влияния этогополитического образования и могла даже быть време-нами в его составе [13, 229]. Хотя данный тезис остаетсядискуссионным и требует дополнительных доказа-тельств, остается несомненным, что Обь-Иртышские ле-состепи на протяжении обозримого исторического пери-ода оставались зоной контактов южного скотоводческо-го населения, участвовавшего в жизни различных поли-тических образований, в том числе и государственноготипа, и лесных популяций, при первой же возможностиосваивавших северную периферию открытых пространств.Несмотря на такой устойчивый вектор развития, многиевопросы, затрагивающие целые исторические периоды вжизни этого региона все еще остаются в тени. К таковымотносится и монгольская эпоха памятники которой в ле-состепной и предтаежной части Западной Сибири долгоевремя не удавалось обнаружить и которые лишь в после-днее время начали выявляться и открывать свои тайны.
Специфика хозяйственной деятельности населениярегиона включала в себя, с одной стороны, подвижноескотоводство тюркоязычного населения, а с другой, дея-тельность охотничье-рыболовческих угорских и самодий-ских популяций южной части тайги, также предполагав-шую сезонные смены мест проживания. Это имело след-ствием то обстоятельство, что единственными памятни-ками, совокупность которых на сегодняшний день можетбыть использована для реконструкции историко-культур-ной обстановки на обозначенной территории в эпоху раз-витого средневековья, остаются некрополи.
Географически последние располагаются изогнутойлинией от террас северной оконечности оз.Убинское (мо-гильник Заречно-Убинское) вдоль водоразделов р. Тара(Кыштовка-1,2, Садовка-4, Крючное-6, Льнозовод-4, Оку-нево- , Бергамак и т.д.) и рр. Оми и Тартаса, берущих на-чало в глубине Васюганских болот. Две последние, вне-дряясь с северо-востока вглубь Барабинской лесостепи,сливаются здесь в единый водоток, впадающий далее вИртыш в районе г.Омска (Усть-Изес-1,2; Сопка-2, МалыйЧуланкуль-1, Сибирцево). Хронологический диапазон ма-териалов этих памятников охватывает период XIII-XIV –XVII-XVIII вв.
Их анализ позволяет сделать вывод о том, что в пер-вой четверти II тыс. имели место существенные измене-ния демографической ситуации в регионе, связанные свнешнем давлением на автохтонное население, вызвав-шим его отток на север. В настоящее время можно гово-рить о существовании 2-х традиций в погребальной прак-тике местных популяций, связанных с представителямисеверного лесного и южного тюркоязычного мира. Па-мятники XIII - XIV вв., которые могут быть связаны с лес-ной традицией, представляют собой курганные могиль-ники с небольшими земляными сооружениями куполо-образной формы, которые по таким нюансам погребаль-
21ной обрядности, как особенности использования лоша-ди в заупокойных церемониях могут быть разделены нагруппы.
Первая – погребения «с чучелом лошади», которыеимели самый обильный инвентарь и были совершены вберестяных чехлах в ямах, перекрытых этим же материа-лом. Останки животных (черепа, кости передних, заднихконечностей, хвоста) в анатомическом порядке покои-лись на неглубокой приступочке, специально сделаннойвдоль правой стороны ямы. Все предметы, относящиесяк упряжи, помещались на её дно.
Вторая группа – объекты с «символическим захоро-нением» коня - то есть те, в которых встречены предме-ты экипировки верховой лошади, но отсутствуют её кости.Такие захоронения могут быть названы «погребениямисо сбруей» и связаны с обрядом вывешивания около мо-гилы шкуры животного. Обряд вывешивания шкуры по-степенно распространяется на севере западносибирс-кой лесостепи – юге тайги приблизительно со второй чет-верти II тыс. н.э., приходя на смену помещению чучел подкурганную насыпь.
Третья группа погребальных комплексов представле-на захоронениями без предметов, связанных с управле-нием верховым животным. Умерших иногда заворачива-ли в бересту, которая могла использоваться и в виде по-лотнищ-покрышек, которыми закрывалось сверху челове-ческое тело. Одной из характерных черт погребальнойобрядности, которые фиксируются на памятниках XIII -XIV вв., является порча сопроводительного инвентаря, ко-торая хорошо известна с эпохи раннего средневековья утюркоязычного населения Южной Сибири.
Распространение южных, кочевнических элементовв погребальной обрядности предтаежного населения свя-зывается с влиянием тюркоязычных племен, которое на-растает с последней четверти I тыс. н.э. По мнениюВ.А. Могильникова, ингумации в сопровождении чучела,головы и конечностей коня под земляными курганамиследует соотносить с огузским этносом, который в степ-ном, лесостепном междуречье Оби и Иртыша подчинилместное угорское население потчевашской культуры, ивзаимодействуя с ним, постепенно ассимилировал его[6, 71]. Однако, судя по вещевому комплексу и нюансампогребального обряда, которые могут быть связаны стаежными угорскими и самодийскими традициями, длясевера Обь-Иртышской лесостепи речь может идти ско-рее о заимствовании местной элитой серии социально-значимых, престижных элементов передовой материаль-ной культуры и определенных мифо-ритуальных пред-ставлений у более развитых в общественно-экономичес-ком плане кочевых этносов. Иной исход был невозможенв силу экологического фактора, который резко снижалпреимущества производящей кочевой экономическойсистемы, вынуждая пришельцев адаптироваться к мест-ным условиям и многое заимствовать у аборигенов. Фак-тически экспансия тюркоязычного населения на северне могла существенным образом изменить облик ужесложившихся местных культур, оставляя в активе обществ-реципиентов технические новинки в сфере вооружения исоциальной атрибутики, разбавленные их собственны-ми, общественно-значимыми символами. Именно такаясовокупность сакральных для лесного населения пред-метов, уложенных в могилы, на фоне однородного кера-мического комплекса, тяготеющего к угорскому кругу куль-тур Приобья, заставляет рассматривать материалы дан-ных погребений как комплексы таёжного населения.
На территории некрополей XIII - XIV вв. встречен осо-бый тип сооружений, представлявший собой насыпи,внешне похожие на курганы, содержавшие остатки сожжен-ных четырехугольных деревянных конструкций, перевер-
нутые глиняные сосуды либо их половинки, наконечникистрел, ножи, серебряные бляхи-лунницы с зернью, обуг-ленные фрагменты деревянных изделий, деревянные идо-лы [7; 8].
Первый тип таких сооружений представляет собойкрупные крытые строения, составленные из несколькихвенцов бревен с сосудами в углах. В некоторых случаяхвдоль линии стен фиксируются неглубокие округлые вплане ямки. Внутри иногда обнаруживается неглубокийкотлован. Крыши сооружений, судя по форме и располо-жению стропил, были пологими. Второй – упрощенная ихразновидность с меньшим числом сосудов и тонкими, лег-кими стенками и мелкими ямами. Третий – обугленныеберестяные полотнища с сосудом и угольями от неболь-шого шалашика. Четвертый тип демонстрирует дальней-шее упрощение ритуала и представляет собой насыпь соследами прокала, небольших ямок (или без них) и обо-жженные фаунистические останки. Пятый – это почти пус-тые насыпи со слабыми следами огня, чаще всего вос-принимаемые как кенотафы. Обращает на себя вниманиесходство между устройством некоторых типов культовыхмест и жилых строений, в частности, полуземлянок и кар-касно-столбовых конструкций летних жилищ, известных уселькупов и обских угров [8]. Данные сооружения могутбыть связаны с обрядами проводов души, известнымипо этнографическим материалам [1; 16]. Отметим, что ихколичество находится в соответствии с числом выявлен-ных подкурганных захоронений и оказывается связаннойс социальной градацией общества.
В XV - XVI вв. появляются изменения в планиграфиимогильников. Они становятся компактнее и на смену ли-нейному расположению курганных насыпей приходит груп-повое. Происходит упрощение погребальной практики,которое особенно заметно при обращении к материалампогребений с чучелом лошади, число которых резко со-кращается. Исчезновение практики использования бере-сты и «чучела» лошади к концу XV - началу XVI в. являет-ся важным моментом, характеризующим динамику по-гребальной обрядности угорского населения предтаежья.К концу этого периода курганные сооружения, в целом,выглядят однообразно, а демонстрация социальной пре-стижности начинает целиком отводиться инвентарю.
На керамическом комплексе XV - XVI вв. заметенэтнокультурный синкретизм, который фиксируется в со-четании оттисков гребенчатого штампа и поясков ямокпод венчиком и на тулове, присущих угорской культуре сплотно поставленными отпечатками торца палочки, ха-рактерными для сибирских татар. Происходит резкое со-кращение числа культовых комплексов, которые теперьколичественно соответствуют погребениям с чучелом ло-шади или топором. Это возводит их в разряд явлений,связанных с совершением погребения общественно зна-чимой персоны. Для остальных погребенных такой риту-ал, очевидно, проводился за пределами кладбищ. Впос-ледствии культовые комплексы совсем исчезают c их тер-ритории.
Памятники тюркоязычного населения XIII - XIV вв.представляют собой курганные могильники с довольнокрупными и крутыми куполообразными насыпями с выра-женной групповой концентрацией. Захоронения распола-гались по центру насыпи и совершались в крупных под-квадратных ямах, форма и размеры которых были след-ствием размещения на дне чучела лошади, уложенного улевого бока погребенного и ориентированного вместе сним головой на западный сектор. Тела заворачивали вгрубую ткань и помещали на вышитую войлочную подстил-ку в белый берестяной двухслойный чехол. Яма закрыва-лась поперечными жердями, поверх которых расстилалосьберестяное полотнище (Сопка-2).
22
Данный круг погребений можно связать с традиция-ми позднесросткинского населения. Основанием служатхарактерные плоскодонные неорнаментированные сосу-ды с редкой цепочкой ямочных вдавлений под шейкой,форма и принципы декора которых уверенно отождеств-ляются с наследием сросткинской керамической тради-ции [9]. На сросткинский след указывают и поясные на-боры, украшенные растительным орнаментом.
К концу XIV в. закладываются основы нового этни-ческого образования, связанного с процессами сложе-ниея современных барабинских и тарских татар. После-дние, формируясь с явным преобладанием тюркскогосубстрата, получали постоянный приток населения с се-вера в виде угорского (южно-хантыйского) населения кыш-товской культуры и проникавших через Васюганские бо-лота в Барабинскую лесостепь групп селькупов. О веро-ятности именно такого положения дел говорят данныетопонимики, письменных источников и археологии [2; 10].Складывается характерный керамический комплекс,представленный остро- и круглодонными тонкостенны-ми горшками с поверхностью, покрытой равномернымисемечковидными, иногда треугольными вдавлениями. Впогребальных комплексах новых сибирских татарскихгрупп исчезают чучела и шкуры лошади и распространя-ется обряды, связанные с вывешиванием последних наспециальном шесте или столбе. Берестяные чехлы отли-чалась от тех, что использовало угорское население, по-кроем и использованием крупных кусков, бывших частьюжилых построек. Последние доживают до XVII в., когдаони обнаруживаются уже только в «статусных» погребе-ниях (Абрамово-10), что дает основание относить их к кругусоциально значимых предметов. Такая же картина про-слеживается в Томском Приобье и Причулымье [3]. Связьразмеров курганных насыпей со сложностью заупокой-ных обрядов, имущественным и социальным статусомпогребенных для татарских памятников не столь отчет-лива. Под небольшой насыпью может оказаться погре-бение с сопутствующим жертвоприношением людей (Ма-лый Чуланкуль-1; Окунево-IV), что позволяет ставить воп-рос о том, что реальная социальная значимость челове-ка не всегда отражала его имущественное положение. ВXV - XVI вв. происходит уменьшение размеров курганныхнасыпей, появляются захоронения взрослых, выполнен-ные по бескурганному обряду (Крючное-6).
Археологические материалы II тыс. н.э., характери-зующие погребальные традиции населения предтаеж-ного Обь-Иртышья, позволяют прийти к выводу о сложе-нии здесь самостоятельной провинции, отличной от той,что существовала на Чулыме, в Томско-Нарымском, Сур-гутском, Юганском и Нижнем Приобье, и погребальнойпрактики сибирских татар бассейна Нижнего Иртыша,рано принявших ислам и входивших в ядро Сибирскогоханства.
Не позднее XI - XII вв. здесь, в верхнем и среднемтечении р. Тары, складывается угорская в своей основекыштовская культура, имевшая уже на этом этапе многообщих черт с тюркским миром. Приблизительно к началуXIII в. население данной общности занимает бассейн все-го среднего и верхнего течения р.Тара вплоть до Васюга-нья, где оно контактирует с самодийским населением, про-никавшим сюда с территорий обского левобережья.Здесь, на левобережье среднего течения и низовьев р.Тартас, происходят её контакты с тюркоязычным насе-лением – наиболее вероятными предками барабинскихтатар.
Выделенная по материалам погребальных памятни-ков и культовых мест южноугорская кыштовская культурана заключительных этапах своего существования с высо-кой степенью вероятности представляла собой этно-по-
тестарное территориальное объединение (некий аналогостяцких княжеств, включавших в себя ареалы несколь-ких родовых групп), прекратившее свое существование,как и другие угорские и самодийские военнно-потестар-ные структуры, с прекращением военной, межэтническойи социальной напряженности в связи с переходом функ-ций таких структур к государству.
Любопытно, что если с позиций имущественной исоциальной градации подойти к анализу синхронных вовремени памятников местного тюркоязычного населения,то вполне возможно в перспективе поставить вопрос осуществовании у него военно-потестарных структур с цен-трами, расположенными где-то в среднем течении р.О-ми (могильник Абрамово-10) и на границе лесной зоны,отмеченной И.Фальком, на северной оконечностиоз.Убинское. Правда, в настоящее время материалов длятого, чтобы подтвердить либо опровергнуть эти предпо-ложения, еще недостаточно.
Уточнить судьбы южно-хантыйского населения позво-ляют данные антропологии, которые дают возможностьговорить о присутствии в облике населения, относимогонами к группам барабинских (Малый Чуланкуль-I) и тарс-ких (Крючное-6) татар, черт, характерных для лесного угор-ского компонента [4]. Этнической основой, которая, на нашвзгляд, и обусловила его наличие, стали носители кыш-товской культуры, растворившейся в составе этноса та-тар Барабы и Прииртышья.
Список литературы1. Бауло А.В. Культовая атрибутика березовских хантов. -Новосибирск: ИАЭТ, 2002. - 92 с.2. Гемуев И.Н., Люцидарская А.А., Молодин В.И. Селькупы вБарабе // Семья и социальная организация финно-угорскихнародов: Труды Института языка, литературы и историиКоми научного центра УрО АН СССР. - Сыктывкар, 1991.- Вып. 49. – С.78 – 93.3. Дульзон А.П. Чулымские татары и их язык // Учен. зап.ТГПИ. - Томск, 1953. - Т.IX. - С.76 - 211.4. Ким А.Р. Антропологический состав населения Барабы впозднем средневековье // Бараба в эпоху позднего средневеко-вья. - Новосибирск: Наука, 1990. - С. 249-260.5. Малиновский В.Г, Томилов Н.А. Томские татары и чулымс-кие тюрки в первой четверти XVIII века. Хозяйство икультура. - Новосибирск: Наука, 1997. - 536 с.6. Могильников В.А. Кочевники северо-западных предгорийАлтая в IX - XI веках. - М.: Наука, 2002. - 362 с.7. Молодин В.И. Культовые памятники угорского населениялесостепного Обь-Иртышья (по данным археологии) //Мировоззрение финно-угорских народов. - Новосибирск: Наука,1990. - С. 128-140.8. Молодин В.И., Соловьев А.И. Типология культовых комплек-сов эпохи средневековья Обь-Иртышской лесостепи инекоторые аспекты их семантики // Археология, этногра-фия и антропология Евразии. - 2007. - № (3). - С. 144-152.9. Молодин В.И., Савинов Д.Г., Елагин В.С. и др. Бараба втюркское время. - Новосибирск: Наука, 1988. - 177 с.10. Пелих Г.И. Селькупы XVII в. (очерки социально-экономичес-кой истории). - Новосибирск: Наука, 1981. - 177 c.11. Селезнев А.Г. Барабинские татары: истоки этноса икультуры. - Новосибирск: Наука, 1994. - 175 с.12. Соболев В.И. Барабинские татары XIV – начала XVII вв. дон.э. (по археологическим материалам): Автореф. дис....канд. ист. наук. – Новосибирск, 1983. – 22с.13. Соболев В.И. История Сибирских ханств (по археологи-ческим материалам). – Новосибирск:Наука, 2008. – 356 с.14. Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно-Сибирс-кой равнины в конце XVI - первой четверти XIX в. // Изистории Сибири. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1981. - 274 с.15. Томилов Н.А. Этническая история тюркоязычногонаселения Западно-Сибирской равнины в конце XVI - началеXX вв. - Новосибирск: Изд-во НГУ, 1992. - 271 с.16. Чернецов В.Н. Нижнее Приобье в I тысячелетии нашейэры. - М.: Изд-во АН СССР, 1957. - С. 136 - 245. (МИА. №58).
23
Т.И.Султановг. Санкт-Петербург
О ТЕРМИНАХ УРАН И СУРЕН УСРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКСКИХ
КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИВойна, большая и малая, - обычное несчастье лю-
дей. История войн столь же продолжительна, сколь исто-рия рода человеческого. И эта история свидетельствует,что война вспыхивала по любому ничтожному поводу и,бывало, продолжалась годами и десятилетиями, сея кру-гом смерть и насилие, принося повсюду разорение и горе,умножая число погибших, увеличивая число вдов, сирот икалек. Поскольку всякий конфликт с внешним миром уст-ранялся тогда на поле брани, в пекле сражения, то воен-ная сторона быта получала полное господство и военноеискусство, а также личная отвага ценились больше всего.
Военное дело, комплекс вооружения и т.д. кочевни-ков Центральной Евразии достаточно полно освещены втрудах ряда ведущих современных исследователей Рос-сии и стран ближнего зарубежья (А.А.Горелик, Ю.С.Худя-ков, А.К.Кушкумбаев и др.). В настоящей заметке, осно-вываясь на материалах средневековых тюркоязычных иираноязычных источников, рассмотрим вкратце военныетермины уран и сурен.
У древних тюрков Центральной Азии слово уранобозначало два понятия: «боевой клич, пароль» [4, 614].Со временем слово уран утратило значение «боевойклич» и сохранило только значение «пароль». Для обо-значения понятия «боевой клич» утвердилось другое тюр-кское слово.
Уран – условное слово (слова, фразы), служащий дляопознания своих, – бывает разных видов; назовем их«уран - отзыв», «уран - лозунг». По-видимому, «Записки»Бабура (годы жизни: 1483-1530) являются единственнымизвестным пока средневековым мусульманским источ-ником, где приводятся самые подробные сведения обиспользовании урана во время войны. Эти сведения ин-тересны во многих отношениях, но по какой-то случайно-сти они еще не привлекались исследователями, занима-ющимися описанием быта и военного дела кочевников,и потому приведу их почти полностью.
В «Бабур-наме», в главе, описывающей поход моголь-ского хана Махмуд-султана (правил в 1487-1508) противэмира Танбала, а в нем участвовал и сам Бабур, приво-дится рассказ-воспоминание, из которого мы узнаем оразных видах урана, разных случаях его применения, означении урана на войне. События, описанные Бабуром,относятся к 908 году хиджры/1502 г.
Могольские ханы – Махмуд-султан и его брат Ахмед-султан – выделили Бабуру войско с заданием обойти Тан-бала с тыла. В полночь войско прибыло из Оша в окрест-ности Андижана. Несколько беков отправились для сго-вора со знатными горожанами. Ожидая их возвращения,войско расположилось на стоянке: одни воины спешились,другие «сидели на конях; некоторые дремали, иные по-грузились в сон». В это время вернулась группа моголовиз племени бекчик, которая еще днем, покинув войско вОше, отправилась в окрестности Андижана, чтобы погра-бить. Увидев войско и желая выяснить, свои это или чу-жие, они выкрикнули слова пароля (уран) «Ташкент! Таш-кент!»
Воин сторожевой службы то ли от волнения, то лиспросонок в ответ тоже прокричал «Ташкент» вместо ус-ловного «Сайрам». Моголы из племени бекчик решили,что перед ними враг, с боевым кличем (сурен) забили вбарабаны и стали стрелять из луков. В стане Бабура под-
нялся переполох: люди кричали, метали стрелы куда-тов темноту ночи, в панике многие бросились прочь со сто-янки, не заботясь о других.
Из-за этой ложной тревоги, пишет Бабур, задуманныйплан не удался. «Мы повернули назад и возвратились вОш».
В связи с приведенным здесь эпизодом Бабур даетразъяснение – что такое уран и как его применяют на войне.
«Уран бывает двух родов. Один уран – особый у каж-дого племени; так, например, у одного племени уран –«дурдана», у другого – «тукбай», у третьего – «лулу». Дру-гой уран – один для всего войска (черик). На войне ура-ном войска устанавливают два слова; во время битвы привстрече один человек говорит одно слово, а другой гово-рит второе секретное условное слово, чтобы таким путемотличить друзей от врагов и распознать своего.
В данном походе секретными условленными слова-ми войскового урана были «Ташкент» и «Сайрам». Ска-жут: «Ташкент», говори: «Сайрам»; скажут «Сайрам», от-вечай: «Ташкент» [9, 156-158].
Краткое, но ясное разъяснение Бабура – военачаль-ника, знатока войны – не требует комментариев.
Здесь же отмечу, что ураном (уран-лозунг) казахскихсултанов всех трех жузов было слово аркар [5, 313]. Вот, кпримеру, ураны (уран-лозунг) некоторых родов МалойОрды (Киши жуз) казахов: рода табын – тостаган (чаш-ка), рода тама – кара бура (вороной верблюд - производи-тель), рода исык – байтерек (осина) и т.д. [2, 121].
Боевой клич войска при атаке, а также восклицание,выражающее воодушевление, восторженное одобрение,вроде современного «ура», центральноазиатские кочев-ники называли тюркским словом сурен [ср. Рабинович,1968, 299-307]. Сурен салмак – значит «кричать диким го-лосом», «поднять страшный крик, шум» [9, 158; 2, 642; 8,162, 169, 176, 177].
Во время похода могольского хана Махмуда в 1502 г.,о котором уже говорилось выше, произвели смотр войскаи обряд завораживания бунчуков. Бабур, лично участво-вавший в этих церемониях, пишет так. Когда знамена ок-ропили кумысом, «все разом задули в трубы и ударили вбарабаны; воины, стоявшие в рядах, как один, испустилибоевой клич (сурен салиб). Все это проделали три раза, апотом сели на коней и с боевыми возгласами (сурен са-либ) вскачь объехали вокруг лагеря» [9, 149].
Какое именно слово (слова) служило боевым кли-чем (суреном) моголов Моголистана, Бабур не сообщает.Боевым кличем воинов великих Сельджукидов (1037-1157) были слова «boz kurt» («Сивый волк») [3, 144]. Вой-ска Тимурида Улугбека нападали на неприятеля с крика-ми «Аллах акбар» («Бог велик») [1, л. 357 б; 6, 182].
В сочинении историка XV века Абд ар-Раззака Са-марканди, в главе «События 828 (1424-1425) года. Рас-сказ о походе мирзы Улугбека в Моголистан» описывает-ся такой эпизод.
«Когда ряды победоносного войска укрепились, мир-за Улугбек повелел, чтобы сыграли боевой призыв (сурен).Поднялся рев больших и треск малых барабанов. От ревабоевого барабана и стонов карная затряслись горы, а людипришли в смятение» [6, 183].
Из приведенного эпизода ясно, что сурен – это нетолько боевой клич, выкрикиваемый разом войсками, сто-ящими друг против друга, но и грозный призыв к бою, шум,рев и клокотание, создаваемые звуковыми инструмента-ми – боевыми барабанами, трубами, литаврами.
Список источников и литературы1. Абд ар-Раззак Самарканди. Матла ас-садайн ва маджма ал-бахрайн. Рук. Института восточных рукописей (СПб.) РАН. -С. 443.
242. Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарскихнаречий, со включением употребительнейших слов арабскихи персидских и с переводом на русский язык. - Т. 1. - СПб.,1869.3. Гусейнов Р.А. Сельджукская военная организация // Палес-тинский сборник. Вып. 17 (80). - Л., 1967.4. Древнетюркский словарь. - Л., 1969.5. Левшин А.И.Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсац-ких, орд и степей. - Алматы, 1996.6. Материалы по истории киргизов и Киргизии. 2-е изд.- Бишкек, 2002.7. Рабинович М.Г. Боевые кличи – «ураны» // История,археология и этнография Средней Азии. - М., 1968.8. Сборник материалов, относящихся к истории ЗолотойОрды. Т. 2. Извлечения из персидских сочинений, собранныеВ.Г.Тизенгаузеном и обработанные А.А.Ромаскевичем иС.Л.Волиным. - М.-Л., 1941.9. Zahir Al-Din Muhammad Babur. Babur-nama (Vaqayi‘) / Crit. ed.with intr. and notes by E. Mano. Kyoto, 1995.
Ю.М. Юсуповг. Уфа
ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ И
ДИНАМИКА ЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВВ РАМКАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ДЖУЧИДОВ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕСООБЩЕНИЕ)
Исследователи выделяют понятие историко-этног-рафической общности. Проблема формирования и раз-вития историко-этнографической общности сводится кроли природно-географических условий территории и сте-пени взаимовлияния и интеграции культур. Интенсивностьподобного взаимодействия обусловливается текущейсоциальной и геополитической ситуацией. В то же времяв историко-этнографических областях процессы культур-ной интеграции сочетаются с сохранением и воспроиз-водством этнических традиций. Это позволяет рассмат-ривать ИЭО как систему культурных комплексов, находя-щихся в постоянной динамике. Изучение проблем этно-генеза и исторической этнографии в рамках «ареально-го подхода» имеет свои перспективы. Рассмотрение ис-тории этнической общности позволит глубже понять ин-теграционные и ассимиляционные процессы в даннойобласти, учесть природно-географические и социально-политические факторы, имевшие влияние не только наодну, но на несколько этнокультурных общностей. На базеподобных историко-культурных комплексов, в зависимо-сти от внешних социально-политических факторов, фор-мировались модели этнической идентичности. В различ-ные эпохи в рамках одной ИЭО могли появляться илиисчезать целые этносы, оставляя свое культурное на-следие последующим формам этнических общностей.
В рамках поставленной организаторами конферен-ции проблемы актуальным будет затронуть вопрос оВолго-Уральской ИЭО. В историографии эта ИЭО имеетнесколько определений. «Волго-камский край», «Окс-ко-волжско-камско-тобольский культурно-географичес-кий район» или «Урало-Поволжская историко-этногра-фическая общность» [12, 6]. Вряд ли можно определитьточные границы Волго-Уральской ИЭО, большая частькоторой охватывает территорию бассейна Средней Вол-ги, Южного Урала, где рр. Яик и Тобол являются ее есте-ственными границами. Хотя, конечно, историческая сус-секция могла изменять границы культурных комплек-сов. Речная система, на которой находилась ИЭО, пре-допределяла направления миграций населения в древ-
ности и в более позднее время: с востока на запад и сзапада на восток; на севере региона по Каме, Чусовой; вцентре – по Белой, Уфе; на юге – по Волге, Самаре, Яикуи их притокам.
В экологическом плане Волго-Уральская ИЭО пред-ставляет собой целостность, в которой основную хозяй-ственную роль играли лесостепные районы. В историчес-ких процессах они сыграли роль важного пространствен-ного фактора. Природный ландшафт и природно-экологи-ческая зона предполагала благоприятные условия длясмежного проживания этнокультурных общностей с раз-личным хозяйственным укладом.
Однако, как правило, этнокультурные процессы несовпадают с природно-экологическими характеристиками,которым отведена роль пространственного показателя.Этнос - сложная система и меняется в силу действия со-вокупности факторов, а также в зависимости от накоп-ленного собственного культурного потенциала. Эволюци-онное развитие этноса чередовалось с импульсами, ко-торые сопровождались этногенетической трансформа-цией. Эти импульсы, как правило, охватывают 2-3 поко-ления и в большинстве случаев не осознаются самиминосителями. Суть этнокультурных процессов и причины«переформатирования» культурных комплексов ИЭО за-висела от динамики изменения геополитической и соци-ально-политической ситуации. Подобные изменения вли-яли в первую очередь на исчезновение или появлениеновых моделей и форм идентичностей Урало-Поволжс-кого населения. Зачастую такие изменения могли затра-гивать несколько основных сфер жизнедеятельности на-селения, которые в свою очередь влияли на смену иден-тичностей:
-социально-сословная сфера, что подразумевалосмену субъектов политики (элит) или изменение статусауже существующих и изменения у нее политических при-оритетов;
- религия, возможно сопровождавшаяся сменой язы-ка и изменениями в традиционной материальной куль-туре;
- изменения хозяйственного уклада и т.д.Однако, конечно, нельзя видеть в социально-полити-
ческих процессах единственную причину смены этнично-сти – инициатива элиты не могла быть главной причинойэтих изменений. Как правило все изменения элиты в сред-невековье основывались на политической традиции и иде-ологии того времени. И самими же представителями эли-ты процесс подобной трансформации не осознавался. Вэтом смысле инструменталистский подход как одно изответвлений конструктивизма лишь упрощает, но никакне решает проблему динамики этнических процессов. Эт-ническая идентичность - обязательный элемент соци-альной идентичности человека, заданный «Всевышним»/«природой»/«космосом». Это обстоятельство обязываетнас комбинировать различные этнологические подходы.
В рамках заданной темы целесообразно обратитьвнимание на социальные параметры развития этноса.Вновь возникающие сословия, социальные группы фор-мировали новые модели этнической идентичности, обус-ловленные наиболее важными информациоными свя-зями [12, 338].
В истории Волго-Уральской ИЭО исследователи вы-деляют несколько крупных этапов формирования. Древ-нейший этап относится к 4-3 тысячелетиям до н.э. – пери-од разделения на две ветви финно-угорских племен (угор-ская общность и финно-пермская) и их продвижения стерритории Западной Сибири на запад. Их расселение вВолго-Камском регионе, Урале и Зауралье дало началооформлению Камско-Уральской или Волго-Камско-Уральской культурной общности. Во II тысячелетии до н.э.
25
продолжилось постепенное продвижение финно-угорс-ких племен на запад, достигая Окского бассейна, Верх-него Поволжья и Прибалтики. В период продвиженияфинно-угорских племен на восток и запад к рубежу II-Iтысячелетий до н.э. расширились границы историко-куль-турных регионов. Эти общности образовали одну обшир-ную историко-культурную провинцию, включившую терри-торию между Уралом и Балтийским морем.
Следующая эпоха датируется II тысячелетием до н.э.– серединой I тысячелетия н.э. На формирование этно-культурного облика населения Волго-Уралья заметноевлияние оказали угро-самодийские миграции из ЗападнойСибири. Западносибирское проникновение в Прикамье иПриуралье не прекращалось с момента распада уральс-кой общности. Первые века нашей эры для Волго-Ураль-ского региона характеризуются этнической и культурнойактивизацией. Это происходило за счет контактов с насе-лением степной зоны, которое выступало как носительпрохоровской культуры, относившиеся к скифо-сарматс-кому миру и известные в источниках как дахи. Необходи-мо отметить, что выделение Волго-Уральской и ей по-добной ИЭО осложняется скудостью источников. Онипредставлены исключительно археологическим матери-алом. Крайне редкие и отрывочные сведения письмен-ных источников не дают представления об этнокультур-ном составе населения. Поэтому говорить об общности вВолго-Уральском регионе в этот период мы можем с оп-ределенной долей гипотетичности.
Период второй половины I тысячелетия н.э. вклю-чал сложнейшие процессы, направленные на формиро-вание связей между местными племенами Волго-Камс-ко-Уральской общности и кочевым населением. Это при-водило к появлению новых культурных комплексов и эт-носов. В обширной зоне таких контактов формируетсяцелый комплекс булгарской этнокультурной общности. НаЮжном Урале под влиянием постоянных контактов сюжными кочевниками постепенно образовывается баш-кирский этнос, представляя собой двусоставное обще-ство: внутренние (северные) башкиры со значительнойдолей участия в этногенезе земледельческих племен угор-ской общности и внешние (южные) башкиры – кочевыеплемена присамарских и прияикских степей, взаимодей-ствовавшие в составе булгарского и печенежского союзов.За счет инкорпорации южных племен, связанных с тер-риторией Кавказа, Средней Азии соответственно смеща-ются и культурные границы ИЭО, охватывая за счет наро-дов булгарской конфедерации и башкирского этноса рай-оны Нижней Волги и степи Северного Приаралья.
В золотоордынский период произошли взаимосвязан-ные, но неоднозначные изменения. Мощное кыпчакскоевлияние на народы в XIII – XIV вв. существенно изменилоэтническое и языковое развитие Волго-Уральского регио-на. В этот период культурный комплекс Волго-Уральскойобщности начинает принимать привычный для нас облик.Это развитие намечалось в домонгольскую эпоху, но рез-кие различия в масштабах домонгольской и поздней кып-чакской миграции говорят о решающей фазе кыпчакиза-ции в послемонгольскую эпоху [11,170-171]. Под влияни-ем кыпчакской языковой семьи, исламизации части насе-ления в рамках Волго-Уральской общности формируетсяотдельный тюрко-мусульманский культурный комплекс,куда входит большая часть булгарской общности и баш-кир. Начинает выделяться языческая часть Волго-Ураль-ской общности. Процесс кыпчакизации и исламизациинаселения во многом зависел от степени ее интегриро-ванности в торгово-экономическую сферу Улуса Джучи. Всвязи с кыпчакизацией и миграцией буртасского населе-ния в X – XIII вв. окончательно оформляется мишарскийэтнос.
В целом надо сказать, что смешение и взаимодей-ствие племен кыпчакской миграции с местными племена-ми и расселение смешанных групп привели к формирова-нию этнокультурных признаков, которые лежат в основесовременной этнической характеристики многих тюркскихнародов Волго-Уральской ИЭО. Кыпчакские племена, ока-завшись на территории Волго-Уральской ИЭО, как важ-ный компонент вошли в состав проживающих там наро-дов. Больше всего этот процесс отразился на башкирскомнаселении, инкорпорировавшем в свой состав племенакыпчакской и табыно-усуньской миграций.
В этот период мы можем примерно очертить динами-ку изменений социальной сферы. Этот процесс характе-ризовался сменой элит. Однако в отличие от территорииДешт-и-Кыпчака, где за короткий срок полностью пере-форматировалась общественная система кочевников, вУрало-Поволжье этот процесс сопровождался инкорпора-цией старых элит в новые политические системы Джучидов.Во многом это было связанно с особенностью географииВолго-Уральского региона. Горно-лесные и лесо-степныезоны Волго-Уралья не были так привлекательны для коче-вых правителей. Поэтому нишу служилой аристократии ча-сто занимала местная домонгольская аристократия фино-угорских и тюркских народов Волго-Уральского ИЭО.
В рамках заявленной темы для нас особый интереспредставляет период существования постордынских госу-дарственных образований. Наличие необходимого комп-лекса источников позволит примерно очертить границыэтнических комплексов, этнокультурный состав, а такжесистемные связи и в некоторых регионах социальные иполитические основы этнокультурных образований. Дляданного периода характерны двусоставные этно-сослов-ные структуры, которые и были социальной платформойдля геополитических субъектов Джучидской системы. Су-ществующие государственно-политические образованияВолго-Уральского региона представляли собой своеобраз-ное сочетание местного субстрата народов, проживав-ших здесь до монгольской эпохи, и пришлых кыпчакскихкланов. В первом случае в качестве основных связей вы-ступали связи внутри Волго-Уральского региона, т.е. онобыло больше привязано к земле и общине. Пришлое женаселение, занявшее нишу служилого населения, нахо-дилось в экстерриториальных связях с регионами Джу-чидской политической системы. Практически все систем-ные связи пришлых кланов – служилых правящего двора,начиная от семейно-брачных до военно-политических, на-ходились за пределами Волго-Уральского региона. Этоотражалось на межэтнических отношениях. Между мест-ными и пришлыми контакты были не столь значимыми,чтобы происходила трансформация населения. Рассмот-рим подобную ситуацию в ряде наиболее ключевых реги-онов Волго-Уральской ИЭО.
Казанское ханство, образованное в период распа-да Золотой Орды, включало в себя полиэтничное населе-ние Урало-Поволжского региона. В него были включеныразные по социально-политическим и этнокультурным ха-рактеристикам народы. По многим источникам (преиму-щественно русского происхождения) они фигурируют как«казанлы», «булгары», «татары», «мусульмане» и т.д.Несмотря на то, что вопрос довольно популярен, к сожа-лению, до недавнего времени проблема этничности насе-ления Казанского края в этот период, особенно его цен-тральных регионов, не имела четкой концептуальной ос-новы. Ключевым вопросом в рассмотрении этносослов-ной структуры Казанского ханства является вопрос: про-исходила или нет интеграция пришлого господствовавшегонаселения с местными коренными жителями [4, 60-65;5, 48-64; 9,108; 10, 160; 17, 52-700; 18,583; 21, 132; 23,326-327; 24, 52-60]?
26
Для этого рассмотрим характер установления ханс-кой власти в регионе. Факт прихода Улуг-Мухамета в Ка-зань и принятия его подданства народами Средней Волгиописывается казанским летописцем: «И шедше полемъ,перелезше Волгу, и засяде пустую Казань, Саиновъ юртъ.И мало въ граде живущихъ, и нача збиратися Срачиніи иЧеремиса, развіе по улусамъ Казанскимъ, и раді ему быша,а изоставшися оть плена худыя Болгары молиша его, Ка-занцы, быти ему заступнику бедамъ ихъ, и помощника отънасилія, воеванія Рускаго, и быти царству строителя, дане до конца запустеютъ, и повинушася ему. Царь же все-лися въ жилище ихъ и постави себе древяны градъ кре-покъ, на новомъ месте, крепчаеше старого, недалече отъстарыя Казани разоренныя отъ Рускія рати» [16, 43]. Вы-бор сюзерена, легитимного правителя из числа правящихчингисидов, в эпоху распада Золотой Орды и продолжаю-щихся междоусобных войн был необходимостью. Конеч-но, ни о каком завоевании или насилии со стороны хана ипритеснении ханом местного населения не может быть иречи. В подданстве хану была заинтересована местнаячувашская, черемисская, мордовская, а также башкирс-кая аристократия. Во многом повлияло то, что в периодострой междоусобной войны, во время распада ЗолотойОрды и образования на ее обломках новых государствен-ных образований, стабильность в торгово-экономическойсфере зависела от мощи и авторитарности центральнойвласти.
В то же время башкирская родоплеменная аристок-ратия получала от казанских ханов значительные приви-легии, в данном случае тарханные ярлыки. Выдача ярлы-ков ханами во многом имела цель привлечь на свою сто-рону местную аристократию башкирского общества, со-хранившего основные принципы военной кочевой органи-зации.
С приходом Улуг-Мухамета к власти в Казани уста-навливается клановая структура управления государ-ством, весьма традиционная для позднеджучидских го-сударственных образований, имитирующая структуруКрымского ханства [9, 66-68]. Основу правящего сосло-вия составляли 4 клана – аргыны, барыны, ширины икыпчак. Скорее всего, именно эти племена в первую оче-редь подразумевались под термином «татары». Эти кла-ны, выведенные Улуг-Мухаметом из Крыма, и впослед-ствии пополнялись такими же пришлыми элементами[10, 160]: «Начаша сбиратися ко царю мнози варвары отразличных стран, ото Златыя Орды и ото Астрохани, отАзуева и от Крыма». По сути своей это были экстеррито-риальные группы, которые свободно перемещались врамках политической системы джучидов: Казанское хан-ство, Астрахань, Крымское ханство и т.д. Отдельная об-щественная структура, изолированность в рамках горо-да, социальная изолированность и даже отличные се-мейно-брачные отношения приводили к замкнутости этойэтнической группы. Это говорит о невозможности взаи-моинтеграции пришлой знати («татар») с местным булга-ро-мусульманским населением. Весьма ярко взаимоот-ношения между пришлой аристократией и местным на-селением отразились в стихе казанского поэта Мухаме-дьяра середины XVI в.: «Ты татарин, не знающий своегоАллаха и масхаба…» [24, 54].
Таким образом, есть все основания представлятьструктуру населения Казанского ханства как сложный со-циально-политический организм с переплетением различ-ных этнокультурных и сословных категорий. На протяже-нии всей истории Казанского ханства этнополитическаяситуация в ханстве характеризовалась биполярной сис-темой, где, с одной стороны, была немногочисленная при-шлая «кочующая» аристократия бывшей Золотой Орды, сдругой – местная. Под первыми подразумевается пришед-
шее с ханами разноплеменное кыпчакизированное насе-ление, занявшее административно-политическую плос-кость новообразованного Казанского ханства. «Булгара-ми» же представлено коренное тюркское и финно-угорс-кое население края.
В некоторых источниках дается перечисление мест-ных народов Казанского ханства. Так, например, в чело-битной от 1551 года, направленной казанцами от имения«всея Казанской земли» Ивану IV, перечисляются народыкрая: «Чуваша, Черемиса, Мордва, Траханы и Можари».Название «Чуваша» и «Мордва» вполне соотносится счувашами и мордвой, под термином «Черемиса» скореевсего скрываются марийцы и, возможно, удмурты, «Тар-ханы» подразумевают башкир, а «Можари» обозначаетмишаро-буртасское население. Также в духовном заве-щании Ивана IV 1572-1578 гг. [7, 55-59] говорится о цар-стве Казанском, среди жителей которого перечислены:«Чюваша, Черемиса, Тарханы, Башкиры». «Тарханы», упо-минаемые рядом с «Башкиры», есть башкирская служи-лая аристократия Казанского ханства [8, 62]. Выше вофрагменте летописи о приходе Улуг-Мухамеда в Казаньперечисляются «Сарачина и Черемиса».
Наиболее интересные сведения относительно этно-состава коренного населения Казанского ханства содер-жатся в дипломатическом письме к крымскому хану.А.Г. Салихов опубликовал фрагмент этого документа набашкирском языке. Это письмо написанно неким Рах-ман Кулуем от имени старейшин и абызов. В документевыражалась просьба к крымскому хану принять народыУрало-Поволжья к себе в подданство. В нем перечисля-ются народы, готовые принять подданство хана с указа-нием их численности: «Есть один народ. Еловые череми-сы называются. 40 тысяч домов. Каждый дом ясачный.Исходя из имущества, кто-то будет платить 10 батмановмеда, кто-то 5, а самые бедные – по 1 батману. Такжеесть народ горные чуваши. 20 (тысяч. – Ю.Ю.) домов. Всеясачные. Таким же образом деньгами и имуществом,норкой и белкой, лисой и горностаем будут давать поназначению. Иштяк-башкиры 10 тысяч домов. Таким жеспособом будут выплачивать ясак. Так же 7 городов об-ласти Туры 8 раз по тысяче соболей и столько же черныхлис будут давать. Так же 10 тысяч ясачных домов аров.Они таким же способом будут платить деньгами, медом,соболями, белками, к тому же будут платить налоги наземлю. Черемисы, чуваши, иштяк-башкиры, ары – всеконные и вооружены» [15, 63-64].
Хотя источник датируется 1635 г., нам представляет-ся, что в документе довольно четко отражена этническаяситуация региона. Потому считаем целесообразным со-относить эту форму по количественным и этническим по-казателям с этнополитической картой Казанского ханства.Если исходить из того, что при минимальном расчете 1дом (семья) – 5 человек, то 80 тыс. (общая сумма домов)будет соответствовать 400 тыс. человек, что представля-ет значительную долю населения региона. Данная цифрасогласуется с мнением Д.М. Исхакова, который опреде-лил, что численность населения Казанского ханства дос-тигает 0,5 млн человек [8, 141-148]. Учитывая, что автор-ство источника принадлежит представителям данного по-литического союза, то не может вызывать сомнений, что внем отражены именно этнонимы, а не сословные катего-рии (конечно, если не затрагивать сложный вопрос о при-оритетах самоидентификации в средневековье [1, 302-308]). В этом случае перед нами довольно определенновырисовывается этнокультурный состав основного насе-ления Средней Волги и Южного Приуралья, которое и яв-ляло собой основное население Казанского ханства. Хотя,не исключено, что под перечисленными в источнике этно-нимами кроются и полиэтнонимы. Кроме того, нам совер-
27
шенно неизвестны и сами события 30-х гг. XVII в., причиныи обстоятельства этого акта. Эти вопросы требуют болеедетального анализа документа.
Судя по частоте упоминания в источниках, можем ука-зать состав народов Казанского ханства: чуваши, череми-сы, башкиры, также в некоторых документах фигурируютмордва, ары (удмурты) и можари (мишари). Пришлые кып-чакские кланы заняли нишу служилого населения. Русскиелетописи именовали эту категорию населения татарами.
Касимовское ханство в нашем случае интересносвоим составом населения. В XVI в. тюркские группы, жив-шие в Касимовском ханстве, именовались по-разному.Наиболее употребительным был термин «татары», исполь-зовавшийся для обозначения разных тюркских этнокуль-турных общностей. В московских деловых грамотах при-менялась форма «Городецкие татары», крымцы и ногай-цы предпочитали называть это население «людьми Ме-щерскими», «Мещеряне». Но все же население Мещерс-кого юрта в этническом отношении состояло, как и в Ка-занском ханстве, из «двух этносословных страт» [9, 222].Первый - так называемый мещаро-буртасский пласт, от-носимый исследователями еще к домонгольскому пери-оду [3, 77; 9, 222; 22, 70]. В сословном отношении это былопреимущественно ясачное население. В этом отношениимного схожего в этносоциальном развитии мы наблюда-ем с «булгарами» Казанского края: смысл понятий «чер-ные люди», «посопные татары», применявшихся по от-ношении к «можерянам», тот же, что и у термина «ясач-ные чуваши», «худые булгары». Исследователи считаютНаровчатовский улус предшественником Касимовскогоханства, как и Булгарский вилаят – Казанского [14, 87]. Вграмоте, данной в 1539 г. князю Еникею, говорится: «…татар из тарханов и башкиры и можерянов, которые жи-вут в Темникове, судить и ведать их по старине, по томуже, как наперед сего судил и ведал отец Тениш». Подименем «можерян» подразумевается ясашное сословие(буртасы – посопные татары источников XVII в. [9, 218-223]). Форма «татар из тарханов и башкирцев» характер-на и для башкир Казанского ханства. Здесь подразуме-вается часть служилого населения, прибывшая в составедружин ногайских мурз или казанских князей. К ним от-носится золотоордынский пласт, в который включаетсяпришлый компонент тюркского населения региона, от-носящийся к социальным верхам. Этот суперстрат сохра-нял свою самостоятельность как минимум до XVI в.
Особенно большая обособленность была характер-на для небольшой группы «городских татар», живших вг. Касимове и его окрестностях. Эта группа до серединыXVII в. продолжала пополняться выходцами из НогайскойОрды, казахских ханств и Сибири. Поэтому полной интег-рации пришлого субстрата в состав мишарского населе-ния не произошло.
Ногайская Башкирия – регион, включающий значи-тельные лесостепные и горнолесные территории Южно-го Урала. В политическом отношении Ногайская Башки-рия представляет собой наместничество НогайскойОрды, существовавшее де-факто в первой половине XVIв. В 30-е гг. в Ногайской Орде окончательно оформляет-ся улусно-крыльевое деление и более или менее упоря-доченная система власти. Орда оказалась разделеннойна три части: восточную во главе с кековатом, централь-ную – улус самого бия и западную с нурадином [19, 195].Разграничиваются и конкретизируются властные полно-мочия бия и мурз. Башкортостан же не вошел в улусно-крыльевую систему, он выделился в автономный регион(Ногайская Башкирия), возглавляемый отдельно назна-чаемым наместником [20, 22-24]. Этнополитическая си-туация в этом регионе, как и во многих других регионахВолго-Уральского региона характеризуется двусоставнос-
тью населения. С одной стороны выступает башкирскоенаселение, уже включившее в свой состав кыпчакские итабыно-усуньские племена, пришедшие в золотоордынс-кий период. С другой, – пришлое относительно немного-численное ногайское кочевое население, пришедшее вме-сте с наместником и занявшее преимущественно прибель-ские районы Ногайской Башкирии.
На выделение Ногайской Башкирии в отдельное на-местничество в какой-то степени влияла хозяйственно-экономическая и, как следствие, политическая замкну-тость региона [20, 8]. Но в этом отношении можно на-звать еще одну, на наш взгляд главную, причину. Во мно-гом ее мы должны связывать со спецификой этнополити-ческого развития всей Волго-Уральской ИЭО. Еще в XV в.кочевые племена Мангытского юрта (в том числе самимангыты) являлись подданными ханов левого крыла Ба-тыева улуса. В этих условиях каждое племя имело соб-ственную правящую аристократию. Однако с выходомМангытского юрта из подчинения хану мангытская знатьво главе с Мусой начинает претендовать на управлениевсеми кочевниками. Безусловно, в условиях, когда основ-ные элитарные группы - юрты по статусу примерно рав-ны, не могло обойтись без конфронтации мангытов с ари-стократией других племен. Но после разгрома мангыта-ми Казахского ханства им начинает принадлежать абсо-лютная власть над кочевыми племенами в Орде и их вож-дями [19, 491]. Башкирия же вошла в орбиту мангытскоговнимания сравнительно поздно. Башкирская аристокра-тия не прошла долгий путь «приживания» в Мангытскомюрте, где фактическая власть находилась у нечинигиси-дов-мангытов. Основная ее территория относилась к пра-вому крылу Золотой Орды. В течение конца XIV – XV в.башкиры поддерживали вначале золоордынских, затемказанских ханов из династии Тука-Тимуридов. Последни-ми башкиры привлекались за счет определенных пожа-лований (тарханные ярлыки, оформление вотчин), выда-ча которых была исключительно в компетенции чингиси-дов, а именно Тука-Тимуридов [23, 326-327]. Эти отноше-ния были традиционными между башкирской аристок-ратией и ханами XV – XVI вв. Мангыты же не имели такихвозможностей, потому и не могли полностью включитьБашкортостан в систему Орды. Создав собственное ко-чевое государство со своей правящей династией, факти-чески ногаи посягнули на исключительную прерогативучингисидов. Естественно, это не могло адекватно воспри-ниматься соседями ногаев, в том числе и башкирами.Башкирская аристократия в системе Джучидских госу-дарств Поволжья за счет получения ханских пожалова-ний чингисидов находились в привилегированном поло-жении в регионе при полном сохранении политической исоциальной структуры общества [23, 327]. В ином же слу-чае их ждала перспектива потери своих позиций на Юж-ном Урале и вливание в массы ногаев-кочевников. И вданном отношении вполне оправданно выглядит выде-ление Ногайской Башкирии в отдельное наместничество,где основной формой проявления власти было нахожде-ние в регионе наместника, осуществлявшего сбор ясакас местного населения.
Ногайские наместники вместе со своими улусамибыли нежелательным элементом в регионе. Нарушениевотчинных прав, вмешательство во внутреннее управле-ние не могли способствовать повышению авторитета упришлой ногайской аристократии и неизбежно приводилик конфронтации. Поэтому и степень интеграции ногайцевс башкирами шла не столь интенсивно, как с другими ко-чевыми народами и племенами, хотя были случаи, когданогайцы находили военно-политическую поддержку сре-ди кыпчакских племен Башкирии.
Сибирский юрт находился на периферии Волго-
28
Уральской ИЭО занимая лесостепные районы ЮжногоЗауралья и Западной Сибири. Все Сибирское ханство,несмотря на свои гигантские размеры, было заселено край-не редко. Считалось, что в середине XVI в. здесь было30,5 тыс. чел. По этнокультурному составу это было пре-имущественно тюркское население, расселившееся всвоем большинстве в западных и южных районах Запад-ной Сибири, а также манси, пермяки - на западе, ханты(остяки) - в центральных и восточных районах. Учитываябольшие пространства и дисперсность расселения фин-но-угорского и тюркского населения, формирование эт-нических общностей проходило достаточно изолирован-но друг от друга. Среди тюркского населения сформиро-вались 3 основные разрозненные этнографические груп-пы. В силу географических условий единого этнополити-ческого образования не сформировалось (томские, ба-рабинские, тоболо-иртышские татары, именовавшиесебя сибирами) [2, 9].
Политическая история Сибирского юрта с конца XIV– XV в. заполнена постоянными усобицами владельцевулусов за расширение подвластной им территории. С на-чала образования Золотой Орды и установления улусно-крыльевой системы Западная Сибирь начала входить вКок-Орду, восточный улус империи, и была отдана в уп-равление одному из сыновей Джучи Шибану, где прочнообосновались его потомки. В XIV в. череда усобиц в Ордеположила конец единству государства. Между тем, Шиба-ниды не только сохранили свои позиции в Сибири и сте-пях Казахстана, но и заняли престол.
Казанский историк Г.Л. Файзрахманов пишет, что «ту-ралинские, тоболо-иртышские и барабинские татары пред-положительно в конце XI - начале XII в. создали свой по-литический союз». Исследователь предлагает называтьего условно «Ишимским ханством». Конечно, появлениеханства без правящей ханской династии невозможно, но,несмотря на слабую источниковую базу, приводимую ис-следователем, существование некоего политическогообъединения местных тюркских народностей признатьможем. Сибирские городки (небольшие укрепленные пун-кты) действительно могли объединиться в некий союз, чтои отразилось в письме крымскому хану в начале XVII в.:«Так же 7 городов области Туры 8 раз по тысяче соболейи столько же черных лис будут давать». Надо полагать,эти городки и замещали роли этнополитических субъек-тов в Западной Сибири. Отдельной этнополитической си-стемы не могло образоваться в силу географических ус-ловий, малочисленности и разрозненности этническихгрупп.
В конце XV в. образовалось два самостоятельныхполитических образования во главе с шибанидами и тай-бугидами. В этой связи появляется большой соблазн свя-зать с коренным населением династию тайбугидов, при-шедших к власти в Сибирском юрте после смерти шиба-нида Ибака в 1495 году. Первым из известных нам прави-телей последней династии был Махмет. А.К. Бустанов вроде тайбугидов видит потомков местных эмиров, даругУлуса Джучи, потомком которых «без сомнений и былМахмет». Существующие легенды о Ван-хане, от котороговедут род Тайбугиды были призваны оправдать приход квласти Махмета и его потомков. Аналогичной точки зре-ния придерживается Д.Н. Маслюженко. По его мнению, всреде тайбугидов сформировался ряд концепций леги-тимации власти правителей. Согласно легендам, «тайбу-гиды обладали не только не менее древними правамина власть …, но даже имели преимущество над потомка-ми Чингисхана» [13, 107].
В этом свете весьма интересными выглядят сведе-ния западносибирских тюркских летописей, аннотирован-ных В.Д. Дмитриевой. В рукописи под названием «Исто-
рия» говорится, что хан Бухары Шах-Мираввал в Запад-ную Сибирь (Изкар юрты) в качестве хана отправил свое-го сына Тай-Буга-бия вместе с группой проповедников в500 человек. В другой рукописи «Происхождение аулаСала» приводятся сведения о Сулайман-бае, чьи сыно-вья являются основателями деревень Субра и Сала. Онприбыл в Приобье из Бухары в составе людей бия поимени Тайбуга Шах-Мурад-угли. Впоследствии они засе-ляют г. Искер и Западную Сибирь [6, 40 – 41]. Конечно, унас нет исчерпывающей информации о происхождениитайбугидов. Но вполне очевидно, что корни династии тай-бугидов следует искать не в Монголии и тем более не впресловутом «Ишимском ханстве», а в Средней Азии, ивремя основания династии относить ко второй половинеили к концу XV в. Возможно, в первую очередь их привле-кали торгово-экономические контакты Сибирского юртас западными землями Поволжья, а затем (в XVI в.) и Мос-ковии. Однако, несмотря на бурные политические собы-тия в Западной Сибири, все же главную роль в этнополи-тической истории этой культурной зоны играл географи-ческий фактор.
В целом, как видим, в наиболее крупных районахВолго-Уральской ИЭО динамика этнополитических про-цессов проходила характерно: геополитические измене-ния не столь выражено отражались на этнополитичес-ких процессах. На фоне прошедшей исламизации и кып-чакизации населения в золотоордынскую эпоху, измене-ния в постордынскую эпоху проходили менее масштаб-но. Это было вызвано большей изоляцией этнических об-щностей в эпоху военно-политических катаклизмов кон-ца XIV – XV в. Последующий русский период – расшире-ние российского государства – задаст новые векторы эт-нополитических процессов Волго-Уральской ИЭО.
Список литературы1. Буданова В.П. Корпоративность раннесредневековойэтнической общности: миф или реальность? // Социальнаяидентичность средневекового человека/ Отв. ред.А.А. Сванидзе, П.Ю. Уваров. – М.: Наука, 2007. – С. 302-308.2. Валеев Ф.Т., Томилов Н.А. Татары Западной Сибири:история и культура. – Новосибирск, 1996.3. Васильев Б.А. Проблема буртасов и мордва // Вопросыэтнической истории мордовского народа: Труды Мордовскойэтнографической экспедиции. Вып. I. – М., 1960.4. Галлямов Р.Ф. После падения Казани… – Казань, 2001.5. Димитриев В.Д. Чувашия в эпоху феодализма: XVI в. –начало XIX в. – Чебоксары, 1986. – С. 48-64.6. Дмитриева В.Д. Опись тюркских рукописей. – Л., 1974.7. Духовные и договорные грамоты великих и удельныхкнязей XIV – XVI вв. /Подгот. Л.В. Черепнин. – М.; Л., 1950.8. Исхаков Д.М. Демографическая ситуация в татарскихханствах Поволжья // Казанское ханство, актуальныепроблемы исследования. – Казань, 2002. – С. 141-148.9. Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарамнового времени. - Казань, 1997.10. Кизилов Ю.А. Земли и народы России в XIII – XV вв. – М.,1984.11. Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирскогонарода – Уфа, 1979.12. Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала.Этногенетический взгляд на историю. – М., 1992.13. Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостеп-ного Притоболья в средние века. – Курган, 2008.14. Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство (1445-1552 гг.).Очерки истории. – Казань, 2009.15. Салихов А.Г. Онготолган тарих биттаре. – Уфа, 2003.16.Сказание о Казанском царстве / Вступ. статья, переложе-ние текста и примечания Н.В. Водовозова. – М., 1959.17.Степанов Р.Н. К вопросу о служилых и ясашных татарах //Сборник аспирантских работ: Право, история, филология. –Казань, 1964. – С. 52-70;18.Татары /Под ред. Д.М. Исхакова. – М., 2001.19.Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – М., 2002.
2920.Трепавлов В.В. Ногаи в Башкирии, XV – XVII вв. // Матери-алы и исследования по истории и этнологии Башкортоста-на. – Уфа, 1997.21.Хамидуллин Б.Л. Народа Казанского ханства: этносоцио-логическое исследование. – Казань, 2002.22.Чекалин Ф.Ф. Мещера и буртасы по сохранившимся о нихпамятникам // Труды восьмого археологического съезда вМоскве. - Т. III. – М., 1897.23.Юсупов Ю.М. Башкиры в этносословной структуреКазанского ханства // Россия и Башкортостан: историяотношений, состояние и перспективы: Материалы междуна-родной научно-практической конференции, посвященной 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России(Уфа, 5-6 июня 2007 г.). – Уфа, 2007. – С. 326-327;24. Юсупов Ю.М. История Башкортостана XV – XVI вв.(социально-политический аспект). – Уфа, 2009.
З.А. Тычинскихг. Тобольск
О ХОЗЯЙСТВЕННОМ УКЛАДЕТЮРКСКОГО НАСЕЛЕНИЯСИБИРСКОГО ХАНСТВА
Попытки реконструкции хозяйственной культуры тюр-кского населения Тоболо-Иртышского бассейна в отече-ственной историографии предпринимались неоднократно[3; 6; 7; 8; 9; 12; 20; 22; 27;]. Большинство исследователейсходится в том, что традиционное хозяйство сибирскихтатар было комплексным и базировалось на скотовод-стве, земледелии, охоте, рыболовстве и собирательстве.Вариации хозяйственного комплекса зависели, преждевсего, от среды обитания, ландшафта, климатическихфакторов и были традиционными в той или иной мест-ности [28, 60-61].
Однако, различия в хозяйственном укладе сибирскихтатар определялись не только географическими условия-ми, а также тем, что составлявшие основу Сибирского хан-ства этносословные страты феодалов-татар и ясачногонаселения вели разный образ жизни. Как отмечаетД.М. Исхаков, «отчетливо прослеживается деление си-бирских татар на тех, кто жил по “волостям” и на тех, ктобыл сосредоточен по “улусам”» [17, 9]. По мнению иссле-дователя, служилые татары вели кочевой или полукоче-вой образ жизни, ясачные же – оседлый. На различия вобразе жизни сибирских татар, сохранявшиеся и в XVIII в.,указывал И. Георги: «Как кочующие, так и на одном местеживущие чрезвычайно пристрастны к прародительскимсвоим обрядам…» [10, 7]. С.В. Бахрушин писал, что «вусловиях северной местности хозяйство кочевников-ско-товодов, какими были татары у себя на родине», должнобыло подвергнуться значительному изменению. Причем,как отмечает исследователь, кочевое животноводческоехозяйство в северных лесных районах постепенно утрачи-вало свое значение, а в степях Барабы вплоть до XVIII в.продолжало быть основным средством существованиябарабинских татар [4,153]. Н.А. Томилов определяет в XVI-XVII вв. существование в степной и южной части лесостеп-ной зоны ХКТ кочевых и полукочевых скотоводов, к кото-рым относит южных чатов и телеутов, южных барабин-цев, южные группы тарских, тюменских и отчасти тоболь-ских татар. Кроме того, он выделяет ХКТ оседлых плуж-ных земледельцев-скотоводов, к которым относит частьтобольских, тюменских, тарских и курдакско-саргатскихтатар [27, 77].
О том, что сибирским татарам земледелие было из-вестно еще задолго до русской колонизации Сибири, го-ворят многие источники, и, прежде всего, археологичес-кие находки с городища Искер – столицы Сибирского хан-
ства. Среди найденных в ходе раскопок, предпринятых вконце XIX – начале XX вв. исследователями М.С. Знамен-ским, В.Н. Пигнатти, а в 90-е годы ХХ в. – археологомА.П. Зыковым, на городище предметов встречаются же-лезные серпы, ручные каменные жернова и пр. Свиде-тельствуют о занятии земледелием татар и Сибирскиелетописи, в частности, Ремезовская, где упоминается озапасах хлеба в татарских городках [11; 18; 19]. Сеяли, восновном, неприхотливые культуры, дающие высокиеурожаи – ячмень, полбу, овес. Как определяют исследо-ватели, земледелие было пашенным [1, 56]. На Искеребыли найдены железные лемехи от пашенных орудий,очевидно, сабанов. Сев производился вручную, затемпашню боронили деревянными боронами [1, 56].
По утверждению В.И. Шункова, дорусское хозяйствобыло «примитивным по своему техническому уровню (со-став хлебов, техника возделывания) и по своему хозяй-ственному значению, являясь лишь подспорьем в промыс-ловом, основном хозяйстве» [31, 108]. С.В. Бахрушин пи-сал, что «татары сеяли быстро зреющие злаки, не требу-ющие длительной обработки земли: ячмень, полбу и овес»[4, 154]. Дорусское хозяйство было полукочевым, пашнюпахали «наездом». Занятие земледелием часть татар со-четала с перекочевкой, вызываемой потребностями ихскотоводческого или промыслового хозяйства. По мнениюВ.И. Шункова, пашенное земледелие в дорусский периодразвивалось лишь у тобольских и тюменских татар, зани-мавших территорию по Тоболу, Исети, Пышме, Туре, Ва-гаю, Ишиму и Иртышу [32, 104].
Другого мнения придерживается Н.А. Халиков, кото-рый не согласен с мнением о «примитивности» земледе-лия сибирских татар, и считает, что некоторые специфи-ческие черты агрокультуры сибирских татар «следует рас-ценивать не как свидетельство низкого уровня земледе-лия, но как местную традицию, результат приспособленияк экологической среде и особенностям хозяйственной куль-туры» [28, 84].
Исследователь замечает, что, не принижая значениявлияния русской (как и поволжско-татарской) агрокульту-ры на сибирских татар, надо отметить давнюю традициюземледелия у местного тюркоязычного населения. «Привсем сходстве элементов земледельческой культуры си-бирских татар с представителями других национальностей,агрокультура сибирских татар сохранила ряд самобытныхчерт, отображающих историю их формирования и взаи-мосвязь с местными природными условиями» [28, 84]. Впользу традиционности земледелия у сибирских татарсвидетельствует и собственная лексика земледельческойтематики, а также то, что в их агрокультуре сохранилисьчерты ранних этапов сложения данной отрасли. Особоевнимание Н.А. Халиков обращает на сибирско-татарскоеназвание ячменя – «ашлык». Термин имеет у сибирскихтатар и второе значение – хлеб вообще, жито. Этот факт,как считает исследователь, весьма показателен, посколь-ку многие кочевники Азии и Сибири, переходя к оседломуземледелию, в первую очередь, начинают возделыватьячмень [28, 84]. И. Идес в конце XVII в. сообщал о спосо-бах употребления сибирскими татарами данной культурыследующее: «Возделываемый ячмень они сначала размяг-чают в воде, потом слегка сушат и толкут, пока с него несойдет кожура, затем сушат и пекут это обрушенное зер-но в железном котле на большом жару. Когда зерно обжа-рилось и приобрело твердость кости, они едят его в тотже день сухим…» [16, 278].
На наш взгляд, наиболее близко к решению пробле-мы становления традиционной системы хозяйства сибир-ских татар подошли С.В. Бахрушин и Н.А. Томилов, кото-рые рассматривают становление данного типа хозяйстване как процесс кардинальной смены охотничье-рыболов-
30
но-собирательского хозяйства скотоводческо-земле-дельческим, а как процесс соединения, синтеза добыва-ющей и производящей экономики.
Н.А. Томилов отмечает, что в лесной и лесостепнойзонах в рассматриваемый период наблюдалась хозяй-ственная ситуация, при которой отрасли добывающего ипроизводящего хозяйств «находились как бы в равных посвоему значению отношениях», либо первые даже прева-лировали [27, 77]. В хозяйстве населения данного регио-на, знакомого со скотоводством и частично с мотыжнымили пахотным земледелием ранней стадии, большую рольиграли охота и рыболовство, причем нередко они явля-лись основными отраслями. При этом взаимодополняе-мость отраслей обеспечивала стабильность всей хозяй-ственной системы. Следует заметить, что подобная тенден-ция ведения комплексного хозяйства была характерна в це-лом для западносибирского региона, даже для земледель-ческого русского населения вплоть до рубежа XIX-XX вв.
По всей видимости, военно-служилая знать Сибирс-кого ханства, вместе со своими улусными людьми, велаполукочевой образ жизни. Наглядным примером можетслужить приводимое в литературе, обычно в качестведоказательства наличия дорусского земледелия у сибир-ских татар, высказывание воеводы А. Воейкова о том, чтов 1598 г. Кучум «с детьми и со всеми своими людьми» по-шел с Черных вод на Обь, где у него хлеб сеен» [4, 154].Скорее всего, подобный своему сюзерену образ жизнивели и другие владетели улусов. Одним из главных заня-тий знати оставалась военная служба и военные набеги.К дани приводились остяцкие и вогульские племена, с ко-торых взимался ясак пушниной. «Соболями и белкой си-бирские ханы платили дань Москве и сами собирали ясаксо своих “черных людей”» [4, 154]. Во многом именно по-лукочевой образ жизни верхушки сибирско-татарского об-щества сказался в дальнейшем на непрочности внутриго-сударственных отношений Сибирского юрта.
Если в других татарских государствах (особенно Ка-занском) социальная мощь феодальной знати была осно-вана на землевладении и связанной с ним военной служ-бе хану, то в Сибирском юрте «землевладение» большеподразумевало под собой владение промысловыми уго-дьями, а также занятие военными набегами с целью об-ложения данью соседних племен. Так, юрт татарскогокнязя Епанчи, располагавшийся на р. Туре, состоял изтатар, остяков и вогулов. Из вогулов состояло и владениебрата Кучума, городок которого располагался также на р.Туре [4, 156]. Состав сибирско-татарской знати, в которыйвходили князья, есаулы, беки, мурзы и пр., был весьма«мобильным». С.В. Бахрушин приводит сведения о том,как в Тюмень к хану Ибаку «убежали из Казани» Алгазый,затем Бегиш с сыном Утешем и многие другие мурзы. Не-редкой была практика, когда к правителям Сибири прико-чевывали на службу князья с собственными улусами. На-пример, к сыну Кучума Алею пришел ногайский князь УрусАлтаулович, который привел с собой несколько сот чело-век [4, 156].
В целом же вотчинные владения сибирско-татарс-кой знати были основаны не на оседлом земледельчес-ком хозяйстве, а на полукочевом скотоводческо-охотни-чье-земледельческом.
Мощным социально-политическим фактором, опре-делившим в дальнейшем экономическое развитие сибир-ских народов, явилась русская колонизация. Московскоегосударство, будучи земледельческим и стремящимся вне-дрить земледелие на присоединенной территории, сыг-рало существенную роль в трансформации хозяйствен-но-культурного облика сибирских народов.
В дальнейшем, с завоеванием Сибири актуальнымстановится вопрос о правовом закреплении земельных
наделов и угодий. До этого в Сибири, где плотность насе-ления была невелика, по данным П. Буцинского в началеXVII в. число ясачных людей «…в семи уездах не превы-шало и 4000 человек» [5, 25-26], а в земельных ресурсахне было недостатка, вопрос о закреплении угодий не сто-ял так остро. Вполне правомерен вывод Н.А. Халикова отом, что «свидетельство о внедрении земледельческойкультуры с приходом русских вполне допустимо интерпре-тировать и как вынужденную меру, сопровождавшую воз-росшую плотность населения и сокращение скотоводчес-ких, охотничьих и рыболовных угодий» [28, 63].
Таким образом, уже в XVII в. происходят кардиналь-ные изменения в хозяйственном укладе сибирских татар,которые были связаны, прежде всего, с русской колониза-цией Сибири и государственной ориентацией в целом хо-зяйства юга Сибири как земледельческого. Несмотря нато, что земледелие существовало у татар еще в дорус-ский период, оно не играло значительной роли в хозяй-ственном комплексе сибирских татар, даже в благоприят-ных для земледелия южных районах.
Важную роль в экономике Сибирского ханства игра-ла торговля. По территории ханства проходил древнийкараванный путь, который связывал Русское государствои Запад с восточными странами. На Искере были найде-ны остатки импортных предметов (в том числе китайскогофарфора, стеклянных сосудов, гончарной поливной посу-ды золотоордынского типа) и серебряные монеты с араб-скими надписями. Подобная привозная керамика былаобнаружена исследователями и на других средневековыхтатарских городищах (Тон-Туре, Бол. Чуланкуле-1 и др.)[13, 346]. Из Сибири вывозились меха, кожа, рыба, мамон-товая кость, шерсть и т.д. Из Средней Азии в Сибирь ввози-лись хлеб, чай, бумага, сушеные фрукты, украшения, же-лезные изделия, сундуки, посуда, зеркала и т.д.
Тесные торговые и культурные связи между Сибирьюи регионами Средней Азией были установлены еще в глу-бокой древности. С.В. Бахрушин считал, что данный фактопределялся тем, что большая торговая дорога из Маве-раннахра и Хорезма в Восточную Европу шла вдоль Ир-тыша.
Сибирский юрт в период средневековья был однимиз важнейших пунктов на большом караванном пути. Самогеографическое положение обусловило установление ран-них оживленных связей Сибирского юрта с торговыми го-родами Средней Азии - Бухарой, Мервом, Ургенчем, Се-рахсом, Нисой, Дехистаном и др., которые не прерыва-лись и после присоединения Сибири к Русскому государ-ству. Известно, что даже летом 1596 г., уже после потериханом Кучумом ханства, к нему приходили торговые люди«из Бухары, Ургенча, из Ясырского города, да и Сауранагородка».
Средняя Азия принимала деятельное участие в борь-бе за политическое господство на Иртыше, что было оп-ределено важностью задачи утвердиться на торговых пу-тях в Восточную Европу. Особенно ярко это проявилось всередине XVI в., когда бухарские правители активно под-держивали в борьбе за Сибирский престол своего став-ленника хана Кучума.
После русской колонизации Сибири сохраняются пре-жние центры торговли со Средней Азией – Тобольск (Ис-кер), Тюмень (Чимги-Тура), Тара (Ялым).
Кроме столичных центров – Искера (Сибири), Чимги-Туры, был выявлен целый ряд сибирско-татарских город-ков, существовавших во времена Сибирского ханства. Всеони упоминаются в Сибирских летописях. Это Сузгун-Тура,Бицик-Тура, Явлу-Тура, Кызыл-Тура, Кысым-Тура, Тунус,Чуваш, Карачин, Ташаткан, Абалак, «город Кучумова бра-та», Зубар-Тура, «город опасный» есаула Алышая, городмурзы Чангулы, Тархан-кала, Цытырлы, Ялым, Акцибар-
31
кала, старинный город Чубар-Тура на р. Нице и др. Упо-минаются в документах «городки» мурзы Аттика, Атыймурзы, «княжев городок», «заставный город на холме Ят-ман», Махметкулов городок, Киныр-городок в верховьяхр. Туры, Иленский, Черноярский, Катаргулов, Малый го-род, «крепкий татарский городок» на р. Аримзянке, Обу-хов городок, Черный городок и др. Всего же на террито-рии Западной Сибири в XIV-XVI вв., по мнению В.И. Собо-лева, насчитывалось сотни «городков», в которых прожи-вало коренное население [24, 233].
Большинство названных выше городков являлисьрезиденциями местной улусной знати, располагаясь настратегически важных рубежах ханства. Они служили,прежде всего, центрами защиты, в которых укрывалосьокрестное население в случаях угрозы нападения непри-ятеля. В связи с этим они были снабжены надежнымиоборонительными сооружениями – рвами, валом, крепо-стной стеной.
В то же время такие средневековые татарские горо-да, как Искер, Чимги-Тура, Тон-Тура, Кызыл-Тура и др.,являлись городами в полном смысле слова, выполняя каквоенно-административные, так и ремесленно-торговые икультурно-религиозные функции.
На материале археологических исследованийВ.И. Соболев выделяет несколько типов жилых конст-рукций, бытовавших у тюркского населения Сибири в рас-сматриваемый период. К первому он относит конусооб-разные каркасные сооружения, напоминающие юрту, по-крывавшиеся либо берестой, либо войлоком, либо ка-мышом или тростником, сверху присыпавшиеся землей.Ко второму типу он относит жилища в виде усеченной пи-рамиды: «Летним жилищем является четырехугольнаякаркасная постройка размерами 3х4 м с двускатной кры-шей необычной формы. Каркас ее состоит из шести ос-новных столбов с развилками: четырех по углам и двухболее высоких – на линии передней и задней стен. Наразвилках столбов лежат перекладины стены и крышузарешечивают тонкими жердями» [24, 93]. И, наконец, ктретьему типу В.И. Соболев относит жилище с прямоу-гольной наземной конструкцией. По углам котлована, навходе и посередине стен устанавливали вертикальныеопорные столбы, на которые укрепляли раму из балок,связывающую столбы и служащую основанием крыши. Краме приставляли жерди, образующие стены сооруже-ния, или обшивали досками. Такое жилище покрывалиобычно тем же материалом, что и первые. Как далее счи-тает исследователь, «позднее татары стали сооружатьбревенчатые дома по типу русских, не забывая традицийстроительства глинобитных жилищ» [24, 93-94].
Еще в XVII в. в качестве жилищ бытовали срубныеземлянки и полуземлянки. Срубные дома в XVII-XVIII вв.были низкие, имели небольшие двери (пролезали в нихна корточках), без окон, дневной свет проникал через от-верстие в плоской земляной крыше. Любопытно приве-денное неизвестным путешественником, побывавшим вТобольске в XVII в., описание татарских жилищ, где сооб-щается, что жилища эти, которые называются юртами,обычно строились из дерева и были невысокими. В этихдомах двери были низкими «едва в 1,5 локтя вышиной,через которые приходится пролезать на корточках». Вме-сто печей употреблялись камины и трубы, сделанные изпалок, обмазанных глиной, и «притом так низко, что ониедва выступают над крышей; потому, когда разводят огонь,он вместе с пылающими искрами летит так высоко, чтоиздалека видно, где живет татарин». Жилища «не имеютокон, лишь наверху посредине крыши проделано круглоеотверстие, через которое проходит дневной свет. Некото-рые татары кладут сверху кусок льда, который дает ясныйсвет, другие же и чаще всего из соломы или сена в старом
мешке или рогоже делают большую затычку и заделыва-ют ею дыру. Подобную же пробку употребляют они в сво-их трубах, когда огонь весь выгорел, чтобы тепло оста-лось в комнате; как я сам это делал, когда жил в подобнойюрте. Эти дома не имеют никаких крыш, они совсем плос-ки и сверху обложены толстым слоем земли, поэтому ле-том они совсем зеленые» [2, 332].
Сибирские города являлись и центрами ремеслен-ного производства. Известно, что в Сибирском ханствебыли развиты металлообработка, косторезное дело, про-изводство керамики, кожевенное дело, прядение, ткаче-ство и другие виды ремесла. Это также подтверждаетсянаходками с городища Искер. Как сообщает В.Н. Пигнат-ти о результатах своих исследований: «В изобилии попа-дались обломки кухонной посуды, без всяких узоров, глад-кие, напоминающие современные глиняные изделия; кро-ме этих черепков, здесь были найдены и взяты обломкиразнообразной формы точильных камней». На террито-рии городища, ближе к восточному углу площадки, им былообнаружено жилище, которое он определяет как мастерс-кую ремесленника: «Здесь найдены были формы для ли-тья украшений, жернова, но главное – масса окалин, це-лые точильные ножи и один из них – значительной вели-чины» [18, 13].
По мнению исследователей, гончарное производствопереживало в Сибирском ханстве упадок, что ими объяс-няется широким распространением дешевой и доступнойметаллической посуды, как привозной, так и изготовлен-ной местными мастерами [1, 54].
Вопрос о том, было ли развито в Сибирском ханствеювелирное производство, остается открытым. Преждевсего, в связи с тем, что бытовавшие в XVIII-XIX вв. у си-бирских татар ювелирные украшения были, в основноймассе, привозными, а развитых центров ювелирного про-изводства в этнографически исследуемое время обнару-жено не было. Однако находки на татарских городищах, вт.ч. на Искере, говорят о широком использовании ювелир-ных украшений в традиционном татарском костюме. Так,В.Н. Пигнатти среди обнаруженных им предметов назы-вает «бусы и пуговицы (154); предметы эти различнойформы, цвета и качества работы; большинство из них сде-лано из сердолика, есть стекловидные, много с тонкими, -можно сказать, - с художественными инкрустациями. До-селе татары носят такие же бусы и в нашейных украшени-ях, и в пуговицах. Кроме сердолика, попадается топаз ималахит. Сохранилась великолепно пуговица из какого-томягкого, мне неизвестного камня. Далее, - браслеты: одинсеребряный и один медный; серьги серебряные, перстни(31) разнообразной формы из серебра, в некоторых из нихсделаны вставки из бирюзы, на одном же виден след над-писи, но разобрать ее невозможно; одно кольцо свинцо-вое; маленькие, серебряные, узорные палочки (4), назна-чение коих мне неизвестно; маленькие морские раковин-ки (11), какие и теперь носят татарки в косоплетках; мед-ные пуговицы (4); медные маленькие бубенчики (2); под-ковы от сапог (14); пряжки (28) железные и медные (12)…»[18, 25].
Сопоставляя украшения искерских находок с коллек-цией татарских украшений, хранящихся в фондах Тоболь-ского музея, обнаруживается множество аналогий в типо-логии украшений, в использовании материалов (металлов,камней), в технике изготовления и в орнаменте. Особенноярко это заметно при сравнении перстней, пуговиц, наи-более полно сохранившихся из найденных на Искере ук-рашений. Вполне вероятно, что в Сибирском ханстве, каки в других татарских государствах, было развито ювелир-ное ремесло. На наш взгляд, одним из весомых аргумен-тов в пользу этого является наличие большого количествататарских ювелирных украшений, сохранившихся в фон-
32
дах Тобольского музея. Ряд предметов данной коллекцииатрибутируется исследователями периодом постзолото-ордынских ханств [25, 210]. Так, одним из ярких и уникаль-ных предметов коллекции является «айчек» (лунница) –женское шейно-нагрудное украшение, которое известныйэтнограф С.В. Суслова соотносит с кругом нагрудных дра-гоценностей, который «восходит к элитным украшениямзнати постзолотоордынских татарских ханств (Казанского,Сибирского, Астраханского), имеющих много общего и вдворцовой архитектуре, и в стиле придворного костюма»[25, 210]. По мнению С.В. Сусловой, мотивы рисунка иден-тичны золотоордынским и казанско-татарским. Централь-ная подвеска – амулет – медвежьи когти в металлическомфутляре, украшенном бирюзой. Наличие в украшении по-добной подвески не оставляет сомнения в местном си-бирском бытовании уникальной лунницы, а возможно, ив изготовлении. Ведь амулеты в виде медвежьих когтейшироко распространены среди сибирских татар и в насто-ящее время, особенно среди заболотных татар. Это свя-зано с реликтами культа медведя, характерного для мно-гих сибирских народов. Обращает внимание наличие наданной луннице в качестве подвесок голубых бусин,т. н. «кук мунцак», «кук тима», которые были очень рас-пространены в украшениях сибирских татар и выполнялифункцию оберега.
Важное место в хозяйственном укладе тюркского на-селения периода Сибирского ханства, наряду со скотовод-ством и земледелием, безусловно, занимали присваива-ющие отрасли – охота и рыболовство, что было обуслов-лено, прежде всего, природно-климатическими фактора-ми. В летописных сообщениях XVII-XVIII вв., а также в от-носящихся к более раннему периоду известиях путеше-ственников описываются бесчисленные богатства сибир-ских рек и лесов: «В них же жительство имеют всякие зве-ри различные, ови годны на снедение человеком, а иниина украшение и на одежды драгие: елени, лоси, зайцы,корсони, белки, лисицы, соболи, бобры, разсомахи и иныямногия» [19, 117]. Еще Марко Поло сообщал: «Те, кто жи-вут здесь в горах и в долине, большие охотники, ловят онимного дорогих животных высокой цены, и большая им отэтого прибыль и выгода; ловят они горностаев, соболей,белок, черных лисиц…» [21, 215]. Охотились, прежде все-го, при помощи лука и стрел (с деревянными (на пушныхзверей), костяными и железными наконечниками). На ар-хеологических памятниках, в т.ч. на Искере, было обнару-жено довольно большое число костяных наконечниковстрел, которые В.Н. Пигнатти соотносит с остяцким насе-лением, жившим, по его мнению, до татар на Искере [18,21-22]. Но, как считает В.И. Соболев, костяные наконеч-ники широко использовались и тюркским населением наохоте на отдельные виды животных [24, 205]. Также былаизвестна загонная охота и охота с ловчими птицами. Су-ществовала у сибирских татар даже отдельная волостьКречатников на р. Вагай, которые «за ясак давали крече-ты». Важную роль играла пушнина в системе ясачных сбо-ров. Зависимость же отдельных улусов от хана выража-лась обычно в уплате князцами со своих «черных людей»ясака: «соболи и лисицы и прочих зверей и рыб». Ясак с«черных людей» своих улусов собирали сами князьки ивручали его присылавшемуся к ним ханскому данщику(«даруге») [24, 157].
Не менее значимую роль в хозяйстве сибирских та-тар играло рыболовство. Об этом свидетельствуют най-денные на археологических памятниках XIV-XVI вв. костирыб, разнообразные предметы рыбного промысла: крюч-ки для самоловов, изготовленные из железа, орудия длявязания сетей, поплавки и пр. [15, 202]. Ярким примеромможет служить и описание одной из обнаруженныхВ.Н. Пигнатти ям в ходе проведенных им в 1915 г. на Иске-
ре раскопок: «Была ли эта земляная часть постройки, над-земная часть которой – деревянная – сгорела, сказатьтрудно; но можно лишь утверждать, что именно в этих ямахжил человек, и что он занимался рыболовством: здесьнайдено значительное количество рыбных остатков, - ре-бер, позвонков, чешуи; здесь найдены кибасья из кирпичадля сетей, куженка и обгорелый край туяса из бересты»[18,13]. Далее, среди найденных на городище предме-тов, он перечисляет «железные рыболовные крючки (11),из коих некоторые, крупные, - грубой работы; другие же,поменьше, кажутся сделанными из проволоки; средипервых один крючок двойной, словно он предназначендля ловли щук «дорожкой»; кибасья (5) глиняные разнойформы…» [18, 24-25]. А.А. Адамов сообщает о том, что наИскере были обнаружены «железные остроги, которымилучили рыбу в неглубоких водоемах и старицах после спа-да воды» [1, 56]. В целом, у сибирских татар были распро-странены различные способы рыбного промысла: сетями,неводами, мордами, острогами. Широко было распрост-ранено запорное рыболовство. В.И. Соболев на материа-ле археологических данных определяет, что в отмечен-ный период промысловое значение имел отлов осетра,налима, щуки и особенно окуней, язей и чебаков [23, 14].В исторической литературе встречается сообщение о том,что хан Кучум с определенных групп татар брал ясак языч-ками карасей, а аялынские татары ловили для Кучумарыбу в Вузюкове озере.
Основным занятием татарской служилой знати былавоенная служба. Основу вооружения средневекового си-бирского татарского воина составляло оружие дистанци-онного боя – лук и стрелы. У сибирских воинов в основ-ном применялись сложносоставные луки, которые явля-лись модификациями «монгольского лука». Были широкораспространены сложносоставные луки, которые обычносклеивались из нескольких деревянных деталей, без кос-тяных накладок [29, 100]. Среди железных наконечниковстрел сибирских татар преобладали наконечники, плос-кие в сечении и асимметрично-ромбической форм. В кол-лекциях Тобольского государственного историко-архитек-турного музея-заповедника (ТГИАМЗ) сохранилось не-сколько стрел такого типа. В числе их стрела XVII в., по-ступившая в 1908 г. от жителя юрт Иртышатских Тобольс-кого района Д.А. Кульмаметева из рода князей Кульмаме-тевых. Указанная стрела представляет собой деревянныйстержень с наконечником вытянутой треугольной формы.Основание наконечника выполнено из резной меди. По-добные стрелы были характерны для вооружения сибир-ских татар.
Хранились луки и стрелы в колчанах-саадаках, обыч-но с фигурно вырезанным краем и горловиной. Стрелыпомещались в них наконечниками внутрь, опереньем на-ружу. Такие футляры изготавливались из кожи. В коллек-ции ТГИАМЗ имеется кожаный саадак, богато орнаменти-рованный мелким растительным рисунком и украшенныйметаллическими бляшками. Саадаки подвешивались спомощью портупейных ремней к поясу или одевались че-рез плечо.
По материалам с городища Искер можно определить,что в комплекс вооружения сибирского татарского воинатакже входила сабля с однолезвийным слабоизогнутымклинком, палаш с однолезвийным прямым клинком, копьяс четырехгранными в сечении, удлиненно-треугольныминаконечниками.
Кроме того, в конце XVI-XVII в. в комплекс вооруже-ния входили защитные доспехи – кольчуга (находки с го-родища Искер) и шлем [30, 130-131].
Так, в 1908 г. в Тобольский музей от жителя юрт Ир-тышатских Кульмаметева поступил шлем типа мисюрки,который значится как «родовая вещь Кульмаметевых». Он
33
представляет собой гладкое кованое полушарие. «Сверху– маленькое отверстие, на поверхности 4 ромбическиемедные бляшки, по всей окружности прикреплена барми-ца из 4-х частей, с лицевой стороны занавеска из густоймелкокольчатой кольчуги: с боков и сзади 3 отдельныечасти, фигурно вырезанные по краю и местам соедине-ний из шести 4-угольных пластинок и прикрепленных…кольчужного широкого края. Сверху крыты синим сук-ном, прикрепленных к пластинкам пятью круглыми бляш-ками к каждой и были подбитые зеленым сукном».
Другой татарский шлем, хранящийся в фондах То-больского музея, был приобретен в 1910 г. Это шлем типашишака. Форма полушария с сильно вытянутым и тупымверхом. «На площадке верха 3 из 4-х шипа и отверстиедля центрального навершия склепаны из 8 продольныхполос-треугольников. По нижнему краю идет широкая по-лоса с серебряным орнаментом из завитков с мелкимилистьями; спереди подобие козырька, килевидное поле,по нижнему краю оставляя лицо прикреплена бармица (3части) из 4-угольных пластин – сохранились 14, подби-тые оленьей кожей и синей материей и крытая краснымсукном, прикрепленным к каждой пластинке 3-5 кресто-образными медными бляхами» [КП ТГИАМЗ].
По мнению исследователей сибирского вооружения(Л. Бобров, Ю. Худяков и др.), подобные шлемы былишироко распространены среди представителей кочевойзнати в Северной Азии [29, 100].
Таким образом, традиционное хозяйство тюркскогонаселения Сибирского ханства было комплексным, в ко-тором кочевое скотоводство сочеталось с оседлыми по-селениями, развитием домашних ремесел в виде гончар-ного производства, плавки и обработки металлов, коже-венного дела, прядения, ткачества, возможно, ювелирно-го дела и пр. В зависимости от природных условий, наря-ду с производящими отраслями, в хозяйственном укладевсех групп татар значительное (а иногда и основное) мес-то занимали рыболовство и охота. Одним из основныхвидов хозяйственной деятельности являлось животновод-ство в сочетании с пашенным земледелием, игравшимвспомогательную роль в хозяйстве. Феодальная знатьСибирского ханства несла военную службу.
Список литературы1. Адамов А.А., Балюнов И.В., Данилов П.Г. Город Тобольск.Археологический очерк. – Тобольск, 2008.2. Алексеев М.П. Сибирь в известиях иностранных путеше-ственников и писателей. - Т.1. - Иркутск, 1932.3. Аполлова Н.Г. Хозяйственное освоение Прииртышья вконце XVI – первой половине XIX в. – М., 1976.4. Бахрушин С.В. Сибирские служилые татары в XVII в. // С. В.Бахрушин. Научные труды. - Т. III. - Ч. 2. - М.: Изд-во Академиинаук СССР, 1955.5. Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт первых ее насель-ников // П.Н. Буцинский. Сочинения: В 2 т. - Т.1. – Тюмень:Изд-во Ю. Мандрики, 1999.6. Валеев Ф.Т. Сибирские татары. Культура и быт. – Казань:Татар. кн. изд-во, 1993.7. Валеев Ф.Т., Томилов Н.А. Татары Западной Сибири.История и культура. - Новосибирск, 1996.8. Гарифуллин И.Б. Из истории хозяйственной жизни татарс-кого населения Тюменской области. - Тюмень, 1996.9. Гафурова З.А. Типы хозяйства сибирских татар НижнегоПрииртышья // Экспериментальная археология. - Вып. 1. -Тобольск, 1991. - С. 108-117.10. Георги И.Г. Описание всех в Российском государствеобитающих народов, также их житейских обрядов, вер,обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопримечательнос-тей. Ч. 2. - СПб., 1776.11. Зыков А.П. Искер – забытая столица Сибири // Родина.Спец. выпуск «Тобольск – живая былина». – 2004.12. Кауфман А.А. Экономический быт государственныхкрестьян и оседлых инородцев Туринского округа Тобольс-
кой губернии. Ч. 1. Отд. 1. – СПб., 1890.13. Левашова В.П. О городищах Сибирского юрта // СА. -1950. № 13.14. Молодин В.И., Чемякина М.А. Поселение Новочекино-3 –памятник эпохи поздней бронзы на севере Барабинскойлесостепи // Археология и этнография Южной Сибири. –Барнаул, 1984. – С. 40-62.15. Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. Бараба в эпохупозднего средневековья. – Новосибирск: Наука, 1990.16. Идес И., Бранд А. Записки о русском посольстве в Китай(1692-1695 гг.). – М., 1967.17. Исхаков Д.М. О методологических аспектах исследова-ния проблемы становления сибирско-татарской общности//Сибирские татары: Сб. статей/ Под ред. С.В. Сусловой. –Казань, 2002.18. Пигнатти В.Н. Искер (Кучумово городище). ЕТГМ. - Вып.XXV. – Тобольск, 1915.19. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Сибирскиелетописи. – М., 1987. – Т. 36.20. Сатлыкова Р.К. Татары Среднего Прииртышья (Хозяй-ственный уклад, общинная организация и семейные отноше-ния в конце XVIII – начале ХХ в.): Дисс… канд. ист. наук. – М.,1986.21. Сафаргалиев М. Распад Золотой Орды // На стыкеконтинентов и цивилизаций… (из опыта образования ираспада империй X-XVI вв.) – М.: ИНСАН, 1996. – С. 280-530.22. Селезнев А.Г., Селезнева И.А., Бельгибаев Е.А. Миртаежных культур юга Сибири (традиционное хозяйство исопутствующие компоненты жизнедеятельности). – Омск,2006.23. Соболев В.И. Барабинские татары XIV - начала XVII вв.н.э.: (по археологическим материалам): автореф. дис. …канд. ист. наук. – Новосибирск, 1983.24. Соболев В.И. История сибирских ханств (по археологи-ческим материалам). – Новосибирск: Наука, 2008.25. Суслова С.В. Сибирско-татарская коллекция ювелирныхукрашений Тобольского музея как исторический источник //Татарская археология. – Казань, 2004. - № 1-2 (10-11).- С. 210-229.26. Томилов Н.А. Хозяйство барабинских татар в XIX –начале XX вв.// Генезис и эволюция этнических культурСибири. – Новосибирск, 1986;27. Томилов Н.А. Проблемы этнической истории (по мате-риалам Западной Сибири). - Томск: Изд-во Томского универ-ситета, 1993.28. Халиков Н.А. Этнокультурные особенности хозяйствазападносибирских татар// Сибирские татары: Сб. статей/Под ред. С.В. Сусловой. - Казань, 2002. – С. 59-85.29. Худяков Ю.С., Бобров Л.В. Реконструкция комплексавооружения позднесредневекового сибирского татарскоговоина // Этническая история тюркских народов Сибири исопредельных территорий: Сб. научных трудов. – Омск,1998. – С. 99-102.30. Худяков Ю.С. Комплекс вооружения воинов Сибирскоготатарского ханства в эпоху позднего средневековья //«Сулеймановские чтения-2001»: Тезисы докладов и сообще-ний научно-практической конференции. – Тюмень, 2002. –С. 130-131.31. Шунков В.И. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII– начале XVIII вв. - М.-Л., 1946.32. Шунков В.И. Вопросы аграрной истории России. - М., 1974.
КП ТГИАМЗ – Книга поступлений Тобольского государствен-ного историко-архитектурного музея-заповедника.
А.В. Матвеев, С.Ф. Татауровг. Омск
К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ
СИБИРСКОГО ХАНСТВАИзвестно, что административное устройство являет-
ся, если так можно выразиться, становым хребтом любо-го государства. Анализируя административное устройство,
34
можно говорить о силе и слабости центральной власти,географии налоговой системы, состоянии казны, эконо-мических и социальных связях между отдельными провин-циями и т.д. По характеру и состоянию структуры админи-стративно-территориального управления судят об уровнегосударственности.
Искерское княжество Тайбугидов в первой половинеXVI вв. занимало сравнительно небольшую территорию.Хан Кучум в 1560-1570-х гг. существенно расширил егопределы. В широтном направлении Сибирское ханствораскинулось от берегов р. Обь почти до предгорий Ура-ла, а в меридиональном от устья р. Иртыш до его средне-го течения – устья р. Оми. Для управления такой обшир-ной страной было необходимо создать соответствующуюхорошо структурированную и эффективную систему адми-нистративно-территориального управления.
Цель публикации – представить сведения об адми-нистративно-территориальном устройстве Сибирскогоханства на основании имеющегося корпуса письменныхисточников. На первый взгляд, отечественные историкимного внимания уделяли этому вопросу и достаточно под-робно рассмотрели административное устройство Сибир-ского ханства второй половины XVI в. [4; 6; 8; 13; 14]. Од-нако, при более тщательном анализе этих публикаций ста-новится очевидным, что исследователи в большинствесвоем описывали политическое устройство государства,а территориальным аспектам уделяли значительно мень-шее внимание. Те же ученые, которые поднимали вопро-сы административно-территориального устройства Сибир-ского ханства, выходили из ситуации в основном двумяспособами. Первые выдвигали и выдвигают тезис о том,что система управления Сибирскими ханствами, как доКучума, так и в годы его правления, была схожа с устрой-ством других тюрко-татарских государств, которые в своюочередь сохранили основные черты управления ЗолотойОрды. Например, З.А. Тычинских пишет: «Сибирское хан-ство было одним из “осколков” Золотой Орды и, как дру-гие татарские ханства, унаследовало основные черты ад-министративно-политического устройства золотоордынс-кого государства» [14, 172].
Другие авторы писали и пишут о том, что русская ад-министрация длительное время использовала сложившу-юся при хане Кучуме структуру местного управления. Поэтой причине исследователи применяли метод ретроспек-ции, используя более поздние источники [15, 474]. Напри-мер С.В. Бахрушин считал, что «в бывших пределах соб-ственно царства Кучума в основу деления легли, по-види-мому, те административные подразделения, которые су-ществовали и в более ранние времена. Эти уделы, в кото-рых сидели ясачные мурзы, после присоединения к Рос-сии образовали некоторые из волостей Тобольского и со-седнего уездов. Владения, например, Кучумова вассалаБабасан-мурзы образовали Бабасанскую волость. По-ви-димому, такого же происхождения и другие волости То-больского уезда, во главе которых еще в XVII в. стоят мур-зы и баи; например, волость Супра, в которой упоминает-ся в 1629 г. мурза Гултаев Табер, в Тарском уезде волостиОялы, Тураш, Тереня, Кирпицкая, Барабинская - все этобывшие составные части Кучумова царства. В Тарский жеуезд вошло крохотное царство царя Саргачика ишимско-го, на месте которого явилась волость Саргацкая, илиСоргачь» [2, 153].
Способы, применявшиеся двумя группами исследо-вателей, действительно позволяют получить общее пред-ставление о внутреннем устройстве Сибирского ханства,однако, они не лишены и недостатков. Так, очевидно, чтоотождествление системы управления разных тюрко-та-тарских государств не позволяет учитывать их местную (вданном случае – сибирскую) специфику. Например,
А.А. Адамов пишет: «Общественной единицей сибирскихтатар в период сибирского ханства была соседская тер-риториальная община с сохранением значительных родоп-леменных традиций. Вся территория была разделена наулусы, где основную массу населения составляли “чер-ные” улусные люди, а верхушку общества - правители –салтаны, беки, тарханы, мурзы. Низший слой составлялирабы – “ясыри”. Система управления осуществляласьчерез улусы, в которые центральная власть посылала,лишь для управления, ясаулов и даругов – сборщиков “да-ров” и ясака» [1, 35-36]. Картина достаточна распростра-ненная и понятная, если бы не упоминавшаяся сибирс-кая специфика. Правители дальних, вновь присоединен-ных областей ханства вряд ли пускали на свои вотчинысборщиков ясака, пусть пришедших и от имени сибирско-го хана. Они предпочитали посылать ясак хану сами, по-скольку таким образом им удавалось скрыть истинноеколичество своих подданных и уменьшить налоговый гнет.Кроме того, значительные территории ханства (например,Нижнее Прииртышье) не были заселены татарским насе-лением и каждый сбор ясака, при подходе, представлен-ном А.А. Адамовым, автоматически превращался в воен-ный поход за данью, что было нерационально с точки зре-ния управления государством. На наш взгляд ситуация стерриториальным управлением Сибирского ханства вовторой половине XVI в. выглядела несколько по-другому.
Фактором, определившим структуру административ-но-территориального управления Сибирского ханства,стал тот факт, что Кучум, разгромив Едигера и завоевавТюменское ханство, продолжил свою агрессивную поли-тику и настолько расширил границы своего государства,что имевшаяся при прежнем правителе государственнаяструктура уже не отвечала новой политической ситуации.Если при Едигере границы ханства практически совпада-ли с территорией расселения тюменских и тобольских та-тар, а внутреннее управление основывалось на традици-онных межродовых отношениях и исконном праве на оп-ределенные земельные владения, то присоединение но-вых, в значительной степени не татарских, земель требо-вало иной системы управления. Прежнюю систему Кучумне мог использовать еще и потому, что он, при всем егоположении шейбанида, славе талантливого военачальни-ка и наличии могущественных покровителей был совер-шенно чужим для родовой, большей частью тайбугидскойместной знати и опереться в полной мере на нее не мог.Позднее именно эта знать бросила хана, присягнула мос-ковскому государю и воевала против своего прежнего пра-вителя. А в 1563 г. Кучуму просто не было места в пре-жнем устоявшемся административном сибирском инсти-туте – у него не было земли, своего родового клана и, сре-ди местного населения, больше противников, чем союз-ников. У хана Кучума в Сибири был только один целикоми полностью преданный ему союзник – это его армия, пустьне такая многочисленная, как у соседних казахских и но-гайских ханов, однако преданная ему в большей мере. Онаполностью состояла из пришедших вместе с ним профес-сиональных воинов, которые не имели здесь своих род-ственников и своих интересов. Именно опираясь на этусилу, Кучум стал создавать новую систему управления хан-ством и формировать для управления своим государ-ством новую социальную силу - служилую знать.
Мы считаем, что система административно-террито-риального управления Сибирским ханством состояла изчетырех различных форм взаимодействия центральной иместных властей. Причем эти формы очень четко разде-лялись по территориальному признаку.
К первой форме административных отношений отно-сились земли бывшего княжества Тайбугидов, состоявшиеиз родовых владений местной татарской знати. Кучум не
35
стал кардинально перестраивать или перекраивать сло-жившиеся границы родовых образований, однако под егопрямое правление отошли земли, прежде принадлежав-шие хану Едигеру и его семье, а также непримиримымсподвижникам Едигера, погибшим в 1563 г. На земли, рас-положенные вокруг Искера, Кучум посадил людей, при-шедших вместе с ним из Средней Азии. В преданиях ихименуют сартами [9].
Помимо собственной вотчины, значительными зем-лями в пределах бывшего княжества Тайбугидов владе-ли родственники хана – брат Кучума, городок которогостоял среди мансийских юртов на Туре, его племянникМаметкул, его тесть Давлет-бай и другие [2, 155]. Владе-ли землями и жены хана Кучума. Дочь Давлет-бая имеласвою резиденцию в Бицик-туре, другая жена Сусге – намысу высокого берега Иртыша, в 6 верстах ниже Тобольс-ка [10, 193]. Крупным улусовладельцем был видный госу-дарственный деятель – Карача. Земли «Карачева улуса»располагались на р. Тобол [14, 173]. Самостоятельнымиземлевладельцами в Сибирском ханстве были аталыки.Они довольно часто упоминаются в Сибирских летописяхи записках воевод, особенно тех, которые касаются пос-леднего этапа противостояния хана Кучума с российски-ми отрядами. Например, в последнем сражении на рекеОрмени русскими в плен было взято пять аталыков, втом числе Чегей-аталык, кучумов тесть [12, 148]. Аталыкине только служили воспитателями для многочисленныхдетей и внуков Кучума, но и являлись «чиновниками поособым поручениям». Они выполняли дипломатическиемиссии, собирали ясак с провинций и т.д.
Одно из центральных мест в ханстве занимали пожа-лованные владения. В государстве постоянно ощущалсяприток знати, по различным причинам вынужденной по-кинуть свои родовые места. С.В. Бахрушин писал, что в Си-бирь в XVI в. переселялись знатные семьи из Казани, Аст-рахани, Ногайской орды. Например, известно, что в 1515 г.в Тюмень из Золотой орды пришел сын ногайского мурзыМуссы Шагим и был тюменскими салтанами посажен «накняжение» [2, 156]. Среди подобных представителей зна-ти времени Сибирского ханства Кучума можно выделитькнязя Бегиша, Аттик-мурзу и других.
Князья и мурзы - исконные владельцы родовых тер-риторий тюменских и тобольских татар и приближенныеКучума, недавно посаженные на эти земли, были владель-цами собственных улусов. Они не платили прямых нало-гов Кучуму, но обязаны были содержать собственные во-енные отряды, то есть платили «налог кровью». Их воен-ные дружины участвовали в военных походах хана, направ-ленных как против внешних врагов, так и против враговвнутренних, выполняли полицейские функции, а такжеосуществляли сбор ясака на недавно присоединенныхземлях. Помимо всего на владельцев улусов возлагалосьсодержание в надлежащем порядке укреплений своих го-родков от возможных набегов неприятеля. Документы тоговремени свидетельствуют о том, что родовые гнезда са-мых знатных жителей ханства представляли собой крепо-сти, построенные по всем правилам фортификационногоискусства. Крупные улусы делились на более мелкие ад-министративно-территориальные единицы, во главе кото-рых стояли сотники или есаулы. Под контролем каждогоиз них было одно крупное поселение (центральная усадь-ба) и окружающие его несколько мелких постоянных иливременных селений.
Вторая схема управления государством функциони-ровала в Нижнем Прииртышье и Зауралье, где прожива-ли ханты и манси. В результате военных походов на се-вер во второй половине XVI в. Кучум подчинили себе хан-тов по р. Иртыш, ниже устья р. Тобол, и по р. Демьянка.Главы хантыйских и мансийских родоплеменных образо-
ваний, проживавших на этой территории, были принуж-дены к заключению дружественных союзов. Целью этихсоюзов в первую очередь была пушнина, которая сталапоступать в ханскую казну от местных князьков в каче-стве ясака. Ясак был главной причиной движения Си-бирского ханства на север. Если в конце XVI - XVII вв. вроссийском государстве сибирский ясак занимал от 10до 30 % годовой казны, то можно представить, что онзначил для Кучума. Казалось бы, военные отряды хантови манси вряд ли могли служить серьезным подспорьемконным подразделениям армии Кучума. Однако, точноизвестно, что вооруженные ханты и манси, принималиактивное участие в походах отрядов хана Кучума на Каму,какое-то время они сражались бок о бок с татарами и влегендарном бою на Чувашском мысу. Поэтому правите-ли хантов и манси кроме ясака, также платили «налогкровью» со всеми вытекающими отсюда политическими,демографическими и экономическими последствиями.
Для контроля за северной пушной провинцией в до-лине р. Иртыш вплоть до самого ее устья Кучум устроилряд городков. Они были главными центрами контроля завновь присоединенными территориями и служили местомсбора ясака, площадкой для дальнейшей экспансии. Нанастоящий момент достоверно не известно, осуществлялли Кучум походы дальше на север по р. Оби. Но в любомслучае, столь масштабных военных операций, как в рос-сийском Приуралье и Пермской земле, на Обском северене было. Военные походы татар на хантов и манси, запе-чатленные в былинах и преданиях этих народов, моглипроводить местные татарские вожди. Н.А. Томилов отме-чает, что тенденция экспансии тобольских татар в север-ном направлении, сохранялась и после заселения этойтерритории русскими. Так, в Подгородной волости, околоСургута, в XVII в. жили ханты, принявшие под давлениемтатар мусульманство [13, 62].
Третья схема административно-территориальногоустройства была применена Кучумом на вновь присоеди-ненных восточных землях – в Барабе и Томском Приобье,где проживали тюркоязычные барабинцы, чаты, эуштин-цы, томские татары и т.д. Местная знать сохранила здесьсвое положение и заключила с Кучумом союзническиедоговора о военной взаимопомощи, в которой сама былав первую очередь заинтересована. Однако, в главном на-селенном пункте каждой провинции сидел наместник си-бирского хана. Так, известно, что положение в Барабе кон-тролировал наместник Буян-бий, местом нахождения ко-торого был город Тон-Тура. Военно-политическая ситуа-ция в этот период сложилась таким образом, что толькоподдержка Сибирского хана позволяла прежним хозяе-вам Барабы и Томского Приобья выдержать давлениесо стороны наступающих с юга калмыков. Поэтому толь-ко после того, как Кучум потерпел окончательное пора-жение в борьбе с русскими отрядами, местные князькии правители, боясь калмыкских набегов, пошли на союз сРоссией. Например, чатские, или джагатские татары в се-редине XVI в. составляли отдельный род или группу родов,возглавлявшуюся семьей мурз. В 1580-1590-х гг. они былив союзе с Кучумом, но после 1598 г. предложили свой союзи дружбу победителям [10, 501]. Вслед за чатами свой вы-бор в пользу Москвы сделал и князь эуштинцев Тоян. В1603 г. он сам отправился в Москву, где присягнул на вер-ность московскому государю. В.С. Синяев пишет, что этобыло единственно правильное решение, так как к грани-цам Эушты подошли калмыки, и князь без поддержки Ку-чума противостоять им был не в силах [12, 156].
В соответствии с заключенными политическими до-говорами южную границу вновь приобретенных земель вОбь-Иртышском междуречье Кучум укрепил пограничны-ми городками. Взамен население Барабы и Томского При-
36
обья обязано было платить ясак сибирскому хану, а такжеобеспечивать содержание гарнизонов, проживавших впограничных городках, содержать пути сообщения. Кромеобеспечения безопасности провинций Кучум включил Бара-бу и Томское Приобье в сеть среднеазиатской торговли (обэтом говорит караван купцов, который в 1596 г. шел к Кучу-му в Барабу через известный перевоз на р. Иртыш), при-влекал местную знать к участию в захватнических воен-ных походах. По этим причинам местные правители счи-тали союз с Кучумом выгодным. Доказательством и ре-зультатом эффективного административного управленияэтими территориями стала лояльность Кучуму местногонаселения и местной знати после череды его пораженийв 1580-1590-х гг.
Четвертая схема административно-территориально-го управления осуществлялась Кучумом на территорииСреднего Прииртышья вверх от Кизыл-Туры – землях, гдесобственно тюркоязычного населения в середине XVI в.было мало. Именно здесь хан Кучум поселил аялынцев.Территория их проживания была поделена на небольшиеулусы, во главе которых встала служилая знать. В ее обя-занность входило содержание военного отряда, которыйзачастую стоял гарнизоном в пограничном городке, содер-жание в порядке местных путей сообщения, сбор ясака сподчиненного населения и с прилегающих к ее улусамданников. Размеры улусов были невелики. Так, например,в исследованном нами городке Тунус, центре одноимен-ного улуса по карте К.Н. Сербиной [11] или волости Чангу-ла по имени возглавлявшего его мурзы у Г.Ф. Миллера [10,290], против русских оборонялось 40 воинов. В целомаялынские татары, численность которых П.Н. Буцинскийоценивал в 500 человек [3, 24], управлялись двумя князь-цами и двумя есаулами. Благодаря археологическим изыс-каниям у аялынских татар XVI в. удалось определить иобщую структуру отдельного улуса.
Улус включал в себя территорию, расположенную вдолине одного из притоков р. Иртыш – рр. Туй, Шиш, Уй,Тара. Недалеко от устья каждого притока располагалсяцентральный административный пункт: городище Крапив-ка II на р. Уй, юрты Шиш-тамацкие на р. Шиш и т.д. Основ-ная часть территории улуса располагалась на Иртыше, изатем узкой полосой уходила вверх по течению притока.В 80-100 км от устья располагался крайний, пограничныйгородок, который, во-первых, защищал улусные земли отнападений хантыйского населения, а во-вторых, был мес-том, откуда выдвигались группы воинов для сбора ясака сэтого хантыйского населения или ханты сами свозили вгородок положенную на них дань. На р. Тара таким погра-ничным городком был городок Тунус (городище Надеждин-ка VII), на р. Уй – городище Кошкуль IV. В пределах улусау аялынских татар существовали как зимние, так и летниепоселения, что является свидетельством традиций хозяй-ствования, принесенных с более южных территорий.
Среднее Прииртышье, как вновь присоединеннаятерритория, открывало Кучуму дорогу на юг. В настоящиймомент у нас нет достоверных сведений о дальности егоэкспансии вверх по течению р. Иртыш. Однако, для XVII в.мы имеем данные о постоянных военных столкновенияхаялынцев с калмыками на всем протяжении русских вод-ных маршрутов - до Ямышевского озера. «Да с Тары кЯмышу озеру ездят Тарского уезду ясачных волостей ясач-ные татаровя, по вся годы, в лодках своих, наперед то-больских и тарских и иных городов служилых люден занеделю и болши, и едучи дорогою, у калмыцких люденлодки колют и избы разоряют...» [13, 143]. Несмотря на то,что в XVII в. в результате борьбы с калмыками аялынскиетатары оставили бассейн р. Оми, а южная их граница ста-ла проходить севернее (немного южнее оз. Большие Мур-лы) [13, 143], очевидно, что во второй половине XVI в. они
контролировали долину Иртыша. Именно по ней проходи-ли трансрегиональные караванные пути из Западной Си-бири в Среднюю Азию, минуя владения казахских ханов,державших под контролем Ишимскую дорогу. Для контро-ля Иртышского пути в его ключевых точках Кучум размес-тил военные гарнизоны. Так, возможно, устье реки Оми ирасположенную близ нее старинную переправу черезр. Иртыш контролировал гарнизон, проживавший на го-родище, известном нам как городище Большой Лог. Онорасположено в 12 км вверх от устья р. Оми. В.Ф. Генинг иР.Д. Голдина однозначно пишут о культурно-хронологи-ческой принадлежности верхнего культурного горизонта:«Третий комплекс, датирующийся серединой II тыс. н.э.,полностью идентичен материалам городищ Сибирскогоюрта – Кучум-горе, Искеру и Тоянову городку. ПоселениеБольшой Лог было одним из укрепленных городков ханаКучума в Прииртышье» [5, 148].
Служилая знать аялынских татар, проживавшая вСреднем Прииртышье, получила от Кучума под свое уп-равление землю и право взимать ясак с проживавшегоздесь местного смешанного тюркского и хантыйского на-селения, а также с хантов, проживавших в верховьях при-токов Иртыша – рр. Туя, Шиша, Уя, Тары и т.д. Часть нало-гов шла на содержание южных пограничных городков, ачасть (прежде всего – пушнина) - в столицу ханства. Пос-ле поражения Кучума под Искером территории СреднегоПрииртышья стали единственным источником пополненияханской казны и поэтому налоги местного населения зна-чительно увеличились, причем помимо пушнины населе-ние обязано было поставлять и продукты питания, напри-мер, аялынские татары ловили «приходя на Бузюковоозеро (Изюк), рыбу на Кучума» [2, 154].
Новое сословие - служилая знать - составило основуармии сибирского хана. Д.М. Исхаков пишет о том, чтоармия у Кучума делилась на четыре отряда, первый изкоторых имел название Коурдак, второй – Туралы, третий– Аялы, четвертый – Бараба[6, 13]. Судя по названиямотрядов, мы видим, что все вышеперечисленные состав-ляющие армии имеют прямое отношение к группам татар,проживавших на присоединенных Кучумом землях по Ир-тышу и барабинской лесостепи. Курдакско-саргатские (тев-ризские) татары расселялись севернее аялинских и тура-линских татар, которые назывались и называются тарски-ми татарами [13, 113] и сообща занимали территорию пообоим берегам Иртыша от устья р. Ишим до устья р. Оми.Четвертый отряд составляли барабинцы, граничившие старскими татарами по рр. Таре и Оми. Как и аялынцы,они не имели никаких родственных или иных интересов втюменских землях и поэтому целиком и полностью под-держивали Кучума.
Таким образом, мы можем констатировать, что адми-нистративно-территориальное деление Сибирского хан-ства во время правления хана Кучума было подчиненофактически единственной цели – укреплению абсолютнойвласти монарха. Для этого Кучум построил довольно слож-ную систему управления различными территориями сво-его государства. Исконно татарские земли сохранили сис-тему управления, сформировавшуюся еще при правле-нии тайбугидов, однако Кучум внес в эту систему два су-щественных изменения. Во-первых, взял под свой конт-роль или отдал своим сподвижникам ключевые, стратеги-ческие населенные пункты ханства, а во-вторых, обязалсохранившую свое положение родоплеменную знать уча-ствовать в военных походах с целью расширения границханства или ослабления потенциальных противников,захвата трофеев и пополнения числа рабов. Таким обра-зом, родоплеменные владения знати, ранее поддержи-вавшей тайбугидов, уже не составляли единого террито-риального массива, что предотвращало возможность
37
создания анти-Кучумовой коалиции. В то же время ос-новные воинские силы этой знати постоянно были уда-лены от своих земель. Военные трофеи и возможностьрасширения земельных владений за счет вновь присое-диненных земель оставляли эту знать лояльной Кучуму.
Присоединенные Кучумом земли, на которых прожи-вало тюркоязычное население, вошедшее впоследствиив состав сибирских татар, были укреплены за счет постав-ленных ханом городков с постоянными гарнизонами. Там,где тюркоязычного населения было мало или его вообщене было, свободные земли Кучум заселил выходцами изСредней Азии и Южного Урала. Новые территории хан-ства были разделены на улусы, которыми управляла сфор-мированная Кучумом служилая знать – есаулы, беки, мур-зы и т.д. Служилая знать была обязана собирать ясак снаселения, проживавшего на доверенных ей ханом зем-лях, содержать в порядке пограничные городки со стояв-шими в них гарнизонами, в случае необходимости участво-вать вместе с ханом в военных компаниях. Земельныевладения, статусное положение и возможность сбора данис населения, проживавшего на прилегающих к ханствутерриториях, делали новую аристократию преданнымисподвижниками сибирского хана.
Отсутствие единого принципа административно-тер-риториального деления и сложность во взаимоотношени-ях с местной родовой знатью препятствовали нормаль-ной работе государственного аппарата. Недополучая ясак,хан Кучум испытывал постоянную нехватку средств насодержание армии и государственного аппарата, вслед-ствие чего был вынужден проводить постоянные военныепоходы для восполнения своей казны. Слабость торгово-экономических отношений между провинциями, малораз-витость системы путей сообщения также не способство-вали укреплению Сибирского ханства. Однако созданнаяханом Кучумом административно-территориальная систе-ма управления даже после его поражения под Искероми потери тюменских и тобольских земель позволила емуправить значительной частью Западной Сибири почти досамого конца XVI в.
Список литературы1. Адамов А.А. Традиционная культура сибирских татар вСибирском ханстве // Искер – столица Сибирского ханства. –Казань, 2010. - С. 33-46.2. Бахрушин С.В. Сибирские служилые татары в XVII в. //Научные труды. – М., 1955. - Т.3. - Ч.2. - С. 153-175.3. Буцинский П.Н. Сочинения:В 2 т. - Т.1. Заселение Сибири ибыт первых её насельников. - Тюмень, 1999.- С. 328.4. Валеев Ф.Т., Томилов Н.А. Татары Западной Сибири.История и культура. – Новосибирск, 1996. - 224 с.5. Генинг В.Ф., Голдина Р.Д. Поселение Большой Лог у г.Омска // V Уральское археологическое совещание. - Сыктыв-кар, 1967. - С. 145-148.6. Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства.Очерки. – Казань, 2006. - 196 с.7. Исхаков Д.М. Проблема клановых основ административно-политического устройства Сибирского юрта в XV-XVI вв.//Занкиевские чтения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Тобольск: ТГПИ, 2007.– С. 215-218;8. Исхаков Д.М. Тюрко-татарские государства XV-XVI вв. –Казань, 2009. - 142 с.9. Катанов Н.Ф. Предания тобольских татар о Кучуме иЕрмаке // Ежегодник тобольского губ. музея. - Тобольск, 1896.- Вып. 5. - С. 161 - 162.10. Миллер Г.Ф. История Сибири. – М., 1999. - Т.1. – С. 630.11. Сербина К.Н. Карта Сибири XVI – XVII в. (до 1618 г.) //Миллер Г.Ф. История Сибири. - М.-Л., 1937. - Т. I. – Приложение.12. Синяев В.С. Окончательный разгром Кучума на Оби в1598 году // Вопросы географии Сибири. - Томск, 1951. - №2.– С. 141-156.13. Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно-Сибирс-
кой равнины в конце XVI – первой четверти XIX вв. – Томск,1981. - 376 с.14. Тычинских З.А. К вопросу об административно-политичес-ком и территориальном устройстве сибирских татар в XVI-XVIII вв. // Средневековые тюрко-татарские государства:Сборник статей. – Казань, 2009. - Вып. 1. – С. 172-182.15. Храмова В. В. Западносибирские татары // НародыСибири. - М.-Л., 1956. - С. 473-491.
А.П. Ярковг. Тюмень
К ВОПРОСУ О ЗОЛОТООРДЫНСКОЙЦИВИЛИЗАЦИИ (СИСТЕМЫ ОЦЕНОК
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗАПАДНОЙСИБИРИ)
По А. Дж. Тойнби цивилизация – это культура, дос-тигшая пределов самоидентификации. Рассматривая про-цессы на территории Западной Сибири в цивилизацион-ном измерении, можно согласиться с мнением, что на этойтерритории соприкасаются и взаимопроникают две раз-личные цивилизации, обладающие глубокими историчес-кими корнями: одна – «биогенная», выработавшая своиосновные жизненные, этические, эстетические и другиеустановки в длительном приспособлении к сложным при-родно-климатическим условиям; другая – «техногенная»,сравнительно молодая, быстро развивающаяся, создав-шая новые орудия труда, инструменты передвижения,способы общения и проникновения в сущность явлений[9, 153].
Признавая историческую незавершенность процес-сов, происходивших в Западной Сибири, заметим, что ихне следует рассматривать в рамках концепции тюрко-ис-ламской/золотоордынской цивилизации [10, 154–173],которая конструируется рядом ученых с «поволжско-цен-тристских» позиций.
Между тем, для нашего региона в сравнении с По-волжьем и Крымом характерны следующие факторы:
– мифологическая система, которая вплоть до концаХVIII в. поддерживала четкое представление о том, чтоСибирь – это «край света», где в абсолютной изоляцииживут полулюди-полузвери, которые не обладают соци-альной организацией, культурой и чувством истории, атакже не склонны ни к европейскому, ни к китайскому, ни кмусульманскому типам цивилизации;
– географическая отдаленность и суровый климат,огромные масштабы и малая заселенность региона, раз-нообразие исторических судеб, ментальностей и формхозяйственного уклада населения, а также отсутствие по-стоянных этнокультурных связей и безопасных торговыхпутей, что в совокупности не благоприятствовало включе-нию региона в общие процессы миграции, политическойконсолидации и феодализации, проистекавшие в Золо-той Орде;
– династийная система, заимствованная у монголов,которая функционировала не постоянно, а эпизодически,что способствовало укреплению политических, военных,культурных и религиозных связей с другими улусами, гдеправили Чингизиды, хотя подчас номинально;
– отсутствие «трех цивилизационных кругов», издав-на включавших азиатскую Сибирь в свою орбиту, наравнес Поволжьем, ибо европейское понимание «цивилиза-ции» не учитывает местной специфики организации и фун-кционирования социума со слабой, но самодостаточнойэкономикой, властью, которая часто органично объеди-няла номадов и оседлых жителей вокруг городков, яв-лявшихся кочевыми ставками правителей – самозван-
38
ных, назначаемых или избираемых по принципу народ-ного представительства (прообраза демократии, но неего аналога);
– отсутствие синхронности с этническими, социальны-ми, политическими и культурными процессами в других,порой весьма отдаленных регионах, где проживало тюр-коязычное и мусульманское население, при том, что кон-такты имели место и до периода Золотой Орды;
– невозможность полной принадлежности к «обще-тюркской цивилизации», обусловленная тем, что тюркс-кий субстрат в регионе антропологически, этнически, лин-гвистически и социально «размывался» уграми, монгола-ми, самодийцами и др.;
– отсутствие «высокой» городской культуры: сибирс-кие городки на далекой периферии «арабо-исламскойцивилизации» не имели и не могли выполнить такую за-дачу, поскольку поздно и в большей степени не доброволь-но обратились к исламу и достижениям «Арабского Ре-нессанса»;
– ограниченная или полноценная государственность,которая не имела «полноценно-золотоордынских» меха-низмов управления, а также военного, дипломатическогои финансового обеспечения, но при этом подразумеваланаличие полиэтноконфессионального состава населения,поскольку идеолого-правовое обеспечение не допускалоподавления инакомыслия и притеснения «язычников»;
– феномен сибирского ислама, который в странахмусульманского мира до сих пор нередко воспринимает-ся как «полуязыческий», но для сибиряков стал своим: син-кретичный по своему характеру, он сформировался на ос-нове предыдущего вероисповедного опыта благодаря рас-тянувшейся на несколько столетий исламизации.
В Средневековье уже можно говорить о потребностисообщества в объединении вокруг идеи государственнос-ти или религиозно-этнической идентичности. Слабо вы-раженное «государственное мышление» нельзя расцени-вать как слабость или путь к объединению, настоящейпричиной которого является только внешняя угроза. Госу-дарство как реальная и обоснованная система возникаетименно там, где у множества людей совпадают представ-ления о жизненно важном территориальном пространстве,ресурсах и связанных с ними интересах.
Не отрицая значения Золотой Орды в истории Рос-сии (соответственно, признавая возможность применениявыработанных определений к другим регионам России,которые отвечают данным критериям) и ее определенной,но не абсолютной внутренней целостности, осознаем не-обходимость конкретизировать подходы к дефиниции и кпроблеме. «Золотордынскую культуру» нельзя признатьвершиной достижений тюркско-исламского мира, равно какне может быть правомерным сравнение с «более разви-тыми и культурными народами».
Культура социальной, конфессиональной или этни-ческой группы уникальна и самоценна и, соответственно,не может иметь «вершин» и «тупиков» в эволюции. Исто-рически объяснимо лишь расслоение любой культуры насубкультуры. Этот процесс неизбежен, а его интенсивностьзависит от локальных особенностей, связанных с природ-но-климатическими, военно-политическими, социально-экономическими, ментально-психологическими и личнос-тными факторами.
Определения «тюрко-исламской» и «золотоордын-ской» цивилизации, «золотоордынской цивилизацион-ной зоны» и евразийской идеи динамичны и нестабиль-ны, поскольку зависят от множества континентальных ирегиональных факторов. Фактически они остаются лишьконцептами, в контексте которых появилось множество«сценариев» развития социумов, а также самоценногонаполнения и реализации их культурного арсенала. На-
ходясь под воздействием различных цивилизаций, сиби-ряки лишь опосредованно испытывали влияние ЗолотойОрды, существовали на дальней, но своей, орбите этойкультуры и, по всей видимости, не ощущали себя «варва-рами». Таким образом, через диалог с другими культура-ми в Сибири развились свои культурные институты и цен-ности, укрепившие базу для сотрудничества, взаимодо-полнения и толерантности.
В глобальном плане история Орды «делалась» не вСибири, да и сам Русский улус, долгое время не влияв-ший на события в Золотой Орде, также не может считать-ся центром российской истории в тот период.
Ряд ученых полагает, что включение нашего края взону действия этого политического объединения не влия-ет на понимание его этнокультурного облика, т. к. степныепространства сохраняли «кипчакские» черты, а в ХIII –ХIV вв. «монгольские» археологические памятники почтине отличаются от «кипчакских», в т. ч. в погребальном об-ряде. При этом, разумеется, нельзя игнорировать и заме-ченное присутствие топонимов и гидронимов монголо-та-тарского происхождения.
На трансформацию культуры оказало влияние мно-жество внешнеполитических факторов. Так, войдя в под-чинение Золотой Орде, часть населения лесостепной зоныСибири оказалась вовлеченной в континентальные про-цессы гораздо глубже, нежели в предшествующие столе-тия. Большая часть населения приобщилась к новой по-литике пассивно, в виде потребления духовного и мате-риального продукта. Активную позицию поддерживаломеньшинство, занятое в сфере управления, которое мес-тная знать осуществляла от имени политического объе-динения, унаследовав и институт тарханства [12, 26].
Помимо этого, малая часть населения была занята вфункционировании и обслуживании коммуникаций Вели-кого шелкового пути в районе Алтая, где через него про-ходил путь торговых караванов, дипломатов и миссионе-ров из Европы и Центральной Азии, продвигавшихся даль-ше на восток. Возможно, косвенным подтверждением это-му является алтайская легенда о богатыре Сартыкпае –устроителе дорог, переправ и русел рек, в чьем имени уга-дывается среднеазиатское наименование – сарт [7, 23].Дорога имела не только значение пути, но обозначала иадминистративно-территориальное деление в улусе Джу-чи. В близком по семантике даруга (от монг. – стоять, воз-вышаться) это и совокупность податей, взимаемых с на-селения, и обозначение административной должности.Дорога из Азии через казахские степи, среднеазиатскуюпустыню и далее по Волге не всегда была безопасной,поэтому для путешествия в Среднее Поволжье купцы пред-почитали использовать водный путь по Иртышу, Тоболу,Туре, Каме.
Эти коммуникации использовали не только русскиекупцы и промышленники: сами сибиряки имели торговыеотношения с Европой, Китаем, Монголией, с Хорезмом,Бухарой, и через многоступенчатый обмен сибирская пуш-нина уже в ХII –ХIII вв. доходила до Китая, Тибета, Кореи,Японии, Индии.
Повышение качества коммуникативных связей, учи-тывая большие пространства, дисперсность расселения,экологическую емкость территорий и т. д., стало важней-шим фактором жизнеобеспечения населения. В свою оче-редь, это вызвало потребность в организации обслужива-ющих и почтовых станциях, а т. н. ямы / джамы сохраня-лись в Сибири и после присоединения к Русскому госу-дарству [2, л. 15, 15 об.]. Существует мнение о том, чтопроисхождение топонима Тюмень связано с почтовой стан-цией для расстояния в 10 000 условных единиц [11, 269–271]. На месте переправ через реки возникли населенныепункты, и не все из них были крепостями. Этим определя-
39
ется «лицо» некоторых поселений с тюрко- и угроязыч-ным населением, появившихся именно в Средние века,хотя исследователи утверждают, что некоторые городаЗолотой Орды не имели оборонительных укреплений [4,167–186] вплоть до середины ХIV в.
Следует отметить значимость городков (юрт, тура /тора / тара, кала) как сложных социальных организмов,которые отвечали потребностям общества в самооргани-зации и имели различную типологию и локальные моди-фикации согласно естественно-географическим особен-ностям [5, 196–197]. Кроме Искера и Чимги-Туры в лето-писях указано более 15 городков. Они располагались приустьях рек, впадающих в Иртыш и Тобол: Кызыл-Тура –при впадении Ишима в Иртыш, Княжев городок на Ирты-ше, Тон-Тура на р. Оми, «заставный Кучумов городок»выше устья Тавды, городок Бегиша на Иртыше, Агитскийгородок – на Вагае. Кроме того, летописи называют Явлу-Туру, Тархан-калу, Бицик-Туру, Карачин городок, происхож-дение которых «теряется в веках», а Г. Ф. Миллер пола-гал, что эти городки служили убежищами для жен и детейзнати. Важно принимать во внимание, что между разме-рами сибирских поселений и развитием самосознания«горожан» не было прямой связи.
Более того, Г. Ф. Миллер замечал, что деление сиби-ряков на кочевых и оседлых условно. В связи с этим, от-метим невозможность использования определения «город-ской» для характеристики быта сибиряков периода Сред-невековья и даже после присоединения к России, хотя в«Исторической энциклопедии Сибири» отмечено: «В до-индустриальных обществах быт и производство нераз-дельно связаны друг с другом, для описания жизнедея-тельности людей в таких обществах правомерно исполь-зовать более широкую категорию – “уклад жизни”. Однимиз основных отличий городского быта от жизни людей втрадиционно-аграрном обществе является четкое раз-деление в пространстве и времени производственной ивнепроизводственной сфер».
В силу специфического уклада хозяйства в периодСредневековья подобного разделения не было и не мог-ло быть. Кроме того, перенесение европейских понятий«город» и «городской быт» на сибирское «поле» выво-дит за рамки исследования население Ялуторовска,Тары, Кузнецка даже в ХIХ в.
В Средневековье среди местных тюрков часто быто-вало расширенное понятие Иске юрт (сиб.-татар.), что оз-начало старый народ / улус, а также часть деревни и пер-вородная почва. Лексема юрт, соответственно, может трак-товаться и как постоянное, и как мобильное поселение,что отражает нестабильность системы расселения и сак-рализации родного пространства. Во многом это объяс-няется тем, что земля не имела для кочевника-скотоводаи промысловика того сакрального значения, каким обла-дала для земледельца. Лишь по мере формирования осед-лого населения, которое происходило достаточно позднопо сравнению с Поволжьем и Бухарой, земля и поселенияна ней обретали иное мифологическое содержание, иног-да заимствованное и труднообъяснимое. Так, неофици-альное название основанных в 1685 г. ю. Чечкинских –
Тархан-Кала (от араб. / qal’a – крепость, крепост-ная стена) [1, 51, 128–129], хотя стен у поселения никогдане было.
Возникает вопрос: были ли в Сибири города до по-явления русских (согласно городовым летописям, освое-ние Сибири началось даже не с похода Ермака, а с осно-вания первых русских городов [8, 96]), и если да, то спо-собствовал ли ислам урбанизации, как это происходилов Центральной Азии, Крыму и Волжской Булгарии? Воз-можно ли рассматривать «историю возникновения и раз-
вития поселений как целостный однолинейный процесс»[3, 185] выхода к «цивилизации»?
Можно полагать, что условия возникновения подоб-ных поселений на Руси, в Западной Сибири или Централь-ной Азии имели различную историю: для одних были ха-рактерны наличие более развитого ядра (центра) и тесносвязанной с ним периферии, которая выполняла защит-ную функцию; другим была присуща иерархическая сис-тема оседлых поселений как главных центров сбора по-датей, а третьим – инновационная для своего времениструктура, ставшая важным импульсом формированиянового типа социокультурных отношений, но не цивилиза-ции, и на пространстве края.
Список литературы1. Алишина Х. Ч. Ономастикон сибирских татар (на материа-ле сибирских татар). – Ч. 1. – Тюмень, 1999.2. Архив АН СССР. Ф. 21. Оп. 4. № 8.3. Балюк Н. А. Формирование селитебной системы Приобьяпо материалам Самарова городка // Угры: материалы VI сиб.симп. «Культурное наследие народов Западной Сибири». –Тобольск, 2003.4. Кульпин Э. С. Цивилизация Золотой Орды // Монгольскаяимперия и кочевой мир. – Улан-Уде, 20045. Миллер Г. Ф. История Сибири. – Т. I. – М.; Л., 1937.6. Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой:1489–1508 гг. / подгот. текста, вступ. ст. М. П. Лукичева иН. М. Рогожина. – М., 1984.7. Потапов Л. П. Сибирский шаманизм. – Л., 1993.8. Резун Д. Я. Очерки истории изучения сибирского городаконца ХVI – первой половины ХVIII века. – Новосибирск, 1982.9. Рянская Э. М., Рянский Ф. Н. Этнокультурное взаимодей-ствие в Среднеобском регионе // «Aus Sibirien» : научно-информ. сб. – Тюмень, 2008.10. Стенографический отчет круглого стола, посвященногопроблеме цивилизационного подхода к изучению ЗолотойОрды // Золотоордынская цивилизация : сб. ст. – Вып. 1. –Казань, 2008.11. Тимиров Р. Р. О топониме «Тюмень» // Лингвистическоекавказоведение и тюркология: традиции и современность :материалы 4-й международ. науч. конф. – Карачаевск, 2007.12. Федоров-Давыдов Г. А. Общественный строй ЗолотойОрды. – М., 1973.
А.В. Пачкаловг.Москва
НОВЫЕ НАХОДКИ СРЕДНЕВЕКОВЫХМУСУЛЬМАНСКИХ МОНЕТ В СИБИРИ И
НА УРАЛЕПервое сообщение о находках мусульманских монет в
Сибири относятся к XVIII в. В книге голландского ученогоНиколааса Корнелисзоона Витсена «Северная и ВосточнаяТатария» [23] приведены изображения серебряных монет,найденных в «сибирских могилах». Среди восточных монетприсутствуют изображения двух джучидских (вероятно, че-каненных в Сарае ал-Джедид и в Хорезме в XIV в.). Монетыпоступили к Витсену не позднее 1714 г. [9, 111].
В историографии имеется упоминание о джучидскоммонетном чекане в Сибири:
1. На правом берегу р. Миасс, напротив д. Бакланс-кое, Каргапольского района, на дюнах «Татарский Бор» вначале 1920-х гг. В.П.Бирюковым были найдены 3 монетыЗолотой Орды. По определению В.К.Трутовского, одна измонет являлась пулом, чеканенным при хане Джанибе-ке на монетном дворе Сибирь в середине XIV в. [5, 60; 6,79; 21, 148]. Существование сибирских монет вызываетсомнения [18, 139], т.к. монеты не были опубликованыподробно. Город Сибирь известен по письменным ис-точникам с XIV в. [22, 140] и обычно локализуется на горо-
40
дище Искер (близ г. Тобольска на р. Иртыш).2. А.Г.Нестеров связывает с сибирским чеканом не-
сколько серебряных монет XV в., найденных на дюнах уд. Могилева (Шадринский у., Пермская губ.; совр. Шатров-ский район Курганской области) [15, 12; 17, 274-279]. Этиже монеты относит к чекану «правителей Сибирскогоюрта» и А.А.Адамов [1, 63].
* * *Средневековых мусульманских монет на территории
Сибири и Урала мало. Тем больший интерес вызываютсообщения о новых находках. Автору стали известны не-которые новые находки монет, сделанные в последниегоды коллекционерами:
Красноярский край1. Бывш. д. Кардачино Емельяновского р-на, 2008 г.
На этом месте была собрана коллекция находок от ран-него железного века до XX в. (в т.ч. эпохи средневековья).Среди находок был джучидский пул, чеканенный в «ал-Джедиде» в 782 г.х. (со словом «адиль» в шестиугольнойзвезде). Судя по топографии находок, чеканка данныхмонет производилась в Крыму. Это наиболее удаленнаянаходка монеты Крыма и самый северо-восточный пунктс находкой ордынской монеты. Удаленность места наход-ки от места чекана является беспрецедентной для мед-ных джучидских монет.
Курганская обл.2. С. Березово Куртамышского района. Серебряная
монета Джанибека, чеканенная в Сарае ал-Джедид в 745 г.х.3. С. Верхнеключевское Катайского района. На
р. Синара была найдена неясная мусульманская монетаили подражание.
4. С. Верхозино Шадринского района. Была найде-на монета Давлет-Бирди, чеканенная в Орда-Базаре.
5. Г. Далматово. В окрестностях города была найде-на медная среднеазиатская монета второй половины XV-начала XVI в.
6. Д. Колганово Юргамышского района. В песке научастке 100 х 100 м. были найдены 3 серебряные монетыОрды XV в., точно не определенные. На одной из них ясночитается слово «Базар» от наименования монетного дво-ра (скорее всего «Орда-Базар»).
7. П. Нечунаево Каргапольского района. Была най-дена серебряная монета Узбека, чеканенная в Сарае (потипу 734 г.х.). Монета имела отверстие.
8. Бывшая д. Предеино Кетовского района. По ин-формации Д.Н. Маслюженко и В.В. Васильева была найде-на серебряная золотоордынская монета: данг Джанибекачекана Сарая ал-Джедид (определение А.В.Пачкалова).
9. Барсуковская стоянка (разрушенный дюнный па-мятник «Татарский Бор» в Каргапольском районе, ранееисследованный В.П.Бирюковым). По информацииД.Н.Маслюженко в ходе разведок С.Н.Шилова в 1998 годабыл найден джучидский пул (1340-е гг., чекан Сарая ал-Джедид, с изображением двуглавого орла; определениеА.В. Пачкалова).
10. Точное место находки неизвестно. По инфор-мации Д.Н. Маслюженко при археологических исследова-ниях С.Н. Шилова в Курганской области были найдены тризолотоордынские монеты: серебро: Токтамыш: Хорезм г.(?)– 2 (по меньшей мере, одна из этих монет обрезана); медь:анонимные: Сарай б.г. – 1 (с изображением птицы в шес-тиугольной звезде, конец XIV – начало XV в.? [13, рис. 7.2]).Условно можно идентифицировать местонахождение од-ной из серебряных монет Тохтамыша, которая найдена вчерте г.Кургана. Однако в связи со смертью автора иссле-дований соотнести остальные находки с точными места-ми обнаружения не представляется возможным.
Ранее в Курганской обл. джучидские монеты былинайдены только на дюнах у д. Могилево Шатровского рай-
она и на дюнах «Татарский Бор» напротив д. Бакланское[2, 39-40; 5, 60; 6, 79; 20, 148].
Пермский край9. Чердынь. В кладе русских монет XVI-XVII вв. (404
экз.), найденном еще в 1940-е гг., была серебряная моне-та Бердибека.
10. Точное место находки неизвестно. В 2009 г. быланайдена серебряная монета Джанибека: Сарай ал-Дже-дид 746 г.х.
11. Точное место находки неизвестно. Клад сереб-ряных джучидских монет: Узбек (13 экз.): Сарай 714 или715 г.х. - 1, 720-е гг.х. - 1, 734 г.х. или 737 г.х. - 1, 739 г.х. - 1,740(?) г.х. - 1,б.г. - 4; Сарай ал-Махруса 722 г.х. - 1, 722(?)г.х. - 1; Сарай(?) 727 г.х. - 1; б.м. 740(?) г.х. - 1; Джанибек(30 экз.): Сарай ал-Джедид 742 или 743 г.х. - 1, 743 г.х. - 1,745 г.х. - 2, 747 г.х. - 2, 747(?) г.х. - 1, 748 г.х. - 1, 750 г.х. - 1,751 г.х. - 1, 752 г.х. - 1, 752 или 753 г.х. - 1, 753 г.х. - 3, 755 г.х.- 1, г.(?) - 5; Гюлистан 752 г.х. - 2, 753 г.х. - 6, 756 г.х. - 1;Бердибек (15 экз.): Сарай ал-Джедид 759 г.х. - 2, 760 г.х. -2; Гюлистан 759 г.х. - 8; Азак 759 г.х. - 2; город(?) г.(?) - 1;Кульпа (2 экз.): Гюлистан 760 г.х. - 2; Хызр (4 экз.): Сарайал-Джедид 761 г.х. - 2; Гюлистан 761 г.х. - 1; Азак 760 г.х. -1; Орду-Мелик (1 экз.): Сарай ал-Джедид 762 г.х. - 1; Мю-рид (3 экз.): Гюлистан 763 г.х. - 2, 764 г.х. - 1; Азиз-Шейх (1экз.): Гюлистан ал-Махруса 767 г.х. - 1. Время сокрытияклада относится к концу 1360-х гг. По составу клад типи-чен для поволжских комплексов [24].
Информация о других находках джучидских монет вПермском крае содержится в монографии А.М.Белавина [4].
Свердловская обл.12. Г. Верхотурье. На окраине города была найдена
серебряная золотоордынская монета конца XIV или нача-ла XV в., чеканенная в Орде Муаззам (Орда Высочайшая- ханской ставки). На монете есть имеются перечекана.
13. С. Никольское (около г. Камышлов). Медная сред-неазиатская монета второй половины XV- начала XVIв. была найдена на берегу реки Пышма, на территории с.Никольское.
Тюменская обл.14. Городище Искер (около г. Тобольск). При архео-
логических исследованиях А.А.Адамова, в последние годыбыла найдена точно не определенная позднеджучидс-кая серебряная монета (середина или вторая половинаXV в.) и две медные среднеазиатские монеты второй по-ловины XV- начала XVI в. (одна из них чеканена в Самар-канде).
По историографическим данным известно о немно-гочисленных находках серебряных монет с арабографи-ческими надписями в Искере (исследования М.С.Знамен-ского, конец XIX в.) [7, 162]. О находке дирхема на местеИскера сообщал В.Н.Пигнатти [19, 19]. В.Д.Смирнов про-читал на этой монете символ веры на одной стороне илегенду «аль-хакан султан» на другой [19, 68]1. Л.Р. Кыз-ласов сообщает о «серебряных монетах с арабскими над-писями» с городища Искер, без подробной информациио находках [12, 49]. Исходя из имеющейся информации,едва ли можно предполагать, что в Искере имелось раз-витое монетное обращение.
15. Точное место находки неизвестно. Дирхем Вол-жских Булгар: Абдаллах б. Микаил: Булгар [25].
Челябинская обл.16. Д. Карсы (Троицкий р-н). На северном берегу
озера Кошкуль была найдена серебряная золотоордын-ская монета: Токта: Сарай 691 г.х.
Ранее в Челябинской области (с. Анненское) былавстречена серебряная золотоордынская монета конца
1 Есть предположение, что данная монета относится к чекану Шей-банидов (XVI в.). [7, 163].
41
XIV в. (с именами Токтамыша на обеих сторонах) [10].* * *В заключение можно отметить, что находки мусуль-
манских монет в Сибири очень немногочисленны. Особыйинтерес вызывают находки джучидских монет, чеканенныхна монетном дворе Орда-Базар.
В 1912 г. на дюнах у д. Могилево (Шадринский у., Пер-мская губ.) Ю.А.Аргентовский обнаружил 2 серебряныемонеты [2, 39-40; 5, 60]. Несколько позднее две анало-гичные монеты были здесь же обнаружены В.Я.Толмаче-вым. Дирхемы были осмотрены А.К.Марковым. По егомнению, монеты были чеканены казанским ханом Ибра-химом бен Махмудом бен Мухаммадом (1467-1479 гг.). Помнению А.Г.Нестерова, которому удалось ознакомиться сфотографиями монет, эти дирхемы чеканены сибирским шей-банидом ханом Сайид Ибрахимом (до 1468 – ок. 1495 гг.) вОрда-Базаре [15, 12; 17, 274-279]2. Интерес вызываетместо чекана данных монет. В настоящее время очевид-но, что чеканка монет Орда-Базара производилась в раз-ных местах Улуса Джучи. В последнее время большаясерия монет Орда-Базара была найдена в Поднепровье.Часто встречаются подобные монеты и в Поволжье. К во-стоку от Волги монеты Орда-Базара были встречены толь-ко в Курганской области (и при этом несколько раз: Моги-лева, Верхозино, Колганово?). В Тарих-и Абу-л-Хайр-хани,составленном Масудом бен Османом Кухистани около1513/1514 г., сообщается о сражении основателя государ-ства кочевых узбеков Абу-л-Хайра с ханами Ахмадом иМахмудом. В 1431 г. Абу-л-Хайр одержал победу над Мах-мудом и Ахмадом и взял их ставку Орда-Базар. Масуд бенОсман Кухистани сообщает, что здесь же были отчекане-ны и монеты и именем Абу-л-Хайра. Комментаторы счи-тают, что данный Орда-Базар располагался в районер. Кенгир, где ранее была ставка Батыя [14, 515]. Б.А. Ах-медов полагает, что Орда-Базар располагался где-то ксеверо-западу от Аральского моря. Исследователь ука-зал на возможность локализации Орда-Базара близ устьяр. Караул (150 верст от Оренбурга), где в середине XVIII в.инженер-подпоручик Ригельман отметил следы древнегогорода [3, 52-53]. По мнению И.В.Зайцева, Орда-Базар,упомянутый Кухистани, располагался на Яике [11, 37]. Не-смотря на то, что точного расположения Орда-Базара ис-точник не дает, было замечено, что топонимы, связанныес деятельностью Абу-л-Хайра, относятся в основном к тер-ритории Казахстана и Западной Сибири [8, 31]. Учитываяэти данные, информация сразу о нескольких находках мо-нет Орда-Базара в Курганской области и отсутствие ин-формации о других находках монет Орда-Базара к востокуот Волги представляет особенный интерес.
Список литературы1. Адамов А.А. Археологические памятники города Тобольска
и его окрестностей. - Тобольск-Омск, 2000.2. Аргентовский Ю.П. Археологические находки в дюнах близ
д. Могилевой Кондинской волости Шадринского уезда //Записки Уральского Общества любителей естествозна-ния. - Т. 31. - Вып. 1. - Екатеринбург, 1911.
3. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. - М, 1965.4. Белавин А.М. Камский торговый путь. Средневековое Пре-
дуралье в его экономических и этнокультурных связях. -Пермь, 2000.
5. Бирюков В.П. Природа и население Шадринского округа. -Шадринск, 1926.
6. Бирюков В.П. Из личных археологических разведок, произ-веденных в разных местах Урала и Приуралья между 1910и 1930 гг. // Первое Уральское археологическое совеща-ние. - Молотов, 1948.
7. Бустанов А.А. К вопросу о денежном обращении в Сибирс-ком улусе в XIV-XVI вв. // Труды Международных нумизма-тических конференций «Монеты и денежное обращениев монгольских государствах XIII-XVвв.». IV МНК – Болгар2005, V МНК – Волгоград, 2006. - М.: Нумизматическаялитература, 2008
8. Гаев А.Г. Генеалогия и хронология Джучидов. К выяснениюродословия нумизматически зафиксированных правителейУлуса Джучи // Древности Поволжья и других регионов. / Нумизматический сборник. - Вып. IV. - Т. 3. - Нижний Нов-город, 2002.
9. Завитухина М.П. Н.-К.Витсен и его собрание сибирских древ-ностей // Археологический сборник. - Вып. 34. - СПб., 1999.
10. Закиров С.А. Новая находка золотоордынских монет вЮжном Зауралье // Вопросы истории и археологии За-падного Казахстана. - Вып. 3. - Уральск, 2004.
11. Зайцев И.В. Образование Астраханского ханства // Тюрко-логический сборник 2001 г. Золотая Орда и ее наследие. -М., 2002.
12. Кызласов Л.Р. Письменные известия о древних городахСибири. - М., 1992.
13. Лебедев В.П., Клоков В.Б. Денежное обращение Сарая иего округи после 1395 г. // Древности Поволжья и другихрегионов. - Вып. V. Нумизматический сборник. - Т.4. - Ниж-ний Новгород, 2004.
14.Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII вв. (из-влечения из персидских и тюркских сочинений). - Алма-Ата,1969.
15. Нестеров А.Г. Государства Шейбанидов и Тайбугидов вЗападной Сибири в 14-17 вв.: Археология и история: Авто-реф. дис. … канд. истор. наук. - М., 1988.
16. Нестеров А.Г. Монеты Сибирских Шейбанидов // II Берсов-ские чтения. - Екатеринбург, 1994.
17. Нестеров А.Г. Монеты сибирских Шейбанидов // Восток-Запад: Диалог культур Евразии. Проблемы истории и ар-хеологии. - Вып. 2. - Казань, 2001.
18. Пачкалов А.В. «Мифические» и недостоверные монетныедворы Джучидов // Нумизматический сборник ГИМ. - Т. XVII.М., 2006.
19. Пигнатти В.Н. Искер (Кучумово городище) // ЕжегодникТобольского Губернского Музея. 1914. - Вып. XXV. - То-больск, 1915.
20. Пигнатти В.Н. Каталог коллекции находок на Искере, при-надлежащей Тобольскому Губернскому Музею // ЕжегодникТобольского Губернского Музея. 1915. Вып. XXVI. - То-больск, 1916.
21. Сальников К.В. Древнейшие памятники Челябинской об-ласти. - Свердловск, 1952
22. DeWeese D. Islamization and Native Religion in the GoldenHorde: Baba Tukles abd Conversation to Islam in Historical andEpic Tradition. University Park, Pennsylvania, 1994
23. Witsen N.C. Noord en Oost Tartarye. Amsterdam, 1785.24. http://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=649325. http://rasmircoins.ucoz.ru/forum/2-2457-1
2 Имя правителя скорее всего было прочитано ошибочно [7, 163-164].В настоящее время сложно сказать уверенно, какому из ханов принадле-жат данные монеты.
42
ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКО-ТАТАРСКИХГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
А.В. Парунинг. Курган
ПОСОЛЬСКИЕ КНИГИ КАК ИСТОЧНИКПО ИСТОРИИ ТЮМЕНСКОГО ХАНСТВА
Посольские книги представляются неоценимыми вплане изучения дипломатической и политической исто-рии Тюменского ханства, позволяют проследить иерар-хию тюрко-татарских ханств в дипломатике Московскоговеликого княжества, наметить пути решения различныхпроблем в политической истории указанных стран.
Дипломатические контакты Сибирских Шибанидови Москвы можно тесно связать с событиями противосто-яния Московского государства и Большой Орды в 1480году. По мнению В.И.Буганова, сразу после разгрома вой-ска хана Ахмата в 1480 году, активизируется восточноенаправление внешней политики России [2, 3-4], что под-тверждается и первыми упоминаниями в сибирских ле-тописях наличия обмена посольствами между Москвой иТюменским ханством.
Наиболее важные детали, позволяющие частичнореконструировать историю Тюменского ханства с 1489 по1494 г., содержат данные двух посольств ко двору Ивана IIIиз Тюмени, что было связано с изменившейся полити-ческой обстановкой, позволившей наладить дипломати-ческий обмен между двумя государствами.
Постепенный уход с политической арены БольшойОрды втянул в орбиту влияния Российского государствамногие периферийные политические образования, сре-ди которых Казанское ханство, уже упомянутые ногаи ируководители Тюменского ханства. Формальным пово-дом для интенсификации дипломатических отношенийстало смещение казанского хана Али, которого поддер-живали ногайские бии и Сибирские Шибаниды. 1489-йгод был ознаменован новым витком официальных дип-ломатических контактов Москвы и Тюменского ханства.Однако лидеры Сибирских Шибанидов уже имели опытполитических контактов с Москвой, эти факты были за-фиксированы летописцами: «Того же лета (1481 год. –прим. авт.) царь Ивак послал посла своего Чюмгура кня-зя к великому князю Ивану Васильевичу и к сыну его ве-ликому князю Ивану Ивановичу с радостию, что супостататвоего есми убил, царя Ахмата. И князь великий послаИвакова чествовал и дарил и отпусти ко царю с честию, ацарю Иваку теш послали» [16, 95].
Таким образом, дипломатические отношения Моск-вы и Тюмени в источниках фиксируются под 1481 годом1.Однако нам неизвестно, сохранилась ли посольская книгаза данный год и существовала ли она вообще. В связи сэтим важно следующее замечание: «В целом можно зак-лючить, что в конце XV – начале XVI в. в государственномделопроизводстве уже существовали определенные тра-диции ведения посольской документации. Разрабатыва-лись способы её систематизации и предпринималисьмеры, обеспечивающие сохранность дипломатическихдокументов» [6, 9]. По мнению В.И.Саввы, ранние посоль-ские книги по большей части представляли из себя изве-стия летописей [15, 16]. Особенностью первых посольс-ких книг было и то, что в них отсутствовал статейный спи-сок послов [6, 9].
А.Г.Нестеров отмечает, «что «Сибирские дела» XV-XVI вв. были утрачены еще архивными чиновниками Рос-сийского государства в XVII в. – вероятно, «за ненадобно-стью», как потерявшие свое внешнеполитическое значе-ние» [10, 280]. Сей тезис может подтвердить и наличиедвух «ящиков» с «Тюменскими книгами при Иване царе»в описи Царского архива 1575-1584 гг. [1, 337, 339]. При-сутствуют «тюменские и сибирские ящики» и в более по-здней публикации [11, 348]. Как известно, документы, со-держащиеся в «ящиках», не сохранились.
Можно сделать краткий вывод о том, что, скорее все-го, московско-тюменские переговоры были записаны вкраткой форме, поскольку делопроизводство еще не по-лучило достаточного развития, однако в письменном ва-рианте данные сведения были утрачены.
Московско-тюменская дипломатическая перепискаполучила существенный импульс после вышеуказанныхсобытий 1487 года, т.е. смены политического руководствав Казанском ханстве, в результате которого промосковскаяпартий получила существенное усиление. Главным пред-логом для совместного посольства представителей Сибир-ских Шибанидов и элиты Ногайской Орды стала попыткадобиться освобождения плененного казанского хана.
Характерен обширный количественный состав по-сольства, а также его незапланированный визит, о чемсвидетельствует послание наместника Мурома князяФедора Хованского великому князю: «Государю велико-му князю Ивану Васильевичу всей Русии холоп твой, госу-дарь, Федорец Хованской челом бьет. Приехали, госу-дарь, к тобе послы из Нагайские Орды, Иваков слуга, азовут его Чюмгуром, да Мусин мурзин слуга, Адиком зовут,да Емгурчеев мурзин слуга, Тувачем зовут; а всех их, госу-дарь; а всех государь, двадцать да два. А сказывают, госу-дарь, Волгу возилися под Черемшаны; а провожал их, ска-зывают, Алказый, да Бегиш, да сын его Утеш, да Чет, даИкайсым Сегит; а провожали их, государь, полем до Суры,до Папулы, до Мордвина; а оттоле, государь, сказывают,ехали на князя на Ромодана, да на Кырданову Мордву, дана Саконы; а нынеча, государь, стоят за рекою против го-рода. И яз, государь, на сю сторону их возити не велел безтвоего ведома, и ты, государь, как укажешь» [12, 41].
Послание интересно тем, что позволяет определитьнекоторые особенности посольства. В частности, оно до-статочно обширно («двадцать да два»), также имело мно-гочисленную охрану («Алказый, да Бегиш, да сын его Утеш,да Чет, да Икайсым Сегит»). То, что посольство было вне-запным, подтверждает следующая фраза: «И яз, государь,на сю сторону их возити не велел без твоего ведома, и ты,государь, как укажешь». Очевидна растерянность наме-стника при появлении многочисленного посольства. По-мимо чисто дипломатических, посольство ставило своейцелью и улучшение торговых отношений, что косвеннодоказуется фразой из ответной грамоты великого князя:«И князь великий, того же месяца сентября, послал про-тив ногайского посла Юша подьячего, а велел ему даватипослу корм на стану по два борана, а овчины назад отда-вать. А на кони, на которых они идут, на десятеро лоша-дей четверть овса; а которые кони гонят на продажу, нате кони корму не давати» [12, 41]. Характерна фраза отом, что люди послов «кони гонят на продажу».
Непосредственно сам текст грамоты, а также весьпроцесс переговоров позволяет многое понять в систе-ме взаимоотношений Москва – ногаи – Тюмень. Вступле-ние «от Бреима царя» [14, 18], по мнению А.К.Бустанова,свидетельствует о том, что грамота была писана арабс-
1 По версии А.Г.Нестерова, Ибак-хан заключил союз с Ива-ном III еще в 1480 году [8; 14]. Детальный анализ раннегоэтапа взаимоотношений см. [13; 166-172].
43
ким письмом [3, 88] и, по всей видимости, была двуязыч-ной, или же, была переведена при получении.
На дифференцированный характер переговоров ука-зывает и применяемый послом от Ибака Чюмгуром тер-мин «брат». По мнению Л.А.Юзефовича и А.К.Бустанова,«термин “брат” в русском дипломатическом обиходе XV–XVII вв. выражал политическое равноправие» [19,16-18;3, 89]. Однако тщательный анализ послания не позволя-ет определить дипломатический статус Шибанидов какравноправный. Ответное послание от великого князязаключило в себя определенные требования для при-знания политического статуса «братства»: «…похочет снами Ивак царь дружбы и братства, а мырзы с нами друж-бы похотят, и они бы то взятое, головы и иной грабеж весь,что Алказый, да Касим Сеит, да Бегиш, да Утеш, да Тувачевбрат…и иной грабеж весь, велели отдати» [14, 21]. Одна-ко, как нам известно, эти условия Ибаком выполнены небыли, так что о статусе равноправия не могло быть и речи.
Грамоты показывают также иерархический статустюрко-татарских ханств в глазах Московского государства,что отразилось на дипломатическом статусе послов. Вчастности, Чюмгуру в посольской книге придан статус по-сла, тогда как представители Ногайской Орды Адык и Ту-вач названы «человеками» [14, 17-18].
Вступительная «Ивакова царева грамота» содержиттакже несколько характерных замечаний, по-видимому,оказавших влияние на весь ход переговорного процесса.Указание А.К.Бустанова, что слово «поклон» в грамотеобозначает не приветствие, а желание «мира» [3, 89] сви-детельствует о некоей дистанцированности двух госу-дарств, что и понятно, поскольку официальным поводомдля прибытия стал вопрос о выдаче «брата» Алегама,бывшего хана Казани. Самый факт выдачи нежелатель-ного для Москвы хана вызывал определенный холод впереговорах.
Заслуживает внимания анализ и титул посла Чюмгу-ра, записанного в грамоте как «Базарьский князь». Поверсии А.К.Бустанова, данный эпитет связан с захватомИбаком орда-базара сразу же после убийства хана Ахма-та [16, 95]. Практически все исследователи связываюторда-базар с кочевой ставкой, при которой могли нахо-диться купцы [7, 92; 3, 89 и др]. А.Г.Нестеров указывает,что при орда-базаре мог находиться центр чеканки мо-нет [9, 61]. О функционировании орда-базара на террито-рии Тюмени в источниках нет ни слова2, однако, Чюмгурмог вполне представлять торговую прослойку Чимги-Туры.Указания на частично торговый характер посольствабыли сделаны чуть выше, однако, судя по всему, торго-вые вопросы носили второстепенный характер, но темне менее кое-какие выгоды послы все же получили, что ибыло зафиксировано в ответной грамоте: «..как пошлютцарь и мырзы к великому князю и кто с ними пойдут тор-говые люди, ино бы им в великого князя земле задержкине было да и пошлин бы с них не имали» [14, 22]. Можносделать вывод, что торговля Шибанидов и Москвы носи-ла спорадический характер, т.е. она могла сопровождать-ся прибытием посольства.
Посольство 1489 года не добилось сколько-нибудьзначительных результатов. Позиция сторон носила не-примиримый характер, и поставленные цели не быливыполнены. Однако итоги визита оказались продуктив-ными для правящей элиты Ногайской Орды, главной це-лью которой служило устанновление прочных диплома-тических контактов с соседними государствами.
Второе посольство Ибак-хана, очевидно, было свя-зано с изменившейся политической обстановкой в реги-оне, в частности, с неудавшимся совместным походомногаев и шибанидов под Хаджи-Тархан осенью 1492 года.Вопрос о датировке похода должен быть тесно увязан и сдатированием грамоты от Ибак-хана. По данным русско-крымской переписки поход можно отнести к лету-осени1492 года: «Да еще слово то: из Орды человек наш при-ехал Шиг Ахмет до Сеит Магмут цари. А Нагаи Муса даЯмгурчей мурза Ивака да Мамука цари учинити идут, вАстрахани были пошли, и как слышевши назад к Тюменипокочевали, так ведал бы еси» [12, 168].
В посольских книгах не менее четко датируется иочередной дипломатический визит князя Чюмгура в Мос-кву: «Лета 7002, приехал к великому князю от царя Ивакаот нагайского с грамотою человек его Чюмгур» [12, 198;14, 48]. Таким образом, посольство в целом можно дати-ровать концом 1493 – началом 1494 гг.
Взаимосвязь двух событий: посольства и неудачно-го похода нашли оживленный интерес среди исследова-телей. А.Г.Нестеров, суммируя деятельность Ибак-хана,считает его политику «имперской», а также «последнейпопыткой «воссоздания Джучидской державы» [8, 15].Данной точки зрения придерживается Р.Ю.Почекаев, счи-тающий данный поход попыткой Ибак-хана захватить тронЗолотой Орды [15, 234], С вышеуказанными мнениямичастично соглашаются Д.Н.Маслюженко [7, 100], И.В.Зай-цев [5, 48], В.В.Трепавлов [18, 118]. Особняком стоит вер-сия А.П.Григорьева, сообщающего, что «Шибанид Ибакзагорелся желанием, по примеру своих далеких предковКаганбека и Арабшаха, воцариться в Новом Сарае и со-общил о своем намерении Ивану III». При этом исследо-ватель датирует сам поход 1494 годом [4, 178], несмотряна то, что источники сообщают о походе в 1492 году.
Полярность мнений была вызвана сообщением изграмоты Ибак-хана: «Ибряимово слово. Великому князюИвану, брату моему, поклон. После того ведомо бы было,слово то стоит: промеж Ченгосовых царевых детей, нашотец Шибал царь стоит с твоим юртом в опришнину, и други брат был; от тех мест межи нас ту Атамыров до Номога-нов юрт ся учинил, а мы учинили далече, а с тобою межнас добрые ссылки не бывало. Ино мне счастье дал Бог,Тимер Кутлуева сына убивши, Саински есми стул взял; даещо сам с братьями и с детьми условившыся, а великогокнязя детей на княженье учинив, на отцов юрт на Волзепришед стою» [12,198-199; 14, 48-49].
Под «Номогановым юртом» И.В.Зайцев понимаетеще одно название Большой Орды [5, 49-50], и с даннойинтерпретацией следует согласиться. А.П.Григорьев, ос-новываясь на неверных датировках совместного походаногаев и Ибак-хана, а также присланной в Москву грамо-ты, считает, что это своеобразная угроза, демонстрациясилы, так и не осуществленная лидером Сибирских Ши-банидов [4, 177-178].
Стоит отметить, что данный абзац действительнопредставляется спорным, однако пути решения могутбыть следующими. Начало послания является стерео-типным по отношению к предыдущей грамоте 1489 года:упоминание терминов «брат» и «поклон» могут служитьконстатацией традиционных политических установокШибанидов по отношению к Москве. Упоминание о «Шы-бале царе» и взятии «Саинского стула», на наш взгляд,тесно увязывается со следующей частью послания: «Даеще Алягама царя как дашь нам, после того твоему не-другу недруг стою и твоему друг другу стою» [12, 199; 14,49]. Здесь мы наблюдаем очередной призыв Ибак-хана косвобождению казанского хана Али и одновременно на-поминание об «услуге», оказанной представителямиЧимги-Туры и ногаев в 1481 году по низвержению Ахмата.
2 Версия А.Т.Шашкова, что орда-базар разграбили на Каме«шилники (ушкуйники) устюжанина Андрея Мишнева» [20,12] не представляется достаточно обоснованной из-зафрагментарности упоминания в летописи.
44
Поход к Хаджи-Тархану в грамотах никак не огова-ривается, да и в целом, стоит отметить, что переговорыне носили продолжительного характера, что согласуетсяи с краткостью грамот. В ответном послании подчеркива-ется стремление Ивана III к дальнейшему сотрудниче-ству с Ибак-ханом и обмену дипломатическими посоль-ствами: «А хотели есми к нему послати своего человека,да нынечя есмя своего человека с тобою вместе не успе-ли послати; а вперед аже даст Бог хотим своего человекак твоему государю, к Иваку царю послати, чтобы дал Богмеж нас братство и дружба была и люди бы наши межнас ездили нашего здоровья видети» [12, 199; 14, 49].
В целом можно придти к заключению, что посоль-ство 1493-1494 гг. не добилось каких-либо конкретныхцелей, которые, однако же, практически (за исключени-ем вопроса о хане Али) не были озвучены в представлен-ной грамоте. Не было придано сколько-нибудь значенияи походу 1492 года, а в целом доброжелательный тондипломатических документов может свидетельствоватьо ровных отношениях между двумя государствами. Дан-ный вывод не позволяет согласиться с мнениями иссле-дователей относительно желания Ибак-хана проводить«имперскую» политику или пытаться восстановить бы-лое могущество Золотой Орды. В противном случае тонпереговоров был бы совсем иным.
Можно согласиться с выводом А.К.Бустанова, чтопослания носят в себе отпечаток традиций золотоордын-ского делопроизводства [3, 94], однако позже, по-види-мому, при составлении посольских книг они были пере-ведены на русский и адаптированы под российское де-лопроизводство, в результате возникли спорные момен-ты в тексте послания 1493 года, неоднозначно трактуе-мого исследователями.
Материалы посольских книг существенно дополня-ют и развивают данные русских летописей, позволяя по-нять всю сложность взаимоотношений Тюменского хан-ства и Московского великого княжества и попытатьсяопределить роль первого в системе международных от-ношений тюрко-татарских государств. Тексты посланийсодержат указания на особенности взаимоотношенийСибирских Шибанидов и Ногайской Орды, позволяютнаметить актуальные экономические вопросы, просле-дить традиции золотоордынского делопроизводства ивлияние его на становление российского.
Список источников и литературы1. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российскойимперии. - Т. I. 1294-1598. - СПб., 1836.2. Буганов В.И. Предисловие // Посольская книга по связямРоссии с Ногайской Ордой. 1489-1508 гг. - М., 1984.3. Бустанов А.К. Послание Сибирского хана Сайид Ибрагимав Москву 1489 г.: опыт анализа переводного документа // Культурология традиционных сообществ: Материалы IIВсерос. науч. конф. молодых ученых. – Омск, 2007.4. Григорьев А.П. Шибаниды на золотоордынском престоле// Ученые записки ЛГУ. № 417. Серия востоковедческих наук.- Вып.27. 1985.5.Зайцев И.В. Астраханское ханство. - М., 2006.6. Лукичев М.П., Рогожин Н.М. Посольская книга по связямРоссии с Ногайской Ордой 1489-1508 гг. как историческийисточник // Посольская книга по связям России с НогайскойОрдой. 1489-1508 гг. - М., 1984.7. Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостеп-ного Притоболья в средние века. - Курган: Изд-во Курганско-го гос.ун-та, 2008.8. Нестеров А. Г. Государства Шейбанидов и Тайбугидов вЗападной Сибири в XIV-XVII вв.: археология и история:Автореф. ... дис. канд. ист. наук. - М., 1988.9. Нестеров А.Г. Монеты Сибирских Шейбанидов // IIБерсовские чтения: материалы научной конференции. -Екатеринбург, 1994.10. Нестеров А.Г. Документы Сибирских Шейбанидов XV-XVI
вв. // Восток-Запад: диалог культур Евразии. Проблемысредневековой истории и археологии. - Вып.4. - Казань, 2004.11. Опись Государственного архива конца XVI в. // Археогра-фический ежегодник за 1974 год. - М., 1975.12. Памятники дипломатических сношений древней Россиис державами иностранными. Т. 1. Памятники дипломати-ческих сношений Московского государства с крымской иногайской ордами и с Турцией с 1474 по 1505 год, эпохасвержения монгольского ига в России // Сборник Импера-торского Русского Исторического общества. - Т. 41. - СПб.,1884.13. Парунин А.В. К вопросу об обстоятельствах смертихана Большой Орды Ахмата в 1481 году // Золотоордынскаяцивилизация: Сборник статей. - Вып. 3. - Казань, 2010.14. Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой1489-1508 гг. - М., 1984.15. Почекаев Р.Ю. Цари Ордынские. Биографии ханов иправителей Золотой Орды. - М., 2010.16. ПСРЛ. Т.37. Устюжские и вологодские летописи XVI-XVIIIвв. - М., 1982.17. Савва В.И. О Посольском приказе в XVI в. - Харьков, 1917.18. Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. - М., 2002.19. Юзефович Л.А. «Как в посольских обычаях ведется…»Русский посольский обычай конца XV – начала XVII вв. – М.,1988.20. Шашков А.Т. Начало присоединения Сибири // Проблемыистории России. Вып.4. Евразийское пограничье. - Екате-ринбург, 2001.
Я.Г. Солодкинг. Нижневартовск
«СИБИРСКОЕ ЦАРСТВО И КНЯЖЕНИЕ»В ИЗОБРАЖЕНИИ САВВЫ ЕСИПОВА
И РЕДАКТОРОВ ЕГО ЛЕТОПИСИ375 лет тому назад, 1 сентября 1636 г., по свиде-
тельству дьяка Тобольского архиерейского дома СаввыЕсипова, он завершил работу над «Повестью о Сибири ио сибирском взятии». Примечательно, что эта официаль-ная летопись, пусть и местного масштаба, начинается нес рассказа об экспедиции Ермака, а (вслед за очеркомгеографии и этнографии «Закаменьской страны») сооб-щениями о смене «поганых» царей и князей, т. е. исто-рия «Сибирской земли» со времени утверждения тамрусских считается софийским приказным продолжени-ем татарского владычества в необозримом крае. Напом-ним в данном связи о важном наблюдении А. М. Панчен-ко и Б. А. Успенского: «в плане государственном» Москва«перенимает бразды правления у поверженной Орды.«Агарянский» и «бусурманский» оттенок этой ориента-ции … не смущал русских людей» [22, 66]. (Взгляд, чтоЕсиповская летопись Основной редакции (далее – ЕЛ)целиком пронизана подчеркиваниями того, что Сибирь«взята бысть от православных християн» у «неверных»[8,128], следует признать односторонним).
В аннотации, предпосланной оглавлению ЕЛ, ее«слогатель» уверяет читателей, что «о царстве же Си-бирском и о княжении написахом ино с летописца т[ата]-рского, ино же достоверными мужы испытовах». Закан-чивая же свое «Сказание», дьяк трех кряду тобольскихархиепископов заметил: «ино ж от достоверных муж ис-пытах, иже очима своими видеша и быша в та лета» [24,42, 72], что, между прочим, заставляет отклонить мнениеА. И. Костанова об обращении первого известного нам поимени сибирского книжника к документальным матери-алам [16, 26, 61].
Многие исследователи думали, что он располагаллетописями сибирских татар [1, 531, 534, 545; 14, 31; 15,102, 104; 16, 61; 17, 361, ср. 363; 25, 316; 29, 69]. Поройсчиталось, что эти летописи использовались еще в пред-
45
шествовавшем ЕЛ «написании», врученном ветеранами«Сибирского взятия» первому тобольскому архиеписко-пу Киприану, синодике «ермаковым казакам» (далее –С) или гипотетическом своде Киприана [18, 394, 398; 20,157; 28, 134]. Г. Л. Файзрахманов не исключал, что источ-никами сибирских летописей являлись письменные со-чинения местных татар [30, 110]. На взгляд Е.И. Дергаче-вой-Скоп, татарские летописцы, которые имелись в рас-поряжении Есипова, – это родословие Тайбугидов, со-ставленное при жизни Едиге [7, 88]. Такое суждение пред-ставляется маловероятным, поскольку в ЕЛ приведеныдалеко не только генеалогические сведения о правите-лях Сибири до конца XVI в. Следует отклонить и мнение,будто С – чуть ли не единственное произведение, кото-рое держали в руках сибирские летописцы [11, 168].
С.В. Бахрушину казалось, что «трафаретный рассказ(русских книжников. – Я.С.) о гибели Ермака в волнахВагая целиком построен на туземной легенде». Выдаю-щийся историк отмечал при этом, что в отличие от Стро-гановской летописи в имеющей с ней общий протографЕЛ нет ссылки на «глаголание» «от язык». С.В. Бахрушинпришел к выводу о татарском происхождении преданийо смерти Ермака, сообщенных У.М. Ремезову калмыцкимтайшой Аблаем. По заключению ученого, Есипов же поустным татарским преданиям писал о генеалогии сибир-ских властителей и Средней Азии как убежище Сейдяка– наследника Бекбулата и Едигера. Ссылка же автораЕЛ на татарские источники в описании гибели КучумаС.В. Бахрушину представлялась литературным приемом[2, 27, 30; 3, 199; 4, 17, 20 – 21, ср. 28]. Ряд других ученыхтоже полагает, что татарские летописи, упоминающиесяв «сложении» владычного дьяка, – это устные предания,легенды [9, 122 – 123; 19, 129, 140. Ср. 5, 5; 6, 85; 13, 177].Так, И.В. Ерофеева находит, что из «устных преданий тюр-коязычных народов Сибири Есипов почерпнул «сведе-ния о династии сибирских правителей – Тайбугидов», ге-неалогии сибирской ветви Шейбанидов, выезде Кучумаиз Казахской орды [10, 19 – 20].
Заметим, что свое сочинение дьяк Софийского доманазывал летописью [24, 43, 69, 72]. Это обстоятельство,между прочим, склоняет к выводу о том, что татарскиепроизведения данного жанра, упоминаемые в самомначале ЕЛ, – не предания, а письменные памятники.
Они в той или иной форме могли сделаться извест-ными «архиепископлю» дьяку (если не его анонимномупредшественнику, сочинившему «писание») благодаряблизкому к Софийскому дому голове юртовских тобольс-ких татар либо кому-то из его подчиненных.
Повествуя во 2-й главе «гистории» о сибирских «ца-рех и князех», Есипов сообщает о правившем на Ишимецаре Оне «Моаметова закону». После убийства Она раз-бойниками во главе с Чингисом Тайбуга – сын бывшегогосударя – был спасен своими слугами, а узнав об этом,захвативший царство Чингис «великою честию почте его(Тайбугу. – Я.С.), дарует же сему княжение и власть в лю-дех». Чингис отпустил Тайбугу по его просьбе с большимвойском в Прииртышье, где «живяху чюдь», и сын Онапокорил обитателей берегов Иртыша и Оби и вернулся«с радостию», удостоившись чести «наипаче» от Чинги-са. Последний разрешил Тайбуге отправиться туда, кудахочет, и тот «изыде … со всем домом своим» на Туру, гдеосновал город Чингиден (ныне Тюмень), в котором спус-тя много лет и умер. Если верить Есипову, Тайбуге насле-довал сын Ходжа; его преемником стал сын Мар, жена-тый на сестре казанского царя Упака. Убив зятя, тот дол-го «градом облада», а сыновья Мара Адер (Ядер) и Яба-лак умерли своей смертью. По сведениям Есипова, на-следник Адера Мамет умертвил Упака, разрушил Чинги-ден и «внутри» Сибирской земли «поставил» на Иртыше
город Сибирь, где скончался после многолетнего цар-ствования; тем самым «пресечеся» царство на Ишиме[24, 46 – 47].
Д. М. Исхаков относит к числу источников сибирскоголетописания дастан «Ильдан и Гульдан», ибо в этих про-изведениях упоминаются одни и те же правители – Чин-гис, Ансам, Чангы би (имя которого носил основанныйТайбугой город) [14, 31 – 32]. Однако, по наблюдениюГ.Л. Файзрахманова, в указанном дастане, отражающемсудьбы Ишимского ханства, преемником Ансама (Онсо-ма) считается не Тайбуга, как в ЕЛ, а Иртышак (о чемсказано и в ремезовской «Истории Сибирской») [30, 128].Кроме того, Есипов умалчивает про Чангы. Не отличает-ся точностью, как мы видели, и утверждение, будто в пред-ставлении софийского дьяка Тайбуга наследовал Онсо-му (Ону, Ансаму) [30, 128], который был якобы ногайскогопроисхождения [23, 96].
С точки зрения Д. М. Исхакова (отметившего, что упо-минаемый в ЕЛ Упак – это правитель Тюменского хан-ства Шейбанид Сайид-Ибрагим (Ибрахим) или Иван, Ибак[13, 175, 177]), сибирские летописцы ошибочно называ-ли Тайбугидов царями вместо князей [12, 133]. Однако весиповских «тетрадях» царями (помимо Кучума) счита-ются Он и Мамет, а их преемники наделяются княжески-ми титулами [24, 46, 47, 55, 59, 64, 66 – 68].
Согласно 4-й главе летописи «Сибирское царство икняжение, и о взятии (русскими «Кучумова» ханства. –Я.С.), и о Тоболске граде» (таково одно из авторских оп-ределений ЕЛ [24, 72]), Мамету (который, о чем узнаемнакануне, велел заложить город в честь победы над ка-занским царем, «храбрость свою показуя, и повеле на-чалным градом звати его», что дало название Сибири)наследовал сын Ябалака Агиш, тому – сын Мамета Ка-зым, затем правили его дети Етигер (Едигер) и Бекбулат,убитые пришедшим степью из Казачьей орды Кучумом;сыну же Бекбулата Сейдяку удалось спастись, и он был«изведен в Бухарскую землю». Позднее Сейдяк, узнав озанятии оставленного ермаковцами города Сибири хан-ским сыном Алеем, «собрася со всем домом своим и своинскими людми», овладел этим городом, вернув себеотцовскую вотчину, но вскоре попал в плен в Тобольске(куда приехал на переговоры с его воеводой Д. Чулко-вым) и поневоле очутился в Москве [24, 48, 64, 66 – 68].
Во вторичных редакциях «Сказания» Есипова егосообщения о сибирских царях и князьях иногда подвер-гались редактированию. Так, в Румянцевском летописцеобоих видов утверждается, что Он правил на Оби [24, 32,38] (а не Ишиме). В Забелинской летописи, которуюЕ.К. Ромодановская определяет как «беллетристическуюобработку» сочинения Есипова, поясняется, что Чингисубил Она «су служебники своими», Тайбугу укрыл «нектоот простых людей». Повествование, разделенное уже наглавы «О промышлении царевича Тайбуги», «О державеТайбуги князя и о сотворении града над Турою рекою»,содержит известия о том, что «Чингия» сын Она просилотпустить восвояси, «паде на ногу, глаголюще: “Господи-не царю Чингие, дай ми по моей воли, яко же аз хощуидти и там бо пребывати имам”, а Мамет, убив Упака,разрушил его город в Казанском царстве и гр[а]д очис-тил» (очевидно, основанный Тайбугой на реке Туре) ивыстроил новый – Сибирь «на край реки Иртиша» [24,107, 108].
В Лихачевской разновидности ЕЛ предшественни-ком Она объявляется царствовавший на Иртыше Моаме-он, Чингис называется «зело предивным» городом, со-общается, что Тайбуга с женой просили Чингиса отпус-тить их куда захотят, этот хан завещал свое «имение» един-ственной дочери и зятю, Ходжу убили в период войны сбухарским царем Амиром, Упак «лестию» очутился в Чин-
46
гидене, где затем у Упака жили дети Мара, Мамет «про-звался» царем, поскольку победил Упака, новая столи-ца возникла на реке Сибири «на месте прекрасном, гла-голема Ябалак». В Лихаческом летописце царем названи преемник Мамета Казым (о котором в ЕЛ умалчивает-ся); Казым (Казый), получается, наследовал и Агишу (сынудяди Казыма Ябалака); этого Казыма «убили свои егоближнии люди», с которыми, разорившими улусы Казы-ма, расправились его дети и другие родственники [24,118 – 119]. Некоторые подробности, сохраненные в дан-ной разновидности ЕЛ, имеют фольклорное происхож-дение или же возникли вследствие непонимания редак-тором смысла первоначального текста. Так, имя Моамео-на объединяет, как представляется, имена Моамета ипридерживающегося его «закона» Она. Явно фантастич-но известие о том, что у Чингиса (если отождествлять его ссоздателем Монгольской империи) была лишь одна дочь,которая наследовала его богатства вместе с Тайбугой.
В Погодинском летописце (далее – ПЛ) – самой лю-бопытной из вторичных разновидностей есиповского«сложения» – сказано, что Чингис (сравниваемый с Те-мир-Аксаком) «нашед напрасно (внезапно. – Я.С.) на царяОна», Тайбугу Чингис нарек первым князем «пот собою»,и послал его по Иртышу «вниз к Обе реке», Чингис (а неТайбуга, как в других летописях) долго царствовал (вплотьдо смерти) [24, 129]. Эти свидетельства являются резуль-татом осмысления «есиповского» текста и лишний разобнаруживают интерес анонимного «списателя» к гео-графии Северо-Западной Сибири.
А. Т. Шашков (считавший вслед за Е. К. Ромодановс-кой ПЛ первичным относительно ЕЛ) находил, что разсогласно «Повести летописной, откуду начяся царствобисерменское в Сибири …» государство на Ишиме пре-кратило существовать с кончиной Чингиса, а по свиде-тельству Есипова, – со смертью Мамета, владычный дьякиз-за невнимательности «объединил» этих двух прави-телей [32, 124]. Точнее, как читаем в ЕЛ, Ишимское цар-ство «пресечеся» тогда, когда Мамет, убив Упака, разру-шил свою прежнюю резиденцию Чингиден и «внутри»Сибирской земли, на Иртыше, «поставил» город Сибирь[24, 47]. Если в ПЛ, где, с точки зрения А.Т. Шашкова, ис-пользованы татарские письменные источники (в частно-сти, летописи) и татарский фольклор, первыми преемни-ками Ибака (Упака) названы Магмет (Мамет), Агиш и Ка-зый, то в грамоте Федора Ивановича Кучуму (1597 г.) –Мамет и Казый. Исследователь предполагал, что эти дан-ные восходят к общему источнику – сведениям, получен-ным Посольским приказом от сподвижника Ермака Чер-каса Александрова во время казачьей поездки в Москвуна следующий год после «Сибирского взятия» [32, 132 –133]. Но Мамет, Агиш и Казый названы властителями та-тарского «царства» в «Закаменьской стране» и в ЕЛ, а вПосольской «избе» о двух из них могли знать по доку-ментам первой половины XVI в., а вовсе не от «ермако-вых казаков» (Черкаса же считать автором протографаПЛ нам, в отличие от Е.К. Ромодановской и А.Т. Шашкова,кажется опрометчивым). Нет и достаточных основанийполагать, что известия о «дорусской» Сибири полученысоздателем ПЛ от ее жителей в конце XVI столетия [17,363; 26, 46; 27, 229].
Сведения ЕЛ о сибирских царях и князьях на исходеследующего века были повторены в распространенной ре-дакции памятника, зачастую открывающей сложившийся вТобольске обширный летописный свод, порой со стилисти-ческой правкой и иными наименованиями. Так, здесь чита-ем «Апдер», «Обдер», «Агищь», «Агыш», «Агышь», «Ягыш»,«Магмет», «Махмет», «Етигер», «Гетигер», «Тайбунга»,«Жаджа» [24, 179, 235 – 236, 303 – 304, 357, 358].
В рассказе о правителях Сибири «дорусской» эпохи
сильно отличается от ЕЛ «История» С.У. Ремезова [23,96]. Широко обращавшийся к фольклору тюркоязычныхнародов [10, 23] тобольский книжник петровского време-ни повествует о том, что хан Онсом, кочевавший по бере-гам Ишима, жил в его устье, где были «град на КрасномЯру Кызыл-Тура и трое окопи». Следующего хана Ирты-шака (по имени которого названа река) тюменский царьЧингыз «войною» «преодолел», а еще одного сибирско-го царя Саргачика пленил Кучум. Как читаем в Ремезовс-кой летописи, Мамет, победив казанского царя Алима, вустье Сибирки «град Кашлыкъ учинилъ». Помимо этогосообщения, с хорошо известной автору «Истории Сибир-ской» ЕЛ (где назван не Алим, а Упак) нетрудно сблизитьупоминания о царях Агише, Мамете и его детях. Но средиправителей страны, со временем ставшей частью Мос-ковского государства, С.У. Ремезов перечисляет такжеАбалака Агишева (у Есипова же указан сын ЯбалакаАгиш), сына Мамета царя Сенбахту, царя Саускана (двоепоследних по ЕЛ неизвестны), а Едигер и Бекбулат пред-ставлены как «царя и князи» [21, 551, 552, 563, 566, ср.700]. Приведенные оригинальные свидетельства скореевсего запечатлели устные предания татар.
А. Т. Шашкову представлялось, что по источнику та-тарского происхождения С.У. Ремезов писал о КучумеМуртазелеевом сыне [32, 159, прим. 70]. Однако так си-бирский «салтан» именуется и в ЕЛ [24, с48, ср. 32, 38, 81,108, 119, 122, 125, 130].
Итак, Есипов и редакторы его «Повести», быстросделавшейся популярной, особонно в «далечайшей го-сударевой вотчине», а также С.У. Ремезов, рассказываяо правителях Сибири до появления там «дружины» Ер-мака, прибегали к какой-то татарской летописи, а чащевсего – к устным преданиям коренного населения этойогромной страны.
Список источников и литературы1. Адрианов С. К вопросу о покорении Сибири//Журнал Мини-стерства народного просвещения. - 1893. - № 4. Отд. 2.2. Бахрушин С. В. Научные труды. - М., 1955. - Т. 3. - Ч. 1.3. Бахрушин С. В. Научные труды. - М., 1959.- Т. 4.4. Бахрушин С. Туземные легенды в «Сибирской истории»С. Ремезова//Исторические известия. - 1916. - № 3 – 4.5. Буганов В. И., Зимин А. А. Поход Ермака на Казань ивозникновение исторических песен о Ермаке//Уч. зап. Казан.гос. пед. ин-та. - 1967. - Вып. 50.6. Гольденберг Л. А. Изограф земли Сибирской: Жизнь итруды Семена Ремезова.- Магадан, 1990.7. Дергачева-Скоп Е. И. Генеалогия сибирского летописания:Концепция, материалы. - Новосибирск, 2000.8. Демин А. С. Писатель и общество в России XVI – XVIIвеков: Общественные настроения. - М., 1985.9. Демин М. А. Коренные народы Сибири в ранней русскойисториографии. - СПб.; Барнаул, 1995.10. Ерофеева И. В. Сведения о казахском народе и Казахста-не в российских летописных и дипломатических источни-ках XVII – первой трети XVIII века//История Казахстана врусских источниках XVI – XX веков. - Алматы, 2005. - Т. 2.11. Ислам на краю света: История ислама в ЗападнойСибири: В 3 т. - Тюмень, 2007. - Т. 1: Источники и историог-рафия/Под ред. А. П. Яркова.12. Исхаков Д. М. К вопросу о клановой принадлежностиТайбугидов//Русские старожилы: Материалы III Сибирскогосимпозиума «Культурное наследие народов ЗападнойСибири». - Тобольск; Омск, 2001.13. Исхаков Д. М. К проблеме этнических и политическихсвязей тюрок Западной Сибири и Волго-Уральского регионав XV в.//Тюркские народы: Материалы V Сибирского симпо-зиума «Культурное наследие народов Западной Сибири». -Тобольск; Омск, 2003.14. Исхаков Д. М. Об одном тюркском источнике сибирскоголетописания//Русские: Материалы VII Сибирского симпозиу-ма «Культурное наследие народов Западной Сибири». -Тобольск, 2004.
4715. Казаки Тюменского региона от Ермака до наших дней(краткий очерк). - Тюмень, 2010.16. Костанов А. И. Документальная история Сибири: XVII –середина XIX вв. - Владивосток, 2007.17. Литературные памятники Тобольского архиерейскогодома XVII века/Изд. подг. Е.К. Ромодановская, О. Д. Жура-вель. - Новосибирск, 2001.18. Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-истори-ческое значение. - М.; Л., 1947.19. Мирзоев В.Г. Историография Сибири (XVIII век). -Кемерово, 1963.20. Мирзоев В. Г. Присоединение и освоение Сибири висторической литературе XVII века. - М., 1960.21. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. - М.,1989. - Кн. 2.22. Панченко А. М., Успенский Б. А. Иван Грозный и ПетрВеликий: концепции первого монарха//Труды Отдела древне-русской литературы. - Л., 1983. - Т. 37.23. Парунин А. В. Княжеская династия Тайбугидов. Обзористочников и историографии//Зыряновские чтения:Материалы научно-практ. конф. «V Зыряновские чтения». -Курган, 2007.24. Полное собрание русских летописей. М., 1987. Т. 36.25. Ромодановская Е. К. Есипов Савва//Словарь книжников икнижности Древней Руси (далее – СККДР). - СПб., 1992. -Вып. 3. - Ч. 1.26. Ромодановская Е. Тобольские летописцы//Родина. - 2004.Спец. вып.: Тобольск – живая былина.27. Ромодановская Е. К. Черкасс Александров//СККДР. - СПб.,2004. - Вып. 3. - Ч. 4.28. Сутормин А. Г. Ермак Тимофеевич (Аленин ВасилийТимофеевич). - Иркутск, 1981.29. Тыжнов И. Новейшие труды по истории покоренияСибири//Сибирский сборник. - Иркутск, 1898. - Вып. 1.30. Файзрахманов Г. Л. Неизвестные источники по историисибирских татар// Сулеймановские чтения: Материалы IXВсерос. научно-практ. конф. - Тюмень, 2006.31. Файзрахманов Г. Л. Русские источники истории средне-вековых татарских государств Западной Сибири// Сулейма-новские чтения: Материалы и докл. Х Всерос. научно-практ.конф. - Тюмень, 2007.32. Шашков А. Т. Погодинский летописец и начало сибирско-го летописания//Проблемы истории России: от традицион-ного к индустриальному обществу. - Екатеринбург, 1996.
С.С. Тихоновг. Омск
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОИЗУЧЕНИЮ СРЕДНЕВЕКОВЫХ
ГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИИстория Западной Сибири изучена мозаично. Си-
бирь в годы Великой Отечественной войны, заселение иосвоение ее русскими, формирование системы управле-ния этой территорией и многие другие темы сибирскойистории после прихода русских изучены неплохо. Сибир-ские древности, имеются ввиду археологические, вплотьдо развитого средневековья, не являются исключением;по крайней мере, древности некоторых районов, особен-но в ее южно-таежной и северной лесостепной частях,хорошо известны. Что касается истории Сибири XV – кон-ца XVI веков, то здесь дала обстоят хуже.
Привычно предстает взору следующая картина - си-бирские жители не знали света цивилизации, занима-лись традиционными видами хозяйства, молились идо-лам, но кое-где начали создаваться предгосударствен-ные образования (известны были князцы среди остякови самоедов, а также возглавляемые ими объединения),ну а русским недолго противостояло аморфное ханствоКучума. После его разгрома начинается новая историяСибири.
Похоже, что период XV – конца XVI веков - времениобразования ранних государственных/предгосударствен-ных объединений, проникновения ислама, формирова-ния прочных торговых связей сибиряков с Китаем, госу-дарствами Средней Азии, Восточной Европы - был изу-чен слабо. Вероятно, должны быть и источники для егоизучения, но миру они не предъявлены в полной мере.Письменных свидетельств практически нет, археологи-ческие материалы малочисленны, достоверных этногра-фических сведений нет, то же можно сказать и о картог-рафических данных.
При подготовке данной публикации планировалосьрассмотреть источники, которые бы позволили охарак-теризовать вышеуказанный хронологический отрезок. Нооказалось, что вопросы источниковедения средневеко-вых сибирских государств неразрывно связаны с общимипроблемами источниковедения. Ну а поскольку нельзярешить частных вопросов, не разобравшись с общими,рассмотрим проблемы источниковедения в целом, и си-бирских государств в частности.
Время от времени в докладах или в ходе дискуссиина научных форумах специалисты обсуждают вопросыпредметно-объектной области археологических, этногра-фических, исторических исследований, методологии по-добных работ, и конечно проблемы источниковедения.Чаще всего подобные выступления, как на заседаниях, таки в кулуарах, заканчиваются пожеланиями четко опреде-лить предмет исследований, разобраться с терминологи-ей, и наконец, определить, что же является источником висследованиях на исторические темы. Иными словами,предполагается, что для ведения подобных работ нужныисточники и специальные методики их обработки.
Представим, что цель науки - создание моделеймироздания или его фрагментов на основе полученных входе исследований и продемонстрированных мировомусообществу достоверных и объективных, систематизиро-ванных и теоретически обоснованных научных сведенийкак о мироустройстве в целом, так и о его частностях. Этисведения должны быть доступны не только ученым, но ивсем желающим быть в курсе современных научных раз-работок, хотя и не всегда последними могут быть поняты.Для получения новых знаний научные коллективы илиотдельные ученые должны:
• определить область поиска и поставить задачи ис-следования;
• выявить и/или получить необходимые для изуче-ния источники;
• обработать их в соответствие с принятыми/разра-ботанными процедурами.
Естественно, что науки, как фундаментальные, так иприкладные, имеют собственные области поиска, источ-ники и методы их обработки. В данном случае не будемкасаться области предмета научных исследований, ме-тодологии и методики научных дисциплин, посколькуниже речь пойдет об источниках. Однако, полагаю, чтокаждая наука, раздел науки, научная дисциплина, науч-ное направление изучает часть окружающего нас мираили представления о нем на основании каких-либо дан-ных/сведений, объективных или субъективных, получен-ных с помощью специальных процедур. Изучаемыеобъекты действительности, а скорее, их свойства и про-явления, или факты сознания, содержащие информациюоб этой действительности, и будут источниками. Вероят-нее всего, мы не получаем полной и исчерпывающейинформации об изучаемой действительности, что явля-ется следствием несовершенства используемых методовисследований, особенностей восприятия данных учены-ми и ряда других причин. В этом легко убедиться, вспом-нив концепции представителей естественных наук, где
48
ученые получают данные с помощью сложной аппарату-ры, и где субъективизм ученых значительно меньший, чемсреди гуманитариев. Вывод из этой части следующий: опи-раясь на имеющиеся источники, можно изучать окружаю-щий нас мир, но представления о нем будут неполными.Полагаю, что неполнота, скорее всего, гносеологическая.Но с другой стороны, ведь и не все источники нам доступ-ны, поэтому есть и онтологическая ее составляющая.
Итак, если цель науки, говоря кратко, – получениеновых знаний, то цель исторических наук – получениеновых знаний о прошлом человечества. Здесь, как изве-стно, есть несколько подходов: формационный, цивили-зационный, страноведческий, региональный и т.д. То естьделение исторического прошлого на хронологическиеотрезки (формации, эпохи, века, этапы, периоды) доволь-но строгое. Так же ответственно подходят ученые к опре-делению территориальных рамок исследования. Что жекасается определения исторических источников, я бысказал, что дело обстоит не так хорошо. Конечно, естьмасса работ по историческому источниковедению, но, ксожалению, большая их часть посвящена источникамписьменным, которые фиксируют только последние эта-пы человеческой истории, а другие источники показаны,на мой взгляд, неудовлетворительно. Вероятно, исто-рические источники прошлое отражают неполно, таккак сохранился не весь корпус источников, некоторые изних могут быть тенденциозны, не всю сохранившуюся ин-формацию мы понимаем адекватно и т.д.
Но что же такое исторические источники? Примерыих классификаций известны специалистам со студенчес-кой скамьи, а категории «исторические источники» и ихклассификация разработаны в 1960-1980 годах*. Для удоб-ства восприятия представим положения об источниках иих классификации в виде табл.1.
Из таблицы можно видеть, что исторические источ-ники:
• остатки деятельности человека;
• основа для изучения истории человека, так какотражают процесс его деятельности;
• разные по происхождению, они образуют систему,в которой информация может быть многократно дубли-рована.
Обратим внимание на то, что дифференциация ис-точников идет по разным основаниям, а также на то, чтовозраст этих фундаментальных трудов близится к 20-30,а то и к 50 годам. Следует отметить, что несмотря навыпущенные относительно недавно обобщающие рабо-ты, труды, посвященные анализу категории «историчес-кий источник», изрядно устарели.
Понятие «археологические источники» источни-коведы не используют, заменяя его термином «веще-ственные источники». На мой взгляд, понятие «веще-ственные источники» шире, чем понятие «археологичес-кие источники». Этнографические коллекции в общем-тотоже источники вещественные. То же можно сказать и особраниях, хранящихся в музеях.
Археологи археологическому источниковедению уде-ляют очень много внимания, особенно проблемам клас-сификации в целом и отдельным категорям источников вчастности, а также проблемам обработки источников иизвлечению из них информации. A priory предполагается,что археологические источники – материалы, получен-ные в результате раскопок и отражающие деятельностьчеловека в древности и средневековье. Изучение лите-ратуры на эту тему показывает двоякое отношение уче-ных к этой категории.
Начнем с того, что в учебной и справочной литерату-ре археологические источники рассмотрены сверхкрат-ко или вообще не рассмотрены. Конечно, имеется сериястатей, специально посвященных археологическим ис-точникам, а также специфике изучения видов памятни-ков и категорий инвентаря, таких работ несколько боль-ше. К сожалению, подобных работ не так и много, а ихобъем невелик.
Таблица 1
М.Н. Тихомиров 1962
Л.Н. Пушкарев 1965
И.Д. Ковальченко 1981
И.Д. Ковальченко 1987, 2003
Опр
едел
ение
кат
егор
ии «
ис-
точн
ик»
Под историческим ис-точником понимают всякий памятник про-шлого, свидетельст-вующий об истории человеческого обще-ства: рукописи, печат-ные издания, книги, здания, предметы оби-хода, древние обычаи, элементы древней ре-чи…Одним словом, все остатки прошлой исторической жизни.
Исторические источни-ки, все непосредствен-но отражающее исто-рический процесс и дающее возможность изучать прошлое че-ловечества
Исторически источ-ники - это все, отра-жающее развитие человеческого обще-ства, являющееся основой для его на-учного познания, то есть все, созданное в процессе челове-ческой деятельности и несущее информа-цию о многообраз-ных сторонах обще-ственной жизни
Исторические ис-точники являются носителями ин-формации, на ос-нове которой ис-торик реконструи-рует изучаемую им общественно-историческую ре-альность
Сод
ерж
ание
ка-
тего
рии
«ист
оч-
ники
»
Вещественные Этнографические Лингвистические Устные Письменные
Вещественные Этнографические Лингвистические Устные Письменные Кино-фото-фоно доку-менты
Вещественные Этнографические Лингвистические Устные Письменные Фото-кино Фоно документы
Вещественные Письменные Фонетические изобразительные
* Как пример приведем ссылку из "Новой Российской энцикло-педии", изданной в 2010 году в издательстве "Энциклопе-дия": "Источники исторические - все объекты, создан-ные человеком и отражающие прошлое". С 306.
49
Что касается обобщающих специальных исследова-ний, посвященных археологическому источниковедению,то есть только одна книга «Археологические источники»,вышедшая в 1978 году и переизданная в 1995 году, авто-ром которой является Л.С. Клейн. Некоторые мысли поархеологическим источникам была развиты им послевыхода в свет первого издания монографии в другой обоб-щающей книге - «Археологическая типология». Л.С. Клейнсчитает, что археологический источник - вещественныйобъект, информация о котором утрачена или пострада-ла. Основная специфика археологических источников –двойной разрыв между нами и людьми прошлого (в тра-диция), а также в объективации (разрыв между миромвещей и миром идей). В этих монографиях спецификаархеологических источников и вопросы их формирова-ния рассмотрены очень подробно. С тех пор археологовновой обобщающей работой никто не порадовал.
Получается, что вопросы археологического источни-коведения археологическое сообщество признает важ-ными, но к их разработке относится специфично. Каж-дый археолог, должно быть, великолепно представляет,что такое археологические источники, но публично на этутему практически никто не высказывается. Хотя в рабо-тах квалификационных – дипломных и диссертационных– классификация и анализ источников – необходимаячасть введения, или же этим вопросам может быть по-священа специальная глава.
В целом же, можно сделать выводы, что археоло-гические источники – суть источники вещественные, ко-торые специалисты получают в ходе раскопок. Они со-зданы человеком, и отражают его деятельность и куль-туру. Однако, проблема археологических источников раз-решена неполно.
Этнографические источникиСпециалисты по источниковедению особо выделя-
ют этнографические источники, правда, не особо их рас-шифровывают, считая, как, например, М.Н. Тихомиров, чтообласть этнографических источников очень велика, чтоона требует особого подхода и не всегда доступна дляисториков без предварительного изучения этнографии.К слову сказать, это самое вразумительное, что написа-ли классические источниковеды. Специалисты-этногра-фы ушли от них недалеко. Вывод же будет следующий:детального описания этнографического источника покане сложилось. Чаще всего им считают материалы, (веще-ственные, изобразительные, кино-фото, анкетные и про-чие), полученные во время полевых этнографических ра-бот. То есть специфика источника определена методомего получения, что мне кажется не совсем правильным.Должны быть единые критерии для классификации ма-териалов.
Если говорить о разработке концепции источниковв целом, то вероятно, ее следует называть недостаточноразработанной. По свойству транзитивности то же самоеможно сказать и об источниках по истории средневеко-вых сибирских государств.
Возможен вариант представления источников в видесистемы, в основе которой функции вещественных объек-тов, их описания или представления о них, а также сведе-ния о деятельности и любого вида представлениях лю-дей, их создавших, или ими владевших, и зафиксирован-ных на любом носителе информации. Отметим, что в этомслучае классификацию источников, основанную на мето-дах их получения и способах кодировки информации, оче-видно, следует считать пригодными для их упорядочива-ния и разработки процедур их изучения, и рассмотримсхему классификации источников, основанную на их про-исхождении и назначении.
Перейдем к источникам по истории государств
Западной Сибири. Очевидно, поскольку большинстводействий человека документировано каким-либо обра-зом, они отложились и существуют в виде археологичес-ких памятников, этнографических материалов, письмен-ных, лингвистических сведений. Особенности этих источ-ников следующие:
• практически полное отсутствие русскоязычныхписьменных сведений о Сибири XV — конца XVI веков;Известия русских летописей или отдельные источникитипа сказания «О человецех незнаемых в восточной стра-не» только подчеркивают остроту ситуации;
• тесная связь археологических и этнографичес-ких материалов. Так, многие населенные пункты, извест-ные в конце XVI века, существуют до сих пор и являютсяобъектами изучения этнографов. Но в то же время татар-ские юрты этого же времени, но оставленные прежнимнаселением, уже археологизировались;
• лингвистические данные XV — конца XVI веков,строго говоря, отсутствуют, но могут быть восстановленыпо более поздним сведениям;
• картографические материалы дорусской Сиби-ри отсутствуют полностью, но могут быть восстановленыпо казачьим «скаскам», чертежам С.У. Ремезова, мате-риалам, собранным в ходе академических экспедицийXVIII века.
Л.Д. Макаровг. Ижевск
ВЯТСКИЙ КРАЙ НА КАРТАХ СИБИРИС.У. РЕМЕЗОВА
Выдающийся русский сибирский ученый Семён Уль-янович Ремезов (1642-1715) вместе со своими сыновья-ми оставил громадное количество рукописных чертежейразличного содержания, выполненных в самых разныхмасштабах. В их числе важнейшее значение имеют свод-ные чертежи, в частности «Чертёжные книги», являющи-еся одними из первых атласов огромных по протяженно-сти территорий Сибири и Дальнего Востока [9, 140-141].Жизнь и деятельность С.У.Ремезова достаточно полноосвещены А.И.Андреевым и Л.А.Гольденбергом [2; 3], от-дельные сюжеты отражены в публикациях других авто-ров. Например, краткая характеристика произведенийС.У.Ремезова была дана десять лет назад А.В.Псянчи-ным [11, 81-83]. Именно атласы Семёна Ульяновича иего сыновей считаются вершиной русской картографииXVII в., это «Чертёжная книга Сибири» (1699-1701), «Хо-рографическая чертёжная книга» (1697-1711) и «Служеб-ная чертёжная книга» (1702-1730) [9, 140-141; 1, 22].
Государственная необходимость побудила властипоручить составление «Чертёжной книги Сибири»С.У.Ремезову в соответствии с боярским «приговором»(т.е. законодательным актом российского правительства)от 10 января 1696 г. «О снятии Чертежа Сибири на холстес показанием в оном городов, селений, народов и рас-стояний между урочищами» [10, 28]. Эта и две другие чер-тежные книги – бесспорный результат обобщения мно-гих предшествующих чертежей и описаний, содержавшихразносторонние сведения о природных условиях разныхрегионов, их хозяйственном потенциале, путях заселе-ния, этнокультурных особенностях жителей края.
Надо сказать, что картографические материалы тоговремени были созданы практически без каких-либо ин-струментальных методов, хотя элементарные измеренияуже проводились с помощью компаса («матки»). В то жевремя для обозначения растительности, болот, песков,пашен, дорог, населенных пунктов, колодцев, солеварен,
50
¾
отдельных жилых сооружений, культовых мест, курганови других элементов рельефа применялась система ус-ловных обозначений, постепенно становившаяся стан-дартной. Все эти перемены неизбежно выводили русскиегеографию, геодезию и картографию на прочные науч-ные рельсы. В петровское время наблюдается резкийскачок в этом направлении – происходит переход к мас-штабным картографическим работам на основе инстру-ментальных геодезических съемок [1,22-23; 9, 147-149].Однако изыскания С.У.Ремезова знаменовали заверша-ющий период допетровского времени, как уже указыва-лось – его вершину.
«Чертёжная книга Сибири» охватывает карты Си-бири и близлежащих территорий: европейского севераРоссии, юга Сибири, прилегающих районов Китая, Япо-нии, Казахстана и Средней Азии, 18 сибирских уездов.Чертежи преимущественно ориентированы по югу. Однаиз карт ориентирована на запад и показывает север ев-ропейской части России, она озаглавлена: «Чертежъвновь Великопермские и Поморие Печерские Идвинс-кие Страны Досоловецкие Проливы Соокрестными Жи-лищи. Листъ. кв.» [14, лист 22]. Западная граница данногочертежа идет по линии Москва–Ильмень–Ладога–Оне-га–берег Ледовитого океана; южная – Средняя Волга–р.Самара–верховья р.Тобол; восточная – Уральские горы;северная – побережье Ледовитого океана. Средняя частьчертежа (рис.1) занята территорией Волго-Камья и вер-ховьев Северной Двины, где располагались Царство Ка-занское, Вятка, Уфа, Пермь Великая, Устюг Великий, атакже отмеченные на карте народы – Черемиса, Вотяки,Мордва, Черемиса Горная (кроме них на южной перифе-рии указаны Болгары, Иболымеры, Чуваши, а на юго-во-стоке Приуралья – Вогуличи). Отметим, что эта карта (каки прочие чертежи атласа) насыщена весьма разветвлен-ной гидрографической сеткой и значительным числомтопонимов, причем все обозначения помечены как ки-риллицей, так и латиницей. На чертежах указаны такжеэлементы лесной растительности и горных массивов, а
названия снабжены условными обозначениями – кирил-лическими литерами.
Рассматриваемый чертеж, по-видимому, никогда неанализировался специалистами по истории Вятскогокрая, во всяком случае мне не удалось обнаружить ка-ких-либо публикаций. Это связано, очевидно, с убежде-нием, что в атласе под названием «Чертёжная книгаСибири» бессмысленно искать карты европейской тер-ритории страны. Лишь в 1994 г. М.В.Гришкина опублико-вала эту карту, однако какого-либо анализа ею проведе-но не было [4, вклейка 23]. Понятие «Вятский край» не-сколько условно, но в общем соответствует территорииКамско-Вятского междуречья, северную часть которогонекогда занимала Вятская земля (XIII – начало XVIII в.), аюжную – Волжская Болгария (XIII – первая полвина XV в.),Казанское ханство (вторая половина XV – начало XVIII в.)и Казанский уезд (вторая половина XVI – начало XVIII в.).Позднее обе части были объединены в единое Вятскоенаместничество (1780), преобразованное потом в Вятс-кую губернию (1796). Но еще до этих административныхпреобразований конца XVIII в. север Прикамья (в т.ч. Вят-ская и Пермская земли) был включен в состав Сибирс-кой губернии в ходе проведения Петром I губернской ре-формы в 1708 г. В 1719 г. губернии поделили на провин-ции, в частности в Сибирской губернии появилась Вятс-кая провинция, в которую вошли «Вятка с пригороды, Кайгородок и Кунгур». В 1727 г. Вятская провинция (уже безКунгура, переданного в 1723 г. в Соликамскую провин-цию) была переподчинена в ведение Казанской губер-нии, в составе которой оставалась вплоть до 1780 г. [13,139-140 (№96), 214-215 (№154); 5, 104-109].
Гидрографическая сетка на чертеже в целом отда-ленно напоминает современную, но все же в значитель-ной степени искажена, особенно это касается верховийрек Кама, Вятка, Белая, Уфа, Чусовая и др. Кроме того,нередко перепутаны названия притоков и местоположе-ние населенных пунктов. Было бы весьма интересно выя-вить источники этой карты. Однако попытки обнаружить
Рис. 1. С.У.Ремезов. Чертежъ вновъ Великопермские и Поморе Печерские Идвинские страны досоловецкие проливыСоокрестными жилищи. Листъ. кв. [22]. Фрагмент
51
протограф данного чертежа успехом пока не увенчались.Наибольшее сходство с ним обнаруживает изображениеВятского края на карте Сибири Н.Витсена (1680-1690-е гг.)в копии Э.И.Идеса 1704 г. [8, карта XXVI]. Это пока един-ственная известная мне карта региона, на которой распо-ложение городов на Средней Вятке соответствует таково-му на чертеже С.У.Ремезова: (вверх по течению реки) Ко-тельнич, Хлынов близ устья реки под названием Шестаков-ка (у Н. Витсена (далее – Н.В.) она без названия), котораябезусловно занимает место р.Чепцы. Однако далее вверхот Хлынова по этой реке расположены г. Слободка (Н.В. –Sloboda) и г. Шестаков (Н.В. – Sestanox), т.е. оба города пе-ремещены с верхнего течения Вятки, а там, приблизитель-но на месте Шестакова, помечен г. Орловец (Н.В. – Orlof).Последний перенесен от реального его местоположения(между Котельничем и Хлыновым) достаточно далеко.
Верховья р.Вятки показаны в виде слияния двух рек,между которыми отмечено название «Россохи». Очевид-но так обозначено место слияния Вятки и ее правогопритока р.Белой, что зафиксировано в поморских гово-рах [12, 505]. В настоящее время в данном междуречьерасположено крупное село Залазна [6, л.55].
В южной части Вятского края достаточно достовер-но расположены Алабуга (Елабуга), Сарапул и Оса, при-чем они отмечены как города задолго до их официальноутвержденного городского статуса в 1780 г. Впрочем, вдокументах этого времени они иногда фигурируют какпригородки. Данную территорию пересекает пунктир, оче-видно, обозначающий тракт, ведущий из Москвы черезНижний Новгород, Кокшайск, Казань, перевоз через Вят-ку от него, в Сарапул и далее на Осу и Кунгур к Уральскимгорам, где тракт поворачивает на юг и пересекает горы уистоков р.Чусовой. Любопытно, что на рассматриваемомчертеже впервые в картографических материалах указа-ны коренные жители Вятского края – вотяки (удмурты).
Очень подробно С.У.Ремезов аннотирует гидрогра-фическую сетку Верхнего Прикамья, Предуралья, Севе-родвинского и Печорского бассейнов, довольно основа-тельно насыщая их и названиями населенных пунктов.Думается, что к анализу этой части чертежа необходимообратиться специально. И, конечно, поиски источниковрассмотренной здесь карты нужно продолжить. Кстатиговоря, содержание «Книги Большому Чертежу» (1627)относительно описания Вятского края [7, 139] в значи-тельной мере не совпадает с данными С.У.Ремезова, чтотакже требует своего объяснения.
Список литературы1.Александровская О.А. Становление географической наукив России в XVIII веке. - М.: Наука, 1989. - 232 с.2.Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. - Вып.I.XVII в. - М.; Л., 1960.3.Гольденберг Л.А. Семён Ульянович Ремезов. - М., 1965.4.Гришкина М.В. Удмурты. Этюды из истории IX-XIX вв. -Ижевск: Удмуртия, 1994. - 168 с.5.История Удмуртии: Конец XV – начало ХХ века. - Ижевск:УИИЯЛ УрО РАН, 2004. - 552 с.6.Кировская область: топографическая карта, масштаб1:200000. 96 л.7.Книга Большому Чертежу / Под ред. К.Н.Сербиной. - М.; Л.:Изд-во АН СССР, 1950.8.Кордт В.А. Материалы по истории русской картографии. -Киев, 1906. Вторая серия. - Вып.1. - 28 с.; 26 карт.9. Лебедев Д.М., Есаков В.А. Русские географическиеоткрытия и исследования с древних времен до 1917 года. -М.: Мысль, 1971.- 516 с.10.Постников А.В. Развитие крупномасштабной картогра-фии в России. - М.: Наука, 1989.11.Псянчин А.В. Башкортостан на старых картах: историягеографического изучения и картографирования. - Уфа:Гилем, 2001. - 161 с.12.Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4
т. - Т.3 (Муза-Сят) / Пер. с нем. и доп. О.Н.Трубачева. –2-еизд., стер. - М.: Прогресс, 1987. - 832 с.13.Хрестоматия по истории Удмуртии: В 2 т. - Т.1:Документы и материалы. 1136-1917. - Ижевск, 2007. 816 с.14.Чертёжная книга Сибири, составленная тобольскимсыном боярским Семёном Ремезовым в 1701 году. - СПб.,1882. - 23 л.
А.К. Бустановг.Амстердам
ЧТО ИСКАЛ И ТАК НЕ НАШЕЛГ.Ф.МИЛЛЕР? ОБЗОР МУСУЛЬМАНСКИХ
ИСТОРИЧЕСКИХ НАРРАТИВОВ ИЗЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Широко известны слова, сказанные великим исто-риком Сибири Г.Ф. Миллером по поводу исторических ле-тописей местных татар: «оные… все утрачены». И в то жевремя Миллер удивлялся, «как бы было оным утратить-ся, когда другие у них рукописные книги столь бережнохранятся?» [1, 160]. В самом деле, судя по всему, Миллерискал специальную историю Сибирского ханства, кото-рая была бы написана самими татарами, быть может,при дворе хана Кучума, как то было характерно для сред-неазиатской придворной историографии. Такими же по-исками задался автор этих строк и, за исключением од-ного, видимо, позднего и пока что не идентифицирован-ного сочинения «Та’рих-и Сибирийа», других подобныхтрудов не нашел. Не удовлетворяли требованиям Милле-ра хроника Абу-л-Гази «Шаджара-йи тюрки», к первомуизвестному в науке списку которой Миллер обращался вТобольске, очевидно потому, что Сибирский юрт не был вней предметом специального внимания. Тем не менее,как показывает наш опыт работы с рукописями, черезМиллера прошло большинство исторических нарративовсибирских мусульман, созданных ими до начала XVIII в.,причем некоторые из них не были им даже упомянуты вопубликованных работах.
В первую очередь, речь идет о таких сочинениях, как«Шаджара рисаласи», список которого Миллер видел подТобольском; сакральные истории об исламизации Си-бири (в первой редакции середины XVII в.); а также обна-руженные И. Мустакимовым в портфелях Миллера тритекста на фарси и тюрки, переписанные в начале XVIII в.под Тобольском. Все три текста – родословные, одна изкоторых – ни что иное как список «Рисала», повествую-щего о потомках святого Исхак-Баба в Средней Азии сприложением генеалогии Ширбети-шейха, отождествля-емого нами с учредителем культа святых мест в Сибирипри хане Кучуме.
Очевидно, что рукописей у сибирских татар былонемало, однако исторические нарративы даже в эпохуСибирского ханства, судя по всему, не были созданы. Все,что известно сегодня об исторических трудах сибирскихмусульман до XVIII в., – это сакральные истории и генеа-логии, почти не связанные с политической историей ре-гиона, но, тем не менее, имеющие самостоятельное зна-чение при изучении истории ислама и сакральных семейс конца XVI в. вплоть до наших дней.
Список литературы1. Миллер Г.Ф. История Сибири. - Т.1. - М., 1999.
52
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ТЮМЕНСКОГО И СИБИРСКОГО ХАНСТВ XV-XVI ВВ.
Д.М. Исхаковг. Казань
ПОЗДНЕЗОЛОТООРДЫНСКАЯГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ТЮРКО-ТАТАРСИБИРСКОГО РЕГИОНА: В ПОИСКАХСОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОСНОВ
Хотелось бы начать с одного терминологическогоуточнения: обычно в отечественной историографии вме-сто часто употребляемого в англоязычной литературепонятия «Later Golden Horde» используют термин «пост-золотоордынская / постордынская» (государственность,культура и т.д.), что не слишком удачно, ибо термин «По-здняя Золотая Орда», «позднезолотоордынская» (госу-дарственность, культура и т.д.) гораздо лучше передаетсмысл проблемы преемственности между золотоордын-ским и возникшими после его распада более позднимитюрко-татарскими (иногда и не только тюрко-татарски-ми) обществами.
Именно в плане изучения преемственности при-стального внимания заслуживает недостаточно исследо-ванный вопрос о связи между социально-политически-ми основаниями Золотой Орды и позднезолотоордынс-ких государств XV-XVIII вв. Несмотря на то, что социально-политическому устройству Улуса Джучи в научной литера-туре, в том числе и в отечественной, уделялось значи-тельное внимание [20, 140-141; 15, 24-27], из поля зре-ния исследователей долгое время выпадала такая осо-бенность его устройства, как базирование на своеобраз-но организованной клановой основе. Это замечание вравной мере относится и к изучению тюрко-татарских го-сударств XV-XVIII вв. [53, 445-456; 8, 73-94; 54, 282-309; 57,81-93] Однако, благодаря одной публикации американс-кого историка татарского происхождения Ю. Шамильог-лу [55, 287-297; 50, 44-60] и последовавшей затем егодокторской диссертации [56], вопрос об особенностяхсоциально-политического устройства Улуса Джучи и на-следовавших ему позднезолотоордынских тюрко-татарс-ких государств удалось поставить в совершенно новомтеоретико-методологическом плане.
По мнению этого исследователя, социально-поли-тическая структура Улуса Джучи основывалась на так на-зываемой «системе четырех беев», или союзе четырех«правящих кланов». Лидеры последних, известные как«улусные эмиры (беи)» (по тюрко-татарски – олуг бэклэр,по русским источникам – «ордынские князья», по арабс-ким – «амир ал-улус»), совместно с ханом из Чингисидовобразовывали правящую корпорацию, в рамках которойуравновешивали хана-суверена. Внутри этой корпорацииотношения между ханом и лидерами «правящих кланов»регулировались перекрестными супружескими союзамипо женской линии. Ханы в Золотой Орде были через этиродственные связи просто «опутаны» отношениями свождями правящих племен. Именно они и создавалиреальную сеть социальных связей, которые, по мнениюЮ. Шамильоглу, формировали ситуацию, когда династияЧингисидов превратилась в «правящую фамилию, мета-клан или суперклановую общность, вытягивающую из всехплемен [женщин] через регулярную систему супружествамежду ханами и дочерьми племенных вождей» [58, 95].
Следует также учесть, что в Золотой Орде гаранта-ми правления династии Чингисидов, из-за отсутствия чет-ко установленной системы наследования власти в рам-ках правящего дома – «Алтын урука» [34, с. 39-49], высту-
пали лидеры указанных племен, сажавшие хана на тронв буквальном смысле и в случае необходимости низвер-гавшие его. Как указывает Ю. Шамильоглу, фактическився внутренняя политика в Золотой Орде вращалась вок-руг двух основных элементов политической власти – домаЧингисидов (Золотого урука) и клановой организации сядром в виде конфедерации четырех «правящих пле-мен». При этом состав кланов в зависимости от полити-ческих и иных причин мог меняться, но сама социальнаясистема оставалась без изменения. Вот эту особую струк-туру и связанную с ней сеть социальных отношений и унас-ледовали, как полагает Ю. Шамильоглу, позднезолото-ордынские тюрко-татарские государства [57].
С этой точки зрения представляется полезным об-ратиться к золотоордынским и позднезолотоордынскимтюрко-татарским политиям Сибири XIII-XVI вв., имея в виду,что анализ в аналогичном русле по поволжским полити-ям дал определенные результаты [10, 95-107; 13; 17, 161-171; 23, 123-138]. Замечу, что к этой теме я уже ранееобращался [21, 219-222; 22, 147-158; 24, 24-30] и в дан-ном случае мне хотелось бы рассмотреть повторно воп-рос об источниковой базе изучения проблемы социаль-но-политических основ сибирских политий XIII-XVI вв., атакже вопрос о тех научно-методологических подходах,которые позволяют по-новому взглянуть на имеющийся,на самом деле достаточно ограниченный, компендиумисточников, позволяющий раскрыть социально-полити-ческие основы золотоордынских и позднезолотоордын-ских юртов Сибири.
Трудность в исследовании рассматриваемой пробле-матики заключается не только в недостаточности источ-никовой базы, но и в том, что несмотря на довольно дли-тельное изучение сибирских политий XIII-XVI вв., имевшихзолотоордынские истоки, некоторые из них до сих пормежду собой четко не размежевываются. Скажем, Си-бирский юрт, с одной стороны, не вполне отделяется отпозднего Тюменского ханства, возможно, продолжавше-го существовать и в первой половине XVI в., а с другой – отБухарского ханства как после 1563 г., так и до этой даты[11, 54-64; 18,166-171]. Такое несколько странное поло-жение объясняется тем, что владения Шибанидов в XV-XVI вв., состоя из полусамостоятельных политическихобразований (ханств) во главе с местными Шибанидами,возглавляясь с определенного времени общим номи-нальным каганом («ханом ханов»), имели рассредото-ченный характер. С другой стороны, в XV в., во всякомслучае, до смерти хана Абул-Хайра, последовавшей в 1468-69 г., Тюменское ханство в значительной мере «перекры-вается» так называемым Государством кочевых узбеков[16, 25-28; 26, 18, 24-25 и др.]. Для XIII-XIV вв. есть своитрудности, связанные с тем, что не вполне ясна соотне-сенность владения Шибана и его потомков с крыльевымделением Улуса Джучи (Золотой Орды) [3, 32-44; 20, 129-130; 31, 52-57; 27, 17]. Понятно, что такое состояние зат-рудняет исследование вопроса о социально-политичес-ком устройстве следовавших друг за другом названныхвыше сибирских политий.
Имея в виду, что из-за состояния источников весьэтот сложный комплекс проблем пока решить невозмож-но, в нижеследующем анализе от них придется простоабстрагироваться, понимая, что в полной мере это сде-лать все же нельзя.
Предлагаемое далее исследование поставленнойпроблемы целесообразно проводить в хронологическомпорядке, двигаясь от Сибирского юрта к Тюменскому хан-ству/Государству кочевых узбеков, далее – к исходному
53
улусу Шибана и его потомков до конца XIV в. При этомодной из ключевых задач будет являться установлениепреемственности/отсутствия преемственности в социаль-но-политических основаниях названных выше сибирскихполитий.
Сибирский юрт / Сибирское ханство
Применительно к Сибирскому ханству есть несколь-ко разновременных источников, свидетельствующих осуществовании в этом тюрко-татарском юрте системыкарача-беев. Прежде всего, это, конечно, упоминание в«Сибирских летописях» между 1581-1586 гг. «карачи-дум-ного царева», имевшего собственный улус («карачинулус»). Этот карача командовал войсками и в 1584 г. осаж-дал «град Сибирь» во главе «многих воинских людей»[37, 52, 59, 61, 67, 68]. Согласно двум совершенно само-стоятельным тюркским источникам – преданиям сибир-ских татар [28, 12] и «Сборнику летописей» Кадыр-Алибека – этот карача имел титул бия/бека и, как установилМ.А. Усманов [47, 47], был из клана джалаир. Дополни-тельным подтверждением его статуса карача-бека явля-ется, как я уже ранее указывал [12, 195; 22, 148], его уча-стие после пленения в 1588 г. русскими в церемонии воз-ведения в 1600 г. султана Ураз-Мухаммеда на престолКасимовского ханства в составе трех других карача-беев(из кланов аргын, кыпчак и мангыт). В то же время нельзяне отметить, что ценность этой информации снижаетсятем, что существует вероятность прихода карачи-бека изклана джалаир по имени Кадыр-Али (его отцом был Ху-сум/Касим-бек) в Сибирский юрт вместе с казахским сул-таном Ураз-Мухаммедом из среды казахов, то есть онмог принадлежать к нетрадиционному для Сибирскогоюрта клану. Тем не менее, некоторые косвенные данныепротив этого аргумента мне найти удалось [22,148]. Ещеодно свидетельство существования в этом юрте карача-беков содержится в «Ремезовской летописи» в рассказео продвижении Ермака вверх по Иртышу. Там сказано: «…и погребли вверхъ по Иртышу… и до болшего князя Беги-ша Княжева городка и ту учиниша великой бой со зборны-ми Татары и с Карачинцы» [40, 341]. Я допускаю, что под«большим князем» (по тюрко-татарски – «улу бей») Беги-шем мы тут имеем дело с беклярибеком хана Кучума [45,40]. Группа же «Карачинцев» – это или сами карача-бекиСибирского юрта, или, скорее, улусники клана джалаир,члены названного выше «карачина улуса». Во всех приве-денных случаях ясно видно участие «карача-думного» и«карачинцев» в боевых действиях. Между тем, в других син-хронных тюрко-татарских государствах участие клановыхополчений во главе с карача-беями в боевых действияхбыло обычным явлением [8; 13, 48-49; 14, 329-366].
Обращает на себя внимание и присутствие в грамо-те хана Кучума в Москву (1571 г.) выражения «лутчие людисибирские руки свои приложили» [19, 151]. Можно думать,что речь в данном случае также идет о карача-беках, таккак такого рода послания в других татарских ханствах (Ка-занском, Крымском) визировали именно карача-беки. Всвою очередь, эта традиция восходила к периоду Золо-той Орды [20, 134-135]. В этой связи следует заметить,что у Г.Ф. Миллера приводится эпизод [33, 196], основан-ный на сибирско-татарских преданиях, рассказывающийо приглашении на престол Сибирского юрта после смер-ти «Сибирского князя» Едигера нового правителя по ини-циативе «знатных татар». В этом эпизоде есть ряд нюан-сов, в целом позволяющих, учитывая особую роль кара-ча-беков в других ханствах в интронизации ханов, видетьв этих «знатных татарах» именно владетельных князей –карача-беков.
Наконец, в русле рассмотренных данных надо трак-
товать и упоминания в грамоте, направленной в 1597 г.из Москвы хану Кучуму, «Тайбугина юрта» [19, 188]. Мойопыт изучения этого вопроса показывает, что в «Тайбуги-ном юрте» надо скорее всего видеть одно из княжествСибирского юрта, состоявшего из отдельных «улусов».Поэтому, когда в «Сибирских летописях» по отношению квладению Тайбугидов применяется выражение «весь доми воинские люди» [37, 35, 59, 61], очень похожее на ха-рактеристику в этом же источнике владения карача-бекаиз клана джалаир – «иже бысть дому его», возникаетвпечатление, что мы имеем дело с двумя однопорядко-выми владениями во главе с карача-беками.
В данном случае важно раскрытие и содержанияинститута «Сибирского князя», за которым скрываютсяпредставители группы Тайбугидов. Так как этот вопросмною уже изучался [22; 25, 117-121; 26, 224-227], приведулишь общие выводы:
1. «Сибирских князей» необходимо рассматриватьв одном ряду с «Мещерскими» и «Болгарскими / Казанс-кими» князьями. В последних двух случаях мы имеемдело с беклярибеками (первые – из Ширинов, вторые –из Кыятов [13, 190; 23, 123-138]).
2. Носившие титул «Сибирских князей» Тайбугидыявлялись беклярибеками или «старшими князьями» (улубий) из клана Буркут.
3. Этот титул существовал еще до отмеченного в «Си-бирских летописях» конфликта Мамета Тайбугида со сво-им сюзереном «царем Упаком», то есть ханом Саидом-Ибрагимом, закончившегося убийством последнего в кон-це 1494 – начале 1495 г.
4. Домениальным владением Тайбугидов являлся«Тайбугин юрт», локализовавшийся в середине XVI в. вбассейне р. Иртыш.
5. Через Тайбугидов в Сибирском юрте можно про-тянуть ниточку к Тюменскому ханству и Государству коче-вых узбеков.
Для того чтобы закончить этот раздел, приведу ещедва наблюдения, позволяющих косвенно говорить о су-ществовании института карача-беев в Сибирском юрте.Первое – это определение в «Сибирских летописях» Ка-дыр-Али бека из клана джалаир «думным» карачей ханаКучума. Похоже, в данном случае подразумевается суще-ствование в этом юрте собрания высшей знати – «дива-на». Между тем, из материалов по Крымскому и Казанс-кому ханствам известно, что ведущую роль в так называе-мом «диване» играли именно карача-беки, «думавшие»там о государственных делах [43, 3-71; 11]. Второе наблю-дение – о женитьбе Тайбугида князя Мара на сестре«царя Упака», явно свидетельствующей о браках карача-бека с представителем «Алтын Урука».
И последнее. Я ранее уже указывал на то, что пре-дание сибирских татар, записанное в XIX в. Н.Ф. Катано-вым, рассказывающее о делении «войск» хана Кучума на«четыре отряда» – Кордак, Туралы, Аялы и Бараба, с пя-той группой в виде пришедших с Кучумом «сартов» [28],довольно точно моделирует 4-клановую систему карача-беев (пятое образование – это, возможно, ханский до-мен). Однако в этом случае не совсем понятным оказы-вается связь этих групп с кланами карача-беков. Объяс-нения в этом случае надо искать в том, что кланы карача-беев в своих юртах скорее всего к середине XVI в. явля-лись уже лишь правящим слоем, а сам «народ» каждогоконкретного княжества (их было 4 или 5) по этническомусоставу мог быть более сложным [21, 156]. Именно тако-му положению, на мой взгляд, соответствует встречаю-щееся в «Сибирских летописях» описание прихода кня-зя Сейдяка Тайбугида из «Бухарские земли» в Сибирс-кий юрт: «…собрался со всем домом своим и с воински-ми людьми». Но этот вывод не снимает вопроса о перво-
54
начальных кланах карача-беков в Сибирском юрте. Пока,как было показано, можно говорить о кланах джалаир ибуркут. Далее к этому аспекту рассматриваемой пробле-мы мы еще вернемся.
Тюменское ханство /Государство кочевых узбеков
Так как информация о Тюменском ханстве крайнескудна, к тому же до смерти хана Абул-Хайра эту политиюневозможно отделить от Государства кочевых узбеков,начать надо с социально-политической основы после-днего образования.
Согласно данным «Шайбани-наме» Бинаи (нач. XVI в.),во «времена казачества» будущего хана Абул-Хайра, тоесть до 1429 г., среди находившихся при нем «обществэмиров» были представители элей (племен) кушчи, най-ман, туман, конграт. В числе тех, кто пришел к Абул-Хайру после «завоевания стран», в том же источнике от-мечаются знатные лица из «[племени] кыйат» и из кон-гратов [32, 96-97]. В другом сочинении – «Тарих-и Абу-л-хайр-хани» Кухистани (ок. 1540-х годов) среди знатных лиц,собравшихся вокруг Абул-Хайра к 1429/30 г., опять отме-чаются вожди кланов кыйат, кушчи, найман, карлук, кон-грат, туман [32, 143-144]. Появляются и сведения о кла-не буркут. Во-первых, этот клан фигурирует в числе под-разделений, ранее находившихся во владениях родствен-ника и предшественника хана Абул-Хайра ШибанидаДжумадук-хана [32, 141]. Затем, в рассказе о походе ханаАбул-Хайра в 1429/30 г. на Чимги-Туру (Тару/Туру), поме-щенном в «Тарих-и Абу-л-хайр-хани», упоминаются «совсеми эмирами, вождями и прочими военачальниками»этого политического центра его «хаким» (хаким города)Адад-бек буркут и Кибек-Ходжа бий буркут [32, 144].Ясно, что в Чимги-Туре буркуты занимали особое поло-жение. Все эти лица подчинились Абул-Хайру и далееоказались в составе его владения. Надо отметить одноновое исследование казахстанского историкаЖ.М. Сабитова, высказавшего весьма перспективнуюидею, позволяющую «склеить» информацию, связаннуюс Государством кочевых узбеков и Тюменским ханством.Основной его вывод заключается в том, что присутствую-щий в генеалогии Тайбугидов Мар – это Умар бий буркут,чьим отцом мог быть Кепек-ходжа, в генеалогии Тайбуги-дов названный Ходжой. По мнению Ж.М. Сабитова, этагруппа буркутов после присоединения их владения к Го-сударству кочевых узбеков сохранила под своим управ-лением г. Туру (Чимги-Туру. – Д.И.) и «прилегающие зем-ли» [39, 32-36] (как видим, речь идет о вилаяте Чимги-Тура). В результате оказывается, что через буркутов мыможем перейти не только к Тюменскому ханству, но и кСибирскому юрту. Показательно, что по «Таварих-и гузи-да-йи нусрат-наме» одна из четырех (обратим вниманиеи на это число!) жен хана Абул-Хайра, скорее всего, пер-вая, была из клана буркут [9, 429], что подтверждает бли-зость этой группы к правящему в государстве дому Шиба-нидов. Замечу, что в «Шайбани-наме» среди тех, кто былназначен «на должность даруга вилайета Чимги-Тура»после его подчинения хану Абул-Хайру, называются пред-ставители кланов кушчи и найман [32, 96]. Если учесть,что даруги были тесно связаны с карача-беками, эта ин-формация заслуживает особого внимания.
Чтобы уточнить приведенные данные, можно обра-титься к более позднему периоду истории Шибанидов изГосударства кочевых узбеков. Так, в «Таварих-и гузида-йинусрат-наме» сообщается, что решение о пригодностималолетнего Мухаммеда-Шайбани для возведения натрон приняли «беки-карачи» или «старые беки, которыеостались от великих ханов» – именно они поручили вос-
питывать Мухаммеда-Шайбани Дарвишу-Хусайну из кла-на кушчи (тот имел показательное прозвище «Карачин-бахадур» [32, 19]). В «Шайбани-наме» отмечены два «об-щества эмиров», одно из которых включало потомка кый-ата Исатай-бека Бузунджар-бека, из потомков конгра-та Али-бека – Мухаммед-бека, из [группы] туман – Танг-ри-Берды бека, из людей [племени] мангыт – Идику бекаи Кази-бека [32, 96-97, 17]. Тут не только отчетливо видначетырехчастная структура одного из «обществ» – скореевсего, крыла владения, но и принадлежность перечис-ленных лиц к «великим эмирам», то есть карачи-бекам.Совершенно не случайно, что присутствовавшие на на-званном совете по определению будущего статуса Мухам-мада-Шайбани знатные лица названы «карачинскимиэмирами» [32, 98].
В одной из версий «Шайбани-наме» Мухаммеда-Салиха (ум. в 1534/35 г.) при описании похода Мухамме-да-Шайбани в 1503 г., в числе войск, состоявших из опол-чений кланов, отмечены отряды кланов конграт, кыйат(правое крыло), найман (левое крыло), а также без под-разделения на крылья отряды кланов буркут, кушчи,карлык [41, 10]. Если иметь в виду, что в позднезолотоор-дынских государствах клановые войска возглавлялиськарача-беками, в этих ополчениях надо видеть «карачин-ские» кланы.
Все же из источников не совсем ясно подразделе-ние владения Шибанидов XV-XVII вв. на два крыла. Из«Тарих-и Абу-л-хайр-хани» явствует, что в левое крыловойск хана Абул-Хайра входили кланы буркут, кыйат,конграт, найман, кушчи [32, 146]. Насчет найманов есть,правда, определенные сомнения. В частности, Б.А. Ах-медов на основе источников относит этот клан к правомукрылу [3, 39]. В другом владении Шибанидов – Хивинскомханстве, согласно Абул-Гази Бахадур-хану, знать из уйгу-ров и найманов садилась слева от хана, причем найма-ны сидели «выше», ибо являлись карачами [1, 163]. Впериод правления в этом государстве Аштарханидов знат-ные лица из кланов конграт, кушчи и буйрак сидели сле-ва от хана, тогда как найманы – справа [2, 145, 166-169].По найманам, как видим, ситуация противоречивая. Неслучайно, что А.К. Алексеев указывает на отнесение внекоторых случаях найманов к сидящим слева от хана, азнати из группы кушчи – справа [2, 166]. Но все-таки изве-стно, что в эпоху правления Аштарханидов главы старшихпридворных могли быть только из кланов дурман, курчи,найман, конграт, буйрак и кыйат [2, 151, 166-169]. При-сутствие в этом списке последних четырех кланов в числе«придворных глав» явно связано с их особым статусом впрошлом. А существующие в источниках разночтения, ско-рее всего, связаны с постепенным размыванием во вла-дениях Шибанидов старых традиций. Тем не менее, ос-татки «парного» деления у потомков кочевых узбековсохранялись довольно долго. Скажем, в таком позднемисточнике, как «Фирдаус-ал-икбал» Муниса (ум. в 1829 г.),есть сообщение об административной реформе хивинс-кого хана Абул-Гази Бахадура, когда он разделил «узбе-ков» на «четыре группы» (тупэ, т.е. тюба). В числе однойиз них находились уйгуры и найманы, а другой – конгра-ты и кыйаты [32, 452]. В данном случае показательноне только четырехчастное деление «узбеков», но и на-хождение найманов в иной группе, чем конграты и кый-аты. А это, скорее всего, отражает былое вхождениеназванных кланов в разные крылья более раннего вла-дения Шибанидов.
Тем не менее, в Государстве кочевых узбеков груп-пировка кланов по крыльям была иной, чем в Улусе Джу-чи. В частности, для конца XIV в. можно утверждать, что вЗолотой Орде конграты, кыйаты и найманы относилиськ правому крылу (Ак Орде) [49, 158-159; 20, 148-149, 153].
55
Возможно, особенности группировки кланов в более по-здних политиях Шибанидов связаны с существованием«изначального» собственного деления на два крыла вовладении Шибана, но об этом будет сказано далее.
Улус Шибана
Историю владения Шибана как Джучида необходи-мо рассматривать в рамках становления Улуса Джучи (т.е.Золотой Орды). Однако из-за особой роли Шибанидов ввосточной половине Улуса Джучи – Кок Орде – в периодначавшегося распада Джучидской империи и становле-ния на этом политическом пространстве позднезолото-ордынских государств (Государства кочевых узбеков, Тю-менского и Сибирского ханств, а также ряда среднеази-атских ханств), уже к XVI в. вопрос о владении основателядинастии Шибанидов – Шибана, приобрел специфичес-кое звучание, зафиксированное в первой половине XVI в.у среднеазиатского историка Утемиша-хаджи в его труде«Чингиз-наме». В частности, этот историк, рассказывая,видимо, на основе предания, о поездке Бату (Саин)-ханасо своим братом Иджан (Орда)-ханом на «корунуш» ксвоему деду – Чингиз-хану, сообщает о том, что тот поста-вил для прибывших «три юрты: белую юрту с золотымпорогом поставил для Саин-хана; синюю орду [юрту] ссеребряным порогом поставил для Иджана; серую орду[юрту] со стальным порогом поставил для Шайбана» [47,92]. В этом рассказе не только смоделирована опреде-ленная иерархия владений Джучидов (через деление их«юртов» на «золотую», «серебряную» и «железную»), нои постулируется их «изначальность», что еще более ус-ложняет решение отмеченного выше дискуссионного воп-роса о первоначальном вхождении владения Шибана водно из двух основных внутренних делений (крыльев)Улуса Джучи – Ак Орду или Кок Орду.
Надо сказать, что в источниках относительно соста-ва кланов, оказавшихся в первоначальном уделе Шиба-на, есть разночтения. Вначале остановимся на рассмот-рении имеющихся на этот счет данных.
В уже отмеченном сочинении Утемиша-хаджи приописании процедуры выделения Шибану (Шейбан-хану)Бату (Саин)-ханом «родов и племен» наряду с «вилайя-тами», сообщается, что в дополнение к уже данным ему«тридцати тысячам человек», ему были еще приданы«десять тысяч кыйатов [и] йуралдаев». В источнике уточ-няется, что это произошло перед походом Шибана «ввилайаты Крыма [и] Каффы» [48, 94-95]. Из этого расска-за видно, что речь идет о выделении Шибану 4-х туменей,клановая принадлежность состава которых в большин-стве своем у этого автора осталась неизвестной. Что ка-сается последних десяти тысяч, то этот тумен состоял изкыйатов, а йуралдаи в данном случае – это испорченноеот «Бурулдай» [30, 49-50], что станет очевидным далее. Всвязи с приведенным выше известием обращает на себявнимание еще один источник – сочинение крымскогоисторика из рода Ширинов Абд ал-Гаффара Кырыми «Ум-дет ал-ахбар» (XVIII в.) [6, 68-70], в котором тоже есть упо-минание об отправке Бату-ханом Шибана в крымскийпоход с аталыком последнего Бор[А]лтай Тараклы Кыйа-том [58, 94].
Кроме приведенного выше сообщения, у Утемиша-хаджи заслуживает внимания еще одно известие. Имеюв виду то место из сочинения среднеазиатского истори-ка, где речь идет о времени правления хана Узбека иуказывается на то, что «огланам Шайбан-хана» тогда былдан «двусоставной эль», включавший «два эля» – «кар-лык» и «буйрак» [48, 92]. По другой версии этого же авто-ра, передача потомкам Шибана «буйрака и карлыка, коисуть двусоставной эль», была осуществлена Исатаем
Кыйатом, которому перед этим Узбек-ханом в качестве«кошуна» была отдана группа огланов – Шибанидов, Ор-дуидов и Тука-Тимуридов «вместе с их родами и племе-нами» [48, 92].
Сюжет, связанный с крымским походом Шибана,присутствует и в известном среднеазиатском источникеXVI в. (датируется 1504-1510 гг.) «Таварих-и гузида-йи нус-рат-наме». В этом сочинении приводится известие о том,что [Шайбан-хан проявил большую доблесть при завое-вании Булгара, Руссов, Асов и в сражении с Башгирдами.За это ему было пожаловано сорок тысяч человек]. Да-лее в источнике сказано: «имена предводителей этихсорока тысяч [таковы]: кыйат Бурулдай бик, затем дед(предок) [нрзб., возможно, Гали] бика из кунгратов, Тай-буга из буркутов, Тукбуга из тюменей». [На тюркском: «Улкырык менг кешененг башлыкларыны• атлары: кыйатБурулдай бик, бэсэ конгратдын [Гали] бик [эбугэсе], бор-кыттын Тайбуганы, тумэндин Тукбуганы башлай би-реп торур»] [44, 115]. Вне всякого сомнения, в текстеречь идет о 40 тысячах воинов, так как в источнике име-ется высказывание о том, что «Угедей-каан поставилШейбан-хана во главе 40-тысячной армии» [44, 97]. Водном месте есть намек и на иную численность воиновШибана, когда рассказывая о ходе завоевания Угедей-кааном «Кипчакской степи», автор рассматриваемоготруда сообщает: «одним из военачальников его (Угедея.– Д.И.) был сын Джучи-хана Шейбан-хан. Он руководилкавалерией в авангарде в составе 10 тысяч человек ипроявил себя мужественным и находчивым» [44, 100].
Возможно, что информация о нахождении Шибанаво главе 10-тысячного войска восходит к Рашид-ад-Дину,так как в его труде после сообщения о соединении «ца-ревичей... осенью в пределах Булгара... с родом Джучи:Бату, Ордой, Шейбаном и Тангутом», вначале говорится овыступлении оттуда осенью 1236 г. «Бату с Шейбаном,Бурулдаем и войском в поход против буларов и башгир-дов», а затем, в связи с дальнейшими событиями, отме-чается: «... Шейбан, составлявший авангард с 10 000 лю-дей, послал известие [Бату]...» [38, 37]. Упоминаемый вописании этих событий Бурулдай не только назван «эми-ром», но и отмечен далее в сражении во главе с Шиба-ном [38, 37]. Так как в совершенно самостоятельных рус-ских летописях «Бурандай (Бурондай) багатырь» фигури-рует среди «первых воевод» Бату в боевых действиях про-тив «Болгарской земли», Владимиро-Суздальского кня-жества, при завоевани Киева [36, 206; 4, 109, 250; 35,779, 785], приведенное у Рашид-ад-Дина сообщение явнозаслуживает внимания, тем более, что оно частично пе-рекликается с данными Джувейни [5, 185-186] и «Исто-рии Вассафа» [7, 268].
В отмеченных выше источниках есть ряд совпаде-ний, но в то же время имеются и некоторые различия,которые следует отметить. Однако до их рассмотрениязамечу, что вся изложенная выше информация относит-ся к двум совершенно самостоятельным историческимпериодам: в первом случае – ко времени правления Уге-дея (1228-1241) и Бату (1236-1255), во втором – ко вре-мени правления Узбека (1313-1342). Поэтому эти два рядасообщений надо разделить.
Что касается первой группы данных, скорее всего,отражающих события конца 1230-х годов, то в них относи-тельно похода Шибана в Крым (в «вилайеты Крыма [и]Каффы») во всех трех названных источниках общими яв-ляются сведения относительно участия в нем Бурулдай(Боралтай) бека из клана кыйат (с тамгой «тараклы» илииз соответствующего ответвления кыйатов); в двух источ-никах совпадает число воинов (40 тысяч), подчиненныхШибану. Есть и некоторые нюансы информации о воинах– согласно Утемишу-хаджи, 10-тысячный корпус кыйатов
56
был придан Шибану к уже имевшимся у него до того 30тысячам. Намек на какой-то отдельный воинский кон-тингент из 10 тысяч конного войска, оказавшийся подначалом Шибана, есть, как мы уже видели, у Рашид-ад-Дина и в «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме».
В этих сочинениях имеются и разночтения. Если уУтемиша-хаджи и Абд ал-Гаффара Шибана в крымскийпоход отправляет Саин (Бату)-хан, он же выделяет емудополнительный корпус из кыйатов, то в «Таварих-и гузи-да-йи нусрат-наме» Шибана во главе 40-тысячного войс-ка ставит Угедей. Он же фигурирует как главное действу-ющее лицо в связи с упоминанием о командовании Ши-баном 10-тысячным корпусом, входившим в авангардвойск. Наконец, только у Абд ал-Гаффара Боралтай (Бу-рулдай) назван «аталыком» Шибана.
Если суммировать все эти сведения, то можно зак-лючить, что вначале под командованием у Шибана нахо-дились 3 тумена, скорее всего, из кланов кунграт, бур-кут и тюмен. Затем к ним были добавлены войска изкыйатов, составлявшие еще один тумен. Были ли этикланы под постоянным подчинением у Шибана (особен-но кыйаты) или они были ему приданы только на периодвоенных действий, мы из этих источников узнать не мо-жем. Но информация об аталыке Шибана может свиде-тельствовать о традиционных связях кыйатов (правда, тутнадо помнить, что кыйаты были «личным» кланом Чин-гизидов) с этим Чингизидом, следовательно, о возмож-ности вхождения их во владения Шибана.
Теперь вернемся к известию из «Чингиз-наме» Уте-миша-хаджи времени правления Узбек-хана. Как явству-ет из этого сочинения, Узбек отдал вначале целую группуДжучидов вместе с их «нукерами» и «людьми» (в другомместе – «с принадлежавшими им племенами») Исатаюиз клана кыйат «в гневе» на них за то, что те согласилисьстать «рабами и нукерами черного человека» (имеется ввиду Баджир Ток-Буга из клана уйгур, после смерти ханаТокты в 1313 г. чуть не захвативший сарайский престол.–Д.И.), а тот уже, в свою очередь, в знак уважения к Шиба-ну, отдал Шибанидам названный «двусоставной эль» и«предоставил их самим себе». Далее источник добавля-ет: «...пребывали они («огланы Шибана». – Д.И.) в юртах,назначенных им Саин-ханом» [48, 103-105, 109]. Получа-ется, что кланы карлык (карлук) и буйрак оказались впервой половине XIV в. в собственных владениях Шиба-нидов.
Наконец, имеются еще два самостоятельных источ-ника XVII в. – это труд среднеазиатского историка Махму-да б. Вали «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» (около1634-1640 гг.) и хивинского хана Абул-Гази Бахадур-хана«Шеджереи тюрк» (Шэжэрэи тэрек), завершенный в1665-1666 гг., в которых представлена несколько инаятрадиция относительно кланового состава населенияпервоначального владения Шибана. В частности, у Мах-муда б. Вали сказано, что Шибан командовал правымкрылом войска Бату хана и за заслуги, проявленные призавоевании Булгара и других земель получил право науправление племенами кошчи, найман, буйрак и карлык[3, 163]. Затем в этом труде есть примечательное местоотносительно сына Шибана Бахадура, после смерти отцаначавшего «главенствовать над элем и улусом»: он, «по-велев собраться близким родственникам, племенам ичетырем каучинам, …выбрал для зимовок и летовок Ак-Орду, которая известна также как Йуз-Орда». По-види-мому, тут под этими «каучинами» имеются в виду пере-численные выше четыре клана. На это сообщение обра-тил внимание и В.П. Костюков, однако его больше инте-ресовал вопрос не о клановой структуре владения Шиба-на, а о его территориальной локализации [30, 76-77]. Насамом деле из анализируемого источника видно, что,
возможно, «племена» и «каучины» – это разные группы.Что касается труда хивинского хана Абул-Гази Бахадур-хана, то там, скорее всего, использованы данные Махму-да б. Вали. Во всяком случае, в этом источнике отмечает-ся, что после возвращения Бату (Саин)-хана из западно-го похода, он дал Шибан-хану «иль из пятнадцати тысячдомов» (унбиш менг эйлек ил). Из числа «родового иля»(нэсел-ыруг иленнэн) Шибан тогда получил «иль из четы-рех родов (ыруг) – кошчы, найман, карлык и буйрак (буй-рек)» [51, 133-134; 52, 118; 42, 284]*. К сожалению, изконтекста источника не совсем ясно, входили ли назван-ные 4 клана в число «пятнадцатитысячного иля» или этобыло отдельное владение. По мнению Т.И. Султанова,они все же входили в состав этого иля [42, 284], но прямоиз источника такое заключение не вытекает. Хотя надозаметить, что в данном случае это наделение Шибана«родами» очень напоминает выделение Бату-ханом дру-гому своему брату – Тукай-Тимуру, наряду с территори-альным владением, четырех клановых подразделений(из групп минг, тархан, ушун и ойрат) из числа «каучинов»(т.е. привилегированной части войск) [29, 208; 2, 56]. Вэтой связи еще следует иметь в виду, что в «Бахр ал-ас-рар фи манакиб ал-ахйар» Махмуда б. Вали [2, 12-51]приводятся данные о клановом составе войск Бату-хана,где упоминаются все 4 «рода», пожалованные Шибану, и4 – отданные Тукай-Тимуру [29, 207-208]**. Если это не«опрокидывание» в прошлое сведений о клановых струк-турах государств Средней Азии XVI-XVII вв. – а такое воз-можно, ибо, например, источники Махмуда б. Вали отно-сительно племенных ополчений времени Бату-хана не-известны [29, 207] – то указанные совпадения явно зас-луживают внимания. Кроме того, из сочинения хивинско-го хана получается, что кланы карлык и буйрак были вы-делены Шибану уже в первой половине XIII в., тогда какУтемиш-хаджи, как мы уже видели, относит это событие кпервой половине XIV в. Но, с другой стороны, присутствиев сообщении Абул-Гази Бахадур-хана информации об этихдвух кланах во владении Шибана может быть косвеннымподтверждением сообщения, содержащегося в труде Уте-миша-хаджи. И еще один момент. В связи с кланом кушчинеобходимо учесть и известие из «Таварих-и гузида-йинусрат-наме»: «...кушчи... со [времени] Шайбан-хана былиатаке (аталык – Д.И.) и кукельташами» [32, 20]. Как ви-дим, этот источник включает клан кушчи (кошчы) в число«изначальных» групп, входивших во владение Шибана.Следует подчеркнуть, что «изначальность» клана кушчивытекает и из смыслов институтов «аталык» и «кукель-таш». Если под первым имеется в виду «воспитатель»(нечто вроде «дядьки»), «регент» Чингисидов, то под вто-рым вообще-то скрывается «молочный брат» (кстати,иногда оба института сливались друг с другом, когда ку-кельташи оказывались и аталыками [2, 145]). Тут важното, что оба понятия предполагают нахождение клана куш-чи в структуре владения Шибана, поэтому приведенноевыше утверждение источника о нахождении клана кушчирядом с Шибаном должно быть принято во внимание.
Таким образом, возникают две версии относитель-но кланового состава владения Шибана. С одной сторо-ны, оно могло включать кланы кунграт, буркут, тюмени кыйат, а с другой – кланы кушчы, найман, карлук ибуйрак. Можно допустить, что из этого перечня после-дние два клана оказались во владении Шибанидов лишьв XIV в. Впрочем, утверждать однозначно это тоже нельзя,
* Любопытно, что согласно хивинскому хану, Бату (Саин)-хан Орде (Ичену) во владение дал «иль из десяти тысячдомов» (ун менг эйлек ил), т.е. меньше, чем Шибану.
** По-видимому, это заключение Т.И. Султанова основываетсяна сочинении Абдаллаха Балхи «Зубдат ал-асар» (XVI в.).
57
не только из-за приведенных выше соображений по по-воду клана кушчи, но и потому, что Шибанидам кланы кар-лык и буйрак могли принадлежать и до XIV в., т.е. до воз-можной повторной передачи им этих подразделений поволе кыйата Исатай бека после известных событий, свя-занных с воцарением хана Узбека.
Но все же остаются некоторые сомнения по поводувхождения всех перечисленных кланов в удел Шибана.Так, при описании поездки египетских послов к хану Бер-ке (1256-1266) около 1263-64 гг. через Крым – от Судакаи далее в степь, там отмечается «начальник по имениТукбуга», который «начальствовал над десятком тысяч[воинов] и был правителем всего этого края» [7, 92]*. Каквидим, его имя и должность (он явно был темником) со-впадают с именем и должностью предводителя ополче-ния клана тюмен из войска Шибана периода завоеванияКрыма (1237/38 г.). Хотя с тех пор к описываемому време-ни прошло уже около четверти века, Тукбуга вполне могбыть еще живым и дееспособным. С другой стороны, уАбул-Гази Бахадур-хана есть интересный пассаж о наде-лении Шибана, кроме прочего, «юртом Карел (Корел)»,находившимся далеко от его основного владения. Помнению хивинского хана, Шибан переселил туда одногоиз своих «угланов и хороших беков» и затем это владениеиз поколения в поколение оставалось в руках Шибани-дов [51, 134]. Имея в виду, что в данном случае речь идето западных пределах Золотой Орды, можно полагать, чтокакая-то часть кланов, подчиненных Шибану, могла ос-таться там. В этом плане важно сообщение об участии«Бурондая безбожного», занявшего около 1256/57 г. «ме-ста Куремьсине», т.е. земли по соседству с Галицко-Во-лынским княжеством (на правом берегу Днепра), во гла-ве «множества полков татарских», в походе на Литву (1258г.) и в Польшу (1259-1260 гг.), когда после взятия Сандо-мира он «възворотися назадъ въ своа вежи» [4, 136, 138-139; 35, 846-847, 849, 855*]. Однако это переселение мог-ло быть реализовано и по другому принципу – на основеотделения небольших групп из подчиненных Шибану кла-новых образований, т.е. сохранив клановую структуру еговотчинного владения – коренного юрта.
Что бросается в глаза – это четырехчастность «на-рода-войска» Шибана как времени крымского похода,так и периода после завершения западного похода воглаве с Бату-ханом. Кстати, Чингизид Тука-Тимур такжеполучил «народ-войско» из четырех групп. Так как в Улу-се Джучи каркасом административно-политического уст-ройства государства была система из 4-х карача-беков,напрашивается гипотеза о том, что такая же система былаизначально заложена и во владении Шибана. В этом слу-чае те базовые кланы, которые были у Шибана, могутбыть «карачинскими».
Возможно, особенности группировки кланов в поли-тиях Шибанидов связаны с существованием «изначаль-ного» собственного деления на два крыла во владенииШибана. На это намекает «двучленность» кланов, кото-рые были подчинены Шибану – одна группа предстаетперед нами во время крымского похода (подразделениябуркут, кыйат, конграт, тюмен), а другая – после заверше-ния западного похода Чингизидов (группы кушчи, найман,карлык, буйрак). Однако из-за недостатка информациипротянуть логически последовательную цепочку от исход-ных клановых структур к административно-политическо-му устройству Государства кочевых узбеков и других поли-тий во главе с Шибанидами пока невозможно.
В итоге обнаруживается достаточно полная преем-ственность клановых основ улуса Шибана и Государствакочевых узбеков / Тюменского ханства. Но между после-
дними политиями и Сибирским юртом такой преемствен-ности не видно. Скорее существовала передача Сибирс-кому юрту общей социально-политической основы в видесистемы 4-х карача-беев во главе с беклярибеками Тай-бугидами из клана Буркут, нежели всех более ранних кла-нов карача-беков. Правда, такой результат, скорее отра-жает состояние источников, нежели изменение в Сибир-ском юрте каркасной социально-политической структу-ры, унаследованной от более ранних тюрко-татарских по-литий.
Список литературы1. Абул-Гази. Родословное древо тюрок/ Пер. и пред. Г.С.Саблукова. – Казань, 1906.2. Алексеев А.К. Политическая история Тукай-Тимуридов. Поматериалам персидского исторического сочинения Бахр ал-асрар. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2006.3. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. – М., 1965.4. Галицко-Волынская летопись. Текст. Комментарий.Исследования. – СПб.: Алетейя, 2005.5. Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан. История Завоевателямира. – М.: Изд. дом «Магистр-Пресс», 2004.6. Зайцев И.В. Ad Fontes: Крымская историография эпохиСредневековья и Нового времени // Тюркологическийсборник. 2003-2004: Тюркские народы в древности и Средне-вековье / Редкол.: С.Г. Кляшторный (пред.), Т.И. Султанов,В.В. Трепавлов. – М.: Вост. лит., 2005. – С. 68-70.7. Золотая Орда в источниках. Т. 1. Арабские и персидскиесочинения. – М., 2003.8. Инальчик Х. Хан и племенная аристократия: Крымскоеханство под управлением Сахиб-Гирея // Панорама – Форум.- 1995. - № 3. – С. 73-94.9. История Казахстана в персидских источниках. Т. IV. –Алматы, 2006.10. Исхаков Д.М. К вопросу об этносоциальной структуретатарских ханств (на примере Казанского и Касимовскогоханств XV – сер. XVI вв.) // Панорама-Форум. - 1995. - № 3. –С. 95-107.11. Исхаков Д.М. Сеиды в позднезолотоордынских татарс-ких государствах. – Казань: Изд-во «Иман», 1997.12. Исхаков Д.М. Сеиды в Сибирском ханстве // Сибирскиетатары: Материалы I Сибирского симпозиума «Культурноенаследие народов Западной Сибири» (14-18 декабря 1998 г.,Тобольск). – Омск, 1998. – С. 195.13. Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарамнового времени (этнологический взгляд на историю волго-уральских татар XV-XVII вв.). – Казань: Мастер-Лайн, 1998.14. Исхаков Д.М. Родословные и эпические произведения какисточник изучения истории сословий Улуса Джучи итатарских ханств // Источниковедение истории УлусаДжучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223-1556.– Казань, 2002. – С. 329-366.15. Исхаков Д.М. Кланы и их роль в социально-политическомустройстве Улуса Джучи //Исторические очерки. – Казань:ФЭН, 2003. – С. 24-57.16. Исхаков Д.М. Введение в этнополитическую историюсибирских татар // Сулеймановские чтения – 2004: Матери-алы VII межрегиональной научно-практической конференции.– Тюмень, 2004. – С. 25-28.17. Исхаков Д.М. Князья Казанские, князья Болгарские //Гасырлар авазы. Эхо веков. - 2005. - № 5. – С. 161-171.18. Исхаков Д.М. Краткая история Сибирского ханства //Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства.Очерки. – Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ,2006. – С. 166-171.19. Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства.Очерки. – Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ,2006.20. Исхаков Д.М, Измайлов И.Л. Этнополитическая историятатар (III – середина XVI вв.). – Казань: РИЦ «Школа», 2007.21. Исхаков Д.М. Институт «Сибирских князей»: генезис,клановые основы и место в социально-политическойструктуре Сибирского юрта // Сулеймановские чтения:Материалы XI Всероссийской научно-практической конфе-ренции по теме «Проблемы сохранения этническогосамосознания, языка и культуры сибирских татар в XXI в.»* Сообщение из ал-Муфаддаля.
58(г. Тобольск, 16-17 мая 2008 г.). Посвящается 70-летию содня рождения Б.В. Сулейманова. – Тобольск, 2008. – С. 219-222.22. Исхаков Д.М. Институт «Сибирских князей»: генезис,клановые основы и место в социально-политическойструктуре Сибирского юрта // Гасырлар авазы. Эхо веков. -2008. - № 2. – С. 147-158.23. Исхаков Д.М. Булгарский вилаят накануне образованияКазанского ханства: новый взгляд на известные проблемы //Гасырлар авазы. Эхо веков. - 2009. - № 2. – С. 123-138.24. Исхаков Д.М. О клановом составе первоначальногоудела Шибана // Золотоордынское наследие: МатериалыМеждународной научной конференции «Политическая исоциально-экономическая история Золотой Орды (XIII-XVвв.)». 17 марта 2009 г. Сб. ст. Вып. 1. – Казань: Изд-во«Фэн» АН РТ, 2009. – С. 24-30.25. Исхаков Д.М. Новые данные о клановой принадлежности«Сибирских князей» Тайбугидов // Золотоордынская цивили-зация: Сб. ст. - Вып. 2. – Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2009. –С. 117-121.26. Исхаков Д.М. Новые данные о клановой принадлежности«Сибирских князей» Тайбугидов // Этнос. Общество.Цивилизация: II Кузеевские чтения: Материалы Международ-ной научно-практической конференции, посвященной80-летию Р.Г. Кузеева. Уфа, 17-19 апреля 2009 г. – Уфа, 2009.– С. 224-227.27. Исхаков Д.М. Введение в этнополитическую историюсибирских татар // Искер – столица Сибирского ханства. –Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2010. – С. 12-32.28. Катанов Н.Ф. Предания тобольских татар о Кучуме иЕрмаке // Ежегодник Тобольского губернского музея. - Вып. 5.– Тобольск, 1896.29. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народыЕвразийских степей. Древность и средневековье. – СПб.,2000.30. Костюков В.П. Железные псы Батуидов (Шибан и егопотомки в войнах XIII в.) // Вопросы истории и археологииЗападного Казахстана. - 2008. - № 1.31. Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостеп-ного Притоболья в средние века: Монография. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2008.32. Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII вв.Извлечения из персидских и тюркских сочинений. – Алма-Ата, 1969.33. Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. – М., 1999.34. Почекаев Р.Ю. К вопросу о переходе власти в государ-ствах Чингисидов. Золотая Орда в 1358-1362 гг.: династи-ческий кризис и феномен самозванства // Золотоордынскаяцивилизация: Сб. ст. - Вып. 2. – Казань: ФЭН АН РТ, 2009. –С. 39-49.35. ПСРЛ. Т.2. Ипатьевская летопись. – М., 2001.36. ПСРЛ. Т. 4. Львовская летопись. – Рязань, 1999.37. ПСРЛ. Т. 36. Сибирские летописи. Ч. 1. Группа Есиповс-кой летописи. – М., 1987.38. Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. II. – М.-Л.: Изд-воАН СССР, 1960.39. Сабитов Ж.М. Тайбугиды в ханстве Абулхаир-хана //Сабитов Ж.М. Тайбугиды в ханстве Абулхаир-хана //Средневековые тюрко-татарские государства: Сб.ст. -Вып. 2. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АНРТ, 2010. – С. 32-36 (Статья находится в печати).40. Сибирские летописи. – СПб., 2007.41. Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья XV-XVII вв.(вопросы этнической и социальной истории). – М.: Наука,1982.42. Султанов Т.И. Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть.– М.: АСТ: АСТ Москва, 2007.43. Сыроечковский В.Е. Мухаммед-Герай и его вассалы //Ученые записки Московского ун-та. - Вып. 61. - Т.2. – М.,1940. – С. 3-71.44. Таварих-и гузида-йи нусрат-наме. Исслед., крит. текст,аннот. оглав. и табл. свод. оглав. канд. филол. наук А.А.Акрамова. – Ташкент: Изд. «Фан» Узбекской ССР, 1967. араб.паг. Текст подготовлен И. Мустакимовым.45. Тычинских З.А. Служилые татары и их роль в формиро-вании этнической общности сибирских татар (XVII-XIX вв.).
– Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010.46. Уксенбай. Улусы первых Джучидов. Проблема терминовАк-Орда и Кок-Орда // Тюркологический сборник 2005.Тюркские народы России и Великой степи. – М.: Изд. Фирма«Вост. лит.» , 2006. – С. 355-382.47. Усманов М.А. Татарские исторические источники XVII-XVIII вв. – Казань, 1972.48. Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. – Алма-Ата, 1992.49. Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй ЗолотойОрды. – М.: Изд-во МГУ, 1973.50. Шамильоглу Ю. «Карачи беи» поздней Золотой Орды:заметки по организации Монгольской мировой империи // Изистории Золотой Орды. – Казань, 1993. – С. 44-60.51. Эбелгазый Бахадир хан. Шэжэрэи тэрек. – Казан, 2007.52. Эбiлгазы. Турк шежiресi. – Алматы, 2006.53. Inalchik H. The Khan and tribal aristocracy: The CrimeanKhanat under Sahib Giray // Harvard Ukranian Studies, 1979-1980, vol. 3-4, part 1. – p.p. 445-466.54. Manz B.F. The clans of the Crimean Khanate, 1466-1532 //Harvard Ukranian Studies, 1987. vol. 2-3. – p.p. 282-309.55. Schamiloglu U. The qarasi beys of Later Golden Horde:Notes on the organization of the Mongol world Empire // ArcivumEurasiae MediiAevi 1984, № 4. p.p. 287-297.56. Schamiloglu U. Tribal Politics and Social Organization in theGolden Horde. – Columbia University, 1986 (Диссертация настепень Ph.D.).57. Schamiloglu. The Umdet ul-ahbar and Turkic narrativesources for the Golden Horde and the Later Golden Horde //Central Asian monuments. Ed. by Hasan B. Paksoy. – Istanbul,1992. – p.p. 81-93.58. Schamiloglu U. Golden Horde: Society and Civilization inWestern Eurasia, 13th-14th centuries. – Madison, Wisconsin. –1998.
Ж.М. Сабитовг. Астана
О ХРОНОЛОГИИ СОБЫТИЙ ВВОСТОЧНОМ ДЕШТ-И-КЫПЧАКЕ
В 60-90-е ГОДЫ XV ВЕКАПолитическая ситуация в улусе шибанидов в 60-90-е
годы XV века является очень запутанной как в плане хро-нологии, так и в плане расстановки политических сил.
Безусловным фактом для начала этого периода яв-ляется ханствование Абулхаир-хана, который умер, со-гласно Тарихи Абулхаир-хани, в 874 году хиджры (1469-1470) в год мыши в возрасте 57 лет [12, 173].
Очень спорным с точки зрения хронологии являет-ся эпизод с правлением Ядигера. Есть три источника,которые имеют различные точки зрения на этот вопрос:
1. Абулгази. Он вообще не датирует избрание Ядиге-ра ханом.
2. Фирдаус ал Икбал. Он датирует избрание Ядигераханом 862 годом хиджры (27.11.1457-15.11.1458)
У Абулгази этот эпизод никак не датирован, он по-ставлен после эпизода, когда Муса с помощью Буреке,сына Ядигера, расправился с Ходжашем. Здесь надо учи-тывать, что различные переводы Абулгази могут отличать-ся друг от друга в деталях. В.В. Трепавлов ошибочно дати-рует конфликт Мусы и Ходжаша 1455 годом (860 г.х.), хотя(согласно переводам 1768 и 1996 годов) данная датапересена из предыдущего рассказа о том, как Буреке поприказу Абулхаир-хана поддерживал тимурида Мухамме-да Джуки, сына Абдул Латифа против тимурида Абу Сеи-да, бывшего ставленника Абулхаир-хана. Буреке с 30 ты-сячами вторгся в тимуридские владения, овладел Таш-кентом и подошел к Самарканду. Возле Самарканда со-стоялась битва между узбеками и тимуридским эмиромМозайяд Аргуном. Буреке командовал левым крылом,Пешкенд-оглан правым, а сам Мухаммед Джуки был в
59
центре. Пешкенд-оглан, по нашему мнению, - это извес-тный Бишкент-оглан иджан, сподвижник Абулхаир-хана[12, 172].
Буреке победил, но последующее наступление АбуСеида свело на нет все успехи узбеков. Летом 860 г.х.(лето 1455 года) [1, 147] Мухаммед Джуки был посажен вкрепость Ихтияр уд-дин в Хорасане. Согласно переводу1996 года указан просто год [2, 108]. Согласно же другимисточникам Мухаммед Джуки только в 1457 году воссталпротив Абу Сеида и только после этого ушел к Абулхаир-хану и получил от него помощь [3, 137]. Но видимо здесьБ.А. Ахмедов не прав. Дата не указана в источнике, накоторый он ссылается (Масуд Кухистани), а является, ско-рее всего, производной от другой даты. У Масуда Кухиста-ни поход Пишкадэ-оглана с Мухаммедом Джуки постав-лен после эпизода битвы с калмаками Уз-Тимур-тайши.Скорее всего, на этом зиждиться утверждение о дате.Как мы знаем, в результате битвы с калмаками Абулха-ир-хан проиграл, его внук Махмуд-султан, сын Шах-Буда-ка стал аманатом (заложником) у Уз-Тимур-тайши. Датабитвы с калмаками вычисляется косвенно на основе дан-ных рождения Махмуд-слутана. Согласно Бинаи, Махмуд-султан родился в 858 г.х. (9.1.1454-29.12.1454) [9, 97]. Со-гласно Нусрат-наме, Махмуд-султан в возрасте трех летпопал в плен к Уз-Тимур-тайши и был в плену 7 лет, послечего Уз-Тимур-тайши отпустил его к деду [9, 17]. Такимобразом, битвы калмаков Уз-Тимур-тайши с Абулхаир-ха-ном можно датировать 1457 годом (т.е. годом, когда Мах-муд-султану было 3 года). По нашему мнению, расстанов-ка эпизодов у Масуда Кухистани осуществлялось произ-вольно на основе рукописи Самарканди [12, 166-180].Таким образом, дата из Абулгази нам кажется болеепредпочтительной.
Эпизод с конфликтом Мусы и Ходжаша не датиро-ван и мы вправе считать, что он мог произойти и гораздопозже середины 1450-х годов.
Согласно Абулгази, Муса первоначально потерпелпоражение от Ходжаша и бежал к Буреке. Согласно пе-реводу 1768 года и Ходжаш, и Муса названы как «вель-можи в областях Ядир-хановых», то есть можно предпо-ложить, что данный конфликт начался уже после воца-рения Ядигер-хана или как минимум в период между-царствия и курултая, который избрал Ядигера верховнымханом улуса Шибана. Противоречивость его положенияна момент прибытия Мусы обозначена следующей фор-мулировкой: «но как его отец Жадигер не был еще вер-ховным владетелем, хотя подданные и признавали егоза своего хана» [1, 148]. Прибытие Мусы привело к тому,что Ядигер стал ханом, и войско Буреке и Мусы пошло впоход против Ходжаш-мирзы. Поход, начавшийся в нача-ле зимы, был под угрозой отмены из-за того, что выпаломного снега. К отмене похода склонялся и сам Муса, ноБуреке настоял на продолжении похода [1, 148]. При пе-реходе через высокую гору Буреке заметил другую ар-мию. Выслав лазутчиков, он узнал, что это армия Ходжа-ша. Буреке внезапно напал, Ходжаш погиб в бою. Бурекевзял замуж Малаи-хан-саду, дочь Ходжаша. Весной Буре-ке вернулся домой [1, 149].
Следующий эпизод у Абулгази переводили по-раз-ному. Согласно переводу 1768 года, он называется о смер-ти Абулхаир-хана и Бурга-султана [1, 150], в то время как впереводе 1996 года он называет о смерти Ядигер-хана иБерке-султана [2, 109]. Согласно Абулгази, Абулхаир-ханс несколькими сыновьями был убит заговорщиками. Нов переводе 1996 года сказано, что Абулхаир-хан умер пос-ле Ядигера [2, 109], в то время как в переводе 1768 тако-го упоминания нет.
Летом 886 г.х.(1481 года), согласно Абулгази, Мухам-мед Шейбани убил Буреке-султана. У Абулгази в приме-
чаниях написано, что данное событие произошло в 1482году [1, 158], но, видимо, у переводчиков произошла ошиб-ка на год. 886 год по хиджре длился с 11.03.1481 по28.02.1482. Таким образом, лето 886 года по хиджре –это лето 1481 года.
Когда Мухаммед Шейбани захватил орду Буреке, вплен ему попала дочь Ходжаш-мирзы Малай-ханзада,которую он отдал своему дяде Ходжа-Мухаммеду. Соглас-но Абулгази, она уже была на втором месяце беремен-ности от Буреке и родила Джанибека, который считалсясыном Ходжа-Мухаммеда, но биологическим отцом ко-торого был Буреке [1, 158]. Весь улус Буреке ушел к нога-ям [14, 105].
Второй источник, который нам говорит о воцаренииЯдигера, – это Фирдаус ал Икбал. Согласно этому источ-нику избрание Ядигера ханом произошло в 862 году хид-жры (27.11.1457-15.11.1458). Совсем непонятно откудаМунис взял данную дату, ведь с момента воцарения Яди-гера до написания данного труда прошло около 350 лет.Вполне возможно, что эта и другие даты (такие как 1505год как год после смерти Мухаммеда Шейбани и год заво-евания Хорезма детьми Буреке) ошибочны.
Известно, что Мухаммед Шейбани умер не в 1505году, а гораздо позже, в 1510 году. Надо думать, ошибки вФирдаус ал Икбал вызваны тем, что устное летоисчисле-ние по животному циклу переводилось в мусульманскиегоды по хиджре и получалось так, что при ошибке сдвигпроисходил на 12 лет. То есть, например, в Фирдаус алИкбал сказано, что Ядигер стал ханом в 1457-1458 году, асогласно Фатх-наме он стал ханом после смерти Абулха-ира. Надо думать, что тут произошла ошибка в один цикли Ядигер стал ханом не 1457-1458 годах, а в 1469-1470годах. То же самое с датой завоевания Хорезма. Скореевсего, Ильбарс с братом завоевали Хорезм не в 1505-1506 годах, а в 1517-1518 годах [13, 139].
Третий источник - Фатх-наме, в котором сказано, чтоЯдигер стал ханом после смерти Абулхаир-хана, крометого там сказано, что Шайх-Хайдар,сын Абулхаир-хана,стал ханом только после смерти самого Ядигера. Самже Мухаммед Шейбани, согласно Фатх-наме, служил Яди-геру в возрасте 16 лет [9, 54-56] . Известно, что МухаммедШейбани родился в 855 г.х (11.02.1451-30.01.1452). «Вовремя Хан-и Бузурга в году восемьсот пятьдесят пятом вдоме Шах-Будак-хана пришел на арену бытия сын. Хан-иБузург нарек [его] именем Мухаммад-Шайбани и дал про-звище Шахбахт» [9, 393]. Таким образом, тут можно за-метить противоречие. Мухаммед Шейбани вряд ли могслужить Ядигеру в 1467-68 годах при жизни деда. Види-мо, автор Фатх-наме ошибся с возрастом МухаммедаШейбани.
Согласно Фатх-наме:«Однажды из-за коловращения небесных сферПроявлением болезни было полонено Солнце.Столь явным стало могущество болезни,Что она утащила его пожитки в царство небытия»
[9, 53] .В примечаниях к слову Солнце был написано: «Име-
ется в виду Абу-л-Хайр-хан». Но, скорее всего, здесь ав-тор Фатх-наме имел в виду затмение солнца, которое онсвязывал с болезнью или смертью Абулхаир-хана.
Б.-А. Б. Кочекаев считал, что Ядигер был провозгла-шен ханом мангытами после смерти Абулхаир-хана дляпротивостояния казахам, которые теснили мангытов назапад [7, 51-52]. Здесь мы согласны, что Ядигер стал ха-ном после смерти Абулахира, но насчет противостоянияс казахами слишком мало аргументов в пользу такого про-тивостояния.
Т.И. Султанов считает, что Абулхаир умер в 1468 году:«Махмуд бен Вали в качестве даты похода и смерти хана
60
приводит год мыши (1468 г.), однако приравнивает его к874 году хиджры (19.07. 1469-7.07.1470). В подобных слу-чаях хронологической неувязки, если речь идет об исто-рических трудах, написанных в Туркестане, по словамВ.В. Бартольда, приходится предполагать ошибку в му-сульманской дате, так как с эрой по циклу население былоближе знакомо. Однако опыт изучения материалов му-сульманских источников в этом плане показывает, чтоздесь нет ошибки, просто в Туркестане и прилегающихрегионах 12-летний циклический календарь не быледин… В Туркестане эта разница, судя по всему, состав-ляла один календарный год. Абулхаир умер в один иззимних месяцев года мыши, то есть в конце 1468 - нача-ле 1469 года, поскольку речь в источнике идет о началезимы, предпочтительным оказывается 1468 год» [6, 237].
Здесь мы должны отметить, что данная дата не яв-ляется оригинальным свидетельством Махмуда Бен Вали,а является, скорее всего, заимствованной из труда Масу-да Кухистани, где по датам указаны:
1. Дата рождения (816 г.х. (11.04.1413-30.03.1414),год дракона).
2. Дата вступления на престол (833 г.х. (8.10.1429-26.09.1430), год обезьяны).
3. Дата смерти Абулхаира (874 г.х. (19.07. 1469-7.07.1470), год мыши, умер в возрасте 57 лет).
4. Дата смерти Абдаллаха, противника Абу Саида (10джумади 855 г.х.) [12, 173].
Основываясь на словах Т.И. Султанова о том, что «вТуркестане эта разница, судя по всему, составляла одинкалендарный год», мы можем предположить, что годМыши в Туркестане отличался на один год вперед. На-пример, в традиционном календаре он в 1468 году, а вкалендаре Туркестана это 1469 год. Таким образом, мож-но заметить, что никакого противоречия между календа-рем по животному циклу и годом по хиджре нет. В итогеможно сказать, что Абулхаир-хан родился где-то в 1413году и умер зимой 1469-70 годов, вполне возможно в де-кабре 1469 года. Правда, утверждение, что он умер в 57лет, может свидетельствовать, что он умер немногим поз-же в 1470 году после своего дня рождения между 11 ап-реля (начало 816 года хиджры, в котором он родился) и19 июля (день окончания 874 года по хиджре).
Далее в Фатх-наме идет отрывок о том, как МухаммедШейбани под руководством Буреке воевал с могулами:
Когда Йадгар взошел на ханский престол,Он решил провести зиму в Отраре.Едва тронулся из степей к Отрару,Как явился некий человек и его известил:«Пришло великое числом могульское войско,Все [могулы] — степные волки и свойственники де-
мона пустыни.В царство вошло странное войско,Оно направило копья на притеснение жителей.Порушился мир смутою йаджуджей.Имя хана сего войска Йунус,Обладает он умением притеснять силою,Воинство его числом более муравьев и змей».В ту пору шаху сахибкирануБыло от роду шестнадцать лет.Силою лука и мощью мечаОн словно молния, что ударяет из грохочущей тучи.Благодаря блеску счастья, сверкающему на челе,Благополучие [ему] — гулам, победа — интимный
друг.Несмотря на молодость, он был столь умудрен,Что в рассудительности и знании был опытным стар-
цем.В то время у хана был один сын,Витязь, словно гора препоясанная мечом,
Имя которому было в [этом] мире Буреке.Разил он [врагов] с быстротой и свирепостью яда.Когда произвели они подсчет [своему] войску,В нем оказалось более тридцати тысяч.Отправилось войско на войну с могулами,Померк мир от пыли, [поднятой] всадниками…Однако могулы, напрягши силы, первымиСтремительно напали на Буреке.Сколько пустили они стрел, обрушили ударов мечей
и метнули дротиков,Что [воины Буреке] побежали от первого же натиска[Едва] они решительно произвели первую мощную
атаку,[Как] полностью смешали [строй] войска Буреке…Затем, когда устремился вперед сахибкиран,Неприятель пустился в бегство пред его острым ме-
чом.Разбегаясь, как муравьи под ногами слона,Они стали соломой на поверхности реки Нил.Шаханшах захватил богатую добычу,В то мгновение он получил предсказание об [ожида-
ющем его] счастье.Войско, завершив дело врага мечом,Опустило его луну за тучи [9, 54-56].С этим рассказом перекликается другой рассказ
Мирза Хайдара Дулати об убийстве могулистанским ха-ном Юнусом Бурудж-оглана сына Абулхаир-хана [9, 197-199]. Вполне возможно это два свидетельства одного итого же события.
В примечаниях о Бурудж-оглане сказано «названниже в «Та’рих-и Рашиди» сыном Абу-л-Хайра, что оши-бочно, так как среди его сыновей нет никого, кто носилбы такое имя. Б.А. Ахмедов отождествляет Бурудж-огла-на (у него: Бурунч-оглан) с Бузунджар-бием из племеникият, что вызывает сомнение, так как Бурудж назван ог-ланом, т. е. отпрыском ханского рода, каковым не былБузунджар-бий. По «Фатх-наме» Шади противником Йу-нус-хана в этой битве на Сыр-Дарье был сын шайбанидаЙадгар-хана по имени Буреке-султан. Возможно, что Бу-реке есть вежливая форма обращения от имени Бурудж»[9, 524].
Мы не вполне солидарны с мнением составителейМИКХ и предполагаем, что тем Бурудж-огланом был Ак-Бурун-султан (Ак-Йорун), сын Абулхаир-хана [15, 79]
Очень интересным в плане датировки столкновениямогулов и узбеков является отрывок из сочинения МирзаХайдара Дулати:
«Короче говоря, он (Рашид-хан) вступил в союз сШайбаном и разгромил узбек-казаков. И действительно,разгром узбек-казаков был удивительным делом послетого, как [Рашид хан] пренебрег старинными обычаями.С тех пор, как Султан Йунус хан разбил Бурудж углана вКара-Тукае в 877 (1472-1473) году, до настоящего време-ни между узбеками и моголами произошло много сраже-ний, и всегда узбеки побеждали, так что моголы никогдаза этот период не одерживали победу над узбеками» [10,180]. То есть согласно Мирза Хайдару Дулати столкновениемогулов и узбеков, в котором со стороны узбеков участвова-ли Буреке и Мухаммед Шейбани, происходило в 877 г.х.(16.06.1472-05.06.1473), причем это столкновение про-исходило с осени 1472 до начала 1473 года, так как уШади было написано:
Когда Йадгар взошел на ханский престол,Он решил провести зиму в Отраре.Едва тронулся из степей к Отрару,Как явился некий человек и его известил [9, 54].Видимо, Ядигер правил не очень долго, после пора-
жения от могулов и уже после его смерти в 1473 годуханом был избран Шах-Хайдар, но против него выступи-
61
ла коалиция в составе Саийдека, Ибака, Джанибека иКирея, мангытов Аббаса, Мусы, Ямгурчи, Буреке-султана.
Говоря о главе коалиции Саийдек-хане, мы бы хоте-ли предложить свое видение событий.
Султан Саид-Йеке, которого в источниках называли«братом Абулхаира», был выпущен Абу Сеидом на свобо-ду из плена в январе-феврале 1465 года. Он был до этоговзят в плен в Хорезме и находился в заключении в Гера-те. Эмиры и чиновники снабдили его «царскими принад-лежностями» и отправили в «область Узбекскую» [4, 383].
Под словосочетанием снабдили «царскими принад-лежностями» вполне можно понять, что Абу Сеид, быв-ший ставленник, впоследствии противник Абулхаир-хана,решил выдвинуть против Абулхаир-хана соперника - Са-ийдек-хана. Таким образом, можно считать, что Саийдекстал ханом при поддержке Тимуридов в январе-феврале1465 года и был им до смерти Шах-Хайдара. Саийдек, повсей видимости, умер в 1473 году во время войн с Шах-Хайдаром, потому что после смерти Шах-Хайдара коали-цию возглавляет его племянник Ибак.
Шах-Хайдар, по нашему мнению, стал ханом в 1473году, после поражения от могулов и смерти Ядигера. Нобыл он им недолго. В этом же году он был разбит и убиткоалицией врагов. После разгрома Шах-Хайдара Ибак имангытские мурзы совершили поход под Астрахань. Ви-димо, именно к тому периоду и этому эпизоду относитьсяпервое упоминание Ибака как ногайского царя в русскихлетописях в 1473 году [11, 203]
Говоря дальше о хронологии этого периода, нужнозатронуть такие произведения о Мухаммеде Шейбани как«Фатх-наме», «Таварихи гузидайи нусрат-наме» и «Шей-бани-наме» Бинаи. Как мы знаем, Мухаммед Шейбани втечение 25-30 лет был скитальцем и не имел четких вла-дений до завоевания Средней Азии. Читая вышеупомя-нутые произведения, можно подумать, что путь от без-домного казака до хана Средней Азии Мухаммед Шейба-ни прошел за 10 лет. На самом деле все эти событиянельзя помещать в течение периода непосредственнопосле смерти Шах-Хайдара. Можно предположить, что в70-е годы Мухаммед Шейбани ничем не проявил себя.Приглашение Мухаммеда Шейбани к Мусе, чтобы назна-чить его ханом, по нашему мнению, не могло произойти в1473 году, как считает В.В. Трепавлов. Он аргументируетэто тем, что согласно Кадырали Жалаири, Хорезми-бекстал беком после смерти Ваккаса и позже не известенпо другим источникам. А так как Хорезми-бек не был из-вестен как бек больше ни в каких источниках, то можнопредположить, что он был убит непосредственно сразуже после смерти Шах-Хайдара и Джанибека [14, 105-106].
Свою аргументацию мы предложим после рассмот-рения структуры всех трех произведений.
В трех сочинениях ясно видна структура и этапы борь-бы Мухаммеда Шейбани за власть:
1. Набег на Ахмада. Он мог случиться до 1480 года,когда Ахмад был жив.
2. Уход в Туркестан. Случился сразу же после уходаот Ахмада.
3. Набег на Шах-Будака. По нашему мнению, это от-рывок может пролить свет на более точную хронологиюсобытий. Остановимся на нем ниже.
4. Приход под Туркестан Кирей-хана. Уход в Бухару.5. Возвращение после двух лет отсутствия, пригла-
шение Мусы, битва с Бурундуком, смерть Хорезми-бека.6. Возвращение от Мусы, набег на Хорезм, приход
отколовшихся от Ибака людей.Так как приход под Туркестан Кирей-хана и пригла-
шение Мусы случилось немногим позже набега на Шах-Будака, мы бы хотели выразить свое мнение по поводудатировки этого набега.
Согласно Бинаи:«В ту пору в орде [Мухаммад Шайбани-хана] кончил-
ся провиант. Посоветовавшись с ‘Алике-султаном, он на-правил в набег на улус Хамза-султана, Махмуд-султака нСуйунч-Ходжа-султана с отрядом из храбрецов войска.Когда они достигли улуса и совершили нападение, в [их]руки попало большое богатство. Захватив [это] богатство,они повернули назад. Случайно на том пути [произошлоследующее]. Шах-Будаг-бахадур был сыном Ходжа-баха-дура, имел прозвище (лакаб) Суфи, он был из омака кан-глы. Он бежал от мангытов. По той причине, что он, Шах-Будаг-Суфи ради Шахибек-хана орду Буреке-султана, ко-торого убил хан и орда которого была рассеяна ханом,увел от Йамгурчи-мирзы [и тем самым] сделал доброедело для хана, — сам по этой причине бежал, пришел ктуркменам и находился [у них]. И вот теперь его старшийсын Мансур-Суфи столкнулся с этими султанами» [9, 101-102].
Здесь мы видим точно, что набег случился послеубийства Буреке, так как сказано, что отец Шах-Будакаувел орду Буреке от Ямгурчи. Мы точно знаем, что Бурекебыл убит летом 1481 года [1, 158].
Таким образом, мы можем датировать и правлениеКерей-хана как минимум до 1481 года.
Также приглашение Мусы нужно датировать перио-дом после 1483 года.
Таких периодов могло быть три:1. 1490 год, когда Муса и Ямгурчи объявили ханом
Абулека, сына Ядигера [5, 37]. Возможно, до этого ониподбирали другие кандидатуры, и среди них был Мухам-мед Шейбани.
2. 1492 год, когда Аббас и Ямгурчи были не в миру сМусой, а тот кочевал по Эмбе, отдельно от них. ПричемАббас и Ямгурчи призывали из Тюмени Ибака [14, 117].
3. После смерти Аббаса, когда беком мог стать стар-ший из Мангытов, а именно Хорезми-бек. Этим можнообъяснить короткие упоминания о Хорезми-беке. Он былбеком короткий период между Аббасом и Мусой. При-чем, как считает В.В. Трепавлов возвращение Мусы к но-гаям связано именно со смертью Аббаса [14, 117]. Крометого, есть косвенные свидетельства, говорящие о том, чтоприглашение Мухаммеда Шейбани случилось после смер-ти Аббаса, а не во время фронды Мусы. Трепавлов наоснове мнений Небольсина, М. Усманова пишет, что Аб-бас был бездетным [14, 117].
Но, судя по восточным источникам, у Аббаса былидети:
«Вначале он (Махмуд-султан) взял в жены дочь Али-мирзы, сына Аббас-бека… Затем взял в жены дочь Иум-нак-мирзы, внука Науруз-бека, сына Идику-бека. Онабыла ему племянницей… Он (Мухаммед Тимур, сын Му-хаммеда Шейбани) взял в жены дочь Бурундук-хана. За-тем взял в жены дочь Худай-Берди-мирзы, сына Аббас-бека, и развелся с ней» [9, 18]
Видимо, все эти браки были заключены во времясоюза Мусы и Мухаммеда Шейбани, тогда же женился идядя Мухаммеда Шейбани. «Во [время] той встречи Муса-мирза сделал Суйунч-Ходжа-султана [своим] зятем». [9,21].
Таким образом, мы хотим дать короткое резюместатьи.
Хан Абулхаир умер в начале зимы 1469 года. Послеэтого устраивается курултай, куда внезапно после пора-жения от Ходжаша прибывает Муса. На курултае избира-ют ханом Ядигера, Муса становиться беклярбеком. Яди-гер отправляет зимой 1470 года Буреке и Мусу в набегпротив Ходжаша, сына Гази. Осенью 1472 года Ядигер,Буреке и служащий им Мухаммед Шейбани отправляют-ся в сторону Отрара, возле которого в местности Кара-
62
Тукай остановился могулистанский Юнус-хан, бежавшийот калмыков Амасанджи-тайши. В результате конфликтаузбеки терпят поражение, причем был казнен попавшийв плен сын Абулхаир-хана Ак-Бурун (Бурудж-оглан). Спус-тя некоторое время в 1473 году Ядигер умирает, и на егоместо был избран Шах-Хайдар, который вскоре был убиткоалицией ногайских и казахских ханов во главе с Саий-деком. Саийдек был провозглашен ханом Тимуридами вянваре-феврале 1465 года, после этого он собирал силыдля противостояния Абулхаир-хану и его потомкам. Са-ийдек гибнет в то же время что и Шах-Хайдар и уже егоплемянник Ибак в 1473 году осаждает Мухаммеда Шей-бани в Астрахани. В это время русские летописи как разфиксируют Ибака как ногайского царя. В 70-х годах воглаве улуса Шибана стоит Ибак с ногайскими мурзами.Со времен смерти Ваккаса главой ногайских мурз явля-ется Аббас. Летом 1481 года Мухаммед Шейбани убиваетБуреке. В 80-х годах Мухаммед Шейбани промышляетнабегами, но после визита под стены Туркестана казахс-кого хана Керея (таким образом, можно предположить,что Керей был еще жив около 1482 года) вынужден былбежать в Бухару, где два года постигал науку. Через двагода Мухаммед Шейбани возвращается в Дешт-и-Кипчаки сразу приглашается Мусой в Ногайскую орду, которая вто время рассорилась с Ибаком. После смерти Аббасалидером мангытов является Хорезми-бек, но он был убитв результате боя с Бурундук-ханом. Главой мангытов ста-новиться Муса. Мухаммед Шейбани, проявивший слиш-ком большую активность, так и не возводится ханом умангытов и уходит на Сырдарью, где совершает набег наХорезм, позже к нему присоединяются люди, ушедшиеот Ибак-хана.
Список источников и литературы1. Абулгази Бахадур-хан. Родословная история о татарах. -Т. 2.- СПб., 1768.2. Абулгази Бахадур-хан. Родословное древо тюрков. - М.-Ташкент - Баку, 1996. - 186 с.3. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. -М.: Наука,1965. - 194 с.4. История Казахстана в персидских источниках. - Т.4. -Алматы: Дайк-Пресс, 2006. - 620 с.5. История Казахстана в русских источниках. - Т.1. -Алматы, 2005.6. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летописьтрех тысячелетий. - Алма-Ата, 1992. - 373 с.7. Кочекаев Б.-А.Б. Ногайско-русские отношения в XV-XVIIIвеках. - Алма-Ата: Наука, 1988. - 272 с.8. Маслюженко Д.Н. Легитимизация Тюменского ханства вовнешнеполитической деятельности Ибрахим-хана (втораяполовина XV в.) // Тюркологический сборник - 2007-2008. - М.,2009. - С.237-257.9. Материалы по истории Казахских ханств XV-XVIII веков:(Извлечения из персидских и тюркских сочинений). - Алма-Ата: Наука, 1969. - 650 с.10. Мирза Мухаммад Хайдар. Тарих-и Рашиди /Пер.А. Урунбаева, Р. П. Джалиловой. - Ташкент: Фан, 1996.11. Полное собрание русских летописей, - Т. 11-12. Патриар-шая или Никоновская летопись. - М., 1965.12. Сабитов Ж.М. Тарихи Абулхаир-хани как источник поистории ханства Абулхаир-хана // Вопросы истории иархеологии Западного Казахстана. - 2009. -№2. - С.166-180.13. Сабитов Ж.М. Ханы Ногайской Орды //Средневековыетюрко-татарские государства. - Вып. 1. - Казань, 2009.14. Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. - М.: Восточ-ная литература, 2001. - 752 с.15. Хафиз-и Таныш Бухари. Шараф -наме-йи шахи (Книгашахской славы)/Пер. М. А. Салахетдиновой. -Алма-Ата:Наука, 1983.
Д.Н. Маслюженког. Курган
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬСИБИРСКИХ ШИБАНИДОВ В ПЕРВОЙЧЕТВЕРТИ XVI ВЕКЕ (ПО ПЕРЕПИСКЕ
АК-КУРТА С МОСКВОЙ)Судьба Сибирских Шибанидов после провала казан-
ских походов до сих пор полностью не освещена в отече-ственной историографии. Не разбирая подробно всеимеющиеся точки зрения, отметим, что, на наш взгляд,после смерти Ибак-хана в результате переворота Тайбу-гидов власть в Тюмени, при условности приведенных нижедат, сохраняли его братья Мамук (1494-1496(7?) гг.) и Ага-лак (1497-1507 гг.), а также сын Кутлук (1505-? гг.). Не-смотря на очевидное ослабление ханства, это не говорито переходе его территории под власть Искерского кня-жества Тайбугидов, статус и место которого в сибирскойистории еще требуют оценки. Скорее речь должна идтиоб увеличение здесь роли Ногайской Орды. Элита нога-ев была тесно связана с Сибирскими Шибанидами и от-части могла поддерживать претензии последних на Тю-менский юрт, как это и произошло в середине XVI векапри Муртазе и его сыновьях Ахмед-Гирее и Кучуме. По-степенное уменьшение роли Тюменского ханства во внеш-ней политике на постзолотоордынском пространстве на-чала XVI века может быть изучено на примере исследо-вания положения Шибанидов Агалака и его племянникаАккурта в Ногайской орде.
Обстоятельства походов Шибанидов на Казань, в томчисле и деятельность Агалака на этом направлении былиподробно проанализированы в работах А.В.Парунина иЕ.А.Рябининой1. Однако остаются неизвестны время ипричины перехода Агалака и его родственников в Ногай-скую Орду, которые и стали отправной точкой для даль-нейшей переписки с Москвой. Например, это могло быпроизойти после провала его совместного с казанскимкнязем Ураком похода на Казань. Датировка этого похо-да достаточно спорна, в частности по той причине, что внекоторых источниках имеется информация о двух по-сылках русских воевод против Агалака.
Так, этот поход подробно описывается в разрядныхкнигах, где под 1498 годом читаем: «лета 7007-го сентяб-ря… прислал к великому князю ис Казани Абделетифцарь, что Урак князь хочет быть х Казани с Салтаганомцеревичем. И князь великий послал в Казань воевод своихберечь от Урака и от Салтагана». Для отражения набегабыли посланы войска под командованием князейС.И. Ряполовского и В.В.Ромодановского, а также вое-вод С. Карповича и А.Коробова [25, 29]. Следует отме-тить, что в летописных источниках, насколько нам извес-тно, это событие вообще не упоминается, и, на наш взгляд,здесь речь идет не о реальном походе Агалака, а лишь овозможной («…хочет быть…») угрозе.
Более известным является поход 1499 года. По дан-ным «Летописца Ф.К.Нормантского», в марте 7007 (1499)года в Москву вновь пришла весть о походе Агалака иУрака на Казань [12, 15]. В результате, согласно разряд-ным книгам, в августе 1499 (7007) г.: «Тово же году в авгу-сте… послал государь великий князь Иван Васильевичвсеа Русии х Козани полем х царю козанскому беречь
1 Автор благодарит за возможность использовать неопуб-ликованные материалы готовящейся к защите диссер-тации Е.А.Рябининой и статьи А.В. Парунина (ПоходыСибирских Шибанидов на Казань в конце XV в. // Сборникпамяти В.П. Костюкова. Азов).
63
ево от Урака и от Солтогана, от шибанских царевичев, вконной рати воевод своих» [24, 57]. Причем список при-сланных русских воевод, в том числе судовой рати, здесьгораздо шире: князья Ф.И.Бельской, С.И.Ряполовской,И.А. Суздальский Барбоша, бояре Ю.З. Кошкин иД.В. Шеин, а также М.К. Беззубцев, С. Карпович и околь-ничий А.В.Сабуров. Этот список схож с имеющимся в рус-ских летописях, где отсутствует С.И.Ряполовский, зато име-ется князь С.Р.Ярославский [18, 237; 19, 249-250; о раз-личиях в списках см. 5, 302]. Ошибка Разрядной книги иследовавших за ней исследователей вполне очевидна,особенно с учетом того, что в феврале 1499 годаС.И. Ряполовский был казнен [19, 248].
В недавно вышедшем справочнике по русско-ордын-ским конфликтам Ю.В.Селезнев по неясным нам причи-нам выделил эти походы как два отдельных [28, табл.143-144]. Возможно, что здесь имела место та же ситуация с«двойным» походом, что и ранее с Мамуком, который,узнав о приближении русских воевод к Казани, отступил«восвояси», а затем дождался их ухода и захватил город[18, 231].
Исходя из рассмотренной информации, в походемогли участвовать и иные царевичи из числа Шибанидов,помимо Агалака, который в этих источниках пишется какСалтаган. В то же время следует согласиться с точкойзрения Е.А.Рябининой и А.В.Парунина о том, что ногайс-кое нападение на Казань во главе с мурзами Мусой иЯмгурчи являлось отдельным походом, который мог бытьнапрямую и не связан с деятельностью Агалака. В раз-рядных книгах поход Мусы и Ямгурчи также датируется7008 (1500) годом [25, 60], что подтверждается и лето-писными источниками, причем под этим годом в них нетуказаний об участии Агалака и Урака [19, 253; 20, 294].Отметим, что той же точки зрения придерживался иН.М. Карамзин [10, 536], но в современной историогра-фии смешение совместного похода Агалака и Урака и де-ятельности ногаев, по сути, уже может считаться тради-цией [5, 179; 30, 138]. На наш взгляд, именно отсутствиеединства между сибирской и ногайской группой моглопривести к провалу как похода Агалака, так и позднейше-го ногайского нападения.
Следовательно, допущение об отступлении Агалакав степь именно после этого похода не верно. Скорее все-го, он вернулся к себе, в Тюменский юрт. Для этого обра-тимся к предыдущим событиям. Ряд исследователей ука-зывают, что «князь казанских князей» Урак и ряд другихпредставителей казанской знати отступили с Мамуком вТюмень в 1496 (или в 1497 по А.В. Парунину) году [33,571]. Резонно предположить, что и новый поход во главес Агалаком был организован именно отсюда. В летописив этом отношении указывается, что при виде русских войскв 1499 году Агалак и Урак «… побегоша во-свояси» [19,250]. Очевидно, что сразу после похода Агалак и его род-ственники вновь оказались в Тюмени, и, следовательно,их уход к ногаям должен быть связан с более позднимисобытиями.
На основании некоторых оговорок в переписке Ак-Курта, о которой ниже, нам известно, что первые письмаАгалака в Москву приходили еще в последний год правле-ния Ивана III, который скончался осенью 1505 года. Приэтом Шибаниды располагались где-то за рекой (возмож-но, имеется в виду Урал), а с учетом отсутствия четкихграниц между степными объединениями в целом и Тю-менским юртом и Ногайской Ордой в частности, нам слож-но судить, означало ли это расположение кочевий соб-ственно отказ от тюменского престола.
Симптоматично, что в Вычегодско-Вымской летопи-си и ряде других источников указывается, что «Лета 7014пришед из Тюмени на Великую Пермь ратью сибирский
царь Кулуг Салтан и без вести приступиша» [3, 264]. Этотпоход датируется в весьма широких рамках с 1505 до 1507года [7, 61], в связи со спецификой перевода летописнойхронологии в современную при отсутствии указания ме-сяца и дубляжа информации в летописях. Г.Л.Файзрах-манов вообще пишет о двух разных походах Кутлука наЧердынь и Усолье Камское в 1505 и 1508 годах [32, 129],что, на наш взгляд, источниками не подтверждается. Так,в Устюжских летописях речь идет только об одном похо-де и при этом уточняется, что войско из Тюмени пришло в7013 году в «понедельник на страстной недели», то естьвесной 1505 года [21, 99]. По мнению К.Н.Сербиной, на-личие столь точного хронологического указания в этомцикле летописей свидетельствует о том, что источникомлетописного известия был рассказ конкретного очевид-ца, что повышает степень доверия к предлагаемой дате[29, 80]. Кстати, в целом выбор именно весны, в частностимарта, для начала похода характерен для всех трех ли-деров из числа Сибирских Шибанидов.
В любом случае фактически время этого похода со-впадает с предполагаемым временем отхода Агалака вюжные степи, при этом для русских летописцев статуснового тюменского властителя Кутлука был не ясен, о чемсвидетельствует использование как термина «царь», таки «Салтан». Наличие двух лидеров среди Сибирских Ши-банидов может свидетельствовать о неких внутреннихтрениях в связи с внешнеполитическими поражениями,но этот вопрос без дополнительных источников решитьневозможно. При этом, как и ранее с Агалаком, в походеКутлука участвовали его братья и дети [21, 99]. Можнопредположить, что в этот период провал внешней поли-тики Агалака, как ранее это произошло при Ибак-хане[14, 91-101], мог привести к расколу правящей в Тюменс-ком ханстве элиты, что и стало причиной ухода в степиправящего хана вместе с частью поддерживавших егоШибанидов.
На наш взгляд, внешнеполитические успехи могутсчитаться одним из стабилизирующих факторов существо-вания государства на юге Западной Сибири, в том числеспособные через системы военной добычи и раздач под-чинить себе местную политическую элиту. При отсутствиитаковых само существование политического объединенияна этой территории ставится под вопрос, как это произош-ло в ходе «Тайбугидского переворота» или во время уходамасс кочевников в среднеазиатский поход в 1510-е гг.
Имеющиеся документы о переговорах Ак-Курта смосковским князем Василием II, как правило, привлека-лись лишь для подтверждения некоторых фактов из но-гайской истории [30, 143-144]. Однако их подробный ана-лиз может дать новую информацию о территории коче-вания Сибирских Шибанидов в начале XVI века, а такжеоб их реальном положении в степной политике этого пе-риода. Для этого автору хотелось бы изложить весь ходпереговоров именно в хронологическом порядке, обра-щая внимания на некоторые «микроисторические» ню-ансы. По мере анализа писем мы будем давать необхо-димые комментарии некоторых наиболее интересныхнюансов.
Итак, первое посольство, от которого сохранилисьподробные документы, прибыло в Москву в августе 1507(7015) года. Указывается, что в посольстве вместе с людь-ми Алчагира (одного из старших сыновей Мусы) прибылот царевича Ак-Курта «человек его Телевлю князь Куй-ат». Обращает на себя внимание выбор посла из кланакыйятов с титулом князя, который вел переговоры от лицацаревича [23, 54]. Выбор посла от Шибанидов именно излица кыйятов, на наш взгляд, симптоматичен. Значитель-ное положение клана «кыйят» в Золотой Орде на протя-жении XIII-XIV вв. могло быть связано с происхождением
64
из одной из ветвей этого клана самого Чингис-хана [8, 39-41]. При этом прослеживаются их связи с Шибанидами, вчастности в период Западного похода когда среди нуке-ров Шибана первым упоминается Бурулдай из кыйятов[16, 217], а также в ходе реформ Узбека [31, 93]. Предста-вители этого клана были и в объединениях во главе сШибанидами на протяжении XV века, даже после посте-пенного уменьшения их влияния в иных постзолотоор-дынских государствах [9, 150 и далее; 35,202-203]. Такимобразом, выбор именно кыйята, к тому же с титулом «кня-зя», говорит о высоком статусе самих переговоров и ожи-дании от них определенных результатов.
Князь Телевлю привез грамоту, которая начиналасьс вступительной фразы: «От Аккурта салтана брату мое-му Василью князю много много поклон». Следует согла-ситься с мнением А.Л.Юзефовича, который отмечал, чтотермин «брат» в русском дипломатическом обиходе XV–XVII вв. выражал политическое равноправие обеих сто-рон [34, 16-18]. Дальнейшая фраза «много много поклон»была проанализирована А.К. Бустановым, который ука-зывает, что слово «поклон» в обороте «приветствие» –это неточный перевод слова «мир» в тюркоязычных ори-гиналах. В этом элементе он усматривает традиционнуюдля московских канцеляристов формулу, сознательновключенную в текст послания. Для сравнения: нейтраль-ное приветствие «много-много приветов» имеется в ори-гинале письма золотоордынского хана Махмуда турецко-му султану Мехмед Фатиху 1466 г. [1, 88].
После этого излагается суть посольства: «Ведомобы было: коли есмя з дядею своим, с Сагалак салтаном,были в одном месте, и мы тогда к вам грамоту посылали.И ныне отца твоего, великого князя, Бог взял, а отцу тво-ему подобен князь велики сам еси ты» [23, 54]. Исходя изэтого и из общего контекста переписки, очевидно, чтоимеющееся у нас письмо является продолжением ра-нее начатых переговоров, причем во время первого пись-ма Ак-Курт кочевал вместе с Агалаком и было оно посла-но еще предыдущему Великому князю Ивану III, которыйскончался 29 октября 1505 года и ему наследовал сынВасилий II.
Если Агалак по всем источникам с очевидностьювыступает одним из потомков Махмудек-хана б. Хаджи-Мухаммад-хана, среди потомков которого перечисляют-ся три брата - Ибак-хан, Мамук-хан, Агалак (Ал-Джагыр)-хан [15, 37, 350], то вопрос происхождения Ак-Курта стольпросто не решается. В современной историографии поэтому вопросу было высказано три точки зрения: сынСайидек-хана, брата Махмудек-хана [27, 76], сын СайидИбрахим-хана [17, 208], сын Ибака или Мамука [30, 143].При этом в известных нам генеалогиях Шибанидов имяАк-Курт встречается лишь один раз в «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» по отношению ко второму сыну Сайи-дек-хана, брата Махмудек-хана [15, 37], что, казалось бы,подтверждает точку зрения Ж.М.Сабитова. Однако в та-ком случае Ак-Курт должен был происходить из поколе-ния тюменских правителей, причем из его старшего рода.К тому же обращает на себя внимание то, что Аккурт по-стоянно называет Агалака своим дядей, противоречарассмотренному предположению. ВерсияА.Г. Нестерова смешивает ханов двух поколений, что, ско-рее всего, основано на материалах «Шейбани-наме»Камл ад-Дина Бинаи, где приводится имя «Сайидек-Ай-бак, сын Ходжи-Мухаммеда». Однако комментаторы дан-ного произведения отмечают, что подобная адаптацияимен сделана неверно самим автором и противоречитиным хроникам [15, 99]. В тех же генеалогических спис-ках среди сыновей Ибак-хана имя Ак-Курта также невстречается. В данном случае очевиден лишь тот факт,что Ак-Курт происходит из одного поколения с сыновья-
ми Ибака последним тюменским лидером Кутлуком иМуртазой, отцом Кучума. Сделать более точный вывод опроисхождении Ак-Курта пока не представляется возмож-ным.
По всей видимости, в не дошедшем до нас предыду-щем письме ставились некие условия, поскольку здесьАк-Курт оговаривается, что «и ныне по тому слову к Ага-лак салтану человека посылал еси, ино нас вода заняли,как твой Качюв князь к Чагирю (очевидно, Алчагирю. -Д.М.) мурзе пришел» [23, 54]. Скорее всего, отсылка к не-коему разделению водой может свидетельствовать о том,что в то время как русские послы добрались до Алчагира,Шибаниды оказались отделены от него водой, что воз-можно говорит об их кочевьях за Яиком, на степной тер-ритории Тюменского ханства. Впрочем, еще раз повто-рим, что такая реконструкция не более, чем рабочая ги-потеза. Также можно предположить, что Агалак и Ак-Куртждали некоего письма вместе с приехавшим к АлчагируКачювом князем, но его не оказалось, что и вызвало не-обходимость письма Ак-Курта. Нельзя не обратить вни-мание на то, что при живом главе Сибирских Шибанидовв лице Агалака переговоры ведет не он сам, а его пле-мянник Ак-Курт. Возможно, что он вел их в интересах сво-его дяди, как позднее юрт для своего отца испрашивалсын Ак-Курта Ак-Девлет. Также не совсем ясен статус мос-ковского посла, поскольку в разных письмах и посоль-ствах к ногаям он упоминается то как «слободской тата-рин Кожух», то как «человек Кожух Карпеев», а в письмахАк-Курта как «Качув князь» или в дальнейшем «Кожухкнязь» [22, 40, 55; 23, 72].
Лишь затем следует «ритуальная» фраза, которая снекоторыми вариациями очень часто повторяется в рус-ско-ногайской переписке этого времени: «А ныне нас тол-ко себе братом назовешь, а чтобы мы твоего недруга саб-лею секли, молвишь, а другу бы твоему другом былиесмя…». Именно для укрепления этих отношений вмес-те с «Кычувом» и был отправлен «Куиях Телевлю» [23,55].
Далее Ак-Курт переходит к просьбе к своему «бра-ту» князю Василию отпустить со следующим московскимпосольством («вашему человеку к нам приехать добро,также и нам ехати добро») попавших три года назад («тре-тьего лета») в плен его людей Кудаяра и Кудай Берди, закоторых до этого просит и Алчагир. Кстати, среди прочихпленников последний испрашивает и родственников, втом числе младшего брата, «багатыря» Телевлю [23, 54-55]. Сложно сказать, когда и в результате каких событийтрехлетней давности они оказались в московском плену.Это могло быть как следствием одиночных набегов нога-ев на русские земли после 1502 года, так и их участия вборьбе за Казань, в частности в событиях лета 1505 годапод Нижним Новгородом.
14 августа 1507 г. в Москву пришло посольство отШыдяка (Саид-Ахмеда) мурзы, которое предлагало быть«в братстве и дружбе», свободно ходить послам и гостям,а также обменяться полонами. Причем среди прочихсвоих людей Шыдяк упоминает тех же двух людей Ак-Кур-та [23, 55]. В данном случае, очевидно, что общность лю-дей в просьбах Ак-Курта бывшего с дядей Агалаком, Ал-чагира и Саид-Ахмеда говорит как о близости их кочевий,так и общности интересов.
Спустя 5 дней, 19 августа 1507, великий князь при-казал собраться на дворе людям Саид-Ахмеда и Ак-Кур-та. В результате к последнему вместе с Телевлю в обрат-ный путь был отправлен посол Махмет. Они должны быливыехать 22 августа 1507 года. В день отправления ФедорИванов сын Карпов и Болдырь, которые вели переговор-ный процесс, отдали послам весь обнаруженный полон,который был записан в «посыльных грамотах». Обраща-
65
ет на себя внимание тот факт, что везде упоминаются вначале люди Алчагира и Шидяка, а лишь потом Ак-Курта,статус которого в этих переговорах был не совсем поня-тен. При этом, если при перечислении сибирский огланупоминается последним, то в письмах само использова-ние слова «поклон», а не «слово» говорит о признанииего равного статуса московским князьям, в отличие отобращения к ногайским мурзам [23, 56-59].
Во время отъезда к послам обратился с речью самкнязь. В частности Телевлю было сказано следующее:«И ты от нас государю своему, Аккурту царевичу, молви,чтобы к нам поехал не мотчаа, а мы ему место в своейземле дадим и истому его подоимем» [23, 57]. Из контек-ста ответа ясно, что именно с такой просьбой Ак-Курт иобращался как письменно, так и на словах через Теле-влю. То есть на этот момент Москва готова была принятьсибирского царевича. Посольство выехало из Москвытолько 24 августа 1507 года, причем до «украины» их со-провождал толмач, а также было приказано выдаватькорм [23, 57].
Из письменного ответа, отправленного с Махметом,становится ясно, что после первого письма, полученногоеще при Иване, в степь по приказу нового князя Василиябыл отправлен посол, который Агалака и Ак-Курта не на-шел. В ответ на просьбу Ак-Курта принять его в Москвеуказывалось: «И ты бы к нам поехал, а как у нас будешь,и мы тогда тебя братом и другом себе учиним, и местотебе в своей земле дадим, и истому твою подымем» [23,59]. Причем «жаловать» готовы были не только самогоАк-Курта, но и всех людей, с которыми от придет. Это за-мечание вновь обращает внимание на то, что практичес-ки все представители тюменской правящей элиты дей-ствовали только при поддержке значительной части род-ственников. Отдельно указывалось, что по просьбе ца-ревича отпустили к нему его людей, но при этом упомина-ется лишь один человек по имени Акбаш, о котором ра-нее просил Саид-Ахмед, а Кудояр, испрашиваемый Ак-Куртом, был отпущен к Саид-Ахмеду (Шыдяку) и в даль-нейшем упоминается уже как его постоянный посол вМоскву [23,58-59]. Это еще раз обращает внимание наобщность людей Ак-Курта и Саид-Ахмеда.
Летом следующего года, 7 августа 1508 (7016) г., отногаев пришло очередное посольство. В его составе былсын Ак-Курта Ак-Девлет и его человек Муса с грамотами.В письме указывалось, что «всяково же году с Кожухомкнязем Тилевлюя паробка своего, послав, ждал есми, ипослешел есми, что дядя мой, Агалак царь, пошол, и язза ним же пошол, и ты послал боярина своего Нозрова-това, и как боярин твой пришел, и как того есмя не услы-шали, что нам Казань даешь, ино нам наша братия и дети,и слуги не похвалили до тобе не поехати, и яз ся один неостался» [23, 72].
Складывается впечатление, что Казань просил ещеАгалак, а после провала этой попытки Ак-Курт задумалсепаратные переговоры. В данном письме Агалак впер-вые упоминается с титулом царя. В.В. Трепавлов предпо-ложил, что он получил ханский титул от бия Хасана, кото-рый стремился повысить свой статус в условиях столкно-вения с потомками Мусы [30, 144]. Однако контекст пере-писки и в частности постоянное совместное упоминаниесибирских Шибанидов с Алчагиром и Саид-Ахмедом го-ворит, что, скорее всего, именно сыновья Мусы были за-интересованы в получении «своего» хана из династииШибанидов для борьбы с законным бием перед нача-лом «заворошни». Не даром посольства ханского пле-мянника были совместно с ними, и за интересы Ак-Куртастоль активно вступался посол Саид-Ахмеда Кудояр. Ктому же именно с ними Шибаниды могли быть связанычерез дочь Ибак-хана, жену Мусы. Обратим внимание на
то, что как глава Тюменского юрта Агалак мог иметь титулхана и до этих событий, что и могло найти отражение всреднеазиатском источнике [15, 350].
Немаловажен факт первого упоминания личностимосковского посла, который должен был вести перего-воры с Агалаком. Скорее всего, под «боярином Нозрова-тым» следует видеть известного князя Василия Ноздро-ватого, который был одним из шести окольничих при Ива-не III и в начале царствования Василия III. В 1480 г. он каквоевода звенигородский вместе с крымским царевичемНур-Девлетом был отправлен на Сарай для устрашенияхана Ахмада в ходе событий на р.Угра [10, 465, 471]. В1501 г. он ходил с московскими и рязанскими полкамисовместно с Мухаммед-Амином против ордынских татарна помощь Менгли-Гирею, а позднее доставил в Москвунизложенного казанского хана Абдул-Летифа. В 1502 г. входе начавшегося конфликта с Казанью возглавлял по-ходы на улусы Мухаммед-Амина. В 1507 году находилсясреди других русских воевод в Нижнем Новгороде дляотражения нападения самого Мухаммед-Амина [6, 56-57;10, 547, 549]. Если предложенная идентификация верна,то она может свидетельствовать о том, что на начальномэтапе переговоров Шибаниды в лице Агалака могли рас-сматриваться в качестве возможной альтернативы наказанском престоле Мухаммед-Амину. В таком случаепривлечение именно Василия Ноздроватого было впол-не логичным действием, так как он был тесно связан сказанскими делами. Однако по неизвестной причине(смерть великого князя? дальнейшее перемирие 1506года?) переговоры сорвались. Это, кстати, объясняет истатус первого посла в Казань в лице князя Телевлю. Еслипервый этап переговоров на самом деле был в 1505 году,то он вполне мог быть связан с московско-казанскимконфликтом.
Обратим внимание, что фраза из письма: «…как тогоесмя не услышали, что нам Казань даешь…» комменти-руется В.В. Трепавловым как попытка оправдания отступ-ления от Казани в 1500 году [30, 137]. На наш взгляд, весь-ма сомнительно, чтобы спустя 7 лет Ак-Курту надо былооправдывать отступление своего дяди Агалака тем, чтоногаи узнали об отказе московского князя дать этот юрт.Очевидно, что речь должна была идти о более близких вхронологическом плане событиях, возможно как раз онепосредственных претензиях на Казань в 1505 году.
Ак-Курт отмечает, помимо обязательных обещаний,что, когда пришел Махмет, они (т.е. имеется в виду Агалак,а также «братья, дети и слуги») «обрадовалися» [23, 72].В результате снова вернулась идея переговоров, кото-рые возглавить должен был вновь Телевлю, но он забо-лел и по этой причине был отправлен Муса. Причем впе-реди него был отправлен «мещеренин» Кутлуг Девлет,бывший одним из подданных московского князя. ДалееАк-Курт просит пожаловать его одним «ис тех, из двух юр-тов». Причем с этой целью он просит прислать либо «мол-нина» Мамышова сына Балтача, либо того же Кожуха [23,73]. Последний, по всей видимости, мог рассматриватьсякак один из специалистов по ногайским и сибирским де-лам, поскольку его имя упоминается в числе московскихпослов к Мусе еще в начале 1490-х гг. [22, 39, 46].
Из дальнейшего письма можно прояснить контекстнекоторых фраз более подробно. В частности, указыва-ется, что, когда в этом году они надумали идти в Москву, вНогайской орде началась «межи князя и мурз заворош-ня», на что уже обращал внимание В.В. Трепавлов [30,144]. В результате Ак-Курт вместо себя прислал своегосына, чтобы решить вопрос о наделении юртом. Крометого, Ак-Курт упоминает, что те «поминки», которые везМахмет, он не получил, поскольку посол «сам их истеря»и царевич просит их выслать вновь [23, 73].
66
Возвращаясь к сепаратным переговорам в этом кон-тексте, отметим, что они могут объясняться не толькодоверием к Ак-Курту со стороны Агалака, сколько смер-тью последнего в период между летом 1507 и летом 1508годов. В результате как ранее Ак-Курт вел переговоры отлица дяди Агалака, так теперь Ак-Девлет ведет разгово-ры от своего отца. Скорее всего, титул царя Агалак могполучить незадолго до смерти от ногаев (скорее всего, отАлчагира или Саид-Ахмеда) в условиях перед началом«заворошни». При этом еще раз отметим, что этот титул,судя по упоминанию у Махмуда бен Эмира Вали в «Бахрал-асрар фи манакиб ал-ахйар», не подвергался сомне-ниям.
Кроме того, Ак-Курт заступается за некоего «Ак Маг-меда», о котором в своих письмах упоминают и Алчагир,и Шидяк. Причем этот Ак Магмед попал в плен вместе сКудояром, отпущенным годом ранее [23, 73].
6 сентября 1508 (7017) года Ак-Курту через сына былдан устный ответ в присутствии Кудояра. Под двумя юрта-ми в ответе уточняется Казань и Мещерский городок, при-чем указывается, что в первом правит царь МухаммедАмин, а во втором царевич Янай: «… те места оба непорожни, и нам тех мест не пригоже ему дати». В ответ наэто Кудояр пытается выпросить Ак-Курту Андреев горо-док каменный, который тоже оказывается за Янаем ца-ревичем. В результате великий князь лишь пожаловаллюдей Ак-Девлета, а ему самому подарил «платно теп-лое», причем Ак-Девлет был отпущен без письменно от-вета [23, 77]. Возможно, такое окончание переговоровсвязано с тем, что зимой 1508 года Мухаммед-Амин под-писал шертную грамоту, восстановив мирные отношенияс Москвой [13, 28]. В этой ситуации Шибаниды оказалисьпросто не нужны.
7 сентября царевич Ак-Девлет и послы ногайскихмурз были отпущены из Москвы, хотя выехали только 11сентября и их сопровождал до Коломны и украины тол-мач. Причем дальнейшее усиленное сопровождениепосле Рязани не столько защищало самих ногаев, сколь-ко 200 детей боярских должны были защитить русских отногаев [23, 87-88].
Таким образом, последняя по времени попыткаСибирских Шибанидов получить казанский престол припомощи переговоров с Москвой провалилась, также каки военные операции на этом направлении. Это говорит окрайнем ослаблении как самого Тюменского юрта, так ивозглавлявшей его династии, оказавшейся «на обочине»международной политики. Переписка показывает, чтоулус Агалака и Ак-Курта мог располагаться за рекой, подкоторой, скорее всего, надо видеть Яик, что позволялоим контролировать лишь степную часть Тюменского юрта.В этих условиях понятна причина ухода многочисленныхшибанских и тюменских татар в этот период к детям Буре-ке-султана б. Едигер-хана Ильбарс-султану и Бильбарс-султану [11, 210-211]. Все это также снижало возможнос-ти Тюменского юрта, в совокупности с усилением сосед-них казахских племен и возможным распространение кюгу влияния угорских князей, хотя информация об этом уС.Герберштейна очень противоречива [4, 157, ср. с с.161].Оказавшись в этих крайне невыгодных условиях, усугуб-ленных «заворошней» между единственными союзника-ми в лице ногаев, Сибирские Шибаниды и попыталисьзаручиться поддержкой Москвы, что, однако, не привелок успеху. В этом отношении вполне имеет право на суще-ствование точка зрения Г.Л. Файзрахманова об утрате имисибирских владений [32, 130]. Это же объясняет воз-можный рост влияния Тайбугидского княжества с цент-ром в завоеванном ими Искере, изучение которого зат-рудняется крайней скудостью источников. Фактическидо 1540-х гг., то есть до времени Муртазы-хана и его сы-
новей, у нас нет упоминаний о представителях этой дина-стии. Однако внимательное изучение разрядных книгпозволяет проследить дальнейшую историю потомков Ак-Курта, выехавших в Россию.
В разрядных книгах упоминания Ак-Девлета связа-ны со службой в составе московского войска (чаще, всегов его правом крыле), в основном на южных границах про-тив крымского хана или при нападениях на Литву. Впер-вые этот сын Ак-Курта упоминается здесь под 1512-1513(лето 7021) годами. В этом году великий князь Василий IIпослал «от себя в Дорогобуж царевича Акдовлетя да во-еводу своево князя Михаила Львовича Глинского» [25,131]. Спустя несколько лет в июле 1519 (7027) г. «посы-лал государь и великий князь… воевод своих под Моло-децну литовские земли воевать из Вязьмы. В передовомполку князь Иван Михайлович Воротынской да князь ПетрФедорович Охлябинин; да в передовом жа полку царе-вич направе Агавлет Шибанский» [25, 165]. При вторич-ном упоминании этого же похода указывается «передо-вого полку направе царевич Акдовлет Ахкуртович, а с нимКанбар мурзин сын» [25,170]. Последний далее связыва-ется с «ногайскими людьми», а впервые упоминается припоходе на Литву летом 7015 (1508) года как «Канбар мур-за Мамлаев» [25, 95, 294]2.
Однако еще больший интерес представляет то, что1519 года на царство в Казань был отправлен хан Ших-Али [25, с.166], а «тово же лета в Мещере был царевичОкдевлет Авкуртович да воеводы… » [25, 169]. В 1521 и1522 (7028 и 7029) годах «…в Муроме был царевич Ак-довлет Ахтуртов сын», он упоминается в числе прочих рус-ских воевод, защищавших Московию от крымского хана[25, 175, 179]. В август 1528 (7036) года «…в Торопце жеАкдовлет царевич да Канбар мурзин сын, а с ними Сте-пан Атяев» [25, 207]. По данным В.В.Вельяминова-Зер-нова со ссылкой на Н.М.Карамзина, в 1531 г. казанскийхан Шах-Али совместно с шибанским царевичем Ак-Дев-летом были посланы в Путивль совместно с городецки-ми служилыми татарами [2, 274], хотя в разрядных книгахэта информация отсутствует. В мае 1533 (7041) и затем в1534 (7042) году «…в Севере же был царевич АкдовлетьАхкуртов сын» [25, 238, 248]. По всей видимости, это былопоследнее назначение Ак-Девлета, поскольку в том жегоду в составе московских войск, причем на тех же на-правлениях, упоминается его сын царевич Шах-Али, при-чем вновь вместе с Канбаром, а позднее его сыном. От-метим, что в таком случае он никак не мог быть участни-ком войны с русскими в 1581-1598 гг., как об этом пишетА.Г.Нестеров [17, 209].
Впервые сын Ак-Девлета упоминается в июле 1534(7042) г.: «а в Вязьме ж быти царевичю Шигалею Акдов-летеву сыну да Камбар мурзину сыну; а с царевичем бытиАлександру Семенову сыну Упину, а с татары ПосникуСатину», а затем его переводят в Дорогобуж [25, 247]. Помнению В.В.Вельяминова-Зернова, также он мог упоми-наться в составе русских войск во время похода на Литву1534 года во главе с отрядом городецких татар, в томчисле и как возможный правитель Касимова в условияхопалы своего тезки казанского хана Шах-Али [2, 293-295].В июне 1535 (7043) года «да в литовской же земле былцаревич Шигалей Акдовлетев сын да Канбар мурзин сын.А с царевичем были Олександра Семенов сын Упин. А с
2Автор благодарит В.В.Трепавлова (г.Москва) за помощь видентификации Канбара. По его мнению, единственнымзнатным мангытом с таким именем мог быть Канбар б.Мамай б. Мансур б. Эдиге, из крымских мангытов. Еговнук Ураз-Али б. Ак-Мухаммед переселился в Московию,превратился в князя Ивана Канбарова, упоминается втекстах 2-й пол. 1550-х - 70-х годов.
67
татары с служилыми был князь Василей княж Федоровсын Лопатин» [25, 254].
В апреле 1536 (7044) года «в Торопце тогды былшибанской царевич Шигалей да Конбар мурзин сын, данаместник торопецкой князь Василей Ноготок Ондрее-вич Оболенской, да Данила Иванов сын Бутурлин» [24,90]. В июле 1537 (7045) года «в Одуеве шибанской царе-вич Шигалей да Канбар мурзин сын; да в Одоеве ж воево-да князь Федор Ондреевич Прозоровской да с ним на-местник Степан Сидоров» [25, 268]. В том же году он былво Владимире «на козанских украинах», вместе «с нимЮрьи Дмитреев сын Шеин. А воеводы были в Володиме-ре боярин и намесник князь Дмитрей Федорович Бельс-кой да боярин Иван Григорьевич Морозов» [25, 268]. Виюне 1541 (7049) года «князь великий нача разрежативоевод своих на берег к Оке реке и отпустил воевод своихпо полком на Коломну для приходу крымского царя. Итогды приходил к берегу под Ростисловль царь крымс-кой». В списке большого полка находился шибанскойцаревич Шиголей [25, 296]. Последний раз мы с нимвстречаемся в декабре 1541 (7050) года в составе войскво Владимире и Муроме против крымского царя «в пра-вой же руке был шибанской царевич Шиголей да Меметмурза Канбар Мурзин…» [25, 299].
Подробный анализ военной карьеры Ак-Девлета иШах-Али не входит в задачи этой работы. Однако обра-щает на себя внимание то, что В.В.Вельяминов-Зерновчасто упоминает их в контексте истории Касимовскогоханства. Напомним, что еще Ак-Курт в ходе переговоров сМосквой просил в качестве юрта дать один из двух цент-ров Мещеры (Мещерский городок или Андреев городок),причем используя для этого в качестве одного из послов«мещеренина» Кутлуг-Девлета. Под данным терминомследует скорее видеть не сословную принадлежностьэтого человека [9, 231], а его мещерское происхождение.На наш взгляд, это говорит о заинтересованности какой-то группы местного населения в получении хана именноиз династии Шибанидов в период между царствованиемздесь Сатылгана и его брата Джаная. Эта попытка про-валилась, но в период 1531-1534 гг. Ак-Девлет и его сынШах-Али неоднократно упоминаются вместе с городец-кими татарами, то есть как раз в тот период, когда Каси-мовское ханство оставалось без правителя в связи с опа-лой и ссылкой Шах-Али-хана [26, 155-156]. Согласимся суже указанным мнением В.В.Вельяминова-Зернова отом, что это не является основанием для того, чтобы счи-тать Шах-Али Шибанида действительным касимовскимханом. Однако с учетом одной фразы из известного пись-ма от имени Василия III послу польского короля и литов-ского великого князя С. Герберштейну: «…А Мещерскаяземля в нашем государстве и тем местом жалуем мыцарей и царевичев, и они на тех местах на нашем жало-ванье живут, а нам служат» [цит. по: 26, 134], и совпаде-ния по времени появления Шибанидов в Касимове с опа-лой хана Шах-Али, это предположение приобретает зна-чительную степень вероятности.
Таким образом, попытки Шибанидов закрепиться вКазани, в том числе при помощи переговоров, в началеXVI в. провалились. Это стало одним из признаков край-него ослабления Тюменского юрта и причиной ухода зна-чительного числа «шибанских татар», в том числе вместес членами правящего дома, на территорию НогайскойОрды или в среднеазиатские государства Чингизидов. Впериод 1530-1540 гг. представители Сибирских Шибани-дов в политическом плане разделились на две ветви.Одна из них в лице сына Мамук-хана Муртазы и его по-томков при поддержке ногаев начинает борьбу за рес-таврацию Тюменского ханства, а другая по линии Ак-Кур-та и его детей закрепляется на территории Московии, в
том числе периодически претендуя на доминирование вкасимовских делах.
Список литературы1. Бустанов А.К. Послание сибирского хана Сайид Ибрагимав Москву 1489 г.: опыт анализа переводного документа //Культурология традиционных сообществ: Материалы IIВсероссийской научной конференции молодых ученых. -Омск, 2007.2. Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовскихцарях и царевичах. - Ч.1. - СПб., 1863.3. Вычегодско-Вымская летопись // Историко-филологичес-кий сборник. - Вып.4. - Сыктывкар, 1958.4. Герберштейн С. Записки о Московии. - М., 1998.5. Зимин А.А. Россия на рубеже XV-XVI столетий (очеркисоциально-политической истории). - М.: Мысль, 1982.6. Зимин А.А. Формирование боярской аристократии вРоссии во второй половине XV-первой трети XVI вв. - М.:Наука, 1988.7. Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства. -Казань, 2006.8. Исхаков Д.М. Кланы и их роль в социально-политическомустройстве Улуса Джучи // Исторические очерки. - Казань,2009.9. Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая историятатар (III – середина XVI вв.). - Казань, 2007.10. Карамзин Н.М. История государства Российского. - Т.6. -М.: Рипол Классик, 1998.11. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народыевразийских степей. Древность и средневековье. - СПб.,2000.12. Книга, глаголемая Летописец Федора КирилловичаНормантского // Вестник Императорского московскогообщества истории и древностей Российских. - Кн.5. - М.,1850.13. Котляров Д.А. «Служащий царь» - казанский хан Мухам-мед-Амин и великие князья Всея Руси // Вестник Удмуртско-го университета. Серия «История и филология». - Вып.3. -Ижевск, 2010. - С.23-31.14. Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостеп-ного Притоболья в средние века. - Курган, 2008.15. Материалы по истории Казахских ханств XV-XVIII веков(извлечения из персидских и тюркских сочинений) / Сост.С.К. Ибрагимов и др. - Алма-Ата, 1969.16. Мустакимов И.А. Владения Шибана и Абу-л-Хайр-хана поданным «Таварих-и гузида – Нусрат-наме» // Национальнаяистория татар: теоретико-методологическое введение. -Казань, 2009.17. Нестеров А.Г. Династия сибирских Шейбанидов //Тюркские народы: Материалы V Сибирского симпозиума«Культурное наследие народов Западной Сибири». - То-больск-Омск, 2002.18. Полное собрание русских летописей. Т.8. Продолжениелетописи по Воскресенскому списку. - СПб., 1859.19. Полное собрание русских летописей. Т.11-12. Патриар-шая, или Никоновская, летопись. - М., 1965.20. Полное собрание русских летописей. Т.26. Вологодско-Пермская летопись. - М.-Л., 1959.21. Полное собрание русских летописей. Т.37. Устюжские иВологодские летописи XVI-XVIII вв. - Л., 1982.22. Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой1489-1508 гг. - М., 1984.23. Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой1489-1549 гг. - Махачкала, 1995.24. Разрядная книга 1475- 1598 гг.- М., 1966.25. Разрядная книга 1475-1605 гг. Т.1. Ч.1-2. - М., 1977.26. Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство (1445-1552 гг.).Очерки истории. - Казань, 2009.27. Сабитов Ж.М. Генеалогия Торе. - Астана, 2008.28. Селезнев Ю.В. Русско-ордынские конфликты XIII-XV вв.Справочник. - М., 2010.29. Сербина К.Н. Устюжское летописание XVI-XVIII вв. - Л.,1985.30. Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. - М., 2002.31. Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. - Алма-Ата, 1992.32. Файзрахманов Г.Л. История татар Западной Сибири (сдревнейших времен до начала XX века).- Казань, 2007.
6833. Худяков М. Очерки по истории Казанского ханства // Настыке континентов и цивилизаций. - М., 1996.34. Юзефович Л.А. «Как в посольских обычаях ведется…».Русский посольский обычай конца XV – начала XVII в. - М.,1988.35. Schamiloglu U. Tribal politics and social organization in theGolden Horde. Columbia University, 1986.
Ж.М. Сабитовг. Астана
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ КАЗАХСКОГОХАНСТВА И СИБИРСКИХ ШИБАНИДОВ
Говоря о взаимоотношениях Казахского ханства иСибирских Шибанидов, нам стоит отметить, что письмен-ные данные об их взаимоотношениях отрывочны. Поэто-му данная тема очень редко затрагивалась историками.
В одной из легенд про Тайбугу сказано, что когдаЧингис подчинил себе Бухару, то один царевич КазакскойОрды, по имени Тайбуга, сын хана Мамыка, выпросил уЧингиза во владения места по рекам Иртышу, Тоболу,Ишиму и Туре. Чингис доверил ему управление этими об-ластями, и потомки Тайбуги продолжали после него вла-деть теми же землями [15, 186].
Казахское ханство возникло в 1470 году после смер-ти Абулхаир-хана и возвращения Джанибека и Кирея изМогулистана [11, 237-240], куда они откочевали послесмерти своих отцов Барака и Пулада [20,169]. Возникно-вение Сибирского ханства многие историки связывают сразными правителями:
1. Хаджи-Мухаммед-хан считается основателем Си-бирского ханства [21, 208-209, 222-224; 17, 276].
2. Ибак-хан - основатель Тюменского ханства, а самтермин Сибирское ханство стоит употреблять к ханствуМуртазы, Кучума и Ахмед-Гирея [13, 238]. Мы присоединя-емся ко второй точке зрения, поэтому мы будем говоритьо связях Казахского ханства с Сибирскими Шибанидами, ккоторым принадлежали как сам Сайдек, Ибак, Мамук, таки их потомки Муртаза, Ахмед-Гирей, Кучум, Бахадур.
3. Экстравагантной выглядит версия о Тохтамышекак основателе Сибирского ханства [18, 151].
Говоря об основателе Тюменского ханства, мы быхотели оговориться, что его основателем считаем Сай-дек-хана, сына Хаджи-Мухаммеда. Султан Саид-Йеке, ко-торого в источниках называли «братом Абулхаира» былвыпущен Абу Сеидом на свободу из плена в январе-фев-рале 1465 года. Он был до этого взят в плен в Хорезме инаходился в заключении в Герате. Эмиры и чиновникиснабдили его «царскими принадлежностями» и отправи-ли в «область Узбекскую» [7, 383]. По нашему мнению онбыл сыном Хаджи-Мухаммеда, известным как Сайидек-хан. Попал он в плен, скорее всего, в том же хорезмскомпоходе, где погиб Кепек-ходжа буркут, которого мы отож-дествляем с Ходжой Тайбугидом. Абу Саид возвел его вханы (снабдил «царскими принадлежностями»), видимо,для того чтобы использовать как ставленника против Абул-хаир-хана, ведь тот намеривался поддержать ХусейнаБайкару в борьбе за Тимуридский престол. После смертиАбулхаир-хана Сайдек-хан вместе с племянником Ибакомвыступил против наследников Абулхаир-хана. В союзе сним были его племянник Ибак, Джанибек и Кирей, Буре-ке, сын Ядгар-хана, мангыты Аббас, Муса и Ямгурчи [14, 19,57, 99]. Видимо Саидек-хан умер вскоре после начала вой-ны с Шайх-Хайдаром, так как уже вскоре во главе Сибирс-ких Шибанидов назван Ибак-хан, который вместе с мангы-тами и Ахмад-ханом убил Шайх-Хайдара и пытался захва-тить внуков Абулхаир-хана в Астрахани [14, 99].
На первом этапе существования Сибирские Шиба-
ниды имели общие интересы с Казахскими ханами и всоюзе боролись против наследников Абулхаир-хана.Н.Н. Мингулов выдвигал версию о том, что с усилениемДжанибека и Кирея Ибак искал поддержку у ногаев и вы-нужден был примкнуть к ним [5, 186-187]. В.В. Трепавловпишет, что ногайские мурзы до смерти Джанибек-хана,сына Барака, подчинялись ему [23, 104-105]. Мы не со-гласны с этой точкой зрения, так как старшим ханом указахов был Керей-хан, если бы ногайские мурзы подчи-нялись казахам, то в качестве хана они называли бы Ке-рей-хана. Также интересно известие Абд ал-Кадира Му-хаммед-Амина о казахских ханах: первым их независи-мым правителем был Ахмад-хан, а затем его сын Бурун-дук-хан. После Бурундук-хана правление перешло к по-томкам Джанибека. Ахмад-хан известен как Гадай-хан (Ги-рей-хан) ибн Барак-хан ибн Куйирчик-хан ибн Рус-хан [6,275]. Вполне возможно, когда шибанидские источники го-ворили о том, что Ибак привел войска Ахмад-хана, здесьимелись ввиду войска казахского Ахмад-хана (Кирей-хан),таким образом можно объяснить противоречие, котороевстречается в источниках. У Шади Ахмед-хан является со-юзником Шейх-Хайдара [14, 57], хотя в других источникахон назван как враг Шейх-Хайдара, чьи войска привелИбак-хан, который и убил Шейх-Хайдара. Можно предпо-ложить, что Хаджи-Тарханский Ахмад-хан и его племян-ник астраханский Касим-хан были союзниками Шейх-Хай-дара и потомков Абулхаир-хана, в то время как казахскийАхмад Гирей-хан (слабое упоминание Гирея в борьбе сШибанидами настораживает, видимо, он упоминается нетолько как Гирей, но и как Ахмад-хан) вместе с Джанибе-ком, Ибаком и ногайскими мурзами выступил противШайх-Хайдара и наследников Абулхаир-хана. Также, ско-рее всего, его войска с ногайскими мурзами и Ибак-ха-ном осаждали Мухаммеда Шейбани в Астрахани.
В дальнейшем история Казахстана вообще оченьотрывочно представлена в источниках. Данный периодхорошо разобран у Н.А. Атыгаева [3, 50-62]. Из интересу-ющих нас событий, укладывающихся в тему статьи, инте-ресно упоминание о смерти Тугум-хана.
Тугум-хан был старшим братом Шигая и погиб в бит-ве с «Чагатами». Еще Вельяминов-Зернов предложил двеверсии, кто такие Чагаты. Часть исследователей(В.В. Бартольд, О.Ф. Акимушкин, Т.И. Султанов) придер-живается его первой версии и считает, что эти Чагаты –это Чагатаи. Другая часть исследователей (В.П. Юдин,Н.А. Атыгаев) на основании сообщений Кадырали Жала-ири о Джагатах, считают, что данными Чагатами были чат-ские татары, жившие в Приобье [3, 58-59]. Н.А. Атыгаевдатирует эту битву 1551 годом. В этой битве погибло 37султанов: все потомство Тугума и один племянник Баши-бек (сын его брата Малика), которые назывались тогузсары (9 рыжих). После этой битвы, по мнению Н.А. Атыга-ева среди казахов не было хана и они, по сообщениюрусского посла в Ногайской Орде П. Тургенева в 1551 годупросили у турецкого султана «прислать им царя».
Также интересным является упоминание Яхшим-бикем (жены Шигай-хана и матери Таввакул-хана, Ишим-хана и Сабырбик-ханым), которая родом из Джагата [11,292]. Атыгаев Н.А. справедливо полагает, что Яхшим-би-кем не была из Чагатаев, иначе бы она носила бы при-ставку ханым. Также ни Хайдар Дулати, ни Шах МахмудЧурас не указывают ее в качестве чагатаидских принцесс,отданных замуж за казахских султанов [3, 59]. Таким об-разом, можно предположить, что Яхшим-бикем была изчатских татар, и, возможно, принадлежала к Тайбугидс-кой династии.
Период с 1560 по 1600-е годы был очень интенси-вен в плане взаимодействия Казахского и вновь образо-ванного Сибирского ханств.
69
В 1569 году казахи во главе с Хак-Назаром соверши-ли поход на Ногайскую орду, косвенно задев и хана Кучу-ма, который весной 1570 года выслал грамоту в Россию,жалуясь на действия Хак-Назара. Но уже в 1573 году Ку-чум, до этого плативший дань России, перестает ее вып-лачивать [12, 128-129].
В 1574 году, по данным Н.Ф. Катанова, ханом Сиби-ри стал Ахмад-Гирей, который правил до 1578 года, пос-ле чего ханом снова стал Кучум [10, 51-60].
По преданию, приводимому автором XVIII в. Г.Ф. Мил-лером, одна из дочерей Шигай-хана (имя ее не приво-дится) была замужем за братом Кучум-хана, Ахмад-Гире-ем [11, 292-293].
Ахмад-Гирей женился на дочери казахского хана Ши-гая. Но тот весьма неучтиво обращался с женой, несмот-ря на ее ханское происхождение. Разгневанный Шигай-хан, желая отомстить за бесчестие своей дочери, послалсвоих людей, которые убили брата сибирского правителя[15, 196].
Также Кучум имел жену, дочь Шигая [16, 656].Согласно М.Ж. Абдирову, среди сибирских татар бы-
товала легенда о Сузге, жене Кучума, дочери безымян-ного казахского султана. Содержание легенды напоми-нает татарскую легенду о Суюнбике: Во время похода Ер-мака казаки осадили Сузге-туру, город, построенный Кучу-мом для любимой жены. Когда казаки смогли взять город,то Сузге покончила с собой, вонзив в себя кинжал, пода-ренный ей Кучумом. Суеверные казаки сожгли город.
В 1839 году Петр Ершов, автор известного «Конька-горбунка» написал поэму «Сузге», посвященную жене Ку-чума. В 1889 году пьеса «Сузге» была поставлена на сце-не Тобольского театра. В 1896 году композитор Корни-лов написал оперу «Сузге» [1, 149].
Хади Атласи называл имя дочери Шигая: Ляля.Возможно, все эти женщины были одной женщиной,
дочерью казахского хана Шигая, которая после смертиАхмед-Гирея перешла по левирату к Кучуму.
Также очень интересно следующее известие: Али,претендовавший на титул сибирского хана, кочевал от-дельно от царевичей Каная и Азима. Причем «лучшиелюди» Али перебежали от него к братьям, потому чтомать Али была не высокородной. Они же хотели поста-вить царем Каная, мать которого проживала в Сауране(Шавран), куда много раз звали Каная править, но он, вви-ду печального опыта отца, не соглашался на это. Она про-исходила из княжеского бухарского рода [16, 33-34].
Вполне возможно, что мать Каная была дочерьюШигая и после смерти Кучума ушла во владения своихбратьев.
Хотелось бы также отметить следующий факт: исто-рики очень часто путают Ишима, сына Кучума, и Ишима,сына Шигая. В российской генеалогии XIX века даже ут-вердилось мнение, что казахские чингизиды - потомкиКучума через его сына Ишима (Н. Катанов, Н.Н. Панту-сов) [4, 158-159]. А некоторые казахские историки, когдапишут об Ишиме, сыне Шигая, приписывают ему делаИшима, сына Кучума, который действительно жил у кал-маков несколько лет.
Следующий вопрос, который мы хотели бы затро-нуть, - это личность Бахадура, потомка Сибирских Шиба-нидов, известного по сообщению Абулгази. Его генеало-гия: Бахадур сын Шамая, сына Узара, сына Тулака, сынаИбака [25, 177]. Мы отождествляем его с Бахадур-ханом,сподвижником казахских ханов Таввакула и Ишима.
Первое упоминание Бахадур-хана связано с похо-дом Абдаллаха II на Ура-Тюбе в 988 году хиджры (1580-81), в том походе он сражался с войском казахов и кирги-зов под предводительством Ишим-хана и Бахадур-хана[2, 260]. В 1598 году Таввакул вместе с Бахадур-султаном
и Ишим-султаном предпринял поход на Среднюю Азию[11, 295]. Также Бахадур-хан известен как сподвижникИшим-хана в его борьбе с Лже-Абдал-Гаффар-ханом в1012-13 годах хиджры [2, 199-200].
Как известно из поездки к Алтын-хану в 1617 году,Батыр-хан был уже ханом при Ишиме в 1617 году, причемих государство называлось Топинским [8, 269]. Мы раньшепредполагали, что данное Топинское государство – этоостаток Сибирского ханства, а Ишим - это сын Кучума [19,97], но на данный момент мы солидарны с версией А. Иси-на, что Топинское государство – это искаженное названиеТашкента, и что тот Ишим - это сын Шигая [8, 530].
Довольно интересным выглядит следующее сообще-ние:
Абд ал Кадыр ибн Мухаммед Амин в главе о Сибирс-ких ханах указывает их список:
1. Али-хан ибн Кучим-хан ибн Муртада-хан ибн Ибра-хим-хан;
2. Ишим-хан ибн Кучим-хан ибн Муртада-хан ибн Иб-рахим-хан (он является последним хаканом Сибири);
3. Бахадур-хан ибн Узар-хан ибн Шамай-хан ибн Ту-лак-хваджа-хан ибн Ибрахим-хан ибн Махмудак-хан ибнХаджжи Мухаммад-хан [6, 276].
Вполне возможно, упоминание Бахадура после пос-леднего правителя Сибири свидетельствует о том, чтоБахадур тоже был правителем, но уже не в Сибири. Та-ким местом могло быть Казахское ханство, где он былсоправителем Ишим-хана.
Встречаются также альтернативные версии генеа-логии данного Бахадура:
1. В своей книге М.Х. Абусеитова в указателе написа-ла, что Бахадур - сын Ишима [2, 375], но не дала ссылку наисточник.
2. А. Исин, говоря о генеалогии Батыр-хана, придер-живается версии Шокана Валиханова [8, 530].
Согласно Шокану Валиханову, Батыр-хан сын Боле-кей-кояна, сына Усека, сына Джанибек-хана и отец Ай-шуака [4, 150].
Шокан Валиханов в своей таблице указал, что Ба-тыр-хан сын Булекей-кояна и отец Айшуака (предок Абул-хаира). Эта генеалогия противоречит другим генеалоги-ям, где Батыр-хан в списке предков Абулхаира отсутству-ет [4, 76, 96].
Надо бы сказать, что, скорее всего, это так и есть,так как Абулхаир, по мнению многих казахов, имел худ-шее родословие, нежели другие султаны, и если бы Ба-тыр-хан был предком Абулхаира, то эти аргументы сразубы нейтрализовались. Возможно, что все-таки Батыр-ханбыл сыном Болекей-кояна, но не отцом, а братом Айшу-ака, и Шокан Валиханов здесь допустил ошибку.
Скорее всего, было два Батыра (Бахадура): один изних сподвижник Таввакула и Ишима, он был шибанидоми потомком Ибака. Второй Батыр был из Усековской вет-ви казахских ханов и был сыном Болекей-кояна, но былне отцом, а братом Айшуака, предка Абулхаир-хана. Пра-вил он в 1652-1680 годах после Джангира и до Тауке [4, 74].
Появление генеалогии первого Бахатура связано соследующим:
«Я отправился, — пишет Абу-л-Гази, будущий хивин-ский хан и историк, описывая события, имевшие местооколо 1625 года, — к казахам. В Туркестане, у Ишим-ханая провел три месяца. В то время [старшим] ханом каза-хов был Турсун-хан. Он приехал в Туркестан из Ташкента.Ишим-хан отправился повидаться с ним; меня же оста-вил дома. Возвратившись после свидания с Турсун-ханом,Ишим взял меня с собою, повел к хану, представил ему исказал: “Это Абу-л-Гази из рода Ядгар-хана. До сих пореще никто из членов этого дома не приезжал гостить кнам; наших же пребывало у них много. Было бы жела-
70
тельно, чтобы он находился при Вас”. “Хорошо, — сказалТурсун-хан, — пусть будет посему”. Он взял меня с собоюи привез в Ташкент. В Ташкенте, у Турсун-хана я провелдва года» [11, 301].
Безусловно, находясь в гостях у Ишим-хана, он встре-чался с Бахадур-ханом, у которого и записал его генеало-гию, таким образом, генеалогия боковой ветви Сибирс-ких Шибанидов оказалась в труде Абу-л-Гази.
Также мы хотели затронуть генеалогию Бабасан-мурзы, вассала хана Кучума. Среди казахов рода Аргынесть подрод Бабасан, который восходит к человеку поимени Бабасан. К потомкам этого человека относиться исам автор данной статьи. Большинство потомков родаБабасан проживают в Северо-Казахстанской областиКазахстана, немногим южнее Петропавловска.
Генеалогия Бабасана, потомка Аргына, такова: Ба-басан, сын Тогыма, сына Даута, сына Елемеса, сына Са-рысопы, сына Мейрама, сына Кара-ходжи (один из спод-вижников Тохтамыша), сына Даир-ходжи (Акжол, один изсподвижников Барак-хана, внука Урус-хана), сына Кода-на (советник Урус-хана), сына Аргына [9, 386].
Н.А. Томилов вслед за Л.П. Потаповым указываетна существование группы аргын в составе сибирских та-тар [22, 4], которые проживали в низовьях Томи [24, 180].Мы считаем, что Бабасан-мурза, вассал Кучума, был ар-гыном по племенной принадлежности и его потомки ос-тались среди сибирских татар, а часть других потомковушли к казахским аргынам.
Список литературы1. Абдиров М.Ж. Хан Кучум: известный и неизвестный. -Алматы, 1996. - 176 с.2. Абусеитова М.Х. Баранова Ю.Г. Письменные источники поистории и культуре Казахстана и Центральной Азии в XIII -XVIII веках. - Алматы: Дайк-Пресс, 2001. - 430 с.3. Атыгаев Н.А. Хронология правления казахских ханов (15-середина 16 века) // Тюркологический сборник - 2006. - М.,2007. - С.50-62.4. Ерофеева И.В. Родословные казахских ханов и кожа XVIII-XIX веков. - Алматы, 2003. - 178 с.5. История Казахской ССР с древнейших времен до нашихдней. - Т. 2. - 1979. - 424 с.6. История Казахстана в персидских источниках. - Т.2. -Алматы: Дайк-Пресс, 2005. - 692 с.7. История Казахстана в персидских источниках. - Т.4. -Алматы: Дайк-Пресс, 2006. - 620 с.8. История Казахстана в русских источниках. - Т.1. -Алматы: Дайк-Пресс, 2005. - 704 с.9. Казак ру-тайпаларынын тарихы. Аргын. - Т. 9. - Кн. 3. -Алматы, 2007. - 660 с.10. Катанов Н.Ф. Предания тобольских татар о прибытии в1572 году мухаммеданских проповедников в г. Искер //Ежегодник Тобольского губернского музея. - Вып.8. - То-больск, 1897. - С.51-60.11. Кляшторный С.Г. Султанов Т.И. «Казахстан: летописьтрех тысячелетий». - Алматы, 1992. - 373 с.12. Маслюженко Д.Н. Взаимоотношения Сибирского иКазахского ханств во второй половине XV-XVI вв. // КазахиРоссии: история и современность: Материалы международ-ной конференции. Т.1. - Омск, 2010. - С.126-132.13. Маслюженко Д.Н. Легитимизация Тюменского ханстваво внешнеполитической деятельности Ибрахим-хана(вторая половина 15 в.) // Тюркологический сборник - 2007-2008. - М., 2009. - С.237-257.14. Материалы по истории Казахских ханств XV-XVIII веков:(Извлечения из персидских и тюркских сочинений). - Алма-Ата: Наука, 1969. - 650 с.15. Миллер Г.Ф. История Сибири. - Т.1. - М.: Восточнаялитература, 2005. - 630 с.16. Миллер Г.Ф. История Сибири. - Т.2. - М.: Восточнаялитература, 2000. - 796 с.17. Нестеров А. Г. Монеты Сибирских Шейбанидов //Восток-Запад: диалог культур Евразии. - Вып. 2. - Казань,2001. - С.274-279
18. Похлёбкин В.В. Татары и Русь: Справочник. - М., 2000. -189 c.19. Сабитов Ж.М. Генеалогия Торе. - Астана, 2008. - 326 с.20. Сабитов Ж.М. Тарихи Абулхаир-хани как источник поистории ханства Абулхаир-хана // Вопросы истории иархеологии Западного Казахстана.- 2009.- №2. - С.166-180.21. Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. - Саранск:Мордовское книжное издательство, 1960. - 278 с.22. Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно-Сибирс-кой равнины в конце ХVI - первой четверти ХIХ в. - Томск,1981.23. Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. - М.: Восточ-ная литература, 2001. - 752 с.24. Тычинских З.А. К вопросу об административно-полити-ческом и территориальном устройстве сибирских татар вXVI-XVIII вв. // Средневековые тюрко-татарские государ-ства: Сборник статей. Вып. 1. – Казань: Институт исто-рии им. Ш.Марджани АН РТ, 2009. - С. 172-182.25. Aboul-Ghazi Behadour Khan. Histoire des Mogols et desTatares. Т.1. St. Petersbourg, 1871.
А.В. Матвеев, С.Ф. Татауровг. Омск
ГРАНИЦЫ СИБИРСКОГО ХАНСТВАКУЧУМА
Одним из атрибутов любого государства являютсяего граница - «линия, определяющая пределы государ-ственной территории - суши, вод, недр, воздушного про-странства - то есть пределы распространения государ-ственного суверенитета. Она устанавливается, как пра-вило, на основе договоров между сопредельными госу-дарствами в ходе делимитации и демаркации границы.Прохождение государственной границы на суше обычноустанавливается по характерным точкам, линиям релье-фа или ясно видимым ориентирам» [8]. Граница государ-ства укреплена и обладает системой охраны от внешнеговрага, контроля за движением торговых представителей,иностранных посольств и других заграничных лиц и орга-низаций. Любое государственное образование в первуюочередь заботится о безопасности своего населения,поэтому тратит определенные ресурсы на укреплениесвоих рубежей. По состоянию границ можно говорить овнешних отношениях государства, ведет ли оно агрессив-ную политику или придерживается отношений добросо-седства. Границы, если так можно выразиться, – лицогосударства.
Для Кучума, в походах и сражениях прокладывавше-го свой путь в Сибирь, вопрос о границах стал едва ли нерешающим в деле создании своего ханства. В отличие отправителя Сибирского княжества Тайбугидов Едигера,Кучум не желал быть подданным Москвы и довольство-ваться второстепенной ролью на политической аренеСредней Азии. У хана Кучума уже был свой покровитель– Абдаллах-султан, который в лице Сибирского ханстважелал видеть на севере мощного вассала-союзника, спо-собного противостоять экспансии казахских ханов. По-этому хан Кучум в несколько раз увеличил территориюсвоего ханства, переселил на эти новые территории ло-яльное ему население и прикрыл их от возможных набе-гов кочевников укрепленными городками.
Цель публикации – представить границы Сибирскогоханства, рассмотреть их местоположение и обустройство.
Наличие в Сибирском ханстве четких (насколько онивообще могли быть четкими у государственных образо-ваний Северной Азии в этот период) границ было обус-ловлено высокой степенью государственности этого по-литического образования. Она (эта степень) возникла несразу и была подготовлена целой чередой администра-
71
тивных реформ XV – XVI вв. Эти реформы начались ещедо прихода к власти хана Кучума, когда вся территорияСибирского княжества Тайбугидов была поделена на улу-сы, в наиболее населенных провинциях стали развивать-ся города. Исторический факт переноса столицы из Чим-ги-Туры в Искер в 1480-1490-х гг. прямо указывает на то,что сибирские ханы еще в конце XV в. намеренно дистан-цировались от кочевого мира и стали создавать государ-ство по подобию Казанского или Бухарского ханств. А ужев середине XVI в. Сибирское ханство административнобыло устроено по тем же принципам что и другие тюрко-татарские государства XIV-XVI вв. [9; 10].
Кочевник Кучум, воспитанный как политик, мысля-щий категориями Большой Степи, уже в 1560-1570-е гг.понимал, что без городов создать государство невозмож-но. Поэтому в период его правления в крупных населен-ных пунктах, которые он стремился превратить в военно-административные и культовые центры, были построе-ны соответствующие гражданские сооружения и мечети.Между городами были проложены дороги. Вообще всяистория Сибирского ханства Кучума была связана с горо-дами-столицами, укрепленными поселениями, военны-ми форпостами, дорогами и наместниками, а не с пере-кочевками и ставками. По этой причине вопрос государ-ственной границы не мог не быть для Кучума актуаль-ным. Он являлся показателем статуса его государства,уровня его политического суверенитета и границей рас-пространения власти над ясачным населением. Поэто-му при изучении истории Сибирского ханства необходи-мо уделять более пристальное внимание имеющимся внауке фактам, позволяющим определить места прохож-
дения его границы.Нельзя сказать, что историки ничего не говорили о
границах Сибирского ханства. Вместе с тем, долгое вре-мя никто не мог аргументировано предложить для этогоконкретных географических рубежей. Идеологам напи-сания истории Российской империи (а затем СоветскогоСоюза) было невыгодно показывать Сибирское ханстворазвитым государством XVI в. Поэтому вопрос о его гра-ницах старались просто обходить. Одной из лазеек длярешения этой проблемы стал тезис о том, что сибирскиеханства были полукочевыми образованиями, а их лиде-ры – кочевниками, для которых границы не имели боль-шого значения [15]. По этой причине историки обходи-лись достаточно общими определениями границ ханства[31, 147-148]. Ни в одном подобном описании вы не най-дете ни одного конкретного пункта – реки, озера, насе-ленного пункта, торгового пути, который служил бы свое-образной пограничной линией, в лучшем случае в каче-стве ориентиров речь идет о бассейнах рек, «племенах»или территориях сопредельных государственных обра-зований. Так, например, Р.Г. Скрынников в своей извест-ной работе «Сибирская экспедиция Ермака» писал: «Насевере границы царства доходила до р. Оби, на западепереходили кое-где на европейские склоны Уральскихгор, на юге терялись в Барабинских степях» [27,113].
Одной из самых известных ранних попыток картог-рафирования границ Сибирского ханства является «Кар-та Сибири XVI – XVII в. (до 1618 г.)», приготовленная стар-шим учёным специалистом Института истории Академиинаук СССР К.Н. Сербиной к выходу первого тома «Исто-рии Сибири» Г.Ф. Миллера в 1937 г. (рис. 1) [24].
Рис. 1. Карта Сибири XVI - XVII в. (до 1618 г.) К.Н. Сербиной (Миллер Г.Ф. История Сибири. - М.-Л., 1937. - Т. I. - Приложение)
72
На этой карте «граница царства Кучума» на востокепроходит восточнее верховьев р. Омь, не захватывая до-лины левых притоков р. Обь. Затем плавным полукругомона направляется на юго-восток и юг, где проходит юж-нее Чановских озер. Немного южнее 54 широты (в райо-не современной границы между Российской Федераци-ей и Республикой Казахстан) «граница царства Кучума»выходила к р. Иртыш, от которой плавно шла на запад дор. Тобол, на которую выходила в районе 54 широты. Запад-ная граница ханства охватывала лишь левобережную до-лину р. Тобол, включая низовья ее левых притоков – рр.Исеть, Пышма, Тура, Тавда. Северную границу «ЦарстваКучума» К.Н. Сербина провела между устьями правых при-токов р. Иртыш - р. Туртас и р. Демьянка. От этой самойсеверной точки граница ханства поворачивала на юго-во-сток и шла по верховьям правых притоков р. Иртыш рр.Туй, Шиш, Уй, Тара. От верховьев р. Тара граница спуска-лась на юг и выходила к верховьям р. Омь. Таким обра-зом, в пределы «Царства Кучума» К.Н. Сербина отнеслатолько территории, заселенные сибирскими татарами, илесостепные и степные междуречья рр. Обь, Иртыш,Ишим, Тобол, на которых какого-либо иного населения К.Н.Сербина не отметила. Долгое время эта карта являласьосновной иллюстрацией пределов Сибирского ханства.
В 1990-х гг. произошло событие, осложнившее пони-мание вопроса о границах Сибирского ханства. После об-разования независимого государства Республика Казах-стан, была естественным образом написана его новаяистория, согласно которой казахскому государству отны-не отводилась главенствующая роль во всех политичес-ких событиях второй половины II тыс.н.э. Вся территориялесостепной зоны Западной Сибири в средневековьебыла включена казахскими историками в состав Дешт-и-
Кипчака (кыпчакскую степь), а затем в состав Казахскойстепи (рис. 2) [11]. Исходя из этого рассматривать Сибир-ское ханство как одно из слагаемых этого государствен-ного образования или как ханство, титульное населениекоторого составляли казахи. «… Северные границы Ка-захского ханства проходили значительно севернее сегод-няшних границ Казахстана. Северные границы Сибирс-кого ханства не устанавливались и были практически бес-предельны» [7, 23]. В связи с этим на иллюстрациях по-добных монографий Сибирское ханство зачастую совсемотсутствует.
Так, например, М. Абдиров пишет: «Территория Си-бирского ханства в это время напоминала огромный тре-угольник, один конец которого находился на Тоболе, дру-гой - на Иртыше, а вершина упиралась в низовья Оби.Уральские горы служили естественной границей междуСибирским ханством и Московской Русью. На юге, в вер-ховьях рек Орь, Тобол, Есиль (Ишим) оно граничило сНогайской Ордой и Казахским ханством, а в верховьяхИртыша - с калмыками (хотя границы эти между кочевыминародами были весьма условны)» [1, 207]. Уже упоминав-шийся нами К.К. Данияров пишет «Сибирское ханство наюге граничило с казахским ханством и поэтому южные гра-ницы Сибирского ханства в точности повторяют границыказахского ханства. На западе границы Сибирского хан-ства соприкасались … с Башкортостаном» [7, 16-17].
Казанские историки в 2000-х гг. были склонны в не-которой степени преувеличивать размеры Сибирскогоханства. Г.Л. Файзрахманов довел северную границу хан-ства до низовьев р. Обь, северо-западную – до владенийтатарского князька Епанчи, западную – до восточных скло-нов Уральских гор, юго-западную – до владений Ногайс-кой орды и Казахского ханства.
Рис. 2. Карта Дешт-и Кыпчака (Древний Казахстан. Детская энциклопедия Казахстана. – Алматы, 2004. – С. 206.)
73
Южные границы ханств, по мнению автора, были не оченьопределены. Восточная граница доходила до р. Омь ипочти до левого берега р. Обь [31, 148] (рис. 3). Д.М. Исха-ков включил в состав Сибирского ханства 1563-1598 гг.практически всю Западную Сибирь и значительную частьКазахских степей со всем бассейном р. Ишим и верховь-ями р. Иртыш [10].
Рис. 3. Карта Сибирского ханства (Файзрахманов Г.Л.История сибирских татар (с древнейших времен до начала
ХХ века). - Казань, 2002. - С. 123)
На карте В.В. Николаева «Присоединение Сибирс-кого ханства к России. Поход Ермака (1582-1585 гг.)», под-готовленной в 2004 г. для известного сайта «ГЕОСИНХ-РОНИЯ», представлены иные границы Сибирского хан-ства. На востоке государство было ограничено низовья-ми р. Тара, откуда граница на юго-восток-восток шла чутьюжнее р. Оша, в среднее течение р. Ишим, к истокамр. Вагай, среднему течению р. Тобол, южнее р. Исеть вы-ходила в башкирские степи, где охватывала верховья рр.Уфа и Чусовая. Затем государственная граница с юга ивостока обходила Уральские горы, оставляя в пределахханства верховья р. Исеть и Пышма, затем шла на север,проходя в верховьях рр. Тагил, Тура, Сосьва, Лозьва, Пе-лым и затем уходила на северо-восток к устью р. Обь.Отсюда граница поворачивала на юго-восток, проходилапо левому берегу р. Назым, Обь, Малый Юган, БольшойЮган, а затем на юго-восток через верховья рр. Демьян-ка, Туй, Шиш. От последней реки граница поворачивалана юго-запад в низовья р. Тара. В число территорий, под-чиненных Сибирскому ханству, В.В. Николаев включилзападную часть Барабы и степные районы Среднего То-боло-Иртышья [5] (рис. 4).
Таким образом, в научной и научно-популярной ли-тературе до сих пор фигурирует несколько версий про-хождения границ Сибирского ханства. Особенную слож-ность для специалистов всегда представляли южные гра-ницы государства, расположенные в средних теченияхрр. Тобол, Ишим и Иртыш, и населенные кочевниками.Однако известно, что, несмотря на открытые степныепросторы, линия границы у кочевников определялась
достаточно четко, не требуя наличия пограничных зас-тав. Известный журналист и писатель Мак-Гахан в XIX в.писал о том, что если составить карту степей, указываю-щую пути всех аулов, то она представляла бы перепле-тенную сеть тропинок, которые будут пересекаться ивстречать друг друга во всевозможных направлениях. Амежду тем ни один аул никогда не сбивался со своегопути и не давал другому вступать на него. Каждый аулимел право пересечь дорогу другого, но пройти хотя бынебольшое расстояние тем же путем ему никогда не по-зволяли. Малейшее уклонение считалось достаточнымпредлогом для войны, да и на деле оказывалось, что ос-нованием всех распрей и тяжб между киргизами (казаха-ми. – авт.) служило то, что один какой-нибудь род завладе-вал не пастбищем, как можно было бы предположить, адорогой другого рода. Таким образом, пути кочевок огра-ничивали пределы владений тех или иных родов [13, 27].
Подобная ситуация была характерна и для юго-за-падной части Сибирского ханства, для среднего течениярек Ишима и Тобола. Большая по территории часть Си-бирского ханства, расположенная в лесостепной и юж-нотаежной зонах Западной Сибири, была заселена тюр-коязычными группами, которые в интересующий нас пе-риод времени занимались комплексным хозяйством,основу которого составляло отгонное скотоводство вкупес земледелием, охотой и рыболовством. Свидетельствомоседлости населения является большое количество ста-ционарных поселений. На настоящий момент известноболее 150 археологических памятников интересующегонас времени. В результате археологических исследова-ний получены представительные коллекции, подтверж-дающие оседлый образ жизни их обитателей. Практи-чески все ученые, занимающиеся проблемой присоеди-нения новых территорий к российскому государству и ос-воения этого региона переселенцами из Европы, отме-чали стационарный образ жизни аборигенов лесостеп-ной полосы Западной Сибири [2; 3; 4; 34].
Неопределенность для исторической науки границСибирского ханства была связана с ограниченными воз-можностями письменных источников. Как только удалосьвыделить культурно-хронологические признаки для ар-хеологических комплексов, связывавшихся с населени-ем сибирских ханств, проблема стала решаться. Поэтомуне удивительно, что именно археолог В.И. Соболев од-ним из первых дал более конкретное описание границыСибирского ханства Кучума. Он указывал, что «к основ-ной территории сибирских ханств относились те районы,где проживало родственное в этническом плане населе-ние — западно-сибирские татары. На западе границатерритории, занимаемой тюркоязычным населениемСибирского юрта, проходила по верховьям рек Исеть,Пышма, Ница до слияния рек Тура и Тагил, далее в тер-риторию их расселения входил бассейн рек по среднемутечению Тавды и Конды, до впадения последней в Ир-тыш. По Иртышу зона расселения татар могла охваты-вать пойменные и заливные участки... На востоке от зонырасселения народов, входивших в состав Сибирскогоюрта, в бассейнах Тары, Оми, Чулыма, Каргата и системыозер с самым большим оз. Чаны проживали барабинс-кие татары. Здесь граница доходила до среднего тече-ния р. Обь. В состав территории Сибирского юрта входи-ли и районы к югу от Иртыша, в которые после паденияКучума начинают проникать ойраты. На юге, в верховьяхТобола, Ишима начиная с XV в. с Сибирским юртом гра-ничили казахские жузы, кочевки которых простиралисьот верховьев Иртыша до Тургайской степи» [28, 226-227].Но даже не описание является главным в работеВ.И. Соболева, карта распространения памятников Си-бирского ханства наглядно показывает границы государ-
74
Рис. 4. Карта «Присоединение Сибирского ханства к России. Поход Ермака (1582-1585 гг.)» (ГЕОСИНХРОНИЯ |GEOSYNCHRONY Атлас всемирной истории | Atlas of World History / Россия/ В.В. Николаев. Карта «Присоединение
Сибирского ханства к России. Поход Ермака (1582-1585 гг.)» / http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus_siberia.gif)
ства сибирских татар (рис. 5). К сожалению, ученый неуспел создать внутреннюю периодизацию этих комплек-сов, но и в таком виде публикация данных материаловстала существенным шагом вперед в изучении Сибирс-кого ханства.
Картографирование известных исторических собы-тий, объектов, памятников археологии позволило нам,вслед за В.И. Соболевым, конкретизировать вопрос ограницах Сибирского ханства Кучума на момент 1581 г.(рис. 6). Восточная граница ханства располагалась в рай-оне низовьев р. Томь, где проживали эуштинские татары.Затем она шла на юго-запад к р. Обь. Здесь «выше Чат налугу» на р. Ормени у Кучума располагались пашни, и здесьже состоялось последнее сражение Кучума с отрядомАндрея Воейкова. Далее граница проходила на западпочти по прямой линии до Чановских озер и далее нар. Иртыш. Граница была отодвинута на юг для того, чтобыв пределах ханства оставался главный широтный мери-диональный транспортный сухопутный путь государства,проходивший по южному берегу р. Карагат. Южную грани-цу от р. Обь до р. Иртыш прикрывали пограничные город-ки, удобно расположенные в средней части этого рассто-яния - городища Чиняиха, Тюменка, Новорзино I на ост-ровах Чановских озер, а также вынесенное на юг городи-ще Чича I. В районе р. Иртыш южная граница ханстваоставляла в пределах государства важнейшие государ-ственные переправы, расположенные в урочищах Казь-ма, Атмас и Чарлак (в районе современной границы меж-ду Российской Федерацией и Республикой Казахстан).Именно на этих перевозах в 1596 г. поджидали Кучуматарские казаки, и здесь же они полонили бухарский ка-раван, беспечно шедший из Средней Азии к Кучуму, кото-рый в это время кочевал у Чановских озер [21, 297]. Да-лее по течению р. Иртыш граница ханства несколько под-
нималась на северо-запад, а затем по долине р. Камыш-лов и Камышловскому логу проходила все Ишимо-Иртыш-ское междуречье. Известно, что на Камышлове Кучум ко-чевал после поражения под Искером от отряда Ермака.«Ермаку же пребывающу в Чингиде и воем его временноумаляющимся цынгою и недугом чрева, Кучюм же изхо-дяще в походы на Камыш со всеми вои пребываше; бла-годариша Бога, яко рыб сухих и ячменя и полбы множе-ство обретоша» [22, 321].
За р. Ишим граница ханства переходила в Ишимо-Тобольское междуречье, где была не столь выражена,как на востоке. Зато эти пространства заселяли друже-ственные Кучуму казахские и ногайские роды, которыечетко блюли свои территории перекочевок [30]. «Река Уй,равным образом впадающая в Тобол, превосходит двепредыдущие пространством течения и служит границейот киргиз-казачьих орд» [7, 23].
Далее в пределах государства расположилась зах-ваченная Маметкулом у Строгановых в 1573 г. областьТахчеи, в верховьях р. Исеть [33, 74-75]. От верховьев р.Исеть, возможно, самой западной точки Сибирского хан-ства, граница государства поворачивала на северо-вос-ток и проходила в средних течениях р. Тура, Тавда, низо-вьях р. Конда, постепенно входя в долину р. Иртыш. Здесьна р. Демьянка располагалось городище Самарское.
Кучум взял под контроль долину р. Иртыш до меставпадения ее в р. Обь, а возможно и более северные тер-ритории. Об этом косвенно говорил Маметкул, рассказы-вая агенту Московской торговой компании Д. Горсею опленении и гибели «в их земле», в устье р. Обь, европей-ских купцов, пришедших туда на корабле [27, 178]. Об этомговорит и Ремезовская летопись: «Кучум и дани со мно-гих низовых язык взыша и городки свои распространишапо многим местам» [25, 319]. Е.П. Мартынова, ссылаясь на
75
Рис. 5. Схема расположения памятников населения сибирских ханств (Соболев В.И. История сибирских ханств (поархеологическим материалам). - Новосибирск, 2008. - С. 62-63)
Рис. 6. Сибирское ханство в 1570-1580 гг. (А.В. Матвеев, С.Ф. Татауров, 2011 г.)
76
материалы Г.Ф. Миллера, выводит название хантыйскихюрт Мурзинских на Иртыше от места проживания одногоиз правителей Сибирского ханства – «мурзы». «Один изтатарских ханов получил в управление улус в низовьях Ир-тыша, где, видимо, поселился со своими приближенными.По-видимому, название остяцкой Тарханской волости внизовьях Иртыша указывает на границу распространениясибирско-татарской государственности на север» [14].
От низовьев р. Иртыш граница ханства проходила наюго-восток, охватывая территории проживания хантов пор. Демьянка, верховья правых притоков р. Иртыш рек Туй,Шиш, Уй, Тара. Здесь на реках Уй, Тара нами были обна-ружены пограничные городища Кошкуль IV, НадеждинкаVII (Тунусский городок). Далее севернее р. Тара границаханства шла на восток, доходя до р. Обь и Томь. В преде-лах ханства оставалась вся Барабинская лесостепь и та-ежные районы Обь-Иртышского междуречья. Взаимоот-ношения между Сибирским ханством и угорскими госу-дарственными образованиями достаточно хорошо осве-щены в литературе [29]. Поэтому мы не будем останавли-ваться на этом вопросе, позволим только заметить, чтона протяжении всего XVI в. и даже после прихода русскихи присоединения Западной Сибири к российскому госу-дарству шло постоянное выдавливание хантыйского насе-ления татарами дальше на север. Точно такие же процес-сы происходили и в Приобье, где закончились формиро-ванием новой этнической группы – обских татар.
Письменные источники исподволь указывают намна четкое понимание Кучумом и его приближеннымиместонахождения границ Сибирского ханства. Так, напри-мер, южная граница на востоке ханства стала той после-дней чертой, за которую хан Кучум не смог перейти, не-смотря на всю тяжесть положения в 1592-1598 гг. В 1594-1595 гг. Кучум жил в на р. Иртыш, в двух днях пути южнееустья р. Омь (это как раз в районе урочищ Атмас и Чер-лак). После разгрома в 1595 г. отрядом Бориса Доможи-рова Черного городка в центре Омского Прииртышья Ку-чум не ушел еще дальше на юг, что было бы логичнее, авыдвинулся на северо-восток в Тунусский городок. В 1598г. Кучум проживал в самой восточной части своего госу-дарства «выше Чат на лугу» на р. Ормени, где у него рас-полагались пашни. После внезапного нападения отрядаА. Воейкова и последующего военного поражения Кучумвновь не ушел на юг.
Так как в значительной степени Сибирское ханствооказалось окруженным зависимыми от него племенны-ми или родовыми образованиями (на юге – родовые под-разделения Казахской, Ногайской орд, Мангытского иля,Бухарского ханства, на севере – родовые подразделенияи княжества ханты, манси), то хану Кучуму приходилосьобращать свое внимание только на обустройство отдель-ных участков границ - тех, где существовала напряженнаяситуация с соседями. В настоящее время можно с извес-тными оговорками предполагать наличие в Сибирскомханстве двух специальным образом организованных по-граничных линий.
Первая пограничная линия располагалась на юго-восточной границе государства и защищала подданныхот нападения калмыков, которые постоянно теснили но-гайцев, а затем и казахов к западу и были не прочь рас-пространить свое влияние и на территории, где прожива-ло татарское население. В Барабе Кучум был вынуждендержать постоянные гарнизоны в специально построен-ных городках, известных нам как городища Чиняиха, Тю-менка, Новорзино I, Мальково I в системе Чановских озер,а также вынесенное на самую южную окраину городищеЧича I. Впервые на пограничный характер городков, рас-положенных в южной части Барабинской лесостепи, ука-зал В.И.Соболев [28, рис. 11-14].
Эти городки отличает геометризм оборонительныхлиний, они имеют либо подпрямоугольную форму, либоподковообразную. В некоторых случаях внутри подраз-деляются на две неравные части (Тюменка, Чиняиха).Укрепления состоят из одной линии рва шириной до пятии глубиной до двух метров и вала шириной до пяти и вы-сотой до полутора метров. Эти комплексы не были пред-назначены для долговременной обороны, а играли рольпограничных застав, укрепленных лагерей, основной за-дачей которых было наблюдение за передвижением по-тенциального неприятеля в районе границы и в случаеего проникновения на территорию ханства своевремен-но информировать главу улуса или наместника этой про-винции. По этой причине указанные комплексы не име-ют большого количества жилищ, а в некоторых случаях,по всей вероятности, использовались только легкие пе-реносные жилища – юрты. О том, что городки ставилисьдля контроля над определенным участком границы, сви-детельствует и тот факт, что при выборе места его распо-ложения в гораздо меньшей степени учитывались благо-приятные для обороны особенности рельефа. По всейвероятности, между городками по определенным тро-пам постоянно курсировали конные дозоры.
Вторая пограничная линия проходила в северо-вос-точной части государства на протяжении от устья р. Ишимдо верховьев р. Тары и далее, возможно, до берегов р.Оби. Задачей этой укрепленной линии было удержание вподчинении угорских родов, проживавших в глубине пра-вобережья Иртыша. Прииртышские ханты были населе-нием, платившим хану так необходимый для содержа-ния армии ясак. Для контроля за ними в среднем тече-нии правых притоков р. Иртыш – рр. Туй, Шиш, Уй и ТараКучум разместил небольшие военные гарнизоны. Сви-детельством в пользу такого развития событий служатрезультаты работ омских археологов 2003 – 2006 гг., по-лученные на крупных правобережных притоках р. Иртыш.Здесь на расстоянии 50 – 100 км от устья каждой рекибыли исследованы небольшие, но хорошо укрепленныетатарские городки - городища Надеждинка VII на р. Тара,Кошкуль IV на р. Уй, Ямсыса III и IV на р. Туй, Линевскаясопка, Большая Пристань I на р. Шиш [18; 19; 20].
На этой линии городки также были небольших раз-меров. Численность их гарнизонов, как и на южной гра-нице, не превышала 30-40 человек. По всей вероятностив некоторых городках гарнизоны находились постоянно,а в некоторых - только в летний или зимний период, когдак ним были хорошие дороги. Такой вывод мы можем сде-лать на основании различия конструкций исследованныхжилищ населения городков. Так, на городке Екатеринин-ское V (Ананьинское городище) в срубных, слегка углуб-ленных в землю жилищах фиксируются чувалы, а на го-родке Кошкуль IV мы наблюдаем легкие наземные жили-ща с небольшими очагами. Такое же деление на посто-янные и временные жилища мы наблюдаем и на другихгородках. Расположенные в труднодоступных местах «се-зонные» городки функционировали только в период воз-можности связи между городком и центром улуса. Этообъясняется тем, что городки, помимо оборонительныхфункций, являлись местом сбора дани с местного насе-ления, хотя можно допустить, что на таких городках оста-вались люди, следившие за их состоянием. На этой по-граничной линии городки не были предназначены длядолговременной обороны, а являлись хорошо укреплен-ными лагерями для размещения небольшого отряда,контролировавшего определенный участок границы.
Остеологические определения (П.А. Косинцев), сде-ланные для городков Екатериновка V (Ананьинское го-родище), Кошкуль IV и Надеждинка VII (Тунус), показали,что почти 90% всех обнаруженных археологами костных
77
остатков принадлежат лошади. То есть фактически в гар-низоне было налажено автономное питание, независи-мое от местного населения и от превратностей охоты илирыболовства, хотя наличие костей северного оленя (ареалобитания которого находится значительно севернее) нагородке Кошкуль IV указывает на то, что хантыйское населе-ние могло передавать животных для питания отряда.
В задачи пограничников, служивших как на южных,так и на северных границах, входила охрана территорийна самых опасных направлениях (дозоры?), патрулиро-вание, сбор ясака, таможенные функции и сопровожде-ние торговых караванов по территории ханства. Разницамежду северными городками и южными заключалась втом, что на южной границе они выполняли в большеймере защитные функции, препятствуя продвижению кал-мыков, а на севере это были своеобразные плацдармыдля дальнейшего продвижения вглубь земель, населен-ных угорским населением. Помимо этих функций не сто-ит забывать о том, что эти пограничные линии распола-гались на недавно присоединенных к ханству территори-ях, поэтому военные гарнизоны были опорой ханскимнаместникам и помимо основной своей задачи выпол-няли и полицейские функции.
Таким образом, Сибирское ханство во время прав-ления хана Кучума имело четко выраженные границы,которые соблюдались на основе соглашений между си-бирским ханом и местными правителями. На тех участ-ках, где существовала реальная угроза безопасности го-сударства и его подданных, или предполагалась даль-нейшая экспансия государства на соседние земли, Кучумвозводил пограничные городки, в которых держал посто-янные гарнизоны. Всего на границах Сибирского ханства,по нашим подсчетам, было от полутора до двух десятковгородков. Известная примерная численность их гарни-зонов (30-40 человек) позволяет предполагать, что наобороне рубежей хан Кучум держал несколько сот вои-нов. Сибирское ханство Кучума как государство выполня-ло одну из своих важнейших функций – обеспечивалобезопасность подданных от внешних противников.
После разгрома Сибирского ханства Московскимцарством городки юго-восточной и северо-восточной по-граничных линий были заброшены, барабинские и тарс-кие татары оказались беззащитным перед набегами ко-чевников, которые практически ежегодно грабили мест-ное население. Набеги калмыков происходили фактичес-ки ежегодно. Например, уже в 1610 г. несколько татарТарского уезда перешли на сторону калмыков, с которы-ми они, в числе до 200 человек, совершали набеги подсамый г. Тару, нанося ему большой ущерб грабежами иубийствами. В этом же году калмыки захватили находя-щиеся по соседству с Тарой соленые озера и не допуска-ли посланных из города казаков брать из них соль. Осе-нью 1618 г. на правобережье р. Иртыш между р. Омь иоз. Чаны случилось военное столкновение русских с ой-ратами. В 1625 г. в верхние тарские волости Барабу иТеренью прикочевали калмыки-курчаки, отняли зверо-вую добычу и бобровые речки, убили двух человек и вооб-ще теснили тарских ясачных людей. В 1626 г. на террито-рию Тарского уезда вторгся торгутский тайша Урлюк ирасположился со своими кочевьями в полутора днях ездыот Тарского городка между Чернолучьем и Саргаткой,собирая алман с тарских татар. В 1627 г. положение ещебольше осложнилось: калмыки разной племенной при-надлежности грабили и брали в плен татар и угрожалигороду Таре [16]. Помимо калмыков на территорию Ниж-ней Тары проникали и отряды казахов. В ноябре 1734 г.казахами был произведен набег на Бергамацкую слобо-ду с прилегающими деревнями, а также на деревню Му-ромцево, относящиеся к Тарскому ведомству. В набеге
участвовало около трехсот человек. Кроме русских дере-вень разорению подверглись татарские селения. Кочев-ников пытался преследовать отряд тарского казачьегосотника Дмитрия Логинова, но на российской террито-рии казахов догнать не смогли [32, 47-48]. В СреднемПрииртышье нападения калмыков, а затем и казахов нароссийские населенных пункты продолжались до 1761 г.В других регионах Западной Сибири происходили сход-ные процессы. Так, в Приобье после поражения ханаКучума князь эуштинцев Тоян, опасаясь разорительногонашествия калмыков, отправился в Москву просить царяпостроить на Томи город. В.С. Синяев писал: «…реше-ние Тояна о добровольном переходе в русское поддан-ство было продиктовано сложившейся обстановкой и втех условиях было единственно верным» [26, 156].
Важным обстоятельством, указывающим на пра-вильность установленных нами южных границ Сибирс-кого ханства, является тот факт, что официальной грани-цей между Российским царством и джунгарами на восто-ке в 1600-х гг. стали рр. Камышлов, Омь, Карагат. Около1607-1610 гг. на р. Омь, в двух днях пути от ее устья былустроен Барабинский караул (острог) из тобольских и тар-ских казаков, наряжавшихся туда погодно. Известно, чтотарские казаки не смогли удержать границу государстваи в 1618 г. Барабинский караул трагически погиб в осаде,а в 1628-1629 г. граница резко поднялась на север додолин рр. Тара и Оша. То же самое случилось в 1628 г. вБарабе, где восставшими барабинскими татарами былсожжен пограничный Убинский острог [23, 6]. К прежнейгранице по оси рр. Камышлов, Омь, Карагат, Ирмень Рос-сийское государство начало выходить в 1700-х гг., когда вПриобье был возведены Умревинский острог (1703 г.),Чаусский острог в 1713 г., Бердский острог (между 1710-1715 гг.) [23, 9-12]; в Барабе – (Каинский) Барабинскийпасс (1722 г.), Убинский острог (1722 г.), перенесенный кр. Карагат в 1746 г.; в Прииртышье – Омская крепость(1716 г.). Западнее Омской крепости прежнюю границуСибирского ханства Россия окончательно закрепила засобой постройкой в 1752-1755 гг. Новоишимской укреп-ленной линии между рр. Тобол и Иртыш [6; 12; 16; 17].
Городки северо-восточной пограничной линии Си-бирского ханства перестали существовать в конце XVI в.по причине отсутствия в них функциональной надобнос-ти. Сибирские татары и ханты стали подданными одногогосударства – Российского царства, границы которого вЗападной Сибири уже в XVI в. достигли берегов Северно-го Ледовитого океана.
Дальнейшее уточнение границ Сибирского ханствавозможно только после целенаправленного археологи-ческого исследования пограничных территорий этого го-сударственного образования. По сути дела, там, где по-добные работы были проведены – на Чановских озерахи в Тарском Прииртышье, это принесло свои результаты– были выявлены пограничные городки, изучена специ-фика их расположения, фортификации, внутреннего уст-ройства, содержания и т.д. Вполне ожидаемо, что подоб-ные исследования принесут аналогичные результаты ина других рубежах Сибирского ханства.
Список литературы1. Абдиров М. Хан Кучум // Простор.- 1993.- № 9. - С.207-223.2. Аполлова Н.Г. Хозяйственное освоение Прииртышья вконце XVI - первой половине XIX в. - М., 1976. - 370 с.3.Бояршинова З.Я. Заселение Сибири русскими в XVI -первой половине XIX в. // Итоги и задачи изучения Сибиридосоветского периода. - Новосибирск, 1971. - С. 40 – 56.4. Бояршинова З.Я. Некоторые вопросы истории сибирскогокрестьянства феодальной эпохи // Проблемы историисоветского общества Сибири. - Вып.2. - Новосибирск, 1970.- С. 74 – 84.
785. ГЕОСИНХРОНИЯ | GEOSYNCHRONY Атлас всемирнойистории | Atlas of World History / Россия/ ПрисоединениеСибирского ханства к России. Поход Ермака (1582-1585 гг.) /http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus_siberia.gif6.Горбань Н.В. Из истории строительства крепостей наюге Западной Сибири: Ново-Ишимская линия крепостей //Вопросы географии: Сб., № 31. – М., 1953. – С. 206-227.7. Данияров К.К. История Сибирского ханства. О книге А.Дж.Тойнби «Цивилизация перед судом истории» примени-тельно к Казахстану. - Алматы, 2003. – 88 с.8. Закон РФ «О Государственной границе РоссийскойФедерации» №4730-I от 01.04.1993. Статья 5.9. Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства.Очерки. – Казань, 2006. - 198 с.10. Исхаков Д.М. Тюрко-татарские государства XV-XVI вв. –Казань, 2009. - 142 с.11. Карта Дешт-и Кыпчака // Древний Казахстан. Детскаяэнциклопедия Казхахстана. – Алматы, 2004. – С. 206.12. Колесников А.Д. Памятники военно-оборонительногоискусства Сибири // Памятники истории и архитектурыСибири. - Новосибирск, 1986. – С. 7-22.13. Мак-Гахан Я.А. Военные действия на Оксусе и падениеХивы. - М., 1875. - 304 с.14.Мартынова Е.П. Татарско-угорские политические связив XIV-XVII вв. // Тюркские народы: Материалы V Сибирскогосимпозиума «Культурное наследие народов ЗападнойСибири». – Тобольск-Омск, 2002 – С. 294-296.15. Маслюженко Д.Н. Реставрация Шибанидов в Сибири иправление Кучум-хана во второй половине XVI века //Средневековые тюрко-татарские государства. - Казань,2009. - Вып. 1. - С. 97-111.16. Матвеев А.В. Русско-джунгарская война в СреднемПрииртышье в XVII в. // Казачество Сибири: от Ермака донаших дней (история, язык, культура): Сборник материаловмеждународной научно-практической конференции (г.Тюмень, 31 октября 2009 г.). - Тюмень, 2009. - С. 113-116.17. Матвеев А.В., Свиридовский О.А. Ново-Ишимская(Горькая) линия военных укреплений XVIII века. (Источники,история изучения, результаты последних исследований) //Известия Омского государственного историко-краеведчес-кого музея. – Омск, 2000. - Т. 8. - С. 75-93.18. Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Проблемы культурно-хронологической интерпретации памятников XIV-XVI вв. вСреднем Прииртышье // Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современныхобществ Западной Сибири и сопредельных территорий:проблемы интерпретации и реконструкции: МатериалыЗападно-Сибирской археолого-этнографической конферен-ции. – Томск, 2008. –С. 149-152.19. Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Сибирское ханство в 1584-1598 гг. // Исторический ежегодник. 2008. - Вып. 1. Отече-ственная история / Под. ред. А.В. Якуба, Ю.А. Сорокина. –Омск, 2008. – С. 4-8.20. Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Сибирское ханство Кучумацаря. Вопросы государственного устройства // Средневеко-вые тюрко-татарские государства: Сб. статей. – Казань,2009. – С.112-118.21. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Турк-менской ССР. - Ч.1. - М., 1933. – 324 с.22. Ремезов С.У. История Сибирская // Памятник литерату-ры Древней Руси. XVII век. - М., 1989. - Кн. 2. - С. 321.23. Русские остроги XVIII века на территории Новосибирс-кой области / Сост. А.П. Бородовский, Е.Л. Бородовская. -Новосибирск: Научно-производственный центр по сохране-нию историко-культурного наследия, 2003. – 43 с.24. Сербина К.Н. Карта Сибири XVI – XVII в. (до 1618 г.) //Миллер Г.Ф. История Сибири. - М.-Л., 1937. - Т. I. - Приложение.25.Сибирские летописи. - СПб., 1907. – 395 с.26. Синяев В.С. Окончательный разгром Кучума на Оби в1598 году // Вопросы географии Сибири. - 1951. - №2. -С. 141-156.27.Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. – Новоси-бирск, 1982. – 253 с.28. Соболев В.И. История сибирских ханств (по археологи-ческим материалам). – Новосибирск, 2008. – 356 с.29. Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно-Сибирс-кой равнины в конце XVI – первой четверти XIX вв. – Томск,1981. - 275 с.
30. Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. - М., 2002. - 752 с.31. Файзрахманов Г.Л. История сибирских татар (с древ-нейших времен до начала ХХ века). – Казань, 2002. – 488 с.32. Шевченко С.В. Сибирское линейное казачество и казахиСреднего жуза в XVIII - начале XIX вв.: Дис. ... канд. ист.наук. - Екатеринбург, 1997. – 297 с.33. Шумилов Е.Н. Строгановы и русская колонизация илипочему Ермак Тимофеевич не пошел в Сибирь «Московскимтрактом» // Вопросы истории и культуры ПермскогоПрикамья: «Строгановские чтения»: Материалы Всерос-сийской научно-практической конференции. – Березники,2004. - С. 74-75.34. Шунков В.И. Очерки по истории земледелия Сибири (XVIIвек). - М., 1956. – 432 с.
Б.Р. Рахимзяновг. Казань
КОНТАКТЫ МОСКВЫ С СИБИРСКИМИЧИНГИСИДАМИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XVI В.: ВОЕННОЕПРОТИВОСТОЯНИЕ, ПОЧЕТНЫЙ ПЛЕН
И ЛЕГИТИМИЗАЦИЯ ПРАВА НА«ВЫСОКУЮ РУКУ»
Захват Иваном IV Казани и Астрахани привел к тому,что Москва стала вынуждена регулярно и напрямую кон-тактировать с восточными линиями Джучидов: Ордаида-ми Бухары, Казахской Ордой, Шибанидами Ургенча, Бу-хары и Самарканда. Но более всего завоевание поволж-ских ханств отразилось на контактах Москвы с татарскойэлитой Сибири. Контроль над Казанью предоставил Мос-кве, посредством камского бассейна, прямой доступ котдаленным районам Сибири. В течение последующегопятидесятилетия Москва постарается взять все центрыпушной торговли под свой контроль. Эти попытки приве-дут к естественному в данной ситуации конфликту с мест-ной татарской знатью, которая на протяжении многихпредыдущих десятилетий контролировала ресурсы реги-она. Как и в случаях с Казанью и Астраханью, Москва бу-дет использовать как дипломатию, так и военную силудля установления своей гегемонии в регионе. Основнаямасса дипломатических усилий Москвы будет направле-на на установление личных связей между московскимцарем и Чингисидскими правителями региона. Но в от-личие от ситуации до взятия Казани, позиция, принятаяМосквой, будет позицией безусловного превосходства[12, l. 135].
Сибирская элита состояла как из пришлых Чингиси-дов (в данном случае Шибанидов), так и местных татарс-ких аристократических кланов (бекской (княжеской) ди-настии Тайбугидов).
В середине XVI в. в отдаленной Бухаре разворачива-лись события, которые могли помешать московскомупродвижению на восток. В середине 1550-х гг. шибанидс-кий хан Абдулла II пришел к власти в Зарафшанском хан-стве. Намереваясь добиться большего влияния в Запад-ной Сибири с целью развития бухарской торговли, Абдул-ла вооружил войско внука хана Сайид-Ибрагима («Иба-ка» рус. летописей) Кучума, который тогда находился вме-сте с ним в Бухаре, и направил его в кампанию для вос-становления контроля над Тобольско-Иртышском бас-сейном [2,18-20; 3, 187].
К середине 1560-х гг. кампания Кучума добилась зна-чительных успехов. Он уничтожил Тайбугида князя Яды-гара (Едигера), подчинил себе некоторое количество дру-гих сибирских князей и вместе со своими сыновьями вско-ре воцарился в государственном образовании, которое
79
можно назвать «Сибирским ханством» [2, 18-20; 7, 91-94; 3, 81-82, 187].
Реставрация шибанидской власти в слиянии Тоболаи Иртыша привела русского царя Ивана IV Грозного и Аб-дуллу II к прямому столкновению властных интересов законтроль над богатыми пушными ресурсами региона. Втечение последующих сорока лет Шибаниды, Тайбугидыи люди Москвы (представленные в основном разношер-стными группами казаков) ожесточенно бились друг сдругом за контроль над данной территорией.
Успехи Кучума привели к тревоге в Москве. Они нетолько прервали выгодные взаимоотношения междуИваном IV и Тайбугидами. В Москве теперь уже опаса-лись того, что Кучум, возможно, имеет планы на москов-ские территории в Перми [7, 92-93]. Поэтому, судя по все-му, Москва решила воздействовать на Кучума диплома-тическими методами, и в 1569 г. послала ему письмо.Несмотря на то, что само письмо не сохранилось, сохра-нился ответ хана на него.
В нем Кучум упомянул недавние военные столкно-вения между его людьми и людьми Ивана IV, и заявлял освоей готовности продолжить борьбу, если это потребу-ется. В более спокойном тоне он вспоминал и мирныевремена прошлого, когда их предки жили в мире и торго-вали друг с другом. Он говорил о неуместности враждымежду сыновьями бывших друзей: «С кем отец чей был внедружбе, с тем и сыну его в недружбе ж быти пригоже;будет в недружбе бывал. Ино в дружбе и быти, кого отецобрел себе дру[га] и брата, сыну с тем в недружбе бытили?» [8, 52].
Кучум не праздно философствовал. Предки после-днего сибирского хана и предки Ивана Грозного действи-тельно были «братьями и друзьями» в свое время [6, т.41, 81-83]. Шибанидский хан предложил восстановить«родственные» связи. Хотя текст местами поврежден,похоже, что сибирский хан предложил московскому пра-вителю стать его отцом и/или старшим братом [8, 52].Примирительный тон Кучума может объясняться дру-гим письмом, полученным им недавно от хана АбдуллыII из Центральной Азии, в котором говорилось, что Аб-дулла не в состоянии далее оказывать военную помощьКучуму [10, 247].
Вскоре между двумя сторонами было заключеносоглашение. Хотя оно не сохранилось полностью, сохра-нившиеся фрагменты позволяют говорить о том, что си-бирский хан вступил в эти отношения как подчиненноеИвану IV лицо. Документ, выданный Москвой Кучуму, на-зывался в московских источниках «жалованная грамо-та», а сам себя идентифицировал как «ярлык». Оба тер-мина, когда они употреблялись московской стороной, -«ярлык» и «жалованная грамота», - всегда употребля-лись по отношению к документу, выданному от вышесто-ящего субъекта к нижестоящему [8, 64]1. К тому же, тонКучума крайне почтительный, он неоднократно аппели-рует к благосклонности Ивана. Посол Кучума утвердилдокумент в Москве, причем называл его «жалованныйярлык» [8, 64-65].
После этого Москва восстановила свою экономичес-кую и политическую гегемонию в регионе, установленнуюею еще в 1550-е гг. после соглашения с князьями-Тайбу-гидами. Кучум должен был поставлять в Москву ежегод-ную «дань», состоящую из определенного количествамехов, в совокупности с некоторыми таможенным пошли-нами. В качестве «благодарности» он мог оставаться вСибири и получать «любовным жалованьем и доброюмыслию великое защищенье». Как результат всего этого,«всего твоего (Кучума. – Б.Р.) улуса людем безстрашное
пребывание» было гарантировано Москвой [8, 64].При всем том почтительном тоне, который Кучум
проявлял в данных соглашениях, в них нет ни одного упо-минания о службе. Отношение Кучума к московскому пра-вителю можно обозначить как «послушание». После того,как пакт будет разорван, Москва будет неоднократно при-поминать Кучуму, как тот «послушен был», но потом «отего царского жалования отстал, и … непослушником учи-нился» и «непослу[шание] чинил еси» [8, 133]. В допол-нение к терминологии, связанной со словом «слушать»,Москва также использовала физическую метафору дляконстатации прежней «послушной» московскому прави-телю позиции Кучума – он, говорилось, ранее был «подцарскою высокою рукою»: «А отец наш блаженные памя-ти тебя в своем царском жалованье держал под своеюцарскою высо[кою] рукою» [8, 133].
Вскоре пакт был разорван, и Кучум в период между1580-1590-ми гг. вел постоянную, правда все более без-надежную борьбу против московского влияния в Запад-ной Сибири. Первый удар по влиянию Кучума был нане-сен в начале 1580-х гг., когда в регион были посланы мос-ковские казаки во главе с Ермаком. Вскоре они выбилихана из его укреплений в Кашлыке/Сибири [7, 206, 238-239]. В своем письме к Кучуму от 1597 г. царь Федор Ива-нович вспоминал данную кампанию, говоря, что его людивынудили его стать «казаком», лишив его ханства в Сиби-ри [8, 133]. В этом же году и сам Кучум будет горько вспо-минать данные события:«А от Ермакова приходу и по сяместа пытался есмя встречно стояти; а Сибирь не яз от-дал, сами естя взяли» [8, 130].
Кучум стал терять семью и своих последователей врезультате стычек с московскими воеводами. Первым изродственников Кучума, попавшим в московский плен, былего племянник, султан Мухаммад-Кул б. Атаул («МахметКул»). В 1570-е гг. Кучум послал его против московскихвладений в регионе Перми. В 1582 г. он был предан Тай-бугидами и передан в руки московских казаков, силойпривезен в Москву [7, 238-239; 1, ч. 2, 90]. В Москве, одна-ко, Мухаммад-Кул быстро помирился со своими захват-чиками. Его имя мы встречаем в московских разрядныхкнигах в первый раз в 1585 г. при упоминании кампаниипротив шведов, и очень вероятно, что «сибирский царе-вич», присутствующий при аудиенции польского посоль-ства в 1586 г., является никем иным, как им [1, ч. 2, 90, 93].
В 1591 г. у озера Чили-Кула еще один из людей Кучу-ма попал в московские руки. Это был его сын, Абул-Хайрб. Кучум. Как и его кузен Мухаммад-Кул, Абул-Хайр тожесогласился на сотрудничество с Москвой [4, т. 11, 18].
20 августа 1598 г. в плен попала большая группа жен,детей и внуков Кучума. В ней упоминаются 5 сыновей хана:Шаим (20 лет), Асманак (13 лет), Бибадшах (12 лет), Ку-мыш (6 лет), Молла (5 лет). Трое из них, Шаим, Бибадшахи Молла были упомянуты в письме от этого года от мирзыБай Сеида к царю Федору Ивановичу. Он начал свое пись-мо с заверений о том, что отныне все в Сибири, «от маладо велика», отныне являются покорными слугами Моск-вы и что они не будут подчиняться людям Тюмени (а имиявлялись Кучум и его последователи): «Сибирские зем-ли все от мала до велика холопи твои» [8, 129].
Он также просил о том, чтобы Москва уполномочиласвоих местных воевод на разрешение проезда торговыхкараванов вновь в/из Сибири к Ногаям и в Бухару. Закан-чивал он свое письмо просьбой о том, чтобы три младшихсына Кучума, находящиеся в московском плену, были быотпущены в Бухару. Учитывая планы Бухары на гегемониюв регионе, сдача сыновей Кучума в руки хана Абдуллы IIозначала бы предоставление последнему потенциальныхкандидатов на Шибанидскую реставрацию в Сибири. Маль-чики остались в Москве [4, т. 11, 17-18, ссылки 31-34].1 По поводу этих терминов подробнее см.: [9].
80
В этом же 1597 г. Кучум прислал письмо в Москву сзапросом возвратить «Шаина» [8, 130]. Возможно, им былего сын Шаим, отмечаемый в более поздних московскихматериалах. Еще некоторые из людей Кучума, а именносултаны «Канай» и «Иделин» (данные персоналии труд-но идентифицировать), вероятно, покинули его лагерь,забрав с собой «много людей»: «Со многими людьмипошли от тебя прочь» [8, 131, 134].
Кучум терял не только своих людей, но и целые кла-ны. Одними из них были «жигатские мурзы», покинувшиеего ради службы сыновьям казахского хана Уруса [8, 128].Мурза Чин, сын мурзы Иль Юсупова, покинул Кучума вме-сте со всем своим улусом ради службы московскому пра-вителю [8, 134]. Многие его давние сторонники из числаНогаев и Тайбугидов также покинули его («отстали»).
Так как фортуна неотвратимо отворачивалась отнего, Кучум сделал попытку помириться с Москвой. В 1593-1594 гг. он написал российскому царю Федору Ивановичуписьмо, которое, к сожалению, не сохранилось. Два бо-лее поздних письма из Москвы Кучуму, впрочем, немногозатрагивают его содержание. Кучум, очевидно, просилМоскву «отдать» ему его юрт, освободить его племянни-ка, и вновь определить его в «царское жалованье подцарскую высокую руку» [8, 131, 133]. Федор был готов да-ровать эти блага, по крайней мере частично:«Хотели тебяпожаловати устроити на Сибирской земле царем, какбыло тебе быти в нашем царском жалованье вперед креп-ку и неподвижну» [8, 133-134].
Примерно около 1597 г. Кучум написал свое второеписьмо в Москву, вновь «прося» себе ханства, в этот разуже конкретно указывая прибрежные территории Ирты-ша как желаемую местность. Его просьба вызвала к жиз-ни два ответа из Москвы: одно от Федора Ивановича, вто-рое от его собственного сына султана Абул-Хайра. Судяпо многочисленным текстуальным сходствам в письмах,похоже, что Абул-Хайр писал под диктовку официальныхлиц Посольского приказа.
В письме Абул-Хайр выражал надежду, что «ваше(Кучума. – Б.Р.), чаем, царево величество ныне похочетбыть под великого государя, его царского величества ру-кою» [8, 131]. Он уговаривал отца приехать в Московскоегосударство «быти при царском величестве, при его пре-светлых очех», где он получит полную благосклонность –города, земли и деньги – в соответствии с его статусом [8,131-132]. Чтобы уверить хана в том, что отношение к немув Московском государстве будет адекватным, Абул-Хайрподчеркивал, что у великого князя и царя уже находятсяна службе множество ханов и султанов: «А у великого го-сударя царя и великого князя Федора Ивановича всеаРусии Самодержца, у его царского величества служатмногие цари и царевичи… и изо м[ногих] государств госу-дарские дети, и те все в [его?] жалованье живут без оску-дения» [8, 132].
Если же Кучум все же решит вернуться в свой юрт вСибири, то тогда Федор Иванович «своим царским жало-ваньем пожалует, [в Сиб]ирской земле царем велит быти»[8, 132].
Письмо московского царя было во многом идентич-но письму Абул-Хайра. В самом начале письма ФедорИванович делал сомнительное с точки зрения соответ-ствия исторической истине заявление, что Сибирь издав-на являлась «вотчиной» великих князей, начиная с XV в.2:«Из давных лет Сибирское государство была вотчинапрародителей наших… как еще на Сибирском государ-
стве был дед твой Ибак царь, и з Сибирские земли вся-кую дань давали нашим прародителем великим госуда-рем царем» [8, 132].
Москва заявляла, что Сибирь изначально подчиня-лась великим князьям. Эта претензия была отраженатакже и в титуле царя: «Всея Сибирские земли и север-ные страны повелитель и государь» [8, 132].
Федор Иванович завершал свое письмо к хану-«от-ступнику» декларацией того, что если последний желает«служить» московскому царю, он волен приезжать в Мос-ковию: «Объявляем, чтоб ты, Кучум царь, ехал к нашемуцарскому величеству, будет похочешь нашему царскомувеличеству служити, … и наши царские прес[ветлые] очивидешь» [8, 134].
Нюансы взаимоотношений Кучума с Москвой яснопоказывают нам те усилия, которые прилагала Москвапо повышению статуса своего правителя по отношению кДжучидской стороне. Москва уже не старалась скрытьсвой снисходительный тон по отношению к Джучидам.Напротив, начиная с 1570-х гг. Москва старалась пока-зать явное превосходство великого князя перед Кучумом.Это становится ясно из следующих моментов: 1) употреб-ления терминов «ярлык» и «жалованная грамота» поотношению к документам, исходящим к Кучуму от ИванаIV; 2) финансовых обязательств Кучума по отношению кИвану, позиционированных как «дань»; 3) оформленияданных взаимоотношений как отношений «послушания»Кучума Ивану, причем первый был «под высокой рукою»последнего.
В 1597 г. неравенство сторон стало даже более оче-видным. Письмо Федора было заявлено как «повеле-ние» (возможно, на тюрки оно было переведено как «яр-лык») [8, 132]. Потенциальная «служба» Кучума была от-мечена безо всяких витиеватостей, также как и «служба»Москве других ханов и султанов.
В итоге, к 1590-м гг. Сибирь более не являлась юр-том Кучума, но скорее была московским владением. Кэтому моменту Москва приобрела как реальную силу, таки титулярную возможность «сделать его ханом в его быв-шем юрте». Предлагая Кучуму «должность» хана в си-бирском юрте, Федор в действительности назначал Джу-чида на ханство в пределах своего собственного владе-ния, как он полагал. Он уже мыслил Сибирь как свою.
Согласно политической практике Степи, хан, при-своивший себе право назначать других ханов в пределахсобственного юрта, обычно повышал возрастание своейвласти в том числе и посредством титулярных измене-ний. Обычно вместо просто «хана», он становился «ве-ликим ханом» (тюрк. «улуг хан»), «великим господиномханом» (т. «улуг падишах хан») или «каганом». В своихотношениях с Кучумом Федор Иванович присваивал себеименно такие полномочия. Всегда чувствительные к по-литической семиотике Степи, московские официальныелица подчеркнули титулярное величие Федора в его пись-ме к Кучуму от 1597 г. Вместо просто «царя и великогокнязя», он многократно назывался в письме «великимцарем» и «великим государем царем»: «Да мы великийгосударь царь и [вели]кий князь Федор Иванович всеаРусии самодержец, милостивый, истинный великий царь,христианский государь…» [8, 133].
Из татарских документов XVII в. мы знаем, что мос-ковский титул «великий государь царь» переводился натюрки как «улуг падишах хан» [11, p. 175-214].
В итоге Кучум остался непоколебим. Вместо того, чтобы как ему рекомендовали в Москве, совершить путеше-ствие на запад и «увидеть царские светлые очи», он пред-почел принять последний бой. Количество его сторонни-ков быстро сокращалось. Вскоре Шибанидский хан наве-ки исчез со страниц исторических источников. Этого не
2 Термин «вотчина» является оригинальным термином пись-ма. Возможно, в татарской версии оно было переведенокак «юрт». Эти два слова были взаимозаменяемы в дип-ломатической терминологии.
81
скажешь о некоторых его сыновьях. Они попали в рукипобедителей и были привезены в Москву. Здесь, в центрепраздничной процессии, они были проведены от окраингорода до Кремля в сопровождении помпезной церемо-нии, знаменующей имперские претензии Москвы в отно-шении обширных восточных земель [12, l. 150].
В течение двух веков между московским и татарски-ми правящими домами происходили драматические из-менения. Всего лишь четыре поколения разделяют моль-бы Василия II к Улуг-Мухаммаду и категорический ярлыкФедора Ивановича к Кучуму. Некоторые современники вСтепи оценивали головокружительное восхождение мос-ковского правящего дома как свидетельство того, чтофортуна поменяла свое направление, что пришел векновой династии: «В наших деи в бусурманских книгах пи-шется что те лета пришли, что Русского царя Ивана летапришли, рука его над бусурманы высока» [5, 265]3.
Эти слова оказались поистине пророческими. Дей-ствительно, новая сила родилась на пространствах Вос-точно-Европейской равнины. К концу XVI в. Московскоегосударство установило господство практически над всейЦентральной Евразией. Начиная с XVII в., Русское госу-дарство будет удерживать и расширять свою власть по-средством эффективного соединения технологических,административных и фискальных рычагов. Несмотря нато, что некоторые линии Джучидов продолжали удержи-вать троны Евразии и после 1600 г., даже вплоть до кон-ца этого столетия, их дни были сочтены.
Список источников и литературы1. Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовскихцарях и царевичах. - СПб.: Тип. Императорской Академиинаук, 1863 - 1887. - Ч. 1-4. - Ч.1. 558 с. - Ч.2. 498 с. - Ч.3. 502 с.- Ч.4. 178 с.2. Зияев Х.З. Экономические связи Средней Азии с Сибирьюв XVI - XIX вв. – Ташкент: Фан, 1983. – 165 с.3. Зимин А.А. В канун грозных потрясений: Предпосылкипервой крестьянской войны в России. – М.: Мысль, 1986. –331 с.4. Карамзин Н.М. История государства Российского. - М.:Книга, 1989. – Т. 9-12.5. Продолжение древней российской вивлиофики. - СПб.,1793. - Ч. 8.6. Сборник императорского Русского историческогообщества. - СПб., 1884. - Т.41; СПб., 1887. – Т. 59.7. Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. – Новоси-бирск: Наука, 1986. – 317 с.8. Собрание государственных грамот и договоров, храня-щихся в государственной коллегии иностранных дел. - М.,1819. - Ч. 2.9. Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV-XVIвв. – Казань: Изд-во КГУ, 1979. – 318 с.10. Центральный государственный архив древних актовСССР: Путеводитель: В 4 т. – М., 1991. – Т. 1.11. Inalcik H. Power relationships between Russia, the Crimeaand the Ottoman empire as reflected in titulature // Passé turco-tatar, présent soviétique: etudes offertes à Alexandre Bennigsen /Publiées par Ch. Lemercier-Quelquejay, G. Veinstein, S.E.Wimbush. - Louvain: Editions Peeters; Paris: Éditions de l’Ecoledes hautes études en sciences sociales, 1986. – P. 175-214.12. Kennedy C. The Juchids of Muscovy: a study of personal tiesbetween émigré Tatar dynasts and the Muscovite grand princesin the fifteenth and sixteenth centuries / Ph.D. dissertation byCraig Gayen Kennedy. - Harvard, 1994. – 238 leaves.
3 Этот пассаж был записан в 1551 г. московским послом кНогаям, доставленным в Москву. Он передавал прямуюцитату ногайского информатора.
82
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СИБИРСКОГО ХАНСТВА И ЕГО НАСЛЕДНИКОВ СРОССИЕЙ В КОНЦЕ XVI-XVII В.
А.Ш. Кадырбаев г. Москва
ЕРМАК И «ВЗЯТИЕ СИБИРИ»:ТЮРКСКИЙ КОНТЕКСТ
Прежде чем начать речь о Ермаке - покорителеСибири, вспомним эпоху, в которой он жил. После Вели-ких географических открытий и открытия Американскогоконтинента туда в поисках богатств потянулись те, длякого ратное ремесло служило основным источником су-ществования: разорившиеся идальго - испанские дворя-не, вчерашние солдаты, оставшиеся не у дел после ре-конкисты - отвоевания Испании у мавров-мусульман,авантюристы и лихие люди всех мастей, а также монахи,беженцы от католической инквизиции, бедняки, надеяв-шиеся на благосклонность фортуны. Надежды и слухипорождали все новые и новые легенды об Эльдорадо -крае золота и несметных сокровищ. Затем в этот процессбыли вовлечены и другие западноевропейцы - португаль-цы, голландцы, французы, англичане. Но у русских иска-телей приключений было свое «Эльдорадо» - «Сибирс-кая землица», но не за морями, а за «Камнем» - Ураль-скими горами, чьим золотом являлись пушные богатстваэтого края. Подобно тому, как открывали и приводилиновые земли под власть испанской короны конквистадо-ры Эрнан Кортес и Франсиско Писарро, русские казаки,сочетавшие качества завоевателей и землепроходцев,олицетворением которых стал Ермак, почти на полвекапозднее испанцев, по суше и рекам начали процесс осво-ения Сибири и присоединения ее земель к России, кото-рый через столетие завершился у берегов Тихого океана.
Народы, населяющие евразийское пространство, по-разному оценивают роль, которую сыграл в истории Ер-мак. Для русских он покоритель Сибири. Уже через 40лет после гибели Ермак стал героем русских песен и ска-заний. Лишь к исходу XVII века его в какой-то мере засло-нила фигура Степана Разина, оказавшая, в свою очередь,влияние на легенду о Ермаке. Но, в отличие от Разина,преданного Русской православной церковью проклятию- анафеме, Ермак был причислен к лику святых и сталодной из знаковых фигур, с помощью которых осуществ-лялась пространственная легитимация Российской им-перии.
Первые летописные известия о Ермаке появилисьсразу после Смуты на Руси, уже в 20-30-х годах XVII столе-тия. При этом в официальной оценке Ермака уже в товремя возникли два противоречившие друг другу направ-ления. Одно осуждало «воровство» Ермака, предшество-вавшее его сибирской экспедиции. Второе же не тольконе упоминало о разбойном казачьем прошлом Ермака,но и представляло его защитником православной веры.В 1636 году вторая точка зрения возобладала в позициии церкви, и государства. Свою лепту в популяризациюобраза внесли иностранцы, чьи записки пополнили рус-ские предания о легендарном герое, в которых он пред-стает народным заступником, эдаким Робин Гудом. Здесьнужно упомянуть о голландце Николасе Витсене, побы-вавшем в Москве в 60-х годах XVII века, и англичанинеДжоне Перри, служившем при Петре Великом в Сибири,где он и записал сказания о Ермаке. Да и сегодня о Ер-маке в России продолжают писать книги и картины, сни-мать фильмы, его прославляют в церквах, на школьныхуроках и университетских курсах.
Что же касается светской власти, то, несмотря насвое разбойное прошлое, Ермак еще при жизни былобласкан ею. Русский царь Иван IV Грозный («Terrible» -«Ужасный», как его называют англичане) пожаловал емутитул «князя Сибири». И в этом нет ничего удивительно-го, в истории нередки случаи, когда разбойники и просто-людины становились государственными деятелями инациональными героями. Например, упомянутый испан-ский конкистадор, бывший свинопас Франсиско Писар-ро, пленивший императора индейцев-инков в Перу и став-ший обладателем несметных богатств, был осыпан ми-лостями короля Испании Карла V.
Но образ Ермака врезался и в память народов, жив-ших в Сибири и на севере Казахстана до прихода русских- сибирских татар и казахов, в этногенезе которых замет-ную роль сыграли ногаи. Причем версии этой памяти раз-личны. Сейчас активизирована версия, согласно которойЕрмак был «кровавым конкистадором» и в любом слу-чае - русским казаком, то есть представителем того рос-сийского сословия, которое якобы было вековым врагомстепных и горских мусульманских народов. В данном слу-чае сделана попытка, опираясь на дошедшие до нашеговремени исторические и этнографические свидетельства,реконструировать тюркскую или, точнее, ногайскую вер-сию, которая, как предполагается, существовала в про-шлом и позволяет составить о Ермаке более объектив-ное представление, чем однозначно «розовая» и «чер-ная» версии. Но для этого необходимо сначала воссоз-дать фон сибирского похода Ермака.
«Восточная» политика традиционно занимала важ-ное место в истории России. Ее составными частями вовторой половине XVI века, помимо постоянного стремле-ния к установлению хозяйственных и политических кон-тактов с Османской и Персидской империями, Ногайс-кой Ордой, Кабардой, Казахским и Сибирским ханства-ми, с далекими Бухарой и империей Великих Моголов вИндии, империей Цин в Китае, были тяжелые и малоус-пешные войны с Крымским ханством – союзником осма-нов, борьба и покорение Казанского и Астраханскогоханств. После поглощения Казани и Астрахани границыРоссийского государства вплотную приблизились к ногай-ским и казахским кочевьям, Сибирскому ханству. Даль-нейшая успешная политика России по расширению вла-дений в восточном направлении, которая в итоге приве-ла к «взятию» Сибири Ермаком и превращению Россий-ского государства в евразийскую державу, тогда во мно-гом зависела от русско-ногайских, русско-сибирских и рус-ско-казахских отношений. Начало русско-сибирским свя-зям было положено еще в начале XVI века во время прав-ления московского государя Василия III, отца Ивана Гроз-ного. Тогда же Сибирское, а также Казахское ханствабыли включены в орбиту интересов Московской Руси, начто определенно указывает опись царского архива, гдечитаем: «Ящик 38. А в нем книги и списки Казатцкие приКасыме царе, и Тюменские при Иваке царе» [1, 335].
Серьезным форпостом и гарантом успехов в осуще-ствлении этой политики в Поуралье, а затем, конкретно,и в «сибирском взятии», был торгово-промышленный домроссийских купцов Строгановых на Каме и в Пермскомкрае. Строгановы играли в покорении Сибири роль, по-добную той, которую олицетворяли в испанской конкистеАмерики так называемые «аделантадо». Этот титул ис-панский король давал тем, кто организовывал за свойсчет или с чьей-либо помощью военную экспедицию сцелью завоевания новых земель, которыми они после
83
завоевания должны были управлять от имени короля.Аналогично обстояло дело и со Строгановыми, получив-шими соответствующие полномочия от Ивана Грозного.
Распределение политических сил на восточных гра-ницах России в это время было довольно сложным. Наруинах некогда евразийской империи, Золотой Орды,распавшейся в первой половине XV века, шел уже веко-вой спор за ее имперское наследие между государства-ми, образовавшимися на постордынском пространстве,где главными полюсами этой борьбы были Московскоегосударство и Крымский юрт, к которым в той или инойстепени тяготели ногайские и башкирские мурзы, казахс-кие и сибирские ханы. К середине XVI века казахскийХакк-Назар-хан, воспользовавшийся распадом Ногайс-кой Орды, центр которой тогда находился между Волгойи Уралом, распространил свою власть и на часть ногай-цев и башкир в районе Урала, став «ханом казахов, нога-ев и башкир» [11,102-104].
Но еще раньше, к началу XVI века пальма первен-ства в состязании за золотоордынское наследие начи-нает переходить к Москве. Водораздел этого соперниче-ства прошел не только между государствами-наследни-ками Золотой Орды, но и внутри их правящей верхушки.Завоеванию Иваном Грозным Казани и Астрахани пред-шествовала многолетняя борьба в среде казанской иастраханской знати прорусской и прокрымской партий.То же происходило в Ногайской Орде, когда в междоусо-бице претендентов на власть, братьев Исмаила и Юсупа,победил первый – проводник русского влияния, что при-вело к гибели Юсупа и распаду Ногайской Орды в связи сбегством части ногайских родов в пределы Крымского,Казахского и Сибирского ханств.
И, тем не менее, роль ногайцев в событиях, связан-ных с борьбой за наследие Золотой Орды, трудно пере-оценить. Достаточно сказать, что дочь ногайского мурзыЮсупа Сююмбике в 1549 году после смерти своего мужахана Казани Сафа-Гирея стала фактической правитель-ницей Казанского ханства - регентом при возведенномна казанский трон ее трехлетнем сыне Утямыш-Гирее.Оборона Казани и падение Казанского ханства в 1552году под натиском русских войск Ивана Грозного, преждевсего, связаны с ее именем, и сохранившийся в центреКазани минарет (башня) высотой 75 метров символизи-рует память о Сююмбике. Фактический нейтралитет боль-шинства ногайских мурз при взятии Казани, не поддер-жавших свою соплеменницу, и их действенная помощьрусским в овладении Астраханью предрешили поглоще-ние Москвой этих ханств. Об их промосковской ориента-ции, например, свидетельствуют записки османского ад-мирала Сейди Али Реиса, совершившего с 1554 по 1557годы путешествие по разным странам Азии и побывав-шего, в частности, в Хорезме, где его предупредили о про-русской политике ногаев: «Мангыты, т.е. ногаи, даже хужеузбеков, и когда они видят чужеземцев, они непременнозахватывают их для русских» [12, 80].
Казанцы и астраханцы, а также ногайцы, поддан-ные российской короны, именуемые «служилые татары»,помогали Москве и в овладении Сибирью. Несмотря напоражение в 1556 году и дробление на ряд самостоя-тельных улусов, главным из которых была Большая Но-гайская Орда, ногаи и их правители, хотя и находились взависимости от московских царей и казахских ханов, темне менее, оказывали заметное влияние в огромном ре-гионе от Волги до Иртыша. В составе ногайских владенийбыла и Западная Сибирь. В 1554 году повелитель Боль-шой Ногайской Орды Исмаил принял присягу на верностьрусскому царю, а в следующем году ему последовал Еди-гер, один из ногайских правителей Западной Сибири [9,106-107]. За отсутствием документов сейчас трудно су-
дить, чем был вызван этот шаг Едигера: стремлениемнайти союзника в борьбе с Шибанидами, выходцами изСредней Азии, претендовавшими на власть в Сибири, илитаким миролюбивым путем обезопасить себя от возмож-ных посягательств со стороны России? Скорее всего, обо-ими соображениями.
«Сибирское царство» было ареной постоянной борь-бы местных правителей с Шибанидской ветвью из Буха-ры, потомков ханов-Чингизидов Золотой Орды, чья ро-дословная восходила к Шибани, Шейбани или Шибану,отпрыску старшего сына Чингиз-хана - Джучи. Еще в на-чале XVI века предводитель кочевых узбеков МухаммадШейбани-хан, создавший на руинах империи Тимуридовв Средней Азии сильное, но недолговечное государство,предпринял завоевательный поход в Сибирь. Сражениес сибирцами на Иртыше закончилось для него отступле-нием. Его престижность в глазах среднеазиатских Шей-банидов-мусульман заключалась, однако, в том, что Шей-бани-хан выступал в данном случае «борцом за веру»,это была религиозная война в стране «язычников-нога-ев», за которой должны были открыться пути для торго-вых караванов.
Проникновение в Сибирь усиливается при бухарс-ком Абдулле-хане с 1557 года и в 1563 году оно приводитк воцарению в части Сибири Шейбанида бухарского про-исхождения Кучум-хана. С 1563 года в Западной Сибиривозникает несколько противоборствующих улусов, нороль Кучума, поддерживаемого бухарскими Шейбанида-ми, становится преимущественной, а в русских докумен-тах того времени он фигурирует как «царь Сибири» [3, 6-87]. При поддержке бухарского хана Кучум нанес пора-жение Едигеру и его соправителю Бекбулату, взял их вплен и умертвил. Смена правящей династии в «Сибирс-ком царстве» сопровождалась смутой и резкой сменойполитики в отношении Москвы. Уже в первой грамоте Ку-чум-хана Ивану Грозному не было ни слова о возобнов-лении даннических отношений, как это было при Едиге-ре, и новый сибирский владыка именовал себя «воль-ной человек Кучюм царь». Предложения Кучума москов-скому Двору заключали в себе лишь слегка завуалиро-ванный вызов: «И ныне похошь миру, и мы помиримся, апохошь воеватися, а мы воюемся» [9, 110, 241].
Семь лет вел борьбу Кучум с сибирской знатью –ногайскими мурзами и князьями самодийских племен,прежде чем подчинил их своей власти. Сочетая насилиеи дипломатию, он искал себе опору и среди ногайцев.Своего сына и наследника Алея Кучум женил на дочерикнязя Тинахмата из Большой Ногайской Орды, а дочьвыдал за Ак-мурзу из той же Орды. Хан Кучум окружилсебя не только отрядами шейбан-узбеков из Бухары, нои набранными из ногаев и башкир. Имеются единичныесообщения и о рейдах отрядов Кучума в Прикамье, хотя ине исключено, что слухи о них сознательно инспирирова-лись Строгановыми для создания образа врага за Ура-лом и формирования соответствующего отношения к немупри московском дворе.
Но у Строгановых были более опасные и вполне зри-мые противники, точнее сказать конкуренты, английскиеи голландские купцы, алчущие сибирских пушных богатств,создавшие благодаря покровительству Ивана Грозного,к которому они смогли войти в доверие, ряд влиятельныхторговых компаний, действовавших в России. Несмотряна запреты московских властей, англичане снарядилиэкспедицию в Сибирь, «достигли устья Оби на корабле…были убиты самоедами, т.е. сибирцами, которые думали,что они, англичане, приехали ограбить их…» Не исклю-чено, что для опасений у сибирцев были основания, по-скольку, по словам агента английской «Московской ком-пании» Д. Горсея: «… в их земле, т.е. в Сибири, были
84
некие англичане… взятые ими, т.е. сибирцами, с кораб-лем, пушками, порохом…» Можно догадываться, как «спушками, порохом» намеревались «торговать» с жите-лями Сибири английские купцы. Вероятно, это была пи-ратская экспедиция, хотя и ограниченного масштаба.
Следующую попытку проникнуть в Сибирь морскимпутем на свой страх и риск предпринял бельгийский ку-пец О. Брюнель, служивший ранее Строгановым и со-рвавший их экспедицию в Сибирь морским путем. Так чтопоход Ермака в Сибирь, организованный Строгановымив 1581 году, не был у них первой попыткой в этом направ-лении. Брюнель же, снарядив с помощью голландскогокупца Б.Мушерона корабль, сел на мель около устья Пе-чоры и с трудом спасся [9, 119-125]. Но попытки запад-ных купцов проникнуть в Сибирь «северным путем» вдольарктического побережья России и их требование моно-польного права на торговлю в Русском государстве выз-вали ярость Ивана Грозного, отказавшего им в своемпокровительстве, и привели к лишению их торговых при-вилегий. Таким образом, уже тогда богатства Сибири при-влекали не только «законных» наследников ЗолотойОрды в лице Московского государства, Ногайской Орды,Узбекских и Казахского ханств, но и «заморских гостей» сЗапада, которым уже недостаточно было завоеваниятолько Американского континента.
Свои интересы имели в Сибири казахские ханы, пред-ставители противоборствующей с Шейбанидами ветвиЧингизидов, которые вели свое происхождение от сынаДжучи и брата Шейбани – Орду-Еджэна. Для «царя Сиби-ри» они были серьезным противником, что видно из егослов московскому послу И.Познееву: «… а нынеча деимне война с казацким царем, и одолеет меня деи царьказацкий и сядет на Сибири…» [7, 240]. Участие казахс-ких ханов в сибирских событиях являлось продолжениемкак казахско-ногайских отношений, так и казахско-узбек-ского противоборства, но уже не на Сыр-Дарье, а на дру-гом, северном фронте. Казахский Хакк-Назар-хан пытал-ся, как отмечалось выше, вовлечь сибирцев в сферу сво-его влияния с русской помощью. Свидетельством этихусилий является также присутствие казахского султанаОраз-Мухаммада в свите противника Кучума, племянни-ка Едигера и сына Бекбулата, влиятельного сибирскогокнязя Сайид-Ахмада, или Сейдяка русских летописей, иКадырали-бия Джалаири, в будущем первого казахскогоисторика и летописца, в свите самого Кучума. Даннымиперсонажами не исчерпывается представительство вы-ходцев из казахских степей при сибирских владетелях. Вграмоте, датируемой маем 1535 года, Сайид-Ахмад со-общал Ивану Грозному, что «казатцкой царь Хозя Махметс 15 сынеми у нас живет» [4, 282]. Отношения сибирских иказахских правителей скреплялись и династийными бра-ками. По преданию, одна из дочерей казахского ханаШигая была замужем за Ахмад-Гиреем, братом Кучума[6, 200-201]. И, тем не менее, казахи и сибирцы встреча-лись и на полях сражений. Так, казахский Ахмат-хан, чьеправление в казахских степях было недолгим и чья ро-дословная неизвестна, погиб в войне с Сайид-Ахмадом[1, 275, 325]. В свою очередь Ахмад-Гирей пал от рук ка-захских сородичей, которые заманили сибирца в засадуна берегу Иртыша. Кроме того, в русских летописях и до-кументах правителей Сибирского ханства иногда назы-вают ногаями и казахами. Первый правитель «Сибирс-кого царства» Ивак в царской грамоте 1597 года названногаем, а в Есиповской летописи от 1636 года сообщает-ся: «Кучум, сын Муртазы, прибыл из казацкой орды…» [6,196]. И все же, хотя полной ясности в вопросе о проис-хождении Кучума нет, источники более определенно свя-зывают Кучума с Шейбанидами.
Картина будет неполной, если не учитывать еще одну
силу – казачество, которому была определена решаю-щая роль в последующих событиях, приведших к «взятиюСибири» Ермаком. «Казак» - тюркское слово. В истори-ческой литературе существуют разные толкования этогослова. Несомненно, что первоначально оно не несло ниполитической, ни этнической нагрузки, имело только на-рицательное значение: «свободный», «бездомный»,«скиталец», «изгнанник». То есть казаком называли че-ловека, отколовшегося от своего народа, племени илипокровителя и ведущего жизнь искателя приключений.Русские тоже числили казаками людей без определен-ных занятий и определенного места жительства, людейвольных. Хотя слово «казак» зарегистрировано на Руси сконца XIV века, родиной казачества историки признаютее южные окраины, смежные с причерноморскими иказахскими степями, условия жизни в которых придава-ли этой вольнице характер военного сообщества. Инымисловами, исходное значение термина «казак» имеет со-циальный оттенок, отражающий состояние, статус лицаили коллектива в каждый данный момент по отношениюк правителю, обществу или государству. Так, изгой, кото-рый переходит с места на место, добывая себе пропита-ние собственным мечом, - это казак. Человек, которыйпускается в дальний и опасный путь один, без сопровож-дения - тоже казак. Молодец, неутомимо угоняющий та-буны врага, - опять-таки казак. Таким молодцем был инаш герой Ермак. В 1581 году он напал на стада ногайс-кого мурзы Урмагмета и «отогнал шестьдесят лошадей…а летось отогнали с Волги тысячу лошадей». Людей, ко-торые какое-то время по необходимости или по добройволе жили жизнью казака, было всегда немало. В степиказаком мог стать любой человек, славянин или выходециз степных и кавказских народов, простолюдин или принцкрови в десятом поколении. В самом деле, хотя средирусских казаков преобладали беглые крестьяне, посадс-кие люди да холопы, в «десятнях» конца 70-х - начала90-х гг. XVI века можно встретить имена «детей боярских»и беспоместных дворян, которые «сошли на Дон в каза-ки», «сошли в поле», «в Поле казакуют». Ермак казако-вал более 20 лет своей жизни, о чем свидетельствовалиего сподвижники в челобитной царю Михаилу Романову:«двадцать лет полевал с Ермаком в Поле», «в Сибирисорок два года, а прежде де того он служил… на Поледвадцать лет у Ермака в станице и с иными атаманы».
При этом этнический состав казачьих общин стано-вился смешанным, хотя изначально в них преобладаливыходцы из степных тюркских народов, из разных орд,как отмечено, например, в русском документе 1538 года:«… на поле ходят казаки многие: казанцы, азовцы, крым-цы и иные баловни казаки, а и наших окраин казаки, сними, смешавшись, ходят…» [9, 64]. В другом русскомдокументе, адресованном ногайскому хану Урусу, отме-чены «как ваши казаки, так и наши казаки» [9, 80-81].Казачья ватага Ермака не была исключением в этом от-ношении. Еще до сибирского похода о разношерстностиего дружины, а точнее, о ее многоплеменном составеговорилось в Ремезовской летописи: «Собрании вои (со-брались воины.-Авт.)… с Ермаком с Дону, с Волги, и с Еику(Урала.-Авт.), ис Казани, ис Астрахи (Астрахани.-Авт.), во-рующе, разбиша государевы казенные суды (корабли.-авт.), послов и бухарцев на усть Волги-реки». Столь жечасто казачья дружина, обреченная в силу своего соци-ально-рангового статуса заниматься «промыслом» в сте-пи или на водных путях, становилась наемной военнойсилой в порой совершенно противоположных по полити-ческой и иной ориентации государствах. Ермак, “воюябусы… по Хвалынскому (Каспийскому.-Авт.)… яко и царс-кую казну шарпал (грабил.-Авт.)».
При Иване Грозном в составе русского воинства,
85
осаждавшего Казань, и в Ливонской войне, когда Ермаксражался под знаменами царя с поляками и литовцамипод Могилевом, участвовали наемные казачьи дружины,предводители которых зачастую имели тюркские и «чер-касские», т.е. черкесские или кавказские, имена. Нагляд-ным примером этого является ватага Ермака. Имя еепредводителя «Ермак» вне всяких домыслов на русскойязыковой почве и без народно-этимологических объяс-нений – тюркское, оно означает «забава», «развлече-ние», «соперник». Примечательны прозвища Ермака,сохранившиеся в русских летописях, тюркские – Таган иТокмак. Описание Ермака в Ремезовской летописи:«Плосколиц, черн брадою», - [8, 272] придает ему вне-шность степняка. Прозвища его казаков, четырех глав-ных соратников Ермака в сибирском походе, указываютна их самое различное этническое происхождение: «Чер-кас» (черкес), «Болдыря» (родившийся от тюрко-славян-ского брака), «Мещеряк» (из мещеры – угро-финскогонарода), «Пан» (поляк или украинец). В Погодинскойлетописи есть более определенные данные по этомуповоду: «… приидоша с Руси воеводы… с ними же мно-гие русские люди и ермаковы казаки…» [8, 275]. Исходяиз текста, можно предположить, что «русские люди» и«ермаковы казаки» в глазах летописца не суть одно и тоже, подтверждая мнение о формировании казачества наоснове смешения разных народов.
Хотя в формировании казачества участвовали раз-ные этнические группы и в нем было весомо тюркскоеначало, все же к концу XVI века оно все более русифици-ровалось. Причиной тому было не только присутствие врядах казаков заметного славянского элемента, но и вли-яние православия - государственной религии России, всечаще привлекавшей казаков на службу. Ведь поступле-ние на нее, равно как и переход в российское поддан-ство, одновременно означали обращение в христианство(и, соответственно, получение нового имени). Так, казакЧеркас из дружины Ермака, приняв крещение, стал Ива-ном Александровым.
Первые известия о казачьей дружине атамана Ер-мака, бежавшей с берегов Волги на Каму, в русских источ-никах появляются в 1581 году. Эта дружина, которую Стро-гановы снабдили стругами, оружием, порохом и продо-вольствием, осенью 1582 года двинулась по Волге наКаму, с Камы вверх по Чусовой и через Камень (Уральс-кие горы) - в Сибирь, далее мелкими реками до рекиТагил, положив начало завоеванию края.
Деяния дружины Ермака нашли отражение в «Си-бирских летописях», повествование которых основыва-лось на «сказах» старых ермаковцев, записанных через42 года после похода. «Сказы» не дают ясного ответа навопрос о личности Ермака. Более или менее они едино-душны в том, что он был христолюбивый и отважный рус-ский казак, воевавший за русского царя, а затем отпра-вившийся в Сибирь. В его немногочисленной дружинебыл православный священник-расстрига, что позволяловпоследствии утверждать, будто Ермак нес «Христовослово» в стан «неверных» [9, 138]. По крайней мере, имен-но так после 1636 года стала интерпретироваться рольЕрмака в Сибири [9, 1, 266]. О досибирском прошломЕрмака почти ничего не было известно. Более того, изэтого прошлого полностью выбрасывались детали, на-мекающие на тюркское, точнее на ногайское происхож-дение героя.
Обычно в фольклоре и художественной литературепоявление Ермака в Поле связывается с его неразде-ленной любовью к некоей красавице. Мотив любви при-сутствует и в тюркской легенде, согласно которой Ермакбыл вхож в окружение правителя ногаев, что позволилоему вступить в связь с ногайской княжной. Спасаясь от
благородного гнева ее брата, он вынужден бежать наВолгу, где становится казаком.
Обращает на себя использование Ермаком тюркс-кой лексики в переписке с царским двором: «Ермак жесяде в царстве Сибирском и посла великому князю с се-унчем 50 человек. Царь Иван Васильевич тех сеунчейпожаловал» [9, 14]. Слово сеунчюк (гонец с хорошей вес-тью), сеунч в современных тюркских языках звучат каксуюнши, сююнчи, севинч; их значения – «хорошая весть»,«подарок за хорошую весть». Из текста летописи следу-ет, что Ермак послал царю «сеунчем» казака Черкаса, кэтому времени уже ставшего Иваном Александровым.После русского завоевания Сибири он возглавил там сот-ню татарских воинов на царской службе, прослужил 50лет и стал «тобольского города атаманом» [6, 357-359].
В Строгановской летописи по Афанасьевскому спис-ку излагается эпизод, из которого следует, что в глазахШибанидов Ермак ассоциировался с ногаями и высту-пал от их имени: «Того же лета (1581 года.-Авт.) прииде отКарача (главного министра или визиря при хане Кучуме.-Авт.), прося от него обороны от Нагайских людей, и на томшерстова (клялся. - Авт.), что не учинити зла» [8, 101]. Этоизвестие вполне согласуется с сообщением Есиповскойлетописи по Погодинскому списку, что местом первогоисхода Ермака была долина Яика (реки Урал), тогда одиниз центров ногайских владений: «А приход Ермаков с то-варыщи в Сибирскую землю с Еика на Иргизские верши-ны да в низ по Иргизу» [8, 276]. В составленной с учетом«бусурманских письмен и сказов» Ремезовской летопи-си приводится история о выдаче за Ермака дочери князяЕлыгая в ногайской Саргачиковой волости, после того какказаки с оружием в руках захватили эту волость. И рядомс этим сообщением приводятся начальные слова собы-тийно не связанной с этим татарской песни «Царицынплач» о пяти убитых ермаковцах: «Яным, яным, биш ка-зак» [8, 342].
Сибирскими же летописцами записано и местноетатарское предание о последнем бое Ермака. В нем об-стоятельства гибели Ермака отличаются от приводимыхСтрогановской, Есиповской и Ремезовской летописями,согласно которым покоритель Сибири утонул под тяжес-тью доспехов в Иртыше во время внезапного ночногонападения воинов хана Кучума. По тюркской версии, по-бедителем Ермака был будто бы могучий и храбрый мур-за Кучугай, воин Кучума. Он служил дворецким при хане,собирал ясак от его имени, побывал в плену у Ермака, нобыл отпущен. При ночном нападении на казачий лагерьКучугай «устремился за Ермаком в струг, стругу же отплыв-шу от брега и плывушу по рекы, они же показаша междусобою брань велию, сразишеся друг с другом». С саблейв руке Ермак «нача одолевати» Кучугая, отражавшего егосабельные удары копьем. Но у казака развязался ре-мень боевого шлема и обнажилось горло. В этот момент«Кучугай прободе в гортань» Ермака [8, 321; 2, 467-482].
С ногайской же частью Сибирского ханства можносвязать и известия о похоронах Ермака по местному обы-чаю и о его обожествлении после смерти. «И нарекошаего богом и погребоша по своему закону на Баишевскомкладбище под кудрявую сосну, и панцыри его разделишана двое: един отдаша в приклад Белогорскому шайтану, итой князь Алач взял, той бо во всех городах славен» [8,346]. В почестях, оказанных сибирцами Ермаку послесмерти, возможно, отразилась их реакция на лояльноеотношение ермаковцев к местным верованиям.
В противовес официальной трактовке Ермака, при-шедшего в Сибирь якобы для того, чтобы победить «бу-сурман» с язычниками и «разорити их богомерзкая инечестивая капища» [8, 187], документы говорят о дру-гом. Погодинский летописец воспроизводит текст посла-
86
ния Ермака царю о «сибирском взятии»: «Писали Ермакс товарыщи благочестивому государю царю и князю Ива-ну Васильевичу всея Руси самодержцу… что царство Си-бирское взяша и многих живущих ту иноязычных людейпод его государеву царскую высокую руку подвели и кшерсти (присяге. - Авт.) татар и остяков и вагулич (хантов иманси.-Авт.)… по их верам на том, что им быть под егоцарскою высокую рукою до веку» [8, 281-282]. Из текстаясно, что на местные верования Ермак не покушался. Неделал он и попыток разрушения языческих капищ и му-сульманских мечетей. Казаки Ермака пришли в Сибирь смечом, но не с крестом. И в этом состоит заметное отли-чие покорения Сибири русскими от конкисты Америкииспанцами, португальцами и англичанами, которые, пословам современника событий, испанского гуманистаБартоломе де Лас Касаса, «шли с крестом в руке и нена-сытной жаждой золота в сердце», хотя последнее обсто-ятельство также было присуще дружине Ермака.
Взяв с боем Аремзянскую волость, ермаковцы зас-тавили покорившихся сибирцев целовать в знак вернос-ти русскому царю не крест, а казацкую саблю. В кунгурс-ких «сказах» церемония присяги описана так: предводи-тель казаков положил на стол окровавленную саблю ивелел «целовати за государя царя, чтобы им (сибирцам.-Авт.) служити и ясак платити по вся годы, а не изменити»[8, 333]. Поведение Ермака позволяет усомниться в том,был ли он вообще православным. К тому же принятиеправославия предполагает смену имени, как это было сего соратниками, в случае же с Ермаком этого не про-изошло. Последующие действия Ермака усиливают со-мнения по поводу исповедания им православия. Кунгур-ские «сказы» сообщают, что в Сибири Ермак посещалязыческие мольбища и в трудных для него обстоятель-ствах даже обращался за советом к шаманам. Попав в«великое болванское моление» в Чандыре, он спросилшамана, суждено ли ему пройти «за горы на Русь». Ша-ман дал отрицательный ответ [8, 326].
В свете гипотезы о ногайских корнях Ермака особоезвучание получает следующее место в одной из царскихграмот на имя Кучума: «Которые ногайские улусы, тайбу-гин юрт, которые кочевали вместе с тобою, от тебя отста-ли, на которых людей тебе была большая надежда» [9,217]. Более понятными становятся слова и действия са-мого хана Кучума и его сына. Теряя власть, хан сделалвыбор, оказавшийся для него роковым: «Не поехал, деи,я к государю (Руси.-Авт.) по государевой грамоте, по сво-ей воле… а нынеча деи я иду в нагаи, а сына своего посы-лаю в Бухары». Но царевич, сын Кучум-хана, так и не уехалв Бухару, поскольку «у них в Бухарех многих нагайских мурз,заманив оманом, побили» [8, 161]. В словах сына ханаКучума, Шейбанида и сородича узбекских бухарских ха-нов, примечательно то, что он ассоциирует себя преждевсего со своими сибирскими подданными - ногайскимимурзами, а не с узбеками, хотя могущество «царя Сиби-ри» основывалось не только на поддержке со сторонысибирцев, но и со стороны бухарцев.
Показательна и казнь Кучума в Ногайской орде: «Егдаже Кучум со своими к Нагаям приходом явился, тогда На-гаи ни мало потерпеша, собрався с роды своими, убишаКучума и протчее имение отъяша, а людей его похолопи-ша» (превратили в рабов. - Авт.) [8, 353]. Возможно, причи-ной гибели Кучума было стремление ногаев выразить своюлояльность Москве. Но, если считать Ермака ногаем, тонельзя исключать и мотив мести за его убийство.
Все известия о начальном этапе русского завоева-ния Сибири дошли до нас в церковно-патриотическомосвещении, в них не осталось места для чего-то нерус-ского и неправославного. Вместе с тем, предложенныйвыше «тюркский» взгляд на некоторые события, связан-
ные с походом Ермака в Сибирь не меняет общей оцен-ки самого похода. Он «явился прямым следствием ре-шений и действий Московского правительства Ивана Гроз-ного» [5, 97]. Другое дело, что внимание к тюркским моти-вам, прослеживающимся внутри, казалось бы, исключи-тельно русской темы, позволяет выявить и других персо-нажей, причастных ко «взятию Сибири». Это и правите-ли Большой Ногайской Орды, рассчитывающие восста-новить при содействии царя и Строгановых утраченныеими позиции в Сибири, и западноевропейские купцы, иказахские ханы, враги Кучума и среднеазиатских Шейба-нидов, и складывавшееся в ходе смешения разных наро-дов казачество, игравшее относительно самостоятель-ную роль. На их фоне в личности Ермака проступают но-вые черты, более отвечающие обстоятельствам места ивремени, в том числе и явные признаки тесной связи это-го вольного казака на русской службе с ногаями.
В любом случае «взятие Сибири» было совершено взначительной степени тюркскими руками, и, как предпо-лагается, сам Ермак - наглядный пример этого. Роль слу-жилых татар или ордынцев и ранее была заметна в исто-рии Московской Руси. Традиция их привлечения на «госу-дареву службу» сохранялась и в дальнейшем при «соби-рании земель» под скипетром российской короны. Воз-можно, и Ермак был одним из знаменитых представите-лей этой плеяды «инородцев», служивших России.
При этом «вклад» Ермака был очень крупным, ибоосуществленное им завоевание Сибири сделало Россиюподлинно евразийской, по сути, великой державой, вла-деющей большей частью бывшей территории ЗолотойОрды, и позволило русским царям с уверенностью счи-тать себя законными правопреемниками Джучидов. Какраз об этом с гордостью заявлял Иван Грозный: «А те-перь божею волею Узбеков юрт (одно из названий Золо-той Орды. - Авт.) у кого в руках, сами знаете, известно, откого на том юрте посланники и воеводы сидят» [10,596].
При взгляде на русское завоевание Сибири напра-шиваются аналогии, имеющие отношение к «последне-му крестовому походу Запада» - конкисте Нового Света -Американского континента, тем более, что это происхо-дило, фактически, почти в одно время. На первый взглядздесь много общего, особенно внешне, когда и в Сибири,и в Америке, немногочисленные пришельцы-конквиста-доры, пользуясь превосходством в огнестрельном ору-жии, наносили сокрушительные поражения многочислен-ным ополчениям местных народов. Меч и страсть к на-живе стали символами, как завоевания Сибири, так иконкисты Америки. Соответственно этим настроениям изразношерстной массы искателей приключений форми-ровался контингент военных экспедиций, как на Руси, таки в Западной Европе. Этим беспрецедентным военнымкампаниям свойственна территориальная экспансия,направленная на присоединение новых земель, в итогепревратившая западные страны - Испанию, Португалию,Голландию, Францию, Англию, а также Россию, в круп-нейшие империи. Но на этом сходство кончается. Мисси-онерские мотивы, связанные с обращением местныхнародов завоеванных земель в христианство, так броса-ющиеся в глаза при конкисте Нового Света, не были стольярко выражены во время сибирского похода Ермака.Если для западноевропейских конкистадоров Американ-ский континент был терра инкогнита - неизвестной ра-нее землей, то для русских Сибирь была достаточно зна-комым, хотя и неосвоенным к тому времени краем. Ещеболее века назад, до похода Ермака, Западная Сибирьи Русь были частями одного государства - Золотой Орды.Кроме того, хотя в социальном отношении состав воен-ных экспедиций, как в Сибирь, так и в Новый Свет, быланалогичен, в этническом и цивилизационном отноше-
87
ниях здесь разница существенна. Западноевропейскиеэкспедиции конкистадоров формировались исключитель-но из европейцев - испанцев, португальцев, голландцев,французов, англичан, в зависимости от того, какое из ев-ропейских государств в данный момент осуществлялоэкспансию. Лишь в ходе экспедиций к ним присоединя-лись союзники из местных племен. Другая картина пред-стает при завоевании Сибири Ермаком, дружина кото-рого изначально состояла не только из славян, но и извыходцев из числа тюркских, кавказских, угро-финскихнародов, в частности, из ногаев, представленных и срединародов Сибири. Тем более, что правитель Сибирскогоханства, хан Кучум, противостоявший Ермаку, сам былвыходцем из других земель, из далекой Бухары.
Неодинаковыми были последствия завоевания Си-бири русскими и конкисты Нового Света западноевро-пейцами. При всем взаимообогащении цивилизаций Ев-ропы и Америки конкиста нанесла огромный ущерб ко-ренным народам Американского континента, их уникаль-ной культуре и привела к их массовому истреблению, ког-да исчезли целые индейские народы, не говоря уже обих ассимиляции и утрате местных языков в результатецеленаправленной политики западноевропейских при-шельцев. Ничего подобного в Сибири после присоеди-нения к Российскому государству не происходило, по-скольку обыкновением политики России (хотя и не все-гда на всем протяжении ее истории) было сохранениеновых, включенных в ее состав, в том числе и завоеван-ных народов, не изменяя их традиции, религию и язык.Во всяком случае, со времени сибирского похода Ерма-ка и поныне не изменилась этнографическая карта Си-бири и ее народы под властью России не только не ис-чезли, но и сохранили свою численность, хотя и не избе-жали негативных издержек русского завоевания, став витоге многовекового симбиоза и взаимообогащения куль-тур неотъемлемой частью российской цивилизации.
Список источников и литературы1.Вельяминов-Зернов В.В. Исследования о касимовскихцарях и царевичах. - СПб., 1864. - Ч.2.2. Дворецкая Н.А. Археографический обзор списков повес-тей о походе Ермака.- М.-Л., 1957.3. Зияев Х. Узбеки в Сибири. - Ташкент, 1968.4. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан – летописьтрех тысячелетий. -Алма-Ата, 1992.5.Красинский Г. Покорение Сибири и Иван Грозный// Вопросыистории. - 1947. - №3.6. Миллер Г.Ф. История Сибири. - М.-Л., 1937. - Т.1.8. Сибирские летописи. - СПб., 1907.9. Скрынников Р.Г.Сибирская экспедиция Ермака. - М., 1982.10.Соловьев С.М. История России с древнейших времен. -М., 1959. - Кн.3.11.Трепавлов В.В. Тюркская знать в России (ногаи нацарской службе)// Вестник Евразии. - 1998. - №1-2(4-5).12.The travels and adventures of the Turkish Admiral Sidi AliReis in India, Afghanistan, Central Asia and Persia during theyears 1553-1556. London, 1889.
А.П. Ярковг. Тюмень
С.А. Капитоновг. Елецк
КУЧУМ И ЕРМАК: «ОСЕВОЕ ВРЕМЯ»СИБИРИ
Два героя – хан Кучум (Кучум бен Муртаза) и атаманЕрмак (Ермак Тимофеев/ич) – до сих пор являются важ-ными (иногда загадочными) фигурами истории Сибири.Они схожи не только по происхождению и характеру за-
воевания края, но и по противоречивой их оценке: уче-ными, общественными деятелями, обывателями. Поэто-му на вопросе о месте этих людей в жизни региона стоитостановиться подробно, поскольку это многое проясня-ет в истории сибирского ислама. Столь же интересно – всвете существовавших парадигм – оценить исламские ихристианские сюжеты (общее и отличительное), поселив-шиеся в фольклоре сибиряков, о чем начали говоритьученые лишь в ХХ в. [1, 91-94]. Также важно понять, поче-му Кучум и Ермак до сих пор остаются символами «осе-вого времени» для Сибири и, более того, определенны-ми «градиентами» современной эпохи. С одной сторо-ны, их наличие служило поводом для разногласий. С дру-гой – являло предпосылку сопоставления мировосприя-тия различными человеческими сообществами и основудля их взаимно полезного объединения. Может быть, иотрицание язычества было продуктом осознания преиму-ществ объединения человеческих сообществ перед ихразрозненностью.
В первую очередь заметим, что основные различия,проистекающие из представлений взрастивших их социу-мов, отражены в фольклоре. Хотя, очевидно, что не всесюжеты баитов «О Кучуме», «Одна из песен хана Кучума.Из аула Ходжа, нижнее течение Тары» и др. [2, 127–136,170–187, 195–204, 247–248], как и «Сибирских летопи-сей», подтверждаются более объективными – письмен-ными свидетельствами из других регионов Евразии. По-этому даже исламскую трактовку «неверные» (в арабс-ком – кафыры) следует понимать в контексте представ-лений того времени, возможно, и не в кораническом ва-рианте: «А кто судит не потому, что низвел Аллах, то это –неверные» [3, 5:44], предполагая, что существовали и иныевзгляды на место религии в жизни. Так, традиционныйобраз в русских источниках – неверные – при оценке про-тивостоявших войскам Ермака сибиряков – подразуме-вал не только мусульман, но и «язычников» – сторонни-ков архаичных верований.
Хади Атласи писал: «Ислам начал проникать в Си-бирь задолго до Кучума» [4, 51-56]. Это соответствуетданным различных источников. Более-менее уверенноно ученые называют 1394/1395 гг. важным периодом впервоначальном освоении исламскими подвижникамисибирских пространств. Именно тогда большая часть из366 шейхов – 300 и из 1 700 – 1 448 сопровождавших ихвоинов в ходе «великого сражения за веру» погибли, «стя-жав мученический венец». Только 3 миссионера обосно-вались среди сибиряков, обучая их исламу, а 63 шейхавернулись на родину. На этом фоне именно Кучум сталдля сибирских мусульман олицетворением активного эта-па распространения ислама, как, впрочем, и для право-славных сибиряков его современник – Ермак – симво-лом православно-религиозной предопределенности ос-воения края.
Необходимо принять, что пространства Сибири зат-рудняли общение между группами людей, а в некоторыхслучаях совсем исключали его. Возможно, что сама кате-гория времени стала результатом стремления понятьсуть и смысл бытия человека в окружающем его мире,его связь с ним. Кроме того, появление такой категориистало гранью человеческого восприятия мира, за кото-рой настала эра сопоставления новых представлений онем, формируемых с помощью абстракций. Это открыва-ло перспективу особой формы человеческого общения,формирующего связи как человека с окружающим ми-ром, так и человеческих сообществ между собою. Так воз-никла одна из решающих предпосылок особой формычеловеческих контактов, польза от которых могла извле-каться из самого процесса объединения или разобще-ния между большими группами (сообществами) людей.
88
Возможно, это была одна из решающих предпосылок го-сударства.
Люди, чьи качества и поступки запоминались мно-гим, обращались их ближайшим окружением в символы,помогающие синхронизировать и идентифицировать со-знание индивидуумов. Кто ты - помощник в создании на-шего (моего) блага, или конкурент моего (нашего) благо-получия? Вполне можно допустить, что и возникновениерелигии имеет одной из своих предпосылок похожую,также осмысленную с помощью абстракции, связь выда-ющегося индивидуума с полезными и проявлениями ок-ружающего мира. Возможно, в начале этого пути иденти-фикация почитаемого символа со стоящими за ним при-верженцами служила одновременно и основанием дляпризнания конкурентами всех, стоящих за непонятным,чуждым символом.
Отметим, что сам процесс присоединения Сибиринашел различную оценку в фольклоре русских сибирякови коренного населения края [5]. Так, фиксируя особенно-сти эпохи для следующих поколений, дастан «Ак Кубеке»по-иному, нежели русские летописцы, освещает обрядзахоронения. Хотя дастаны «Славная девушка Тукбика»,«Тимер Батыр» отражают события, относящиеся даже к1220-м гг., там есть и факты похода Ермака, соответствен-но, по-своему отражая противоборство двух мировоззре-ний – христианского и мусульманского. В контексте «по-вествовательного шаблона» судьба человека зависит отволи Аллаха.
Завоевательную концепцию миссии Ермака в Сиби-ри отражал Г.Л. Файзрахманов, а о защищавших свою го-сударственность сибиряках писал: «Отряд Епанчи сра-жался мужественно, завоеватели понесли потери, одна-ко имевшееся у них огнестрельное оружие сделало своедело: имение Епанчи было разграблено». Файзрахма-нов опирался при этом на мнение Г.-Ф. Миллера, заме-чавшего, например, что по Туре было завоевано многотатарских селений. Он же писал, отражая иную историо-софскую концепция, что войско Ермака, «кормившиесяразбоями и грабежом», остались без продовольствия,поскольку «грабить стало нечего». Есть и мнениеА.Г. Нестерова, что Ермак рассматривал себя как новогобека Искера, а не как русского наместника, ссылаясь нато, что беком его признали предводители некоторых угор-ских и тюркских племен и уделов [5, 109-121].
Крайне противоречиво описывают источники и про-исхождение Кучума, хотя более определенно известно опричинах его появления в Сибири. Дело в том, что к концу1550-х гг. обстановка здесь резко обострилась. Шибани-ды, потерявшие власть в Тюменском ханстве, ушли коче-вать в район Кызыл Туры, а затем захватили власть в не-которых улусах и мечтали утвердить на престоле Муртазу– сына хана Ибака. Шибанидов поддерживали ногайцы,а главным кандидатом на сибирский престол в результа-те оказался сын престарелого Муртазы – Кучум, к томуже, якобы, по происхождению чингизид. По описаниюАбулгази он происходил от Джучи-хана – старшего сынаЧингизхана. По отношению к Чингизхану Кучум находил-ся в 13-м колене родства, приходился внуком Ибаку [6,197] и, соответственно, имел все основания занять ханс-кий престол.
Семь лет продолжалась борьба шибанидов противтайбугинов, закончившаяся тем, что в 1563 г. власть в Ис-кере захватил прибывший из Бухары Кучум. Он приказалубить правивших там Едигера и Бекбулата и сам стал ха-ном. Спастись от казни удалось лишь малолетнему сынуБекбулата Сейдяку (Сейд Ахмеду), нашедшему покрови-тельство в Бухаре.
Учитывая обстановку, Кучум продолжил в отношенииМосковского государства политику деда Ибака и тайбуги-
нов, сполна платил ясак, но, несмотря на своевремен-ную уплату дани, Москва усиливала продвижение на вос-ток, а русские все чаще и глубже проникали за Урал. Ханперестал платить ясак Москве, о чем Иван IV писал в гра-моте Кучуму в 1569 г. Царь напомнил, что поскольку иЕдигер платил ясак, то и Кучум обязан исполнять закон.В 1571 г. Кучум прислал полную дань, как при Едигере, –1000 соболей, а послы пообещали в будущем исправноплатить. В 1572 г. новые послы – Тамас и Гайса принеслицарю два ярлыка от Кучума, где тот вновь подтвердил со-гласие на ясак. В ответ царь приказал привозить ежегод-но 1 000 соболиных шкур.
На дальнейшие отношения повлияло стратегичес-кое изменение политики Русского государства на грани-цах, как и внутриазиатские обстоятельства – в 1573 г. поповелению Кучума был убит посол Третьяк Чебуков, на-правленный Москвой к казахам – фактически для орга-низации борьбы против Кучума и бухарского хана Абдул-лы (Абдуллахана). В перспективе перед Иваном Грознымстоял вопрос об установлении протектората Русского го-сударства и принятии в подданство казахов. Царское пра-вительство стремилось использовать для этих целей по-сольские отношения казахского хана Тевеккеля, которыйнамеревался заручиться помощью московского царя наслучай войны с Кучумом и Абдуллой.
Здесь важно прояснить – почему союз с «неверны-ми» оказался во второй половине ХVI в. более важным,чем обязательство перед единоверцами, предписанноеКораном и Сунной. Как и последующие миссионерскиепоходы, это не могло в корне изменить мировоззренчес-кие представления сибиряков. К тому же на «зыбких»границах Сибирского ханства пребывало население, весь-ма далекое от ценностей и норм исламской религии.Характерно свидетельство современника Кучума СейфиЧелеби: «По сторонам владений Кучум-хана обитают уди-вительные племена необычной внешности; никто не по-нимает их языка; нет у них ни религии, ни веры…» [7, 261].
С этими реалиями конфессиональной ситуации вСибири Кучум столкнулся, взойдя на престол, но остронуждаясь в идеологическом обосновании своего права навласть. Зная об отношении в исламе к власти, хан стал ис-пользовать этот «рычаг» управления. Отсюда же происте-кали и неоднократные обращения хана в Среднюю Азиюза помощью, что зафиксировал Г.-Ф. Миллер [8, 198-199].
Обращался Кучум и в Ногайскую Орду. Так, известно,что буквально накануне похода дружины Ермака за Уралон укрепил силы, пригласив на службу ногайцев, которыеучаствовали в государственных делах [9, 256].
Хан просил о помощи и поволжских единоверцев.Летописи сообщают, что через два года после прихода квласти он побывал в Казани, откуда привез проповедни-ков, и, кроме того, большую группу казанских татар, чува-шей, как и невиданное оружие – пушки. Но вскоре Казан-ское ханство было разгромлено, а у хана появились соб-ственные амбициозные идеи. Именно поэтому не стоитидеализировать Кучума, т.к. по свидетельству русских ис-точников: «А на Уфе на Белой Воложке государь велелгород поставити, что беглой из Сибири Кучюм царь, при-шед в государеву отчину в Казанский уезд в башкирцы,учел кочевати и ясак со государевых людей з башкирцев,почел был имати» [10, 19-20].
Кучум, подозревая в агрессивных планах Москву, ненаходя поддержки у единоверцев в Поволжье, устремил-ся к союзу с ханом Абдуллой. Важно отметить, что дляукрепления связей с Бухарой Кучум вновь, как и в пред-шествующем случае, задействовал религиозный фактор,попросив у хана (как свидетельствует обнародованнаяН.Ф. Катановым рукопись) отправить шейхов и сеидов «ксибирскому народу для наставления в вере» [11, 3].
89
Было решено миссионеров набрать в Ургенче, кудапоехали сибирские послы с письмом Абдуллахана, адре-сованным правителю города хану Сейиду: «По священ-ному повелению и приказанию муфтиев да будет извест-но Вам по получении сего письма перепоручите посламШербати Шейха, да проводить потомков Сейида и Шейхас хорошим почетом и уважением, а сколько нужно расхо-дов, да выдаст их из казначейства». Особо отметим со-держащуюся оговорку: «Кроме того, пусть даст им в спут-ники 10 человек из хороших людей. Посылаемые людипусть будут средних лет», что подчеркивало не толькосложность предстоящего пути, но и длительность мис-сии. В Ургенче оказалось немало желающих отправить-ся в Сибирь, и после возвращения в Бухару с ахунами,мирзами и слугами (около 500 чел.) Абдуллахан не толь-ко принял их с почетом и уважением, но и дополнил от-ряд своими людьми.
Прибывшие на Иртыш 1 000 среднеазиатцев, безус-ловно, не только морально воодушевили единоверцев,но и численно (среди них, предполагаем, были сведущиев воинском искусстве люди) должны были поддержатьсибирского хана. Кучум «приказал Ярым Сейиду быть ха-кимом и находиться при нём» и, как полагал Х.З. Зияев,Ярым Сейид (Мулла Якуб) был не только религиознымнаставником, но и стал должностным лицом [12, 19].
Ярым Сеийд через два года после прибытия умер, аШербети Шейх (которого в Средней Азии считали авлия,и он пользовался там большим влиянием) вернулся вУргенч. Возможно, именно с ним Кучум (якобы, малымирезультатами деятельности только двух миссионеров онне был удовлетворен) отправил Абдуллахану новуюпросьбу – прислать «ещё потомков Сейида и Шейха».Характерна мотивировка Кучума: «Подле нас нет людейдля священных повелений, ни для наставления вере» [11,3], что свидетельствует о реальном положении дел с ре-лигиозностью придворных и, вполне очевидно, всего тюр-кского населения Западной Сибири.
Просьба была услышана: на север вновь отправил-ся Шербет Шейх и племянник покойного Ярым СейидаДин Али Ходжа. Последний по прибытии женился на до-чери Кучума – Налишханум и был, как предполагалХ.З. Зияев, «представителем Абдуллахана при Кучуме»[12, 22]. На этом не закончились морганические браки, спомощью которых хан стремился укрепить и междуна-родное положение (существует предание, что одна из егожен была казанской татаркой). По этой же причине онженил сына Али на дочери ногайского мурзы Тин Ахмеда,а вторую дочь выдал замуж за ногайского хана Акмурзу.
Среди сопровождавших миссию в Сибирь, заметим,были и воины во главе со старшим братом Кучума – Ах-мад Гиреем, который, как считал Х. Атласи, занял пре-стол Кучума, а по мнению Г.Ф. Миллера – соуправлял хан-ством [6, 200]. Одухотворенный результатами миссии, Ку-чум, якобы, и впоследствии обращался к бухарскому пра-вителю. Как бы то ни было, но именно при Кучуме в Сиби-ри появляются многие приметы мусульманской культу-ры (в среднеазиатском и поволжском вариантах), как изначительное число её носителей, и не только пригла-шенных специально, но и самовольно переселявшихся.Как полагал Миллер: «Приезд с Кучумом и Ахмад Гирееммногих бухарцев, надо думать, положил начало поселе-нию в Сибири этого народа» [6, 201].
Появление здесь не разрозненных групп миссионе-ров («блуждающих» по краю с проповедями), а компакт-но проживающих, относительно грамотных, сцементиро-ванных единством мировоззрения, укладом хозяйства и,соответственно, более экономически успешных и карь-ерно-продвинутых (Кучум откровенно делал ставку наприглашенных) не только давало сибирякам пример для
подражания, но и приводило к рождению новых полити-ческих, социально-экономических, культурных феноме-нов. Так, доселе неизвестная в Сибири (или слаборазви-тая) письменная традиция именно при Кучуме характе-ризуется определенным числом грамот (ярлыков), про-шений, написанных арабской графикой на тюрки. Укреп-ляется и религиозно-правовое сознание сибиряков. Судяпо отрывочным данным, шариат стал пониматься в мас-совом сознании уже как исламский образ жизни, вклю-чающий комплекс правил поведения.
Благодаря приглашенным строителям появляютсяне только фортификационные сооружения, но и культо-вые постройки. Их даже графическая реконструкция поканевозможна, но есть предположение, что сохраняющие-ся до настоящего времени в различных районах Запад-ной Сибири астана являются сохранившимися рудимен-тами среднеазиатского мусульманского зодчества. Се-ления, как и ранее, располагались в основном по бере-гам крупных рек и озер, но местные жители стали чащестроить городки. На это указывают не только многочис-ленные места их городищ, но и название, данное сиби-рякам их соседями – башкирами и остяками – «туралин-цы», что означает «городские».
Расчеты хана Кучума на поддержку единоверцев исоюзников оказались ошибочными. Бухарское ханстворасполагалось вдали от Сибирского ханства, и было за-нято своими проблемами. Так, например, когда Кучумпроигрывал одно за другим сражения с русскими дружи-нами, на просьбу о помощи Абдуллахан в 1595-1596 гг.ответил: «…если просил у нас рати, и мы те поры были ввойне, для того и не послали есмя» [12, 22]. Кроме того,между этими государствами Кучума и Абуллахана нахо-дились Ногайская Орда и Казахское ханство, с которымиотношения у обоих складывались достаточно непросто.
Да и силы были неравными: русские дружины обла-дали не только опытом ведения войн, владели различ-ного рода огнестрельным оружием, но и обладали поли-тико-дипломатическим опытом в нейтрализации возмож-ных последствий от объединения врагов, в т.ч. их едино-верцев. Так, царь Федор Иоаннович в грамоте тюменско-му воеводе указал, чтобы над пребывающими из Бухары иНогайской Орды купцами и ремесленниками был прямойнадзор: «…а того б есте над ними смотрели и береглинакрепко, чтоб они заповедным товаром доспехи и пан-сири и соболями и ножи и топоры с юртовскими и ясаш-ными татары не торговали <…> и с русскими и с татарыопричь торговли некоторых разговорных речей не говори-ли и нужи б они сибирские некоторые не ведали» [12, 23].
Среди воинов Кучума был высокий уровень военно-го порядка и дисциплины, однако из-за отсутствия огне-стрельного оружия они были уязвимы, а правитель ока-зались один, без союзников, к тому же очень неспокой-ными были улусы на Ишиме. Они часто подвергалисьнападениям шибанидов, хотя при Кучуме были воссоеди-нены с Сибирским ханством. Тогда же Тюменское ханствополностью потеряло самостоятельность, а Кучум стал наи-меноваться ханом сибирским и тюменским. В одной изсвоих грамот внук Кучума Девлет-Гирей писал русскомуцарю, что «Тюмень была во владении Кучума» [13, л. 789].
Остановимся на численности тех, кто принял ислам.Из материалов «переписи», проведенной послом ИванаIV Иваном Непейцыным, в Сибирском ханстве при Еди-гере насчитывалось всего 30 700 чел. Безусловно, при-нять эти сведения за достоверные нельзя, поскольку тамбыло много кочевников, точный учет которых невозмо-жен. Кроме того, подсчет проводился в целях обложенияясаком, определенное количество населения могло ос-таваться вне учета, т.к. хан и феодалы не были в нем за-интересованы.
90
Известно, что до 1897 г. в ревизских сказках числен-ность сибирских татар высчитывалась из количества муж-чин, обязанных платить ясак. Учитывая, что средняя та-тарская семья состояла из пяти чел., то количество ясач-ных мужчин умножали на пять. Даже если взять в каче-стве исходной цифру в 30 тыс. чел. в крае в конце XVII в., тотрудно представить, что такая масса населения одномо-ментно стала сторонниками ислама, активно поддержан-ного Кучумом. Очевидно, что ни единичные миссионеры,ни насильственные акции не смогли бы приобщить раз-розненно живущие среди рек, озер, болот племена.
В 1581 г. отряд Ермака овладел столицей Сибирско-го ханства Искером, а хан Кучум бежал в сторону Ишима.По-видимому, Ермак сам стремился наладить торговыесношения со Средней Азией. Согласно «Сибирской ле-тописи» 1584 г., Ермак, получив известие о задержанииКучумом бухарских купцов, идущих в Сибирь, немедленноотправился в путь для их освобождения. Однако отрядыЕрмака были разбиты, а сам он, оказавшись в засаде,погиб на реке Вагая в боях с кучумовскими отрядами.Напротив, С.У. Ремезов трактовал многие ставшие емуизвестными от казаков-старожилов и коренных жителейсюжеты как уважение Ермака сибирскими тюрками и уг-рами. Его именем «и доднесь божатся и кленутся», врассказах его образ «чуден и страшен». Так он писал, чтотело Ермака, которого после смерти татары «нарекоша... богом», было погребено ими «по своему закону на Ба-ишевском кладбище, под кудрявую сосну» (хотя большин-ство татарских легенд это отрицает [14, 131–135]). А «напоминки», якобы, заколото 30 быков и устроено «жре-ние по своему извычаю» (хотя большинство татарских ле-генд и это отрицает) [15, 346].
Опираясь на это мнение Ремезова и привлекая ил-люстрации, созданные летописцем (и художником как«фантазии на тему») Л.Р. Кызласов пошел еще дальше,придя к выводу, что «прирожденный сибирский татарин»из «знатной манихейской среды», «преемник Тайбуги-дов» Ермак – «святой у сибирских татар» [16, 50-69]. По-скольку это может быть истолковано как начало диалогарелигий (в т.ч. православия и ислама) в Западной Сибири,то следует подробно остановиться на данном событии.
Перечисленные Ремезовым (и подчеркнутые Кыз-ласовым) «чудеса» (источение крови, «птицы же облета-ше, не смеяше же прикоснутися ему», сноведения, по-гребение под «кудрявою сосною», огненное свечение надмогилой, хранение одеяния, доспехов и оружия Ермакав святилище после того, как утонувшего атамана нашелЯныш - внук Бегиша) могут быть поняты как в контекстедоминировавшей тогда православной парадигмы, так иисходя из особенностей погребального обряда жителейПрииртышья. Ремезов явно возвеличил личность Ерма-ка, сравнивая его с библейским Самсоном, изображаядействующим в молитвах и постах. У него же Ермак полу-чил ореол святости и превратился в житийный персонаж.
Характерно, что повествуя о последнем походе Ер-мака, С.У. Ремезов писал и о том, что: «в том городке[Ташатканском. – прим. авт.] спал камень с небеси, вели-чество как бы воз с санями, видом багров, и от него девременем возходит стужа, дождь и снег; и о сем Ермак стоварищи дивился Божию деянию» [15, 342]. То, что Ре-мезов рассказывает о столь необычном явлении, свиде-тельствует о повышенном интересе к нему летописца спозиции христианского провиденциализма.
В целом, заметим, в «Истории сибирской» на пер-вый план выступила христианско-просветительная кон-цепция присоединения края, которую Ремезов рассмат-ривал как результат поступательного хода просвещения«во все концы вселенной», на долгое время оставившаяслед в историографии Сибири.
Список литературы1.Айтбаева Д.М., Томилов Н.А. Состояние изученностифольклора сибирских татар // Сибирская деревня: история,современное состояние, перспективы развития. - Омск,2004.2. Наречия тюркских племен, живущих в Южной Сибири иДзунгарской степи. I отделение. Образцы народной литера-туры тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзун-гарской степи, собраны В.В. Радловым. - Ч.4. Наречиябарабинцев, тарских, тобольских и тюменских татар.-СПб., 1872.3. Коран / Пер. и комм. И.Ю. Крачковского. - М., 1963.4. Хади Атласи. История Сибири. - Казань, 2005.5. Нестеров А.Г. Формирование государственности утюркских народов Урала и Западной Сибири в ХVI-ХVI вв. //Дешт-и Кипчак и Золотая Орда в становлении культурыевразийских народов. - М., 2003.6. Миллер Г.Ф. История Сибири. - Т.1. - М.; Л., 1937.7. Султанов Т.И. Известия османского историка ХVI в.Сейфи Челеби // Тюркологический сб.: 2003-2004 : тюркскиенароды в древности и средневековье. - М., 2005.8.Миллер Г.Ф. История Сибири. - Т.1. - М.; Л., 1937.9.Небольсин П.И. Покорение Сибири // Отечественныезаписки. Т. 60. - СПб., 1848.10. Пекарский П.П. Когда и для чего основан города Уфа иСамара // Сборник Отдел. русского языка и словесностиИмпер. академии наук. Т. Х. - СПб., 1872.11. Катанов Н.Ф. Предания тобольских татар о прибытии в1572 г. мухаммеданских проповедников в г. Искер (Тобольск)// Ежегодник Тобольского губернского музея. - Вып. VII. -Тобольск, 1897.12. Зияев Х.З. Экономические связи Средней Азии с Сибирьюв ХVI-ХIХ вв. - Ташкент, 1983.13. РГАДА. Ф. 239. СП. Стлб. 455.14. Панишев Е.А. Современные татарские и русскиелегенды о гибели Ермака // Тюркские народы: Материалы Vсиб. симп. «Культурное наследие народов Западной Сибири».- Тобольск; Омск, 2002.15. Сибирские летописи. Издание Имп. археограф. комиссии.- СПб., 1907.16. Кызласов Л.Р. Ранний этап присоединения Сибири кРоссии в свете духовных особенностей эпохи // ВестникМГУ. Серия 8. История. - 2005. - № 2.
Е.А. Рябининаг.Курган
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КУЧУМ-ХАНАВ 1582-1598 ГГ.
Завоевание Сибири Ермаком позволило значитель-но повысить статус Московского государства на междуна-родной арене. По крайней мере, в дипломатических до-кументах со стороны Российского государства к этому про-слеживается неприкрытое стремление. Это проявляет-ся, в частности, в постоянном подчеркивании факта за-воевания Сибири в наказах русским дипломатам, отправ-ляющимся за границу, причем упоминать об этом следо-вало настойчиво, даже если никто и не спрашивал. В на-казе послу Ф.Д. Шестунову в Швецию указывалось: «А не-што спросят про Сибирь, а хотя и не спросят, а им в раз-говорех про Сибирь говорити..» [18, 182]. Для посольскихдокументов России в иностранные государства характер-но изображение ситуации в Сибири, которое было оченьдалеко от действительности. Так в наказах послам 1585года ситуация в Сибири описывалась следующим обра-зом: «…преж сего на Сибирском царстве цари бывалииз рук Государей наших и дань давали…» [19, 922]. Этобыло явным преувеличением, так как за вековую исто-рию относилось фактически только к двум сибирскимправителям князю Едигеру и Кучум-хану. Несоответствияимеются и по поводу покорности местного населения:«И Сибирская земля вся, и Югра, и Кондинской князь, и
91
Пелынский князь, вогуличи и Остяки, и по всей Оби повеликой реке все люди Государю добили челом и даньдавать почали..» [19, 922]. В последующих грамотах 1586года описываемые события обрастают еще более фан-тастическими подробностями, связанными со временем«взятия» Сибири и размером ясака: «А взял Сибирь ве-ликий государь…и великий князь Иван Васильевич всеаРуси…..царя Федора Ивановича прадед… и дань поло-жил…А ясаку положил на Сибирское царство…на годимати на государя по 5 тысяч сороков соболей, по 10тысяч лисиц черных, да по 500 тысяч белки ебольшие,сибирские и илецкие» [22, 49]. Здесь налицо намерен-ное искажение действительности, так как при Иване IIIСибирь не являлась подчиненной России. По всей види-мости, российское государство для обоснования подоб-ных заявлений опирается на факт признания подданстваугорскими князьями в результате похода 1483 года [26,37-38]. Интерес здесь представляет и упоминание, в от-личии от грамоты 1585 года, вместо семидесяти городовпо реке Обь: «на все городки на обские на девяносто ина четыре городы», а также построение русскими ещегородков на месте Тюмени, в устье Иртыша и по Оби, где«государевы люди….сидят по тем городам и дань со свехтех земель емлют» [19, 922; 18, 182; 22, 49].
В ситуации преувеличений в наказах и грамотах про-сматривается стремление России подчеркнуть богатствовновь приобретенного края путем объявления нереаль-ного ясака, при выплате которого популяция перечис-ленных пушных зверей сошла бы на нет гораздо раньше,чем это произошло в действительности. Особенно убе-дительно подобные заявления звучали, когда они под-креплялись подарками главам иностранных государствв виде шкур [20, 466; 23, 388]. Упоминание о многочис-ленных городках по Оби, а также о вновь якобы постро-енных русскими, можно связать со стремлением пока-зать развитость оборонительной системы края и шагирусского правительства по его дальнейшему освоению.Существует мнение, что, вероятно, это сообщение отра-жало задачи, поставленные в 1586 году перед воевода-ми Мясным и Сукиным по постройке городов как опор-ных пунктов для контроля территории Сибири [22, 50].
Однако реальность середины 80-х годов XVI векасостояла в том, что Сибирь не только не была покорена.На момент обращения документов в 1584-85 годах дажерусских войск здесь не было, несмотря на заявление гра-мот о том, что в погоню за бежавшим ханом Кучумом:«ныне государь на него послал рать свою» [18, 182]. Всибирских летописях и в работах Г.Ф. Миллера приводят-ся многочисленные данные о том, что отряды казаковвстречали на своем пути упорное сопротивление мест-ных жителей, безрезультатное ввиду разрозненностидействий [14, 197-265]. В пользу этого свидетельствует ито, что после убийства Ермака и большей части его отря-да русские войска вынуждены были поспешно покинутьуже «покоренную» страну.
Ситуацию в Сибири после этого можно охарактери-зовать как очередной этап династийной борьбы междуТайбугидами в лице Сейдяка, и Шибанидами, представ-ляемыми ханом Кучумом. На наш взгляд, одним из про-явлений этого можно считать отход от Кучум-хана думче-го Карачи еще в 1582 году и его почти успешную попыткуподнять восстание среди местных жителей с целью выг-нать русских из Сибири [14, 249-250]. В сибирских лето-писях в дальнейшем он упоминается в обществе Сейдя-ка, и вместе с ним же был взят в плен и отправлен вМоскву [21, 67-68]. По данным некоторых авторов, Кара-ча являлся приближенным Ураз-Мухаммеда, хотя аргу-ментации этой точке зрения мы не нашли [30, 72]. Крометого, в татарских источниках он упоминается среди при-
ближенных Сейдяка во время его пребывания в Москве[6, 551]. Учитывая все вышесказанное, можно предполо-жить, что восстание было организовано в интересах на-следника тайбугидской династии, который, по некоторымнепроверенным данным, в это время скрывался средитатар [14, 261]. Основная часть этой династийной борь-бы выразилась в поочередных захватах Искера – снача-ла Алеем, сыном Кучума, а потом Сейдяком, который«пришед во град, и победив Алея и воинство его, и кровьотца своего Бекбулата отмстил, и прием отчину отцову, ипребываша во граде» [24, 563]. Местное население в ус-ловиях ухода русских войск из Сибири и борьбы предста-вителей сибирских династий за Искер спешило восполь-зоваться неразберихой, чтобы восстановить свою неза-висимость [14, 260].
С 1586 года русским войскам пришлось заново за-воевывать Сибирское ханство. В этих условиях перед во-еводами ставилась задача построения крепостей и ост-рогов для контроля над регионом, которая была имивыполнена соответственно изменившейся ситуации. Онине пошли, как Ермак, прямо на Искер, а избрали другуютактику – планомерное и последовательное завоеваниеСибири с созданием опорных укрепленных пунктов –Тюмени, Тобольска.
В связи с этим необходимо остановиться на отноше-ниях Российского государства с Тайбугидами, правивши-ми в это время в Искере. Из летописей известно, что рус-скими было начато строительство Тобольска в непосред-ственной близости от Искера, что не вызвало никакихвозражений со стороны князя Сейдяка и его приближен-ных. Более того, Сейдяк, а также его союзник Карача иказахский царевич Ураз-Мухаммед были взяты в плен напиру, куда они приехали по приглашению письменногоголовы Чулкова [21, 66]. На основании этого существуетмнение, что Сейдяк проявлял непростительную беспеч-ность, доверяя русским, хотя это не вяжется с предпри-нятыми им мерами предосторожности, когда только напир с сибирским князем поехали сто человек охраны [24,566; 14, 270]. Другие исследователи приписывают нео-сторожность Сейдяка тому, что у него были некие догово-ренности с Российским правительством по поводу егоправления в Сибири [25], но данная точка зрения покане подтверждается источниками. В связи с этим инте-ресна точка зрения Н.Миненко по поводу того, что у Рос-сии имелись планы оставить наместником Сибирскогоханства кого-то из прежних владельцев – Сейдяка илиКучум-хана, и после того, как был выбран последний,Сейдяка обманом отправили в Москву [16, 71].
На наш взгляд, причина бездействия Сейдяка мог-ла быть связана с тем, что при Едигере Сибирское кня-жество официально являлось вассалом России. И на про-должение отношений в подобном статусе, возможно, ирассчитывал Сейдяк, идя по приглашению к Чулкову. При-чем последний, скорее всего, намеренно предложилСейдяку в знак мира выпить вина, зная, что по мусуль-манским обычаям сибирский князь не мог этого сделать,что и послужило поводом к его пленению.
Факт захвата в плен Сейдяка и Карачи, также как иранее Маметкула, усиленно использовался в русской дип-ломатии для создания у иностранных государств впечат-ления о России как о великой державе, милостиво отно-сящейся к знатным пленным врагам, которые доброволь-но переходят на службу к русскому царю. В грамотах инаказах послам, начиная с 1585 года, обязательно под-черкивается этот факт. Например, в дипломатическихдокументах по поводу Маметкула встречается следующаяинформация: «а его самого жива взяли и к Москве когосударю привели, и ныне сибирской царевич на Моск-ве» и «у государя нашего служит» [18, 182; 22, 49], причем
92
Маметкул выступает в грамотах как опасный противник сбольшим войском: «больши десети тысеч», которое по-били русские войска, что не соответствовало действитель-ности, так как в летописях говорится, что при его захватеучаствовало относительно небольшое число казаков [18,182; 22, 48; 24, 560]. О его высоком положении в Москве,в частности, сообщается, что он на приемах послов изиностранных держав сидел по правую руку от царя [20,486]. Сейдяк и плененные с ним Карача и казахский ца-ревич Ураз-Мухаммед в дипломатических документах упо-минаются не так часто, но зато они предстают не как плен-ные, а как добровольно перешедшие на службу к русско-му царю, причем по собственной инициативе: «и Ураз-Магмет царевич и Сейтяк князь приехали ко государюнашему» [19, 1121;22, 52]. Кроме того, Ураз-Мухаммед сталцарем на Касимовском царстве [6, 549].
К сожалению, мы не располагаем данными о дип-ломатических отношениях Московского государства и Ку-чум-хана с 1577 по 1597 год. Это, возможно, связано стем, что в связи с походом Ермака и набегами сибирскихлюдей на русское пограничье Москва заняла выжида-тельную позицию. В то же время необходимо учитывать,что подчинение Сибири, хотя и не на момент похода Ер-мака, все-таки рассматривалось Русским государствомкак перспективное направление, о чем свидетельствуютщедрые пожалования земель Строгановым [14, 328,332;7, 117]. Поэтому после разгрома Сибирского ханства ка-заками Ермака Москва вполне оперативно посылает вСибирь воевод для установления государственного конт-роля. Также и после ухода русских войск из Сибири мос-ковское правительство предпринимает шаги повторногоее завоевания.
Примечательно, что после пленения Сейдяка и, темсамым, устранения возможных претензий с его сторонына независимость Сибирского ханства, и даже гораздоранее, при Ермаке, Россия не стремилась предприни-мать какие-то действия по поимке Кучум-хана, видимо,считая его уже списанной политической фигурой, что нео-днократно подчеркивается в наказах и грамотах к послам:«Сибирского Кучума царя побили и с Сибири согнали», аКучум-хан «побежал в Казацкую орду» [19, 922]. Каких-либо действий против него не предпринимали. Москване стремилась возобновлять отношения с беглым ханом,который выступал в документах как «посаженник», «ос-лушник» и «изменник» [9, 9]. Тем не менее, Россия стре-милась любыми способами лишить Кучум-хана какой-либо поддержки со стороны местного населения. Этовидно из текстов шертных грамот сибирскому населению,относящиеся еще к походу Ермака, в которых одним изобязательств было не вступать в контакты с беглым ха-ном: «и самем им не изменить, к царю Кучюму и в ыныеорды и улусы не отъехать» [10, 176].
Как показали дальнейшие события, сибирского ханарано сбросили со счетов, о чем свидетельствует активи-зация его деятельности в начале 90-х годов XVI века. Упо-минания о его возвращении в бывшие сибирские владе-ния относятся, по мнению исследователей, только к пе-риоду после пленения Сейдяка, когда он в 1590 г. напална ряд татарских поселений возле Тобольска [31, 183].Причина подобной задержки неизвестна, но можно пред-положить, что хан решил выждать и собраться с силами.Кроме того, исследователи высказывают предположениео том, что Кучум-хану приходилось тратить немало силдля создания линии укрепленных поселений по р. Ир-тыш и его притокам до устья р. Омь [13, 5-6].
Ситуация осложнялась и тем, что в степях в это вре-мя продолжались внутренние конфликты, распростра-нявшиеся на Бухару, Казахское ханство и Ногайскую Орду.Но сибирскому хану, видимо, к 1593 году все-таки уда-
лось найти союзника среди ногаев – мирзу Алея, как онзаявлял об этом в своих посланиях к тарским воеводам:«а с Нагаи есмя в соединенье» [27, 130]. В грамотах 1593-94 года он также упоминается с ногаями: «..чтоб Кучюмцарь, собрався с нагайскими людьми..» [14, 347]. Крометого, в 1587 году ногайский зять Кучум-хана Ураз-Мухам-мед просил Москву «Кочуму царю Сибирь…назад отда-ти, а на него что будет ясаку платить и он даст» [29, 373;12, 57].
В ответ на набеги Кучум-хана русскими воеводамибыл организован поход, в результате которого были зах-вачены его сын и две жены [14, 273]. Но это не останови-ло Кучум-хана, о чем свидетельствуют сообщения в гра-моте к Строгановым 1592 года, где содержаться указа-ния на опасность нападения сибирских людей на Пермь:«взяти ..для сибирских татар приходу, 100 человек рат-ных людей… отвести в Пермь Великую» [14, 338]. В этойже грамоте упоминается о войне против Пелымского кня-зя, и, судя по дальнейшим документам, Москва предпри-нимает шаги для усмирения возможных союзников Ку-чум-хана, в том числе Пелымского князя Аблегирима, длячего на его землях строится город Пелым. С самим кня-зем и его семьей предполагалось не церемониться:«приманить Пелымского князя Аблегирима, да сына егобольшаго Тагая, да племянников его да внучат….прима-нив, извести, и лутчих его людей, которые самые пущие,от которых смута была..», «и жоны и дети их и люди вое-вать и побивать, и городок его жечи»; кроме младшегосына с его семьей, которые должны были стать амана-тами в Тобольске [14, 340-341]. По всей видимости, в этомпроявилось давнее желание Русского государства ото-мстить и навсегда успокоить беспокойное княжество. Какфорпост для защиты ясачного населения от набегов Ку-чум-хана на реке Таре был построен Тарский острог в1593-94 году, чтобы «Кучюма царя истеснить» [14, 347].
Таким образом, отношения, установившиеся междуРоссией и сибирским ханом, были достаточно враждеб-ные с обеих сторон, хотя Москва не оставляла надеждумирным путем разрешить ситуацию. Это было вызвано,на наш взгляд, несколькими причинами, в том числе и стрем-лением избежать больших людских потерь, до окончатель-ной застройки и укрепления Сибири. Опасения по поводуего нападения просматриваются на протяжении всего тек-ста грамоты 1593-94 года: «им от Кучума царя идти с вели-ким береженьем, и от него беречись, чтоб на них не при-щол», «и от Кучума царя беречи накрепко» [14, 347-349].
Также необходимо отметить, что Москва все-таки неоставляла надежд получить Кучум-хана в виде подданно-го, власть над которым дополнительно повысила бы ав-торитет России на международной арене, особенно учи-тывая постоянное подчеркивание покровительства Мос-квы над знатными сибирскими пленниками в диплома-тических документах [19, 922, 1121-1122]. Переход Кучум-хана в российское подданство также в какой-то мере ре-шал проблему его вмешательства в ход дальнейшего за-воевания и освоения Сибири русскими. Сообщения обэтом присутствуют в грамоте 1593-94 года, в которой вчастности упоминается о фактах двойного ясачного об-ложения населения Тарской волости со стороны Кучум-хана и Москвы: «а ясак с тех волостей дают половину нагосударя, а другую половину дают царю Кучюму, блюдясяот него войны» [14, 352].
Поэтому в документах 1593-94 годов русским воево-дам при строительстве города на реке Тара предписыва-лось не только опасаться набегов Кучум-хана, но и угова-ривать его перейти в подданство к России: «..а будет до-бьет челом и договор станет, и сына царевича даст в зак-лад, и отпустит ко государю к Москве..» [14, 348]. Причемпродолжать это следовало, пока не будет окончательно
93
укреплен острог и собраны необходимые силы для егоокончательного разгрома: «А Кучюму царю сперва при-казывать...и его оплашивать, покаместа город укрепит-ся», «а как город пойкрепят, и …над Кучюмом царем про-мышлять большими посылками» [14, 348-349]. Причемпредписывалось ослаблять силы сибирского хана, пере-манивая его «лучших людей» на русскую сторону: «а отКучюма царя лутчих людей отговаривать, чтоб ехали к го-сударю служить…а государево им великое жалованиебудет» [14, 349]. Этим же целям служили: перевод ясач-ного населения, платившего дань Кучум-хану в полноеподданство России, а также вытеснение его из других ясач-ных областей: «а которые ево волости по Иртышу … и в тебы он волости царь однолично не вступался и их от Кучю-ма царя беречи накрепко» [14, 349, 352]. Причем в рядеслучаев, чтобы не остаться без средств к существованию,Кучум-хан был вынужден уводить с собой ясачных людейили, по выражению грамот, «отводить» себе от русскихясачные волости [1, 2; 31, 189].
Успешные действия Москвы в Сибири не могли необусловливаться и политической ситуаций в степях. Длядостижения своих целей Русское государство стремилосьиспользовать свое значение на этой политической аре-не. Как усиление московского фактора во взаимоотно-шениях политических объединений Дешт-и Кипчак, мож-но рассматривать почти полное подчинение к концу XVIвека Ногайской Орды. Это было обусловлено сильнойэкономической зависимостью от России, которая факти-чески контролировала переправы и доступы на рынки;не последнюю роль сыграли также и периодические ра-зорительные набеги казачьих отрядов [29, 620]. Хотя окон-чательной зависимости Ногайской Орды Москве не уда-лось добиться. Об этом свидетельствует поддержка час-тью ногаев Кучум-хана, в частности мирзой Алеем, кото-рый, скорее всего, был недоволен наступлением Россиина подвластные ему территории [14, 352,362]. Тем неменее, в грамотах послов в Швецию 1585 года сообщает-ся: «Казацкие Орды царевы Акназаровы дети…приеха-ли служити ко государю нашему. А Нагайская Орда в госу-даря же нашего воле…» [18, 183]. В грамоте присутствуютпреувеличения, характерные для подобного рода доку-ментов, призванные придать вес российскому государ-ству перед противником в Шведской войне: «и государюнашему нечего страшитца государя вашего», в частностиупоминание о том, что «люди нагайские ходят на госуда-ря нашего службу скольким тысечам велит». Несмотряна это, в целом грамота, скорее всего, отражала действи-тельную ситуацию. Например, это связано с восстанов-лением русско-казахских отношений с 1585 года и осо-бенно с 1594 года, в связи с завоевательной деятельно-стью бухарского хана Абдуллы II [17, 117; 2, 31; 4, 89], чтоне могло не вызывать беспокойства со стороны казахов:«а с бухарским царем теперь в ссылке и под его царскоюрукою» [9, 3]. Но им была необходима поддержка Россиидаже в виде подданства для решения данной ситуации:«..государь пожалует…примет…под свою царскую руку-…и…даст…огненного бою и царь Тевкель и царевичистанут воевать бухарсково царя» [9, 3]. Естественно, чтодо согласования всех сторон переговоры велись в стро-жайшей тайне с обеих сторон [18, 202; 9, 14]. В даннойситуации Россия стремилась использовать Казахское хан-ство для совместной борьбы с Кучум-ханом: «и вы с тоюнашею ратью учнете над бухарским и надо всеми своиминедругами и над нашим непослушником над Кучюмом ца-рем нашим делом промышляти» [9, 9]. Интересно то, что вдальнейших грамотах «непослушником» назван и бухарс-кий хан, не имеющий вообще никаких вассальных отноше-ний с Москвой, которая тем самым стремилась повыситьсвое положение в глазах Казахского ханства.
Дополнительной мерой убеждения являлся и ста-рый проверенный способ воздействия через пленныхродственников, в качестве которых выступал захвачен-ный с Сейдяком «казацкий царевич» Ураз-Мухаммад,племянник казахского хана Таввакулла, и его семья [9,12]. В обмен на подданство и другого царевича в качествеаманата, царь обещает отпустить Ураз-Мухаммеда вмес-те с семьей в Казахское ханство [18, 203].
Судя по грамотам, высокое положение, которое за-нимал Ураз-Мухаммед при царском дворе, было однимиз способов воздействия на казахского хана: «брат вашУрусмагмет царевич у нас…пожалован…как и иных ве-ликих государей дети цари и царевичи у нас…бываютпожалованы» [18, 202]. В частности, послом императораРудольфа Миколаем Варкачи отмечено, что при его ауди-енции у русского царя в 1595 году «от Государева местапо правую сторону сидел Казацкие орды царевич Ураз-Магмет» [20, 91-92].
Возвращаясь к Кучум-хану, нужно отметить, что он вэто время оказался в невыгодном положении, так как неимел средств для того, чтобы удерживать своих немного-численных подданных в подчинении. Это было связано стой же системой престижной экономики, которую не мог-ли обеспечить набеги на ясачное население и окрестно-сти русских городов. О его крайне бедственной ситуациисвидетельствует то, что он захватил ряд территорий, при-надлежащих его же союзникам Шихмамаевичам, что немогло не вызвать недовольства с их стороны. Об этомсообщается в увещевательной грамоте Абдуллы II, кото-рый выступал посредником в данном конфликте и выд-вигал идею о совместных действиях ногайско-сибирскихсил против русского завоевания Сибири: «Слышали есмячто вы взяли землю Авлия мирзину. А годное было то,чтоб вам помиряся, да у кафыреи землю свою поимати. Атолко по тому не станете делать, и кафыри вас осилеют иобезчествуют» [29, 374]. Возможно, с этим конфликтоммогла быть связана откочевка с 1595 года некоторых пред-ставителей ногайской и сибирской знати от Кучум-хана,что еще больше осложняло его положение, в частности,«выехал в новый город на Тару Чин мурза и с женою, да сним де выехала Маметкула царевича мать» [14, 361]. Обэтом же писал в своей грамоте русский царь к Кучум-ханув 1597 году: «а Чин мурза отъехал к нашему ЦарскомуВеличеству…а достальные твои люди от тебя пошли прочс Царевичи с Канаем да с Ыделинем, а иные пошли вБухары и в Нагаи и в казацкую орду, а с тобою ныне людинемногие» [27, 134].
В данном случае Кучум-хан оказался втянутым в кон-фликт Русского государства и Бухарского ханства, связан-ный со столкновением интересов как в сфере распреде-ления влияния в степях, в том числе и по отношению ксибирскому ханству, так и на конфессиональной почве.Первое проявляется в тайных переговорах Москвы с ка-захами по поводу нападения на Бухару и Кучум-хана, иодновременным призывом Абдуллы II к отвоеванию Си-бири соединенными ногайско-сибирскими войсками.Второе отражается в выражениях, которые используют-ся обеими сторонами в дипломатической переписке ссоюзниками: упоминание о победе неверных в случаераздоров среди мусульман Абдуллой II в грамотах к нога-ям и Кучум-хану; констатация покорения мусульманскихханств – Казанского и Астраханского православными впереписке царя Федора Ивановича с Кучум-ханом: «ве-даешь и сам, какие были мусульманские..Государства,Казань да Астророхань, и те…з Божией помочью отецнаш…поимал» [27, 134]. О значении подобного противо-стояния для мусульманских государств свидетельствуетинтерес, проявляемый, в частности, османскими хронис-тами к событиям в Сибири. В восприятии историка Сей-
94
фа Челеби Кучума никто не изгонял из Искера, он былвзят кафирами (неверными) в отсутствие хана, и потомКучум-хан вновь завладел Искером. Интересно, что в му-сульманском мире владетелями Сибири признавалисьтолько Шибаниды: «Предки Кучум-хана господствовалинад той страной со времени Чингиза» [28, 261].
Тем не менее, Россия продолжала опасаться воз-можных нападений со стороны Кучум-хана, что выража-лось даже в контроле за бухарскими и ногайскими купца-ми, которые приходили торговать в русские города Сиби-ри. Для Сибири существовала насущная необходимостьустановления торговых отношений для нормального фун-кционирования хозяйственной жизни, поэтому желаниекупцов торговать приветствовалось и поощрялось, дажекогда отношения между Россией и страной, откуда при-шли торговцы, были напряженные, в данном случае сбухарцами. Тем не менее, русские власти не забывали иоб осторожности, указывая, чтобы во время прихода куп-цов у них создалось впечатление многолюдности и ук-репленности городков, и не допуская контактов купцов сместными жителями: «писали к нам из Сибири … чтоКучум царь с бухарцы и с нагайцы ссылается и умышляетвместе и хотят на анши на сибирские городы приходити»[15, 176-177; 5, 16-17].
В 1595-96 годах Тарскими воеводами были совер-шены ряд походов против Кучум-хана, практически в этоже время был разгромлен и еще один союзник сибирс-кого хана - князь Пегой Орды Воня, который готовился кнападению на Сургут [8, 98-99; 32, 33]. Вся эта ситуация,скорее всего, вынудила Кучум-хана обратиться в Москву,судя по упоминаниям в грамоте 1597 года от царя Федо-ра Ивановича: «присылал еси…человека своего Магме-тя с грамотою». Исходя из текста грамоты, можно заклю-чить, что Кучум-хан просил покровительства у Москвы вобмен на возвращение Сибирского ханства: «чтоб нам…юрт твои тебе отдати, и племянника твоего отпустити ктебе, а ты в нашем Царском жалованье будешь под на-шею Царскою высокою рукою» [27, 133]. Россия с готов-ностью согласилась на эти условия, причем предлагалаили возврат Сибирского ханства, или наделение владе-ниями в пределах России: «И мы…хотели тебя пожало-вати устроити на Сибирской земле царем, как было тебебытии в нашем Царском жаловании вперед крепку инеподвижну» [27, 133-134]. Причем в грамоте 1597 годарусский царь всячески подчеркивал свое благоволение имилость к Кучум-хану, покинутому своими людьми и род-ственниками. Указывалось, что только из-за этого царь неотправил войска для его окончательного разгрома, наде-ясь на примирение: «а большие свои рати в Сибирскуюземлю на тебя, на Кучюма царя, послати есмя не велелидля того, что ожидали есмя от тебя, от Кучюма Царя, обра-щения, чаяли того, что ты, узнав свои вины и неправды…-добьешь челом, и нашего Царского Величества жалова-нье на себе видети похочеш» [27, 133]. Дополнительнымстимулом для него, по мнению Москвы, должна была по-служить грамота от его сына Абулхаира, который находил-ся в плену в Москве. В этой грамоте царевич описываетмилости к нему и Маметкулу русского царя и вкратце изла-гает позицию России по поводу сближения и условия, ко-торые она при этом выдвигала: принятие подданства ипосылание в аманаты другого сына [27, 131]. Но Кучум-хан,судя по словам Абулхаира, оставил ее без ответа: «и ты потой …грамоте ничего не учинил…», несмотря на то, что кпросьбам присоединялся Маметкул [27, 131]. Возможно,это было связано с невыполнением его просьбы, с кото-рой он обращался к Тарским воеводам. Подобное пред-положение можно сделать из его слов, когда он, прове-ряя истинность намерений Москвы на примирение с ними возврата Сибирского ханства – «Иртышского берегу» про-
сил вернуть ему лекарства, захваченных русскими с бухар-ским караваном и некоторые вещи: «и вы ис тех вещейхоти и одну дадите, и ваше слово будет истинно; а будет недадите, и слово ваше ложно» [27, 130]. Причем, соблюдаясвою гордость, он преднамеренно расставляет все поместам в своих взаимоотношениях с русским государством:«А от Ермакова приходу и по ся места пытался есмя встреч-но стояти; а Сибирь не яз отдал, сами естя взяли. И нынепопытаем мирица, любо будет на конце лутче…и яз хочюправдою помиритца, а для миру на всякое дело сходи-тельство учиню» [27,130].
Но примирение не состоялось, и в 1597 году Кучум-хан совершает набеги на Барабинских татар, а в 1598году, судя по сообщения воевод, собирался напасть наТарский город и его окрестности [1, 1-2]. Для предотвра-щения этого против него был организован поход, кото-рый закончился его полным разгромом и захватом прак-тически всей его семьи, позднее переправленной с боль-шими почестями в Москву [1, 1-20].
Нужно отметить то, что Кучум-хан и после этого пред-ставлял большой интерес для России. Так, сеиду, отправ-ленному на переговоры с разгромленным ханом, былоприказано убеждать Кучум-хана перейти на службу Рус-скому государству [1, 7]. Это было связано, скорее всего, стем, что он продолжал представлять собой опасностьдля продолжения освоения русскими Сибири, что пока-зывает их еще неустойчивое положение в данном регио-не в конце XVI века. Но Кучум-хан отказался от этого при-глашения, видимо, не доверяя русским властям и подо-зревая их в обмане: «не поехал деи я к Государю, по Госу-дареве грамоте, своею волею, в кою деи пору я был со-всем цел, а за саблею деи мне к Государю ехать не почто» [1, 7]. Интересно, что Кучум-хан отправился именно кНогаям и послал своего сына в Бухару, которые были егостарыми союзниками. Не исключено, что несмотря насвои заявления: «нынеча деи я стал глух, и слеп, и безовсякого живота» [1, 7], он, все-таки, не оставлял надеждынайти помощь, в том числе и военную, чтобы отвоеватьсвое ханство. Причем, возможно, что грамота 1598 года осмягчении ясачного сбора связана со стремлением недопустить перехода недовольных пелымских вогулов насторону Кучум-хана [15, 180].
О дальнейшей судьбе Кучум-хана в источниках суще-ствуют разные сведения. Некоторые исследователи при-держиваются точки зрения, что Кучум-хан бежал к кал-мыкам, где и был убит [31, 192-193; 14, 293; 11, 115], подругим версиям Кучум хан «нашел свой бесславный ко-нец среди башкир» [3, 93]. В источниках мы находим дру-гие сведения. Так, на расспросы посланного к нему сеида Кучум-хан отвечал: «нынеча деи я иду в Нагаи» [1, 7].Сибирские летописи также дают информацию о том, чтопосле битвы 1598 года «Кучум царь утече с невеликимилюдьми», а согласно другой редакции «Царь же Кучумбежа в Нагаи» [21, 69, 142]. Тем не менее, в ряде источ-ников, в том числе и в редакциях Есиповской летописи,встречаются данные о том, что он вначале бежал к кал-мыкам, с которыми поссорился из-за того, что украл у нихлошадей [21, 41; 31, 191]. Примечательно, что, несмотряна разногласия с ногаями по поводу захваченных терри-торий, Кучум-хан все-таки надеется получить покрови-тельство и помощь именно у ногаев, где уже до этого обо-сновались его дети Канай и Алей [29, 375]. Их уход от-дельно от Кучум-хана в ногаи, возможно, свидетельству-ет о конфликте в ханской семье, так как в разговоре ссеидом Кучум-хан беспокоиться только о своем сыне Ас-манаке, которого называет единственным кормильцеми промышленником [1, 7]. Однако его надежды на по-мощь не оправдались. Ногайская Орда, не желая ссо-риться с Москвой по поводу сибирского хана, к которому
95
у нее и так уже имелись большие претензии, решила вос-пользоваться случаем и избавиться от него, оказав темсамым услугу Российскому государству. Причем обе при-чины находят свое подтверждение в сибирских летопи-сях: «и тамо убиен бысть от нагай, еже бо рекоша: “Якорусские вои уведают, яко ты аде пребываеши, да и намтакожде сотворят, яко ж и тебе”», или, согласно Ремезов-ской летописи: «ведомои ты и славной вор Муртазеев сын,и отец твой нам многа зла соделал, и ты, хотя и нищь, тоже и нам учинишь, что и протчие твои люди, от тебя жеубиты напрасно и озлоблены» [21, 69; 24, 568]; хотя неко-торыми авторами высказываются сомнения по поводуубийства ногаями Кучум-хана [3, 92-93]. Данное предпо-ложение можно связать с тем, что в дипломатическойпереписке с ногайскими биями нет никаких сведений обэтом, несмотря на то, что борьбе с Кучум-ханом уделя-лось столько внимания. Кроме того, его старший сын Алейстал ханом только в 1601 году, то есть после смерти Ку-чум-хана. В любом случае после его ухода из СибириРоссия окончательно перестает воспринимать сибирс-кого хана как перспективного партнера для переговоров,и отношения между ними прекращаются.
В заключение можно сказать, что в отличие от раз-вития отношений Московского государства и СибирскихШибанидов последней четверти XV века, данный периодхарактеризовался значительными изменениями на меж-дународной политической арене степей. Это проявляет-ся в появлении новых активных участников, в частностиКазахского ханства; а также в перераспределении сил всторону все большего влияния Русского государства. Отча-сти с этим, помимо внутренних факторов, связано то, чтоСибирские Шибаниды в этот период во многом потерялито значение в политической жизни Дешт-и Кипчак, кото-рое они имели во времена Ибак-хана. В данном случаеборьба за лидерство в степях происходила в основноммежду Русским государством и Бухарским ханством. Мож-но сказать, что при этом Сибирское ханство, на наш взгляд,становилось полигоном и способом решения различныхспорных моментов между этими двумя государствами.
Список литературы1. Акты исторические, собранные и изданные Археографи-ческой комиссией. - Т.2. - СПб., 1841.2. Аполлова Н.Г. Хозяйственное освоение Прииртышья вконце XVI – первой половине XIX веков. - М., 1976.3. Атласи Х. История Сибири. - Казань, 2005.4. Басин В.Я. Россия и казахские ханства в XVI – XVIII вв. -Алма-Ата, 1971.5. Батраков В.С. Хозяйственные связи кочевых народов сРоссией, Средней Азией и Китаем (с XV до половины XVIII в.).- Ташкент, 1958.6. Березин И.Н. Татарский летописец. СовременникБ.Ф. Годунова // Москвитянин. - 1851. - Ч.6. - № 24. - Кн. 2.7. Бураева О.В. Проблема присоединения Сибири к России иевразийцы// Евразия: культурное наследие древних цивилиза-ций. Вып.1 Культурный космос Евразии. - Новосибирск, 1999.8. Головнев В.А. Говорящие культуры. Традиции самодийцеви угров. - Екатеринбург, 1995.9. Казахско-русские отношения в XVI – XVIII вв. Сборникдокументов и материалов. - Алма-Ата, 1961.10. Конев А.Ю. Шертоприводные записи и присяги сибирских«иноземцев» конца XVI – XVIII вв. // Вестник археологии,антропологии и этнографии. - 2005. - № 6.11. Копылов Д.И. Ермак. - Свердловск, 1974.12. Кочекаев Б.-А.Б. Ногайско-русские отношения в XV – XVIIIвв. - Алма-Ата, 1988.13. Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Сибирское ханство в 1584-1998 гг. //Исторический ежегодник. - Вып.1.Отечественнаяистория/ Под ред. А.В. Якуба, Ю.А. Сорокина. - Омск, 2008.14.Миллер Г.Ф. История Сибири. - Т.1. - М., 2005.15.Миллер Г.Ф. История Сибири. - Т.2. - М., 2000.16.Миненко Н. Хождение за «Камень» // Родина. -2000. - № 5.17. Исин А. Казахское ханство и Ногайская Орда во второй
половине XV-XVI вв. - Семипалатинск, 2002.18. История Казахстана в русских источниках. Т.1. Посоль-ские материалы Русского государства (XV – XVII вв.).- Алматы, 2005.19.Памятники дипломатических сношений древней России сдержавами иностранными. Т.1. Памятники дипломатическихотношений с Римскою империей (1488-1594). - СПб., 1851.20. Памятники дипломатических сношений древней России сдержавами иностранными. Т.2. Памятники дипломатическихотношений с Римскою империей (1594-1621). - СПб., 1852.21. Полное собрание русских летописей. Т.36. Сибирскиелетописи. Ч.1. Группа есиповской летописи. - М., 1987.22. Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI– начале XVIII века. - М., 1972.23. Преображенский А.А. Русские дипломатические документывторой половины XVI в. о присоединении Сибири // Исследова-ния по отечественному источниковедению: Сборник статей,посвященных 75-летию С.Н.Валка. - М.-Л., 1964.24. Ремезов С.У. История Сибирская // Памятники литера-туры Древней Руси. XVII век. Кн.2. - М.: Художественнаялитература, 1989.25. Резун Д.Я., Шиловский М.В. Сибирь, конец XVI – начало XXвека: фронтир в контексте этносоциальных и этнокультур-ных процессов// http://sibistorik.narod.ru/project/frontier/ch1.html.26. Рябинина Е.А. Сибирский поход 1483 г.: к проблемевзаимоотношений России с Тюменским ханством // Емелья-новские чтения: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. - Курган, 2007. - С.37-38.27. Собрание государственных грамот и договоров, храня-щихся в государственной коллегии иностранных дел. - Ч.2.М., 1819.28. Султанов Т.И. Известия османского историка XVI векаСейфи Челеби о народах Центральной Азии // Тюркологичес-кий сборник. 2003-2004. Тюркские народы в древности исредневековье. - М., 200529. Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. - М.: Изда-тельская фирма «Восточная литература» РАН, 2002.30. Тынышпаев М. История казахского народа.- Алма-Ата, 1993.31. Фишер И.Э. Сибирская история с самого открытияСибири до завоевания сей земли Российским оружием. -СПб., 1774.32. Шашков А.Т. Строительство русских острогов вСургутском уезде в конце XVI - начале XVII в. // ЗападнаяСибирь в академических и музейных исследованиях: Тезисыконференции. - Сургут, 2003.
В.В.Трепавловг. Москва
СИБИРСКИЙ ХАН(?) АЛИ26 октября 1582 г. на Чувашском (Чувашевском) мысу,
под стенами своей столицы – города Искера сибирскийхан Кучум потерпел сокрушительное, полное поражениеот казачьего отряда Ермака. Город был оставлен татара-ми, и Кучум превратился в скитальца-«казака». В скита-ниях хана сопровождало многочисленное семейство.Среди его родичей особенно выделялись сын Али и пле-мянник Мухаммед-Кул~Маметкул.
Самое большое количество сыновей Кучума назва-но, очевидно, в Погодинском летописце: «А у царя у Кучю-ма было всех десеть сынов», из которых по именам пе-речислены только Али, Алтынай и Ишим [30, 133, 137;анализ этого летописного сообщения см.: 42, 515–519].По разным текстам разбросаны сведения о несколькобольшем числе Кучумовичей первого поколения; мне уда-лось насчитать четырнадцать. М.Абдиров, ссылаясь нанекие не уточняемые им «одни данные», пишет, что уКучума было семнадцать сыновей [1, 149]. Очевидно, стар-шим из них был Али, хотя Бузуновский летописец аттесту-ет его как «сына… царя Кучюма меншего» [20, 204]. Воз-можно, это оттого, что автор данного текста, подобно ав-тору Строгановской летописи [41, 19], принимал Мухам-мед-Кула за старшего Кучумовича.
96
Неизвестно, в каких отношениях с отцом находилсяцаревич Али во время похода Ермака. В сражении подИскером он не участвовал, т.к. в то время совершал походна земли Строгановых, по ту сторону Уральских гор. 1 сен-тября 1582 г. Али безуспешно осаждал Чердынь – столи-цу Перми Великой, затем разорял окрестные районы [41,12]. А.А.Преображенский сомневался в достоверностипредводительства Али в том походе, поскольку об Алиупоминает только Погодинский летописец, а в других ис-точниках либо не приводится имя военачальника, либо вкачестве такового назван вогульский князь Кихек [32, 106].Впрочем, А.Т.Шашков показал, что имя «Кихек» являетсярезультатом описки, появившейся при переработке Пер-мской владычной летописи [45, 42]. Однако мы не мо-жем отрицать того очевидного факта, что в период втор-жения Ермака на территорию Сибирского юрта и присту-па к Искеру царевич Али ни разу не упомянут как участникпротивостояния. То есть в то время он скорее всего нахо-дился за пределами ханства и не мог помочь отцу.
Автор летописи С.Ремезов называет постояннымместопребыванием Али Абугиновы городки (Абуга – пра-вый приток Тобола) [41, 344]. Несомненно то, что послебитвы на Чувашском мысу тот жил раздельно от Кучума,которому Ремезовская летопись отводит совсем другиепункты пристанища. Именно находясь на реке Абуге, ца-ревич узнал об убийстве его отцом Ермака в августе 1585 г.
Сибирские летописи рассказывают, что после гибе-ли Ермака и исхода казаков из Искера Али занял столи-цу юрта. Он явился в пустой город с «воинскими людьми»– татарами, сохранившими ему преданность; «Сибирс-кий летописный свод уточняет: «со многими своими во-инскими людьми» (здесь и далее в цитатах выделеномною. – В.Т.). Однако правление его там оказалось недо-лгим. Узнав об уходе «неверных», туда двинулся тайбу-гинский бек Саид-Ахмед б. Бек-Пулад, «прибрав множе-ство иностранных воинских людей агаренских же языков»,и выбил Али из крепости, которую небезосновательносчитал «отчиной отца своего Бекбулата» [30, 40, 64, 251;41, 344]. Погодинский летописец гласит, что Саид-Ахмедпри захвате Искера «царевича Алея взял и прочих Кучю-мовых сынов смер[тью] убил и из града изгна» [30, 135].Это, кажется, недостоверное сообщение, т.к. нет другихданных о пребывании Али в плену в конце XVI в. Болеераспространена и, очевидно, более достоверна летопис-ная версия об изгнании царевича из столицы.
Обстоятельства жизни Али в 1590-х годах почти не-известны. Пользуясь своим ханским рангом, Кучум иног-да пробовал организовать переселение подданных (илитех, кого он считал или стремился сделать таковыми). Всередине 1590-х годов известны такие его шаги по отно-шению к жителям Аялынской волости. Узнав о намере-нии русских основать крепость – будущую Тару, он прика-зал Али переселить татар из места расположения буду-щего города. Тот увел с собой 150 аялынцев и 50 человекиз Малогородской волости и построил для них специаль-ный городок [22, 358]. Возможно, приблизительно в техже местах – южнее Тары, на нижней Оми и в ЗападнойБарабе, находились тогда личные кочевья царевича.
В последнем сражении Кучума на Оби в августе 1598 г.Али находился рядом с ним, но избежал плена: «Алейцаревич с бою утек» [4, 4], и его дороги с отцом разош-лись. После этого разгрома он действовал уже вполненезависимо от беспомощного, полуслепого хана. Околостаршего царевича держались младшие братья, призна-вая теперь его главенство. И именно на него обраща-лись усилия московской дипломатии, которая стреми-лась завершить затянувшийся конфликт. В апреле 1600 г.от Кучумовичей явился в Тобольск посланец с объявле-нием намерения царевичей подчиниться русским. Вско-
ре к воеводе прибыл один из них – Кубей-Мурад. Цельюэтого долгожданного для русских властей визита былоузнать, каковы условия подданства, и как «неверные»встречают смирившихся мятежников. Тобольские наме-стники не осмелились улаживать отношения с царевича-ми своими силами и отослали Кубей-Мурада в Москву.Фактическим пленением парламентера они напугали и«ожесточили» (как сказано в воеводской отписке) егородичей [23, 32; 38, стб. 281]. Переговоры последних сТобольском на этом прекратились.
Кочевую ставку Али в первые годы XVII в. источникификсируют сначала в верховьях Ишима, затем он пере-местился восточнее, «близко к Сибири к Тоболскому го-роду», или в семи днях пути от Тюмени; впоследствии онжил на левобережье Тобола (на территории современ-ной Курганской области). Расположение его чаще обо-значается озерами: пять боровых озер, озеро Чарлак,озеро Чигирлы, озеро Емесбулак~Емесбалак «за Тобо-лом», Щучье озеро [16, 54; 23, с. 32, 34, 35, 37, 196, 209,211, 212; 38, стб. 282]. Жители сопредельных районовзачастую не имели представления, в какой местностинаходится в данный момент Али, и настороженно высп-рашивали у проезжих купцов, «где ныне кочует Кучумовсын Алеи царевич с братьею» [10, 146].
9 декабря 1600 г. тюменские воеводы направили кАли местного авторитетного татарина, хафиза Менглибая,с государевым «жалованным словом», т.е. с прощениемпровинностей и предложением служить царю. На слу-чай, если Али не захочет служить, надлежало уговари-вать его отправить в Тюмень брата, царевича Каная, аесли не пожелает его отпускать, то другого брата – Хад-жима. Однако через десять дней Менглибай вернулся нис чем, не сумев отыскать в степях станы Кучумовичей.
Более успешно действовал уфимский воеводаМ.А.Нагой. Посланные им в сентябре 1600 г. дети боярс-кие и служилые татары разыскали-таки сибирских прин-цев с поручением звать их «на государево имя». Для это-го нужно было ехать в Уфу, на что Али не согласился, нопослал брата Ишима. Знатного визитера Михаил Нагой,«поив и кормив и государево царское жалованье емуплатье и его людем дав», препроводил в Москву (вместес Кубей-Мурадом, которого через Уфу везли туда же изТобольска) [22, 193–195; 38, стб. 275–277]. Детали егопребывания в столице неизвестны. Вскоре Ишим былотпущен восвояси и воссоединился с братьями, оставши-мися в Сибири.
Время активной деятельности Али пришлось наСмутное время в России. В некоторых текстах XVII в. онтитулуется ханом~царем. Это звание уверенно приписы-вается ему в татарской исторической традиции. В ано-нимной хронике «Дафтар-и Чингиз-наме» (конец XVII в.)перечисляются «Кючюм Хан, его сын Али Хан, его сынАрслан Хан (это уже касимовский царь. – В.Т.)…» [49, 32].Шихабуддин Марджани об этом касимовце Арслане пи-сал: «Его отец Али, его предки Кучум, Муртазаали, Абак,Махмуд, Хаджимухаммед были сибирскими ханами» [21,186]. При этом другие Кучумовы потомки в данной тради-ции не фигурируют, т.е. не считаются ностелями ханскоготитула.
Русские источники не столь единодушны в обозна-чении ранга старшего Кучумовича. В грамотах сибирскихвоевод 1603–1607 гг. он обозначается как царевич [см.,например: 10, с. 146 («…где ныне кочует Кучумов сын Алеицаревич с братьею»; 37, кн. 11, л. 94 («Кучюмовы детиАлеи царевич с братьею ссылаютца… с колмаками»; 38,стб. 77 («пришол к царевичу к Алею Уруз мурза нагайс-кой»]. Но это могло быть следствием щепетильности ад-ресантов, которые не осмеливались называть царемнищего, бесприютного «казака» в своих донесениях на
97
государево имя. (Через полтора столетия этот высоко-мерно-имперский подход откровенно сформулировалГ.Ф.Миллер: «Было слишком большой честью для татар-ских народов называть их ханов царями, а их сыновейцаревичами; однако же это было в обычае» [24, 23]). В тоже время русские тюменцы-участники сражений с Али всвоих челобитных на высочайшее имя уверенно пишут опоходах «на Алея царя», происходивших после разгромаКучума на Оби [37, стб. 351, 401]. Да и в описи архиваПосольского приказа упминается «челобитная с поме-тою сибирсково царя Алея Кучюмова внука Занейбекацаревича», т.е. Джанибека, внука Али, без указания года[26, 390]. Впрочем, это могло быть простым повторени-ем текста обращения Джанибека~Занейбека, а не дей-ствительным показателем обладания Али «царским»званием.
О признании «кучумлянами» его своим ханом пря-мо говорится в грамоте уфимского воеводы М.А.Нагоготюменскому воеводе Л.А.Щербатову, написанной не ра-нее 9 марта 1601 г. и передающей вести из степи: «А братде их большой Алей царевич, Кучумов сын, а они де назы-вают его царем» [23, 196]. Очевидно, это была перваяинформация о новом статусе Али. Г.Ф.Миллер связывалэту перемену в его положении с кончиной отца, случив-шейся предположительно в том же 1601 г. [23, 33]. Пред-ставляется, что это наиболее вероятная датировка каксмерти Кучума, так и «воцарения» его сына (хотя в лите-ратуре встречаются и другие мнения насчет времени пос-леднего события).
Неясность положения Али усугублялась раздорамимежду Кучумовичами по вопросу о наследовании трона.Отголоски этих споров донесли документы первых годовXVII в. В 1603 г. тюменский воевода А.Д.Приимков-Ростов-ский извещал туринского голову о том, что «двор де Але-ев, лутчие люди, Алея царем не хотят звать, потому чтомати его роду невеликого, а хотят де назвать царем Ка-ная» [23, 209]. Канай б. Кучум действительно был сыномнекоей знатной бегим, проживавшей в то время в Саура-не [23, 34]. Происхождение же матери Али, «царицы Чеп-шан», неизвестно. Однако составленная в 1599 г. функ-ционерами Посольского приказа роспись жалованьяКучумовой родне, плененной в битве на Оби, нагляднодемонстрирует ее непервостепенный статус. Переченьханских жен в этой росписи начинается с «большей» ха-тун Султаным и заканчивается именно Чепшан – восьмойпо счету [4, 17]. В.В.Вельяминов-Зернов посчитал, что вроспись вкралась ошибка: не могла мать старшего ханско-го сына быть восьмой по рангу [9, 55]. Но если гарем ранжи-ровался по знатности его насельниц, то неродовитая матьАли вполне могла оказаться на последнем месте.
Косвенным указанием на время перехода ханскогоранга к преемнику Кучума могут служить соответствую-щие изменения в царском титуле московского государя(о Сибири и ее отдельных регионах в составе царскоготитула в XVI в. см.: [43; 44]). Как известно, указание направление сибирскими землями появилось в нем задол-го до побед над Кучумом. «Всея Сибирские земли пове-литель», «обладатель… великия реки Оби» фигурируютв перечислении подвластных территорий с середины1550-х годов – очевидно, в результате переговоров с по-сольством сибирского бека Ядгара о ясачном обложе-нии его юрта в пользу Москвы. Эти компоненты присут-ствуют и в титуле царя Федора Ивановича, при которомКучуму было нанесено окончательное поражение.
Сменивший Федора на российском престоле БорисГодунов извещал сибирских управленцев о своей коро-нации в 1598 г. как о принятии власти «на великом госу-дарьстве Владимирском и Московском и Наугороцком ина царьстве Казанском и на Астороханском и на всех го-
сударьствах Российскаго царьства» [37, кн. 11, л. 50 об.].Как видим, Сибирского царства здесь еще нет, хотя оно,возможно «скрыто» в финальной формуле «всех госу-дарьствах». Затем статус Сибири стал наглядно менять-ся: она стала «царством» и переместилась из конца титу-ла в почетную начальную часть. Впервые это отмечено встатейном списке посольства А.И.Власьева 1599–1600 гг.в Священную Римскую империю. Кстати, то же посоль-ство разместило во владениях императора Рудольфа IIзаказ на новый царский венец – шапку Сибирскую, кото-рая была доставлена в Москву в 1604 г. [19, 15, 185, 187].Впрочем, титульная новация приживалась постепенно.В марте 1601 г. Годунов писал польскому королю Сигиз-мунду III с прежней интитуляцией «всее Сибирские землии Северные страны повелитель»; из царств там поимено-ваны снова только Казанское и Астраханское [28, 72–73].Но в мае 1604 г. в Грузию и в сентябре того же года в РечьПосполиту повезли послания от Бориса Федоровича вновькак от «цара Казаньского, цара Азстараханьского, цараСибирского» [28,174; 35, оп. 1, 1604 г., д.1, л. 120]. Анало-гичную структуру большого царского титула применял исменивший Годунова Лжедмитрий I [19, 14].
Примечательно, что татарский хронист Кадыр Али-бек в своем сочинении 1602 г. называет «падишаха Бо-риса Федоровича-хана» обладателем престола Казани,престола Хаджи-Тархана (Астрахани) и престола Туры(тахт-и Тура), т.е. Сибирского юрта [40, 3]. То есть царьпредстает как правитель трех татарских «царств» – имен-но в той их последовательности, которая утвердилась втитуле.
Полагаю, что причиной радикального изменения втитулатуре послужило известие о смерти «царя» Кучума(приблизительно в 1601 г.), отчего его ханство лишилосьлегитимного татарского монарха. Сходное суждение выс-казал еще Н.М.Карамзин: «Истребление Кучюма… как бызапечатлело для нас господство над полунощною Азиею»[15, 26]. Выше говорилось, что в исторической памяти та-тар последним сибирским ханом остался Али б. Кучум.Однако в синхронной узбекской (хивинской) традиции – вунисон русской трактовке – ханская власть в Сибирскомюрте закончилась все-таки на Кучуме. Это следует из ут-верждения Абу-л-Гази о том, что с этим ханом пресек-лась сибирская ветвь династии Шибана, сына Джучи [47,177]. Хивинский хронист наверняка знал о борьбе Кучу-мовичей, но уже не видел в них полноценных, законныхдинастов. Видимо, такой же трактовки придерживалисьи русские современники событий начала XVII в.
В крестоцеловальной записи восходившего на мос-ковский трон Василия Шуйского и в его перемирной гра-моте c Cигизмундом III снова, как и до Годунова, значи-лось «всея Сибирские земли и Северные страны пове-литель» [28, 719]. Очевидно, обстоятельства Смуты вМосковском государстве не способствовали стабильнос-ти в доскональном определении нюансов царского зва-ния. Это опять выразилось в вариативности обозначе-ния сибирских владений.
С окончанием Смутного времени Сибирское цар-ство прочно вошло в титул. Михаил Федорович в 1613 г.извещал, в частности, персидского шаха Аббаса I о своемвоцарении «на великих государствах на Владимерском ина Московском, и Новгородцком и на царствах Казанс-ком и Астараханском, и на Сибирском, и на всех преслав-ных государствах Российского царствия» [29, 257]. Триа-да татарских царств обрела наконец устойчивую форму,просуществовавшую до петровской эпохи: «Владимерс-кий, Московский, Ноугородцкий, царь Казанский, царьАстороханский, царь Сибирский, государь Псковский…»и т.д. [29, 361]. Причем в некоторых случаях Сибири в со-ставе России приписывался несколько повышенный ста-
98
тус. Когда в 1628 г. в Тобольске сгорела съезжая избавместе со всеми бумагами и печатью, тобольский воево-да, посоветовавшись с местным архиепископом, просилу царя Михаила распорядиться насчет срочного изготов-ления новой печати – копии старой, т.к. только она вызы-вает доверие у ясачных. «А на печати, государь, былонаписано: печать царства и великого государства Си-бирсково города Тоболска, а в середках вырезано двасоболя, а меж ими стрела» [37, стб. 16, л. 353]. То естьСибирь официально считалась еще и «великим государ-ством», чего, кажется, не замечается в то время за Каза-нью и Астраханью.
Таким образом, несмотря на притязания старшегоКучумовича на ханское звание московское правительствоне желало видеть в нем законного правителя Сибирско-го юрта и соответственно признавать за ним монархи-ческий статус, которым некогда обладал Кучум. В своевремя Иван IV превратился в «царя Казанского» при жиз-ни последнего хана Казани Ядгар-Мухаммеда. Но тот про-играл Москве войну, попал в плен, находился в государе-вой свите, был обращен в христианство и, хотя продол-жал титуловаться царем, своим смирением как бы оп-равдывал переход своего ханства под власть победите-ля. Последний астраханский хан Дервиш-Али при при-ближении русского войска, бросив свой город, «побежалв Азов, а оттоле к Меки (Мекке. – В.Т.)» [17, 106], что, потрадиции, принятой в мусульманском мире, означалоотказ от власти. В случае же с непокорным Кучумом рос-сийским правителям пришлось дожидаться его смерти,дабы официально заявить о своем праве на его юрт.
Впрочем, возможно и иное видение данной ситуа-ции. По мнению А.В.Белякова, в России «за Али призна-ли титул сибирского царя, по-видимому, с целью не допу-стить провозглашения в Сибири нового хана из числадругих потомков Кучума» [7, 16]. Но все же, думается,объявление московского государя царем Сибирским ненуждалось в искусственном дублировании этого званиятатарским династом. Другое дело, что русское правитель-ство сохранило за Али номинальный ханский ранг, ужеприобретенный им в Сибири до плена. Однако в такомслучае существование сибирского хана являлось в глазахтатар неоспоримым и не нуждалось в московском при-знании.
«Подданными» Али являлись в 1601 г. около 300чел. татар. Тогда же вместе с ним с ним кочевало некото-рое количество башкир из зауральских племен сынрян-цев и бикатинцев («мякотинцев») [38, стб. 282]1. Затемчисло этих татар увеличилось на сотню, к ним присоеди-нились 400 башкир-табынцев, 300 ногаев, и в 1603 г. подего началом находилось уже до 1100 чел. [23, 29, 34, 35,196, 211, 212]. Возможно, первоначальные 300 человекбыли, как считает В.Д.Пузанов, «элитными группами та-тар, жившими в районе Искера, а затем ушедшими с Кучу-мом в степь» [33, 221], хотя мне не встречались в источ-никах указания ни на элитный статус этих сподвижниковцаревича, ни на их искерское происхождение.
В 1603 г. улус Али получил пополнение и подкрепле-ние в лице трехсот (по другим сведениям, пятисот илисемисот) ногаев во главе с алтыульским мирзой Урусом.Выходцы из распадавшейся Ногайской Орды размести-лись по берегам рек Абуга, а затем Уй, неподалеку откочевий старшего Кучумовича. Тот вместе с Урусом тут жепринялся строить планы совместных нападений на си-
бирские ясачные волости [23, 28, 29, 179; 38, стб. 77, 78].Правда, эти намерения не осуществились из-за слухов овозможном возвращении из Москвы в Сибирь части Кучу-мова семейства во главе с царевичем Хансюером б. Али2,попавшим в плен в 1598 г.
Беспокойное соседство Кучумовичей постояннодержало в напряжении русское население степного по-граничья. Прихода Али на ясачные волости или под Таруждали ежегодно. Неизвестно было, куда он ударит в сле-дующий раз. Как справедливо отмечает Е.В.Вершинин,«рефреном жизни западно-сибирского фронтира слы-шатся слова тюменских воевод, которые на вопрос сво-его туринского коллеги, ожидать ли набега Алея, ответи-ли так: “И то, господине, кому мочно ведать, чаять лиАлеева приходу или не чаять. Как, господине, без опасужить, всегда надобе береженье”» [11, 61; цит. по: 23,234]. Поскольку переговоры о переходе царевича в под-данство не дали результата, тюменский воевода М.М.Го-дунов решил устранить проблему военной силой.
В марте и июне 1607 г. посланные им казаки раз-громили станы Кучумовичей на реке Ишим. Во времяпервого похода в плен попала мать Али, во время вто-рого – его сестра и жена с двумя сыновьями, а такжедве жены царевича Хаджима б. Кучума с дочерьми. Ихдоставили в Тюмень и оттуда вывезли в Москву (длин-ным кружным путем, через Вологду и Новгород, т.к. до-роги южные были заняты поляками) [23, 37]. В средесибирских служилых людей эти походы по праву счита-лись крупной военной удачей, и их участники, а спустядесятилетия и дети участников в челобитных указывалина кампанию 1607 г. как на доказательство своей по-томственной верной службы государю (см., например[37, кн. 214, л. 220 об., 345]). В 1617 г. тюменский служи-лый татарин Маитмас Ачекматов бил царю челом, при-писывая лично себе пленение матери и жены Али [38,стб. 351, 352]. В общем-то, все они имели основаниегордиться этими походами, поскольку после них Али ис-чезает из активной политики.
После сокрушительного разгрома Али отправился«в Нагаи» [37, кн. 11, л. 116; 39, 25]; его братья выбралидругие маршруты откочевки. Мангытская знать в то вре-мя раскололась на враждующие непримиримые группи-ровки. Авторитет главы Орды, бия Иштерека, признавалидалеко не все ногайские предводители. Али довелось насебе испытать накал этого напряжения. Он решил ехатьк Иштереку, а брат и противник последнего, Яштерек, какраз для того, чтобы не допустить сибирца до бия, ограбилего. В итоге Али приютился у Урмаметевых – сыновей бияУраз-Мухаммеда, а именно у своего тезки, который не-когда был соратником и, возможно, беклербеком Кучу-ма. Теперь Али б. Ураз-Мухаммед, вернувшийся из Сиби-ри на родину, смирно жил в своем кочевье [3, 175]3. Урма-метевы в то время принадлежали к лагерю противниковИштерека; с ними были «единомышленны» многочислен-ные и воинственные мирзы Байтерековы – шурья (род-ственники одной из жен) Али б. Кучума.
В апреле 1608 г. астраханские воеводы доносили вПосольский приказ, что «Алеи Кучюмов сын Сибирской…пропал без вести в ту пору, как астороханские люди их(ногаев Иштетерка. – В.Т.) погромили, а четырех де сыновАлеи отпустил в Юргечь… (т.е. в Хивинское ханство. – В.Т.)»2 На основании размеров поместного и денежного окладов,
выделенных Хансюеру по сравнению с его братьями Джан-сюером и Ханчуваром, А.В.Беляков считает его стар-шим сыном Али [8, 264].
3 В ноябре 1608 г. Али Урмаметев кочевал в степях междуВолгой и Яиком. Русский посланник на пути из Астраханив стан Иштерека «съехал» его там в некоей местнос-ти Явсугум [3, 170].
1 Сынрян и бикатин - племена из родоплеменной группы ка-тай; впоследствии они утратили племенную самосто-ятельность - как предполагал Р.Г.Кузеев, из-за ухода зна-чительной их части с Кучумовичами в Западную Сибирьи затем далее на восток [18, 238-244].
99
[3, 162; 36, оп. 1, 1608 г., д. 1, л. 14]. Под погромом ногаевподразумевалось, очевидно, успешное нападение юртов-ских татар на улусы Иштерека, когда тот в феврале 1608 г.подкочевал к Астрахани для признания Лжедмитрия IIзаконным царем (см. [25, 60]).
Приблизительно в это время Али угодил-таки в рукирусских властей. В фонде Сибирского приказа сохрани-лись челобитные 1667/68 г., написанные тобольскимирейтарами – сыновьями участников пленения царевича[37, кн. 367, л. 220 об., 345]. Из этих документов выясняет-ся, что тоболяки отправились в поход под началом татар-ского головы Черкаса Александрова. Разыскав в степиКучумова сына, захватили его самого и трех его жен, а«ево улус побили». Челобитчики сообщают о ранении ихотцов «на том бою», из чего следует, что татары оказалисопротивление нападавшим.
Никаким репрессиям Али не подвергался. Все жеон являлся высокородным аристократом-Чингисидом, ипризнание этого выразилось в испомещении его в Рос-товском уезде. Вместе с братом Алтынаем он жил в Ярос-лавле. В одних документах он значится как сибирскийцаревич, в других – как сибирский царь [12, стб. 563, 569(здесь Али – «сибирской царь»); 27, 470 (здесь – «царе-вич»)]. В 1641/42 г. Али переехал в Касимов, где и умер воктябре 1649 г. [6, 24]. Касимовским царем в 1614–1626 гг.был его сын Арслан, после которого началось более чемполувековое, хотя и с течением времени все более номи-нальное, правление внука – Саид-Бурхана б. Арслана(Василия Араслановича).
Б.Ишболдин по неизвестным мне основаниям утвер-ждал, будто после 1601 г. Алтынай был признан в Россиицарем сибирским [48, 106]. Мне не встречались источни-ки, в которых Алтынай упоминался бы с царским титулом.В 1638 г. к аудиенции «у государя в золотой полате» былдопущен «сибирской царь Алей Кучумов да брат его Ал-танай царевичь с детми», в 1653 г. – «сибирской царе-вичь Алтанай Кучюмовичь с детми» [12, стб. 569; 13, стб.361]. Столь же неосновательно утверждение автора ком-пилятивного «справочника» о татарско-русских отноше-ниях В.В.Похлебкина относительно смерти Али «в рус-ском остроге» в 1618 г., после чего-де «история Сибирс-кого татарского государства и формально, и фактическипрекратилась» [31, 160].
Важным следствием победы над Али б. Кучумом иего пленения представляется смирение восточных баш-кир, прежде всего табынцев, перед превосходящей си-лой Москвы. Очевидно, после поражения царевича жи-тели Сибирской даруги разочаровались в перспективахсопротивления русскому наступлению. Из разновремен-ных материалов предстает неоднозначный характер ихвхождения в состав Московского государства. Одна частьзауральских башкир подчинилась добровольно и полу-чила от властей подтверждение прав на владение вот-чинными землями – подобно западным племенам. Дру-гая часть была усмирена и отторгнута от Кучумовичей си-лой оружия, что выразилось в гораздо больших, по срав-нению с другими башкирскими объединениями, разме-рах ясачного обложения, исчислявшегося здесь поголов-но, в отличие от Уфимского уезда. К тому же в ясачныйсбор у зауральских башкир официально были включенывоеводские поминки. Среди всех племен только табын-цам вменялось в обязанность выдавать воеводам за-ложников-аманатов [2, 77; 5, 32, 33]. Главное же отличиеот западных башкир заключалось в том, что некоторыезауральские роды и племена не получили от правитель-ства вотчинных прав на свои земли. Поэтому здесь пра-вительство смогло беспрепятственно развернуть строи-тельство крепостей и острогов, не оглядываясь на дав-ние соглашения местных элит с правительством об ис-
ключительном владении и пользовании угодьями корен-ным населением.
Однако вынужденная и, как оказалось впоследствии,временная покорность зауральских башкир не означа-ла, что после пленения Али «в стане Кучумовичей баш-кир не осталось» [14, 146]. Позднейшие события показа-ли, что у сибирских царевичей все же имелись башкирс-кие соратники, хотя и не в массовом, «общеплеменном»масштабе. К сохранившим им верность табынцам присо-единились (возможно, иногда по принуждению) предста-вители других родовых групп башкир: кипчаки, кудейцы,айлинцы и др., а также влившиеся в их этническую средуотдельные группы сибирских татар (аяла-табын) и дажеказахов (кыргыз-табын) [18, 248]. Все они вошли в составразноплеменной рати наследников Кучума.
Г.Ф.Миллер в своем труде по истории Сибири напи-сал, что в одном архивном документе 1616 г. сын КучумаИшим назван царем – по причине того, что Али, видимо,умер, и черед ханствовать наступил для Ишима [23, 42].Позднейшие историки подхватили тезис о воцаренииИшима в 1616 г. (см., например [16, 61; 46, 60]). Доку-мент, подразумеваемый Миллером, – это скорее всегограмота царя Михаила Федоровича тюменским воеводамФ.С.Коркодинову и И.Б.Секерину от 15 октября 1616 г.: повестям из Тюмени, «Ишим царь сего лета хочет идти вой-ною под сибирские городы и под Уфинской город и науфинские волости» [23, 274]. Это единичный случай по-добного титулования Ишима4. Во всех других источникахон предстает как царевич. К тому же нам известно, чтоего старший брат Али умер в 1649 г., оставаясь до концадней «царем Сибирским».
Полагаю все же, что династические права Ишима(равно как и его братьев, сыновей и племянников) былинеоспоримы уже просто исходя из факта принадлежнос-ти к династии «природных» ханов-Чингисидов. Поэтомуедва ли можно согласиться с теми авторами, которыеотказывают Кучумовичам, оставшимся в Сибири в «осо-бых (? – В.Т.) правах на сибирский престол» только из-затого, что обладатели этих прав были вывезены в Россию[34, 14]. Во всяком случае, Ишим имел не меньше осно-ваний претендовать на ханский ранг, чем его малолет-ние братья, попавшие в плен вместе с гаремом Кучума в1598 г.
Список литературы1. Абдиров М. Хан Кучум: известный и неизвестный. -Алматы, 1996.2. Азнабаев Б.А. Интеграция Башкирии в административнуюструктуру Российского государства (вторая половина XVI –первая треть XVIII вв.). - Уфа, 2005.3. Акты времени правления царя Василия Шуйского (1606 г.19 мая – 17 июня 1610 г.). - М., 1914.4. Акты исторические, собранные и изданные Археографи-ческою комиссиею. - Т. 2. 1598–1613. - СПб., 1841.5. Асфандияров А.З. Присоединение Восточной (Сибирской)Башкирии к Русскому государству // Россия и Башкортос-тан: история отношений, состояние, перспективы:Материалы междунар. науч.-практ. конф. - Уфа, 2007. - С.32–33.6. Беляков А.В. Араслан Алеевич – последний царь касимовс-кий // Рязанская старина. 2004–2005. - Вып. 2–3.- Рязань,2006. - С. 8–30.7. Беляков А.В. Али б. Кучум // Ислам в центрально-европейс-кой части России: Энциклопедический словарь. - М.; НижнийНовгород, 2009. - С. 16–17.
4 Предполагаю, что в тексте источника описка: «царь» вме-сто «царевич». Но возможно, что в данном случае каким-то образом смешались сведения об Ишиме б. Кучуме иего тезке - одном из тогдашних казахских ханов (несом-ненных «царей»).
1008. Беляков А.В. Сибирские Чингизиды в России XV–XVI вв.) //Там же. - С. 264–265.9. Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовскихцарях и царевичах. - Ч. 3. - СПб., 1866.10. Верхотурские грамоты конца XVI – начала XVII в.:Сборник документов. - М., 1982.11. Вершинин Е.В. Неверность «бродячих царевичей».Зауральское степное пограничье в XVII веке // Родина. -1998.- № 1. - С. 60–63.12. Дворцовые разряды. Т. 2. С 1628 по 1645 г. - СПб., 1851.13. Дворцовые разряды. Т. 3. С 1645 по 1676 г. - СПб., 1852.14. История Башкортостана с древнейших времен до 60-хгодов XIX в. - Уфа, 1996.15. Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. IX. -СПб., 1821.16. Катанаев Г.Е. Киргизские степи, Средняя Азия и Север-ный Китай в XVII и XVIII столетиях. - Омск, 1893.17. Книга, глаголемая Летописец Федора Никитича Норман-тского // Временник Московского общества истории идревностей российских. - М., 1850. - Кн. 5. - С. 19–148.18. Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. Этничес-кий состав, история расселения. - М., 1974.19. Лаврентьев А.В. Царевич – царь – цесарь. Лжедмитрий I,его государственные печати, наградные знаки и медали.1604–1606 гг. - СПб., 2001.20. Летописи сибирские. - Новосибирск, 1991.21. Мəрҗани Шиhабетдин. Мөстəфадел-əхбар фи əхвали Казан вə
Болгар (Казан həм Болгар хэллəре турында файдаланылган хəбəрлəр). Кыскартып төзелде. Казан, 1989.
22. Миллер Г.Ф. История Сибири. - Т. I. - М., 1999.23. Миллер Г.Ф. История Сибири.- Т. II. - М., 2000.24. Миллер Г.Ф. История Сибири. - Т. III. - М., 2005.25. Новосельский А.А. Борьба Московского государства статарами в первой половине XVII века. - М.; Л., 1948.26. Опись архива Посольского приказа 1626 года. - Ч.1. - М.,1977.27. Опись архива Посольского приказа 1673 года. - Ч.2. - М.,1990.28. Памятники дипломатических сношений древней Россиис державами иностранными. Т.1. Документы по сношениямМосковского государства с Польско-Литовским за 1598–1613 гг., хранящиеся в Посольском приказе. - М., 1912.29. Памятники дипломатических и торговых сношенийМосковской Руси с Персией. - Т.2. - СПб., 1892.30. Полное собрание русских летописей. - Т.36. Сибирскиелетописи. Ч.1. Группа Есиповской летописи. - М., 1987.31. Похлебкин В.В. Татары и Русь. 360 лет отношений Русис татарскими государствами в XIII–XVI вв., 1238 – 1598 гг.(От битвы на р. Сить до покорения Сибири): Справочник. -М., 2001.32. Преображенский А.А. Некоторые итоги и спорныевопросы изучения начала присоединения Сибири к России //История СССР. - 1984. - № 1. - С. 101–118.33. Пузанов В.Д. Сибирское царство в геополитическихпредставлениях тюркского мира // Тюркские народы:Материалы V Сибирского симпозиума «Культурное наследиенародов Западной Сибири». - Тобольск; Омск, 2002. - С. 218–221.34. Раев Д.В., Резун Д.Я. О посылке иноземцев в Сибирь в1635 г. // Сибирский плавильный котел: социально-демогра-фические процессы в Северной Азии XVI – начала ХХ века. -Новосибирск, 2004. - С. 13–21.35. РГАДА. Ф. 110. Сношения России с Грузией.36. РГАДА. Ф. 127. Сношения с ногайскими татарами.37. РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ.38. Российская историческая библиотека, издаваемая имп.Археографической комиссией. Т. II. - СПб., 1875.39. Русско-монгольские отношения. 1607–1636: Сборникдокументов. - М., 1959.40. Сборник летописей. Казань, 1854. / Библиотека восточ-ных историков, изд. И.Н.Березиным. - Т. 2. - Ч.1.41. Сибирские летописи. - СПб., 1907.42. Солодкин Я.Г. Погодинский летописец о переходесибирских царевичей на русскую службу // Иноземцы вРоссии в XV–XVII веках: Сборник материалов конференций2002–2004 гг. - М., 2006. - С. 515–519.43. Филюшкин А.И. Титулы русских государей. - М., 2006.44. Хорошкевич А.Л. Отражение представлений о регионах
Государства всея Руси и Российского царства в великокня-жеской и царской титулатуре XVI в. // Die GeschichteRusslands im 16. und 17.Jahrhundert aus der Perspektive seinerRegionen (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. B. 63).Wiesbaden, 2002. - S. 102–127.45. Шашков А.Т. Сибирский поход Ермака: хронология собы-тий 1581–1582 гг. // Известия Уральского гос. университета.- 1997. - № 1. Гуманитарные науки.- Вып. 1. - С. 35–50.46. Щеглов И.В. Хронологический перечень важнейшихданных из истории Сибири: 1032–1882 гг. - Сургут, 1993.47. Aboul-Ghazi Behadour Khan. Histoire des mogols et destatares. T.1. Texte. St.-Petersbourg, 1871.48. Ischboldin B. Essays on Tatar History. New Delhi, 1973.49. Ivanics M., Usmanov M.A. Das Buch der Dschingis-Legende(Daftar-i Èingiz-nâmä). [B.] I. Szeged, 2002.
Р. Ю. Почекаевг. Санкт-Петербург
СИБИРСКИЕ ШИБАНИДЫ XVII В.:ПРЕТЕНЗИИ, СТАТУС, ПРИЗНАНИЕ
В историографии конец Сибирского ханства (юрта)принято связывать с гибелью хана Кучума в 1598 г. Впро-чем, не будет открытием и тот факт, что его потомки (онифигурируют в русских источниках как «Кучумовичи», «Ку-чумовы дети» и «Кучумовы внуки» или же «бродячие ца-ревичи») еще более полувека боролись за восстановле-ние своей власти в Сибири. Политические и военные ас-пекты истории Сибири в этот период вообще и деятель-ность потомков Кучума, в частности, неоднократно явля-лись предметом исследований специалистов, начиная систориков Сибири XVIII-XIX вв. (Г.Ф. Миллер, В.К. Андрие-вич и др.) и заканчивая современными исследователя-ми (А.Г. Нестеров, Е.В. Вершинин, Г. Файзрахманов и др.).
В рамках настоящего исследования мы сосредота-чиваемся на политико-правовых аспектах деятельностипотомков Кучума. Соответственно, нашей целью являет-ся выяснение статуса Кучумовичей, на который они пре-тендовали, и отношений к их претензиях соседних наро-дов и государств.
Дошедшие до нас в источники не дают достаточночеткой (особенно – в хронологическом отношении) ин-формации о претендентах на трон Сибирского ханства,однако имеющейся в нашем распоряжении информациихватает для того, чтобы обозначить круг претендентов сприблизительными датировками их номинального цар-ствования. Представим их в виде следующей таблицы (ис-точниками таблицы послужили: [21, 23, 35]):
Итак, как видим, в течение семи десятилетий в Си-бири на ханский трон претендовали не менее пяти-шес-ти представителей рода Кучума - сибирской ветви Шиба-нидов. Каков же был их статус, какова степень признанияих претензий со стороны соседних народов и государств?
Для ответа на этот вопрос следует, прежде всего,определить те государства и народы, которые имели кон-такты с Кучумовичами и, следовательно, заинтересован-ность в признании или непризнании их статуса как мо-нархов Сибирского ханства. К таковым следует отнести
101
Московское царство, Башкирию, Бухарское ханство, Крым-ское ханство и государство Джунгария в Западной Монго-лии. А теперь попытаемся дать характеристику отноше-ния каждого из этих субъектов международных отноше-ний к претензиям Кучумовичей на ханскую власть.
Сведения об отношении к потомкам Кучума и их пре-тензиям со стороны Московского царства имеются в дип-ломатических документах московских властей - в частно-сти, в переписке с монгольскими правителями и указахсибирским наместникам (воеводам).
Из них вытекает, что Москва юридически не призна-вала потомков Кучума в ханском достоинстве: обычноони именуются в официальной московской перепискецаревичами, т. е. султанами, а не ханами [см.: 18, 20-22,26-27]. Только несколько раз в документации московс-кой царской канцелярии Кучумовичи упоминаются какцари - но только в контексте упоминаний о восточноймеждународной переписке, в качестве цитат из восточ-ных дипломатических актов или высказываний восточ-ных правителей, с которыми общались московские дип-ломаты [см., напр.: 26, 43]. Позиция московских влас-тей представляется вполне объяснимой: ведь Сибирс-кое «царство» стало составной частью царства Москов-ского, и независимые претенденты на его трон совер-шенно не было нужны москвичам. Напротив, на протя-жении всего времени противостояния с Кучумовичамимосковские власти старались склонить их к принятиюроссийского подданства. Не случайно именно потомкамКучума в начале XVII в. был передан трон Касимовскогоханства - в лице Алп-Арслана б. Али (Алея) и его семей-ства. А родственники Алп-Арслана сохраняли в течениестолетия (до 1718 г.) высокий статус «царевичей» (сул-танов) Сибирских, т.е. признавалось их монаршее про-исхождение [23, 212-213]. На наш взгляд, подобная по-литика Москвы по отношению к потомкам Кучума, обо-сновавшимся в России, свидетельствует о том, что Моск-ва вполне осознавала легитимность притязаний сибир-ских Шибанидов на ханский трон в Сибири и стараласьсоздать наиболее привлекательные условия для пере-хода их на российскую службу и отказа от своих эфемер-ных претензий на ханский трон. Кроме того, важнымпредставляется еще и тот факт, что в 1607 или 1608 г. кмосковским войскам попал в плен легитимный хан Си-бири Алей б. Кучум, который, и находясь в плену, про-должал формально титуловаться «царем», то есть си-бирским ханом [35, 83]: признание таковым пленникапозволяло московским властям не считаться с претен-зиями на власть его братьев и племянников. Более того,претенденты на сибирский трон в официальных мос-ковских актах именовались не иначе как «государевыизменники» [см., напр.: 26, 108, 111].
Однако Кучумовичи, делая ставку на свое происхож-дение от Чингис-хана, на сотрудничество со странами инародами, враждебными Москве, последовательно от-клоняли все предложения московских властей. Отдель-ные проявления заинтересованности сибирских Шибани-дов в принятии московского подданства - например, Иши-ма в 1616 г. или Девлет-Гирея в 1649 г. [см.: 18, 446; 26, 39,81] - являлись чаще всего уловками с их стороны, чтобыусыпить бдительность московских наместников в Сибириперед очередным натиском на русские владения.
Пожалуй, наиболее длительное время Кучумовичипризнавались в ханском достоинстве в Башкирии. Как и вслучае с Москвой, позиция влиятельных башкирских дея-телей XVII в. является вполне понятной: для организациимассового сопротивления московской колонизации раз-розненным башкирским родам требовался единый пред-водитель. Подчиняться друг другу гордые башкирскиеродоплеменные вожди не согласились бы, поэтому став-
ка делалась на «компромиссные фигуры» в лице потом-ков Кучума как верховных правителей. То, что выбор баш-кирской оппозиции московским властям пал именно наКучумовичей, могло объясняться рядом политико-пра-вовых факторов, благодаря которым обосновывалась ле-гитимность сибирских Шибанидов как законных ханов вБашкирии. Тут могло учитываться и то, что их предки (прав-да, не прямые) владели троном Золотой Орды и в каче-стве таковых являлись правителями всего Поволжья, втом числе и Башкирии - Хызр, Тимур-Ходжа, Мюрид, Азиз-Шейх, Пулад, Ильбек, Каганбек, Арабшах. В конце XV -начале XVI в. на трон Золотой Орды и Казанского ханствапретендовали уже прямой предок Кучумовичей - Ибак(дед Кучума) и его братья - Мамук и Агалак. Наконец, в1540-е гг. наместником ногайских властей в Башкирииявлялся Ахмад-Гирей - старший брат Кучума [30, 208-210,243]. Являясь, таким образом, потомственными наслед-никами ханского трона, Кучумовичи обладали в глазахбашкирских родоплеменных вождей и еще одним цен-ным свойством: они не имели тесных связей с Башкири-ей, не могли опереться на какие-либо местные силы и,следовательно, в случае провозглашения их ханами все-цело зависели бы от тех, кто их поддерживал. Впрочем,следует отметить, что и в Башкирии далеко не все вос-ставшие готовы были признавать именно потомков Кучумав качестве своих предводителей. Так, например, в 1663 г. вовремя очередного антимосковского восстания башкирыСибирской дороги призвали Кучука, правнука Кучумса,тогда как башкиры Ногайской и Казанской дорог обрати-лись за поддержкой не к Кучумовичам, а к калмыкамШукур-Дайчина и Аюки [1, 102; 14, 89].
Тем не менее, башкиры (по крайней мере, их значи-тельная часть) с готовностью признавали претензии наханскую власть сыновей и внуков Кучума. Правда, был лиих статус монархов официально закреплен церемониейинтронизации именно в Башкирии, сведений не имеет-ся. Вполне возможно, что башкиры признавали Кучумо-вичей ханами по итогам их интронизации в самой Сиби-ри, где они могли формально провести курултаи, на кото-рых их официально возводили в ханское достоинство.
Таким образом, в глазах башкир сибирские Шиба-ниды в течение длительного времени оставались наибо-лее легитимными претендентами на ханский трон. Об-ращение башкирских вождей к другим восточным монар-хам - казахским, каракалпакским или ойратским ханамначалось только после того, как Кучумовичи окончатель-но сошли с политической сцены.
Правда, в 1960-е гг. французская исследовательни-ца Ш. Лемерсье-Келькеже считала «достоверно извест-ным», что башкирское восстание в 1705-1711 гг. возглав-ляли потомки Кучума - Кучук (Кучук-Султан-хан) и его сынСултан-Мурад [16, 263]. Однако современные исследо-ватели убедительно доказывают, что Султан-Мурад счи-тался сыном не сибирского царевича Кучука, а одноимен-ного каракалпакского хана (Туга-Тимурида по происхож-дению) [28, 79; 29, 166-167], причем с большой долейвероятности являлся самозванцем - башкирским фео-далом [см., напр.: 3, 181, 347].
Поскольку башкирские восстания закачивались по-ражениям, мы не можем судить о том, в какой формебашкиры представляли себе положение ханов-Кучумо-вичей в случае создания независимого государства. Од-нако есть основания полагать, что о сильной ханскойвласти речи не шло: башкирские феодалы, несомненно,намеревались сохранять сильную политическую властьи влияние при номинальных ханах, которые, как уже от-мечалось, не имели тесных связей и твердой опоры вБашкирии. Именно это, скорее всего, и послужило при-чиной того, что башкиры столь длительное время после-
102
довательно поддерживали «сибирских претендентов» наханский трон.
Практически не сохранилось сведений о связях Ку-чумовичей в XVII в. со Средней Азией – в частности, с Бу-харским ханством. Это выглядит довольно странным,поскольку при самом Кучуме отношения между бухарс-кими и сибирскими Шибанидами были довольно тесны-ми и развивались по ряду направлений. Во-первых, естьвеские основания полагать, что сибирские ханы являлисьвассалами своих бухарских родственников: об этом сви-детельствуют, в частности, ярлыки бухарского хана Абдал-лаха II хану Кучуму, то есть послания вышестоящего мо-нарха нижестоящему [19, 296]. Во-вторых, бухарские Ши-баниды оказывали своим сибирским родственникам зна-чительную поддержку в деле исламизации Сибири, от-правляя к ним священнослужителей, которые, надо по-лагать, являлись также и резидентами бухарских хановпри дворе их сибирских вассалов [см.: 5; 13, 165-167]. Ивдруг – полное прекращение отношений. Почему?
Думается, что причины прекращения контактов меж-ду Бухарой и Сибирью носили политико-правовой харак-тер и были связаны как раз с легитимностью притязанийпотомков Кучума на ханский титул. Как известно, в 1601 г.в Бухаре сменилась династия: на смену Шибанидам, пра-вившим целое столетие (1500-1601), пришла династияАштарханидов (Джанидов, 1601-1785). Новые ханы про-исходили от Туга-Тимура, 13-го сына Джучи, и хотя нахо-дились в родственной связи с бухарскими Шибанидами –потомками 5-го сына Джучи (первый аштарханидский ханбыл женат на сестре хана Абдаллаха II), имели весьмаспорные права на трон, который они заняли, свергнувпредыдущую династию [см.: 4]. Бухарские Шибаниды втечение почти всего первого десятилетия XVII в. пыталисьвернуть власть, пока не сошли окончательно с полити-ческой арены [2, 106-107; 31, 106-107]. Соответственно,после пресечения их рода формально наиболее леги-тимными претендентами на бухарский трон становилисьих ближайшие родственники – сибирские Шибаниды, т. е.Кучумовичи. Тем более, что, по некоторым сведениям,ряд сибирских Шибанидов обосновался в середине XVI в.в Бухаре, а Муртаза, отец Кучума, по некоторым предпо-ложениям даже мог сам занимать некоторое время хан-ский трон во время междоусобиц в Бухарском ханстве в1550-1560-х гг. [13, 117-118; 20, 192].
По-видимому, бухарские ханы из династии Аштарха-нидов предпочитали не поддерживать никаких контак-тов с сибирскими Шибанидами, чтобы не иметь проблемс борьбой за власть в Бухарском ханстве. По нашему мне-нию, это косвенно свидетельствует о том, что потомкиКучума могли рассматриваться в качестве легитимныхпретендентов и на трон Бухарского ханства. На это в оп-ределенной степени указывает и тот факт, что многиеподданные бухарских Шибанидов после их свержениястали покидать родные края и оседать в Сибири, во вла-дениях их родственников [см.: 32, 245].
Среди других причин отсутствия контактов междуКучумовичами и бухарскими Аштарханидами можно на-звать, в частности, и то, что Бухара не хотела портить от-ношения с Москвой, с которой активно торговала, и враж-дебные действия против Бухары ойратов, с которымипотомки Кучума находились в союзе [22, 11; ср.: 18, 128].Напротив, сибирские Шибаниды находились в конфрон-тации с новыми бухарскими монархами – это проявля-лось, в частности, в том, что сибирские «царевичи» пери-одически нападали на бухарские торговые караваны,шедшие в Москву [см., напр.: 22, 32].
Пожалуй, наиболее слабо освещены взаимоотноше-ния Шибанидов Сибири с Крымским ханством. В 1662 г.,во время очередного восстания сибирских татар, тоболь-
ский воевода И. Хилков сообщал в Москву, что «все де уних по сговору с Крымским царем, а в Сибирь отряжено уних татар воевать двадцать тысяч» [9, 289]. Безусловно,истинность этого сообщения вызывает сомнения (впол-не вероятно, что лазутчики Кучумовичей намеренно ста-рались ввести московские власти в заблуждение), но онодает основания полагать, что крымские ханы из родаГиреев в середине XVII в. поддерживали отношения с Ку-чумовичами [см.: 32, 261-262]. Однако насколько Гиреиготовы были признавать сибирских Шибанидов в ханс-ком достоинстве? Установить это практически невозмож-но, но, по-видимому, они намеревались лишь использо-вать их в качестве орудия для установления собственнойвласти или, по крайней мере, влияния в Поволжье. Этопредставляется вполне объяснимым: в XVII в. ханы Кры-ма (наряду с казахскими ханами) оставались последни-ми монархами из рода Джучидов на пост-ордынском про-странстве и не желали делиться правами на ордынскоенаследство с представителями других ветвей Джучидов.
Что касается взаимоотношений сибирских Шибани-дов с правителями западно-монгольского Джунгарскогоханства, то они носили весьма специфический харак-тер. Известно, что джунгарские правители поддержива-ли «сибирских претендентов» в их борьбе с московскимивластями в Сибири и в башкирских восстаниях. Но озна-чает ли это, что они признавали претензии Кучумовичейна ханский титул и сибирский трон? Из русских диплома-тических актов известно, что сибирские царевичи вступи-ли в союз и даже и имели родственные связи с ойратски-ми («калмыцкими») владетелями – например, Ишим былженат на дочери родоначальника калмыцких ханов Хо-Урлюка [21, 557; 26, 84; 35, 73]. А ойратские правители, всвою очередь, жаловали Кучумовичам владения… на тер-ритории Сибири [см.: 18, 321]! Более того, известно, что исами ойраты претендовали на владения бывшего Сибир-ского ханства. Например, в 1623 г. уфимский воевода Г.В.Измайлов сообщал в Посольский приказ, что ойратский«большой тайша» Байбагас «с товарыщи прикочевалисо всеми улусы по Тоболу реке меж Тюмени и Уфы за 2днища от Уфинской волости от Коратабыни, где качовы-вал наперед сего сибирской Кучюм-царь» [26, 95].
Таким образом, вполне очевидным представляетсятот факт, что сибирские Шибаниды по сути являлись вас-салами ойратских правителей – сначала Батура-хунтайд-жи, затем его сыновей Сэнге и Галдана. Отсутствие ис-точников не позволяет с точностью определить форматвзаимоотношений джунгарских и сибирских владетелей,официальный статус этого вассалитета. Вызывает такжеудивление, что Кучумовичи, потомки Чингис-хана, подчи-нялись менее знатным (с точки зрения «Золотого рода»)ойратским монархам из рода Чорос, которые, в отличиеот других ойратских племен – торгоутов, хошоутов и дэр-бэтов, предводители которых выводили происхождениеот Джучи-Хасара, брата Чингис-хана, – даже не имеликровной связи с родом Чингис-хана (если не считать того,что их предок Батула-чингсанг, живший в начале XV в.,был женат на дочери хана-Чингизида Элбэга) [8, 96]. Темне менее, русские источники вполне однозначно сооб-щают о том, что ойратские правители отвели земли Кучу-мовичам для кочевий, о выделении им войск и т.д., тоесть о зависимости сибирских Чингизидов.
Обратим внимание, впрочем, что положение Кучу-мовичей в этом случае практически не отличалось от по-ложения и других членов «Золотого рода» – ханов Вос-точной Монголии (Халхи), которые также занимали под-чиненное положение по отношению к монархам из домаЧорос. Именно в качестве вассальных (или, по меньшеймере, полузависимых) правителей халхасские Чингизи-ды приняли участие в сейме, на котором, подчиняясь
103
решению ойратского Батур-хунтайджи, приняли общемон-гольский свод законов «Их Цааз» («Великое уложение»)[7, 56; 17, 8-9; 25, 39; 33, 32]. А затем до конца XVII в. ханыаймаков Халхи являлись вассалами сыновей Батур-хун-тайджи – Сэнге и Галдана, причем последний даже при-знавался ими в ханском достоинстве, под титулом Бошуг-ту-хана.
Единственное существенное различие во взаимоот-ношениях ойратских властителей с Чингизидами Сибирии Халхи заключалось в религиозном факторе: монгольс-кие ханы являлись буддистами (как и ойраты) и в каче-стве таковых должны были признавать власть ойратскихмонархов, которые официально получали инвеституру отверховных буддийских иерархов – Далай-лам [см.: 10, 64;11, 495, 499; 24, 46-49; 36, 329]. Для сибирских же Шиба-нидов, исповедовавших ислам, буддийские основаниялегитимации власти, скорее всего, ничего не значили. По-видимому, верховенство джунгарских правителей призна-валось ими на том основании, что именно властители изрода Чорос обладали достаточным могуществом и моглиобеспечить Кучумовичей владениями и предоставитьвойска для борьбы за возвращение трона Сибирскогоханства. Следует отметить, что такое признание Чинги-зидами-мусульманами сюзеренитета ойратов-буддистовне было исключением. Также в начале 1670-х гг. джунгар-ские монархи добились признания своего верховенстваот ханов Кашгарии (Восточного Туркестана), которые про-исходили от Чагатая, второго сына Чингис-хана, и, подоб-но Шибанидам, являлись мусульманами [см.: 34, 243-249]. А позднее ойратский Галдан Бошугту-хан по приказуДалай-ламы (sic!) даже помогал Аппак-ходже, потомкупророка Мухаммада утвердить свою власть в Кашгарии[15, 61-66]. Что же могли предложить взамен Шибани-ды? Надо полагать, свою службу в интересах джунгарс-ких монархов.
Вспомним, что сибирские Шибаниды в ряде русскихисточников названы «бродячими царевичами» [см.: 6].Не дает ли это основания определить их статус как «ка-заков», то есть безудельных представителей царствен-ного рода, которые служили другим в обмен на владенияи жалование? Примеры подобной службы потомков Чин-гис-хана, в том числе и менее знатным (с их точки зре-ния) правителям были не столь уж редки в XV-XVII вв. До-статочно вспомнить, в частности, службу первых казахс-ких правителей Джанибека и Гирея могулистанскомуЭсен-Буге-хану, службу Шибанидов – Мухаммада Шайба-ни или его родственников султанов Хамзы и Махди по-томкам Тимура, казахских султанов Шигая и Таваккул-Му-хаммада (Тевеккеля) бухарскому Абдаллах-хану II, боль-шое число Чингизидов на русской службе. В значитель-ной степени охарактеризовать Кучумовичей как «каза-ков» позволяют сведения о том, что они участвовали ввоенных кампаниях своих сюзеренов – ойратских хунтай-джи: так, номинальный сибирский хан Ишим в 1624 г.вместе с ойратскими тайшами ходил в поход на «трух-менцов» (турмкен), а в 1678 г. несколько Кучумовичей поприказу Галдана Бошугту-хана отправились воевать сбашкирами [18, 321; 26, 106]. Взамен ойратские правите-ли предоставляли войска «сибирским претендентам»для ведения ими боевых действий в их собственных инте-ресах. Зависимость потомков Кучума от ойратов подтвер-ждает, в частности тот факт, что во время башкирскоговосстания 1662-1664 гг. сибирский царевич Кучук рассы-лал восставшим ярлыки, в которых именовал калмыцко-го тайши Дайчина «отец мой», что в соответствии с дип-ломатическим протоколом того времени свидетельство-вало о подчиненном положении правнука Кучума [см.:12, 324].
Как могли бы развиваться отношения Шибанидов с
правящим джунгарским родом Чорос, если бы потомкамКучума удалось восстановить Сибирское ханство и занятьего трон? Оставались бы они в таком случае вассаламиджунгарских монархов или же начали бы борьбу за неза-висимость. Как и в случае с башкирами, остается по это-му поводу только строить предположения, поскольку сконца 1670-х гг. следы Кучумовичей, остававшихся в Си-бири, теряются, и исторические источники о них ничегоне сообщают.
Подводя итоги вышесказанному, постараемся вкрат-це охарактеризовать статус сибирских Шибанидов XVII в.во взаимоотношениях с соседями.
1. Сами потомки Кучума считали себя законнымипретендентами на ханский трон и носили ханские титулы– возможно, даже были соблюдены формальные проце-дуры их возведения на трон (поднятия на войлоке) наспециально созываемых курултаях их приверженцев.
2. Московские власти не признавали Кучумовичей вханском достоинстве, поскольку Сибирское ханство с кон-ца XVI в. официально было включено в состав Московско-го царства и считалось его составной частью. Вместе стем, ханское происхождение Кучумовичей не могло игно-рироваться московскими властями и заставляло их счи-таться с «сибирскими претендентами» как с реальнойугрозой отпадения Сибири от Москвы и восстановленияСибирского ханства. Эти соображения побуждали мос-ковских государей искать сближения с потомками Кучу-ма, а тех из них, кто обосновался в России, награждатьвладениями и титулами, признавая их особое место вмосковской служебной иерархии: так, представители од-ной ветви Кучумовичей до 1679 г. управляли Касимовым,нося «царский», то есть ханский титул, другие являлись«царевичами» (русский аналог ордынского и пост-ордын-ского титула «султан) Касимовскими и Сибирскими.
Прекращение признания их в качестве «царевичей»имело место в 1718 г., когда один из потомков Кучума,царевич Василий Алексеевич Сибирский прилюдно сталсетовать, что Сибирь принадлежит не ему. Несмотря нато, что никакой реальной угрозы от него не исходило (онбыл сослан в Архангельск за участие в заговоре цареви-ча Алексея), царь Петр I все же предпринял меры безо-пасности: царевичи Сибирские были лишены своего ти-тула и с этого времени именовались князьями. Такимобразом, они утратили чингизидский статус «султанов» ибыли приравнены к «эмирам» или «бекам» [23, 212].
3. Башкиры были готовы признавать власть ханов изрода Кучума на протяжении большей части XVII в. по двумпричинам. Во-первых, их чингизидское происхождениеявлялось важнейшим фактором легитимации верховнойвласти и позволяло им стать верховными предводителя-ми антирусских восстаний в Поволжье под лозунгом вос-становления ханской власти. Во-вторых, отсутствие тес-ных связей сибирских Шибанидов с какой-либо из влия-тельных группировок башкирской знати делало их весь-ма привлекательными кандидатами на трон в виде «ма-рионеточных» государей.
4. Крымские ханы, поддерживая отношения с потом-ками Кучума, по-видимому, не намеревались признаватьих претензий на трон и использовали их только для уста-новления собственного влияния в Поволжье – бывшихвладениях Золотой Орды.
5. Бухарские ханы из рода Аштарханидов предпочи-тали не поддерживать связи с сибирскими Шибанидами,опасаясь, как бы те, лишившись сибирского трона, непредъявили претензии на трон бухарский – как ближай-шие родственники династии Шибанидов Бухары. Полага-ем, подобная политика Аштарханидов косвенно свиде-тельствует об обоснованности претензий Кучумовичей наханский титул и трон.
104
6. Наконец, ойратские (джунгарские) монархи издома Чорос, по-видимому, являлись фактическими сю-зеренами потомков Кучума, поскольку жаловали им вла-дения и предоставляли войска для боевых действий про-тив московских властей в Сибири и Поволжье.
7. Таким образом, по своему фактическому статусусибирские Шибаниды могут быть в большей степени оха-рактеризованы как «казаки» – безудельные представи-тели правящих семейств, находившиеся на службе у дру-гих династий. В силу своего происхождения они представ-ляли интерес для крупных политических сил в Урало-Си-бирском регионе. Тем не менее, никто из поддерживав-ших связи с Кучумовичами не был реально заинтересо-ван в восстановлении Сибирского ханства и реставрациидинастии Шибанидов. Скорее всего, именно это и обус-ловило в конечном счете неудачу потомков Кучума в борь-бе за власть и последовавший за ней уход их с политичес-кой сцены.
Список источников и литературы1. Акманов И.Г. Башкирские восстания XVII – начала XVIII в. -Уфа, 1993.2. Алексеев А.К. Политическая история Тукай-Тимуридов: Поматериалам персидского исторического сочиненияБахр ал-асрар. - СПб., 2006.3. Ахмадов Ш.Б. Чечня и Ингушетия в XVIII – начале XIX века(Очерки социально-экономического развития и обществен-но-политического устройства Чечни и Ингушетии в XVIII –начале XIX века). - Элиста, 2002.4. Ахмедов Б.А. О времени и обстоятельствах смены нарубеже XVI-XVII вв. династии Шейбанидов Аштарханидами //Восточное историческое источниковедение и специальныеисторические дисциплины. Вып. 2. - М., 1994. - С. 161-171.5. Бустанов А.К. Фамильная хроника сибирских сайидов:Шаджара Рисаласи (текст, перевод, комментарии) // Исламв современном мире. - 2009. - № 1-2 (13-14).6. Вершинин Е. Неверность «бродячих царевичей». Заураль-ское степное пограничье в XVII веке // Родина. - 1998. - № 1.7. Гурлянд Я.И. Степное законодательство с древнейшихвремен по XVII столетие. - Казань, 1904.8. Джамбадорджи. Хрустальное зеркало / Пер. Б.И. Короля,А.Д. Цендиной // История в трудах ученых лам. - М., 2005. -С. 62-154.9. Дополнения к Актам историческим, собранные и издан-ные Археографической комиссией. - Т. IV. - СПб., 1851.10. Дугаров Р.Н. «Дэбтэр-Чжамцо» – источник по историимонголов Куку-нора. - Новосибирск, 1983.11. Ерофеева И.В. История формирования культовогокомплекса Тамгалытас // Роль номадов в формированиикультурного наследия Казахстана. Научные чтения памятиН.Э. Масанова: Сборник материалов Международнойнаучной конференции. - Алматы, 23-24 апреля 2009 г. -Алматы, 2010. - С. 204-218.12. Зыков А.П., Манькова И.Л. Рейтарский шлем XVII века изДалматовского Успенского монастыря: к событиям 1662—1667 гг. в Южном Зауралье // Проблемы истории России.Вып. 3: Новгородская Русь: историческое пространство икультурное наследие. - Екатеринбург, 2000. - С. 315-332.13. Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства.Очерки. - Казань, 2006.14. Колесник В.И. Последнее великое кочевье: Переходкалмыков из Центральной Азии в Восточную Европу иобратно в XVII и XVIII веках. - М., 2003.15. Кычанов Е.И. Повествование об ойратском ГалданеБошокту-хане. - Новосибирск, 1980.16. Лемерсье-Келькеже Ш. Волжские калмыки между Россий-ской и Османской империями в период правления ПетраВеликого (по документам Османского архива) // ВосточнаяЕвропа Средневековья и раннего Нового времени глазамифранцузских исследователей: Сборник статей. - Казань,2009. - С. 255-271.17. Леонтович Ф.И. К истории права русских инородцев:Древний монголо-калмыцкий или ойратский устав взыска-ний (Цааджин-Бичик) // Записки Императорского Новорос-сийского университета. Т. XXVIII. - Одесса, 1879.
18. Материалы по истории русско-монгольских отношений.1654-1685. - М., 1996.19. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Турк-менской ССР. Ч.I. Торговля с Московским государством имеждународное положение Средней Азии в XVI-XVIII вв. //Труды историко-археографического института и институ-та Востоковедения. Материалы по истории СССР. - Вып. 3.- Л., 1932.20. Миллер Г.Ф. История Сибири. - Т I. - М., 1999.21. Миллер Г.Ф. История Сибири. - Т II. - М.; Л., 1941.22. Миллер Г.Ф. История Сибири. - Т III. - М., 2005.23. Нестеров А.Г. Династия Сибирских Шейбанидов //Тюркские народы: Материалы V Сибирского симпозиума. -Тобольск; Омск, 2002. - С. 205-214.24. Пагсам-джонсан: История и хронология Тибета / Пер. стибетского, пред., коммент. Р.Е. Пубаева. - Новосибирск,1991.25. Рязановский В.А. Монгольское право, преимущественнообычное. - Харбин, 1931.26. Русско-монгольские отношения 1607-1636. - М., 1959.27. Русско-монгольские отношения 1636-1654. - М., 1974.28. Сабитов Ж. М. Генеалогия «Торе». - Астана, 2008.29. Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа вотношениях с мусульманскими государствами Причерномо-рья (вторая половина XVII в. – начало XVIII в.). - Ростов-на-Дону, 2009.30. Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. - М., 2001.31. Туманович Н.Н. Герат в XVI-XVIII вв. - М., 1989.32. Файзрахманов Г. История сибирских татар с древней-ших времен до начала ХХ века. - Казань, 2002.33. Чимитдоржиев Ш.Б. Национально-освободительноедвижение монгольского народа в XVII-XVIII вв. - Улан-Удэ,2002.34. Шах-Махмуд Чурас. Хроника / Пер., коммент. и исслед.О. Ф. Акимушкина. - М., 1976.35. Щеглов И.В. Хронологический перечень важнейшихданных из истории Сибири. - Иркутск, 1883.36. Miyawaki J. The Legitimacy of Khanship among the Oyirad(Kalmyk) Tribes in Relation to the Cinggisid Principle // TheMongol Empire and Its Legasy. Leiden; Boston, 1999. P. 319-331.
Ю.С. Худяковг. Новосибирск
БОРЬБА ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕСИБИРСКОГО ХАНСТВА В XVII ВЕКЕ
Сибирское ханство являлось крупнейшим татарскимгосударством, образовавшимся на рубеже эпохи поздне-го средневековья после распада Золотой Орды. Оно рас-полагало значительным потенциалом для своего разви-тия: выгодным географическим положением на грани-цах Восточной Европы и Северной Азии, обширной тер-риторией, охватывающей плодородные земли в преде-лах лесостепной и степной зоны Западной Сибири, об-ладающей богатыми природными ресурсами. К периодусуществования Сибирского ханства на его территориисформировались этнокультурные особенности сибирскихтатар, состоявших из нескольких этно-территориальныхгрупп. В пределах владений Сибирского Юрта возниклиоседлые поселения и города, которые были центрамиремесла и торговли. По территории этого государствапролегали важные торговые пути из стран Среднего Вос-тока, Центральной и Средней Азии. В зоне влияния этогогосударства находились угорские и самодийские племе-на таежных охотников и рыболовов, платившие правите-лям Сибирского ханства подати пушниной, которая оченьвысоко ценилась в разных странах Европы и Азии. В эпо-ху средневековья в обмен на меха пушных зверей в При-уралье и Западную Сибирь поступали разнообразныеизделия из городских ремесленных центров, среди кото-рых было дорогое парадное оружие, серебряная посудаи другие художественные изделия из металла. Правите-
105
ли Сибирского ханства располагали достаточно больши-ми по численности воинскими силами, которые форми-ровались не только из сибирских татар, но и из другихвассальных этносов. Они имели возможность призватьпод свои знамена своих союзников в кочевом мире, во-енные отряды ногайцев. В случае необходимости в со-ставе армий Сибирского ханства были обязаны высту-пить на войну воинские дружины вассальных угорских исамодийских племен во главе со своими князьями. Важ-ным идеологическим фактором, способствовавшим иде-ологическому объединению и консолидации сибирскоготатарского населения, стало принятие и распростране-ние одной из ведущих мировых религий - ислама. Этоопределило политическую и культурную ориентацию Си-бирского ханства на мусульманские страны СреднейАзии. Правители этого государства поддерживали связис Казанским ханством, Ногайской Ордой и Бухарским хан-ством, во главе которого находилась родственная сибир-ским правителям династия Шейбанидов, одна из ветвейЧингизидов [12, 238]. Однако, внутреннее положение вСибирском ханстве на всем протяжении существованияэтого государства оставалось непрочным, поскольку завласть в нем с Шейбанидами боролись представителиместного аристократического рода Тайбугидов. Контактыправителей Сибирского ханства с Московскими государ-ством были нерегулярными. В те периоды, когда в борь-бе за власть побеждали Тайбугиды, они стремились опе-реться на московских государей, признавали свою вас-сальную зависимость и платили дань. В правление ханаКучума, происходившего из династии Шейбанидов, вас-сальные отношения прекратились, а военные отрядысибирских татар совершали походы через Уральские горыради обложения данью местных племен и нападения нарусские поселения. Ситуация существенным образомизменилась после похода казачьего отряда атаманаЕрмака в Сибирь в конце XVI в. В результате военныхдействий войска сибирских татар потерпели несколькопоражений, была взята ханская столица Искер, частьтатарской знати перестала поддерживать Кучума, а та-ежные угорские племена признали власть московскихгосударей и стали платить им дань, что значительно по-высило их заинтересованность в подчинении сибирскихэтносов. И хотя сам атаман Ермак погиб, а остатки егоотряда были вынуждены вернуться назад, за Уральскиегоры, процесс «обретения» сибирских земель Российс-ким государством с этого времени стал необратимым [7,5]. Военные успехи сравнительно небольшого по числен-ности казачьего отряда Ермака против армий сибирскихтатар в течение первых лет его похода способствовалипоявлению пренебрежительных оценок в отношенииСибирского ханства, в некоторых публикациях названно-го «эфемерным государством», на покорение которогоякобы ушло «всего 16 лет» [4, 34-35]. При этом не учиты-валось, что в ходе борьбы с Кучумом, несмотря на егопоражения, царское правительство обращалось к хану спредложением вернуть ему «Сибирское царство», приусловии признания вассальной зависимости и уплатыясака. И после гибели Кучума его потомки продолжалиборьбу за восстановление Сибирского ханства вплоть довторой половины XVII в. Решающее значение для дости-жения побед над ханом Кучумом и его наследникамиимел переход части татарской знати на службу Российс-кому государству и расширение сфер влияния Джунгарс-кого ханства и Телеутских улусов в южных районах Запад-ной Сибири, что ограничило возможности привлечениятюркоязычного кочевого населения этих земель к борь-бе за восстановление Сибирского ханства [12, 253]. Приоценке причин военных успехов отрядов русских казакови служилых людей в ходе военных действий с воинами
хана Кучума и его наследников российские историки XVIII-XIX вв. предпочитали объяснять их военно-техническимпревосходством российского воинства, владевшего огне-стрельным оружием и артиллерией [9, 88-89]. Некото-рые европейцы, путешествовавшие по Сибири в XVIII в.,сравнивали эффект применения огнестрельного оружияв ходе военных столкновений русских воинов и сибирскихнародов в процессе присоединения этого края к Россий-скому государству с использованием такого оружия и ка-валерии испанскими конкистадорами против американ-ских индейцев [3, 47]. Однако, изучение комплекса воо-ружения сибирских татарских воинов наглядно продемон-стрировало, что они были вооружены вполне обычнымидля эпохи позднего средневековья видами холодногонаступательного оружия и металлическими средствамииндивидуальной защиты. В распоряжении татарских во-инов были сложносоставные луки и стрелы с разнотип-ными железными наконечниками. В источниках стрелытатарских воинов названы «тьмочисленными» [8, 22]. Понабору стрел сибирские татары даже несколько превос-ходили воинов-стрелков других средневековых тюркскихи монгольских государств, уступая только воинам Мон-гольской империи. Они применяли все основные типыстрел, которые получили широкое распространение вкочевом мире в эпохи развитого и позднего средневеко-вья. Возможно, что воинам Сибирского ханства не хвата-ло бронебойных стрел, поскольку количество таких нахо-док в памятниках сибирских татар сравнительно невели-ко. Вероятно, это негативно сказалось в ходе боевых стол-кновений с хорошо вооруженными и защищенными про-тивниками [12, 242]. В ближнем бою сибирские татарс-кие воины могли атаковать врагов копьями, палашами,саблями и боевыми топорами, а для защиты использо-вали шлемы, панцири и кольчуги. Эти виды оружия по-ставлялись из городских ремесленных центров СреднейАзии. Конечно, степень вооруженности и оснащенностиразличных отрядов в составе войска Сибирского ханствабыла не одинаковой. Видимо, лучше других были воору-жены воины из ханской ногайской гвардии. Изучение ходавоенных действий с русскими казаками показало, чтотатарские полководцы и воины применяли традицион-ную тактику конной атаки в рассыпном строю и обстрелапротивника из луков, с которой русские казаки были хо-рошо знакомы и умели ей активно противостоять [2, 30-56; 12, 244-254]. Необходимо отметить, что сибирскиетатары не только были знакомы с действием огнестрель-ного оружия и артиллерии, но и сами пытались его ис-пользовать в военных целях. Еще задолго до сибирскогопохода в Искер из Казани было доставлено две пушки.Однако, как показала неудачная попытка их примене-ния в ходе боя на Чувашском мысу, среди татарских вои-нов не оказалось умелых артиллеристов. Воины отрядаЕрмака были хорошо вооружены и обладали большимбоевым опытом ведения военных действий против ко-чевников в Поволжье. Купцы Строгановы снабдили от-ряд тремя пушками, выдали безоружным казакам ружьяи дали каждому «по три фунта пороха и по три фунта свин-ца» [5, 212]. Они были вооружены обычными видами на-ступательного оружия и имели эффективные средствазащиты. В состав казачьего отряда были включены «три-ста человек немцев и литвы» из числа военнопленных сЛивонской войны, обладавшие большим военным опы-том. Важное значение для успешного ведения боевыхдействий казачьих отрядов против кочевых народов Си-бири имело использование в качестве средств передви-жения по рекам маломерных судов, а также умение бы-стро строить и эффективно оборонять деревянные ост-роги. Однако, для победы над ханом Кучумом весьмаважным стал переход части татарской и угорской родо-
106
вой знати на сторону российских властей и участие отря-дов служилых татар и служилых угров в военных действи-ях на российской стороне. После поражения в бою наЧувашском мысу и бегства хана Кучума из Искера Сибир-ское ханство фактически распалось. Царские власти неимели достаточных военных сил для борьбы за подчине-ние степного населения, поэтому они стремились при-влечь на свою сторону часть татарской знати, включаяродственников хана Кучума, охотно принимая их на служ-бу и предоставляя разные привилегии. Одним из наибо-лее значимых событий в период присоединения Сибир-ского ханства к Московскому царству является захват в1588 г. в плен во время переговоров в Тобольском остро-ге, по распоряжению письменного головы Д. Чулкова,предводителей татарского войска - князя Сейдяка, мур-зы Карачи и казахского султана Ураз-Мухаммеда [5, 270-271]. В результате татарское войско осталось без пред-водителей и разбежалось. В последующие годы перехо-ду части татарского населения на сторону российскихвластей способствовали военные мероприятия хана Ку-чума и его приближенных в отношении тех татарских эт-нических групп, которые приняли российское подданство.В 1590 г. Кучум со своим отрядом совершил два походапротив ясачных татар, живших в окрестностях Тобольско-го острога и жителей Каурдакской и Салымской волос-тей, «убил там много людей и награбил большое количе-ство всякого добра» [5, 272]. В следующем году противнего выступил отряд воеводы В. Кольцова-Масальского,в составе которого было «большое количество татар», иразгромил ставку хана на оз. Чиликуль. В результате вплен попали члены семьи Кучума [5, 273]. При основаниигорода Тары в 1594 г. воеводой А. Елецким были привле-чены казанские, тюменские, тобольские татары, которыхвозглавляли атаман Ч. Александров и «татарские голо-вы» Баязет и Байбахта. В этот период ясачные татарыслужили в составе пеших и конных отрядов и «были снаб-жены огнестрельным оружием» [5, 282]. Были предпри-няты попытки «воздействовать на хана лаской и дружес-кими уговорами заставить его покориться русским» [5,284]. Однако, хан Кучум предпочел заключить союз с но-гайским мурзой Алеем, которому он предоставил правосбора дани с тарских татар [5, 286]. С этого времени ханКучум попытался применить новую тактику в борьбе сроссийскими властями. Он увел одну из групп местногонаселения аялынских татар на юг, подальше от российс-ких владений, основал на Черном острове на Иртышенебольшой городок, в котором укрепились переселенцыво главе со своими князьями. В 1595 г. российский отрядБ. Доможарова взял это укрепление и пленил несколь-ких татарских князей. Хану Кучуму вновь пришлось спа-саться бегством [5, 289]. Затем отряд Б. Доможаровасовершил поход в Барабинскую степь, где взял и уничто-жил Чангульский городок. После этого некоторые род-ственники Кучума и татарские мурзы предпочли покорить-ся и платить ясак российским властям [5, 290]. Решаю-щее поражение Кучуму было нанесено в 1598 г. отрядомА. Воейкова, в составе которого было три сотни служилыхтатар, на р. Ирмень. В результате этого боя «хан был со-вершенно разбит, потерял большую часть своей семьи ивсе свое имущество» [5, 291]. Кучуму снова удалось бе-жать. Он постарался уйти подальше от российских вла-дений в верховья Иртыша, во владения джунгар, где «ко-чевал около озера Нор-Зайсан». Затем он вернулся нар. Ишим, где попытался собрать своих сторонников, нобыл разбит джунгарами, у которых приближенные Кучу-ма угнали лошадей. Он снова бежал к ногайцам, средикоторых погиб в 1601 г. [5, 293]. Однако, гибель Кучума непривела к прекращению борьбы его наследников за вос-становление Сибирского ханства. Новым ханом был про-
возглашен старший сын Кучума, Али. Он попытался дого-вориться с российскими властями и отправил послов вТобольск. Однако, договориться не удалось. Приехавшиена переговоры братья хана Али, Ишим и Кубей Мурат, былиотправлены в Москву. В 1603 г. в ставку хана Али прибылотряд ногайцев во главе с Урус-Мурзой, что привело к во-зобновлению военных действий. К этому времени в со-став российских владений было включено Среднее При-обье. В 1604 г. российское подданство приняли эуштинс-кие татары, на землях которых был основан Томский ос-трог. Однако, местное население, «остяки и татары»,недовольные поборами и насилием со стороны томскихвоевод, подняли восстание [5, 309]. Вероятно, об этомстало известно наследникам Кучума. В 1607 г. татары воглаве с сыновьями Кучума, Ишимом, Азимом и Канучва-ром, при поддержке джунгар совершили поход в Тюмен-ский уезд и заняли Кинырский городок, населенный слу-жилыми татарами. На их защиту из Тюмени был посланотряд служилых людей татарского головы К. Изъетдино-ва, который разгромил ставку Али, освободил кинырскихтатар и пленил мать, жен, детей и братьев хана. Всехпленников отправили в Москву [11, 209]. Судя по этим со-бытиям, российские власти не просто привлекали отдель-ные группы сибирских татар на воинскую службу, но и до-веряли им огнестрельное оружие, а татарским команди-рам - руководство операциями против своих соплемен-ников и единоверцев. В начале XVII в. вассальную зави-симость от российских властей, но без уплаты ясака, при-знал телетский князь Абак. На поддержку со стороныРоссии стали ориентироваться и некоторые джунгарскиетайши [5, 310]. Эти события существенно сузили для на-следников Кучума возможности опираться на помощь состороны телеутов и джунгар. В 1618 г. против ставки ново-го хана Ишима совершил поход отряд А. Вельяминова.Джунгары не смогли оказать Кучумовичам необходимойпомощи, поэтому воины Ишима понесли тяжелые поте-ри [11, 210]. В этом же году отряд русских служилых людейО. Харламова и «татарского головы» О. Кокорева совер-шил поход в верховья Томи и основал Кузнецкий острог[5, 315]. В течение последующего десятилетия Кучумови-чи не предпринимали попыток нападать на российскиевладения в Западной Сибири. Однако, в 1628 г. произош-ло восстание барабинских татар, возмущенных произво-лом и поборами сибирских воевод. Восставшие уничто-жили посланный против них казачий отряд, убили сбор-щиков ясака, сожгли одно из укреплений, ограбили юр-товских татар, сохранивших верность российским влас-тям, и откочевали в земли телеутов в Верхнее Приобье[10, 20]. Вслед за барабинскими, в 1629 г. восстали тарс-кие татары, которые разорили несколько русских дере-вень, захватили пленных, угнали скот и откочевали в Ба-рабинскую лесостепь. Осознав опасность соединениясил повстанцев, российские власти в 1629 г. послали про-тив них отряд служилых людей и юртовских татар, кото-рый разгромил тарских татар на оз. Чаны [6, 417-418].Остатки разгромленных повстанцев «человек с полтора-ста» бежали к «барабинскому князцу Когутайку» [6, 418].Эти возмущения произошли стихийно, но ими попыта-лись воспользоваться наследники Кучума, среди кото-рых выдвинулся в лидеры царевич Аблайкерим, сын Иши-ма и внук Кучума. В 1629 г. российскими властями «былиполучены известия, что Кучумовы царевичи и калмыкитакже ввязались в дело» [6, 114]. Аблайкерим сумел при-влечь на помощь джунгарских тайшей, пообещав им пра-во сбора ясака с барабинских, юртовских и волостныхтатар [6, 418]. В дальнейшем в число лидеров среди сто-ронников восстановления Сибирского ханства выдвинул-ся и царевич Давлет-Гирей, или Кирей, сын Чувка и двою-родный брат Аблайкерима. Восстания разных групп си-
107
бирских татар совпали с усилением джунгар, часть кото-рых откочевала на р. Тобол к границам российских вла-дений. Против них был послан российский военный от-ряд, который смог «отогнать калмыков от русских гра-ниц» [6, 115]. В 1629 г. царевич Аблайкерим с отрядом«колмацких людей» совершил поход в Барабинскую ле-состепь. Он «прошал» людей у местных князей и смогпривлечь на свою сторону восставших барабинских и тар-ских татар [10, 14, 22]. Затем он перекочевал во владениятелеутов. По сведениям, поступившим в Тобольск от «та-тарского выходца» Кудайшугурка Сениткулова, Аблайке-рим планировал просить дополнительной помощи у те-леутов и коурчаков для похода «под Тарский город и наволости войною» [6, 418]. Вероятно, в планы царевичавходило объединение против российских властей какможно большего количества тюркских этнических группЗападной Сибири. В августе 1629 г. царевич Аблайкеримво главе объединенного войска, в составе которого былибарабинские, тарские, теренинские татары, джунгары икоурчаки, совершил поход в Среднее Приобье, во владе-ния чатских татар. Из Чатского городка он планировал«пойти войною» к «Томскому городу» [6, 116, 419]. При-влечение на свою сторону чатского мурзы Тарлава спо-собствовало увеличению союзников Аблайкерима. Мур-за Тарлав принял не только внука Кучума, но и восстав-ших против российских властей эуштинских татар [10, 29].Однако, сам Тарлав опасался открыто выступить противрусских и присоединиться к походу объединенного та-тарского войска на Томск, поэтому войско Аблайкеримапошло назад в Барабинскую лесостепь [6, 420]. ВоеводаП. Пронский отправил против него отряд томских служи-лых людей и томских юртовских татар, который разгро-мил татарское войско на р. Шегарке, многих повстанцевзахватил в плен [6, 420-421]. По другим данным войскоАблайкерима, в составе которого были барабинские, тар-ские и чатские татары, «обходными путями» совершилопоход в земли остяков, вплоть до устья р. Томи, где обра-зовало свою ставку [10, 30]. Из этой ставки они смоглизахватить Мурзин и Нандрин городки и «побили» юртов-сих татар и остяков, сохранивших верность российскимвластям. После этого они совершили поход к Таре [6, 425].После этих походов численность войска Аблайкеримаcущественно возросла. Под его началом собралось бо-лее двух тысяч воинов. Вероятно, главной целью этих по-ходов было стремление Аблайкерима подчинить своейвласти те группы татарского населения, которые ранеепризнали себя российскими подданными. Эти событиясказались на отношении татар, живших в Тюменском иТуринском уездах, к российским властям. Среди них ста-ли распространяться слухи о том, что скоро русские люди«все пропадут», а вместо них на этих землях поселятсяджунгары. В одном из источников упоминается, что поТуринскому уезду разъезжал татарин с «широкой стре-лой» без лука [6, 126]. Возможно, что с помощью этойстрелы местное татарское население агитировалось заприсоединение к борьбе за восстановление Сибирскогоханства. Со стороны некоторых татар в адрес русскогонаселения стали раздаваться неприкрытые угрозы. В1630 г. чатские татары во главе с мурзой Тарлавом, опа-саясь репрессий со стороны томских воевод, откочевалипо долине р. Оби на юг, во владения телеутов, и возвелина р. Чингизке укрепленный земляными валами «горо-док», который стал их новой резиденцией [10, 32]. Томс-кие воеводы пытались путем уговоров вернуть бежавшихясачных татар на места их прежнего жительства, но это непринесло положительных результатов. В апреле 1630 г.войско, составленное из телеутов и чатских татар, во гла-ве с князем Абаком и мурзой Тарлавом, спустилось внизпо Оби вплоть до Тоянова городка, находившегося непо-
далеку от Томского острога. Уведомленные об этом том-ские воеводы выслали навстречу отряд служилых людей,который занял Тоянов городок до прихода телеутов и чат-ских татар. Абак и Тарлав не решились вступить в откры-тый бой, а повернули на земли чатских татар, сохранив-ших верность российским властям. Они взяли и сожглиБурлаков городок, сожгли хлеба, «побили» местных та-тар и «повоевали» Шегарскую ясачную волость [6, 430].Томским воеводам стали известны планы телеутскогокнязя Абака и чатского мурзы Тарлава заключить союз сцаревичем Аблайкеримом, восставшими барабинскимитатарами и «горными калмаками» - теленгитами, чтобы«идти войною» на Томский и Кузнецкий остроги. Вероят-но, это был наиболее критический период для российс-ких властей в Западной Сибири за весь период восста-ний татарского населения и деятельности царевича Аб-лайкерима по восстановлению Сибирского ханства. Том-ский воевода П. Пронский решил атаковать восставшихза пределами своих владений. Он отправил против вос-ставших чатских татар отряд Г. Черницина, состоявший изрусских служилых людей и чатских татар, которых возглав-лял мурза Бурлак, оставшийся верным российским влас-тям. Отряд Г. Черницина настиг восставших при перепра-ве через р. Обь и разгромил их. В ходе этого боя погиблипредводители восставших чатский мурза Казгул и «тулу-манский лутчей человек Мурат», а вместе с ними и мно-гие «Тарлавковы татары» [6, 431]. В это время Аблайке-рим попытался договориться с российскими властями. Вмае 1630 г. в Тару приехал сын Тунусского князя Я. Мамет,который передал предложение Аблайкерима прислатьпослов для переговоров с ним. Ставка Аблайкерима вэто время находилась на оз. Язымык в Приобье. С ним вэтот период было около трех сотен воинов. Отдельно отнего на оз. Саргуль находилась ставка телеутов, чатскихи барабинских татар, которых насчитывалось до семисотен. Предложение Аблайкерима вступить в перегово-ры свидетельствует, что он пытался договориться с рос-сийскими властями, вероятно, осознавая недостаток сво-их военных сил для восстановления Сибирского ханствав прежних границах. После этой неудачной попытки онснова попытался организовать поход на Тару, которыйтак и не состоялся из-за того, что его не поддержали дру-гие участники восстания. Российские власти пытались вер-нуть в свои владения ушедшие группы татарского населе-ния. В 1631 г. из Томска против чатского мурзы Тарлава,находившегося в Чингисовом городке, был послан отрядЯ. Тухачевского, включавший три сотни казаков и сотнючатских и томских татар мурзы Бурлака. Отряд был воору-жен ружьями и походными пушками, передвигался налыжах и нартах с большой скоростью, чтобы застать про-тивника врасплох. Несмотря на скрытность похода, чатс-кий мурза Тарлав смог узнать о приближении этого отря-да и обратился за помощью к телеутам, коурчакам и ца-ревичу Аблайкериму. Однако, помощь с их стороны за-поздала. Русско-татарский отряд осадил Чингисов горо-док, а затем предпринял штурм. Я. Тухачевскому удалосьвзять городок и организовать оборону против подоспев-ших сторонников Кучумовичей, которые понесли большиепотери, а мурза Тарлав погиб [10, 35]. Это сражение про-демонстрировало лучшую оснащенность и воинское уме-ние российских войск по сравнению с их противниками.Поражение чатских татар, а затем объединенного войс-ка повстанцев и их союзников показало бежавшим от рос-сийских властей татарским этническим группам, что ниКучумовичи, ни телеуты, ни джунгары не смогут их надеж-но защитить. После этого телеуты были вынуждены вы-дать чатских беглецов, которые признали российскуювласть и согласились платить ясак [10, 36]. Сопротивле-ние разных этнических групп татар значительно ослабло,
108
а численность повстанцев существенно сократилась.После этого поражения военные походы Кучумовичейфактически свелись к грабительским набегам на татарс-кие поселения в российских владениях. В 1631 г. отрядАблайкерима и Давлет-Гирея, насчитывавший 70 воинов,совершил поход на татарские поселения в Коурдакской иТебендинской волостях, находившиеся пределах россий-ских владений в Прииртышье. Поселения были разграб-лены, часть жителей уведена, другая часть бежала и об-ратилась за помощью к российским властям. В погонюза Кучумовичами был послан отряд Е. Заболоцкого, со-стоявший из «ратных людей литвы», казаков и юртовскихтатар [6, 446, 448]. Российские войска выступили в ролизащитников татарского населения от Кучумовичей. Сре-ди повстанцев возросло недовольство против Аблайке-рима, поскольку он собирал с них большие подати впользу джунгарских тайшей. Татарское население сталовозвращаться в российские владения, что еще более ос-лабило Кучумовичей. Численность военных отрядов по-встанцев значительно сократилась. Когда в 1633 г. Дав-лет-Гирей совершил набег на ясачных татар, живших нар. Исеть, с ним было только 60 воинов [6, 474]. В это вре-мя против Кучумовичей выступили казахи, что еще болееосложнило положение повстанцев. Несмотря на все не-удачи, Аблайкерим упорно продолжал бороться за вос-становление Сибирского ханства. В 1635 г. он с отрядом в40 воинов совершил еще один поход на ясачных татар нар. Исеть [6, 493]. Сокращение численности участниковвоенных походов свидетельствует о дальнейшем ослаб-лении Кучумовичей. В этом же году тарские и тюменскиетатары «с Ишмовыми детьми» напали и сожгли Чубаро-ву слободу и селение на Артабановом мысу [6, 499]. В1636 г. был захвачен в плен царевич Аблайкерим. Черезнесколько лет он умер в тюрьме [11, 211]. Во главе Кучу-мовичей оказался Давлет-Гирей, который попыталсяорганизовать вместе с джунгарами военный поход насибирские города [6, 510-511]. Однако, противоречиямежду джунгарами привели к междуусобицам, которыеослабили давление на российские владения. В 1637 г.Давлет-Гирей послал своего посланника Б. Бугонакова вТару с известием о готовности признать российскуювласть [6, 518]. Однако, договориться не удалось, посколь-ку российские власти к этим предложениям отнеслись снедоверием. Часть татар, не желавших участвовать в раз-вернувшейся джунгарско-халхасской войне, ушла в рос-сийские владения. В 1641 г., по сведениям некоторыхтатарских беглецов, Давлет-Гирей с джунгарскими тай-шами вновь планировал совершить поход «на сибирскиегорода» [6, 555, 559-560, 563]. Однако, эти замыслы так ине были реализованы. Через несколько лет этот «Кучу-мов внук» обратился к джунгарскому Мерген-тайше завоенной помощью для похода на сибирские города [6,571-572]. Донесения о подобных намерениях относятсяк 1644 и 1645 гг. По-видимому, эти угрозы были восприня-ты адекватно и в 1645 г. против Давлет-Гирея, тарских итюменских татар, а также джунгар российскими властя-ми был организован поход в степь. Отряд из детей бояр-ских, стрельцов, казаков и юртовских служилых татар воглаве с тюменским татарским головой И. Бакшеевым на-нес поражение джунгарам и татарским повстанцам [6,578-579]. После этого поражения Давлет-Гирей со свои-ми племянниками Бугаем и Кучуком снова попытался всту-пить в переговоры [6, 591-592]. Однако, когда эти планыне осуществились, Бугай и Кучук попытались продолжитьборьбу при поддержке джунгар [6, 601-602, 613]. Опас-ность таких нападений сохранялась вплоть до 1660-х гг.,о чем свидетельствует один из иностранных военных спе-циалистов, приглашенных для организации полков ново-го строя [1, 347-348]. Однако, после затухания восстания
татарского населения 1628-1631 гг. никаких реальныхшансов на восстановление государственности у Кучумо-вичей уже не было. Они попали в военно-политическуюзависимость от джунгарских тайшей. Опыт анализа воен-но-политических событий XVII в. дает основания утверж-дать, что намерения хана Кучума и его наследников вомногом не были реализованы из-за их недальновиднойполитики в отношении бывших подданных. Периодичес-ким нападениям и разорению, податному гнету со сторо-ны Кучумовичей и их союзников подвергалось, в основ-ном, татарское население в составе российских владе-ний. За весь многолетний период борьбы сторонникамивосстановления Сибирского ханства не было предпри-нято ни одной реальной попытки осады или штурма рос-сийских острогов, а все ограничилось «враждебными на-мерениями». Реальная возможность для восстановле-ния государственности появилась только во время вос-стания нескольких этнических групп татар в 1628-1631 гг.,вызванного произволом со стороны российских властей.Это позволило Кучумовичам создать широкую коалициютюркских и монгольских кочевых племен и могло привес-ти к успеху восстания. Однако, политика ограбления, зах-вата и угона татарского населения в степь, за пределыроссийских владений, а также усиления податного гнетав пользу джунгар, естественно, вызвало недовольство,которое стимулировало возвращение повстанцев в рос-сийские владения. Не располагая значительными воен-ными силами, российские власти стремились вернуть бе-жавшее население с помощью переговоров, а когда этоне удавалось, предпринимали военные походы. Показа-тельно, что во всех этих походах принимали участие слу-жилые татары, а иногда их даже возглавляли татарскиекомандиры, находившиеся на службе у российских влас-тей. Лояльность по отношении к российским властямсреди части татарского населения и его правящей элитыи изменение военно-политической ситуации в степнойзоне Западной Сибири определили исход борьбы за вос-становление Сибирского ханства в пользу Российскогогосударства.
Список литературы1. Алексеев М.П. Сибирь в известиях западноевропейскихпутешественников и писателей. Введение, тексты и коммен-тарий. XIII – XVII вв. второе изд. - Иркутск, 1941. - 611 с.2. Бобров Л.А., Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Взаимодей-ствие тюркских и монгольских народов с русскими в Сибирив военном деле в позднее Средневековье и Новое время. -Новосибирск, 2010. - 288 с.3. Зиннер Э.П. Сибирь в известиях западноевропейскихпутешественников и ученых XVIII в. - Иркутск, 1968. - 247 с.4. Кызласов Л.Р. О присоединении Хакасии к России //Страницы истории и современность. - Абакан; М., 1996. -Вып. 2. - 62 с.5. Миллер Г.Ф. История Сибири. - Изд. 2-е, дополненное. - М.,1999. - Т. I. 630 с.6. Миллер Г.Ф. История Сибири. - Изд. 2-е, дополненное. - М.,2000. - Т. II. - 796 c.7. Окладников А.П. Открытие Сибири. - М., 1981. - 223 с.8. Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. - Новоси-бирск, 1982. - 253 с.9. Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. - Новоси-бирск, 1995. - 676 с.10. Уманский А.П. Телеуты и их соседи в XVII – первойчетверти XVIII века. - Барнаул, 1995. - Ч. 2.- 221 с.11. Файзрахманов Г.Л. История сибирских татар (с древ-нейших времен до начала XX века). - Казань, 2002. - 488 с.12. Худяков Ю.С. Военное дело Сибирского ханства впозднем средневековье (в аспекте взаимодействия срусскими) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. -2007. Т.6. - Вып. 3. Археология и этнография. - С. 238-254.
109
В.В. Пестеревг. Курган
РУССКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ В БОРЬБЕ С
ФАНТОМАМИ СИБИРСКОЙГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Едва ли можно оспаривать тезис о том, что органи-зация населения в колонизуемом пространстве зависитне столько от объективных и имманентных последнемусвойств, сколько от того, каким образом это простран-ство конституируется конкретным субъектом, будь то со-циальная группа или общество в целом. Само же это кон-ституирование (сопровождающееся созданием соответ-ствующих геопространственных образов) происходит пу-тем сложного нелинейного наложения селективно вы-деляемой из среды информации и установок самогосубъекта (в том числе его надежд, опасений и страхов).Таким образом, поведение колонизующего общества какинформационно зависимой системы может направлять-ся не только реальными характеристиками осваиваемойтерритории, но и ее фантомными отображениями-реп-резентантами.
Первые полстолетия своей истории зауральскаячасть русской колониальной структуры в Сибири испы-тывала довольно серьезное, на наш взгляд, воздействиетаких фантомных геопространственных образов. Основойих формирования стали не совсем адекватные представ-ления, сложившиеся в Московском государстве относи-тельно сибирской государственности (мы не будем здесьдифференцировать это понятие и затрагивать проблемувзаимоотношений Сибирского ханства с другими инород-ческими (прото)государственными образованиями в За-уралье, например, Пелымским княжеством).
Сибирская государственность долгое время находи-лась на периферии внимания Московского правитель-ства. Эпизодические торговые и дипломатические сно-шения конца XV – второй половины XVI столетий не при-водили к необходимости формирования более глубокогои всестороннего образа этой территории. Более того,даже отношения подданства Сибирского ханства Моск-ве, оформившиеся в середине XVI века, во многом явля-лись фактом лишь сугубо титульного свойства (позволи-ли соответствующим образом расширить титулатуру рус-ского государя), но так и не стали основанием для болееблизкого их знакомства. С 70-х гг. XVI века, после сломаде-факто вассально-даннических отношений, и без тогоаморфный и слабо выраженный образ Сибири в глазахМосквы стал приобретать черты, ему ранее явно не прису-щие. Внешнеполитические неудачи Русского государстваи внутренняя нестабильность негативно отражались наспособности московского правительства к адекватнойоценке собственных возможностей. По мере нарастаниянеуверенности в себе происходил процесс наделения си-бирской государственности такой степенью могущества исилы, которыми она в реальности не обладала. Даже не-смотря на появившуюся у Москвы после похода Ермакауверенность в своих силах, страх перед местным населе-нием был характерен для всего процесса организациирусского населения на территории Зауралья. «Посмерт-ное», фантомное существование сибирской государствен-ности оказывало вполне реальное воздействие на пове-дение правительства и колониальной администрации.
Интересно, что Москва, наделяя страшными черта-ми местное население, также пытается надеть личину,если не в попытке напугать своих визави, то хотя бы скрытьсвою слабость и неуверенность. Так, например, при стро-
ительстве первых сибирских городов инородцам воспре-щалось находиться в строящемся городе и вообще зап-рещались тесные контакты их с русскими («а стояли быпод городом, а в город их не пущать, покаместа городукрепится, чтоб и[м] людей государевых не смечать» [1,341]). При всем этом, инородцы активно участвовали вострожном и городском строительстве: им надлежало«лес ронить и привозить под город» [1, 348].
Очень быстро эта закрытость и недоверие вырослив целую стратегию по искажению реального образа рус-ской колонии в глазах инородцев и иноземцев. Так, в цар-ской грамоте тюменскому воеводе Григорию Долгоруко-му от 31 августа 1596 года указывалось: «…как бухарскиеили нагайские торговые люди с торги на Тюмень при-едут… и в тое б пору у вас в городе и в остроге было люд-но, и служивые люди: литва, и казаки, и стрельцы стоялис ружьем, и приставов к тем послам приставливали изслужилых людей… А того б есте над бухарцы и над нагай-цы велели смотреть и берегли накрепко, чтоб бухарцы инагайцы в городе никаких крепостей и людей не рассмат-ривали и не лазучили, и с русскими людьми и с татары,опричь торговли, никоторых разговорных речей не гово-рили, и нужи б они сибирские никоторые не ведали; арассказывали б бухарцам и нагайцам, что сибирские го-рода добре людны и ничем не нужны…» [2, 176-177]. Отом же читаем в государевой грамоте на Тюмень от 30октября 1623 года: «…будет в Тюмень ис которых кол-мацких улусов или Алтыновы послы учнут приходити, и выб им велели быти у себя за городом, где пригоже, в шатреили где на дворе за городом, а не в городе. А те порыбыло б у вас людно и стройно и бережно во всем, а неоплошно ни в чем» [2, 357]. Такие же ограничения каса-лись и иноземных торговцев: «А как приедут з базаром, ив те поры б у вас в городе однолично во всем было бе-режно, и крепостей им росматривать отнюдь не давалии долго их в Тюмени не держали» [2, 357]. При отправкеобратно посланника царевича Девлет-Гирея в 1637 годутарский воевода велел его «с торговыми бухарцы вестипустыми и крепкими месты и того беречи накрепко, что-бы те Девлеткиреев посланник и бухарцы ничево не рос-матривали и не розведывали. И провожаючи… велел вних выведывать всякими мерами ласкою: прямо ль Див-леткирей, Кучумов внук, присылал того посланника свое-го Баянка с прямою правдою, что хочет он быть под твоеюгосударевою царского величества высокою рукою, или онприсылал чево высматривать и розведывать и не татарли присылал подзывати» [2, 520].
В период Смуты необходимо стало скрывать не толь-ко и не столько то, что происходило в колонии, сколькото, в каком состоянии оказалась метрополия. Любая ин-формация о происходящем «на Руси», ставшая достоя-нием инородцев, расценивалась как признак «воровс-кой шатости и измены». Весной 1609 года писал на Вер-хотурье с соляного промысла Ворошилко Власьев:«…приходили де к нему Ворошилку из Неглу с верх Со-свы реки Верхотурского города уезду ясачной вагулятинЦыба Албаутов да Пелымского города уезду сосвинскойже вагулятин сотников Кумысов сын Андрюшка, и распра-шивали де у него Ворошилка те вагуличи про русские ве-сти, и про запасы, и про однорядки, и сколько де у тебянаемных людей и много ли пищалей… а про русские девести ты Ворошилко нам не сказываешь, и мы де прорусские вести и сами ведаем, что на Москве русские людимеж собою секутся… Да Кумычев же де сын Семеика,приходя с Сосвы на Туру реку, по юртам у ясачных татар иу вагулич про русские вести проведывает… неведомо длячего» [2, 246].
Летом 1612 года в Пелым поступила информация,«что приехали с верх Лозвы, с Вишеры, вагуличи в Пе-
110
лымской уезд в Сынкину сотню к Сынке к сотнику с това-рищи для воровского совета и умышления; а говорят деони пелымскому сотнику Сынке: с нас де сего году ясакуне хотели взять, а хотели де нас лозвинских и вишерскихвагулы на Русь в войну везти…» [2, 261]. Подобная интер-претация инородцами событий в метрополии привела ктому, что по словам одного информатора «хотят де вагу-личи в сибирских городех воевать, чем де нам итти наРусь воевать в войну… государя де ныне на Москве нет,ныне де одни в Сибири воеводы, а людей де мало рус-ских во всех сибирских городех» [2, 261].
Повышенная тревожность и мнительность со сто-роны русской колонии в Зауралье обусловили и ее четковыраженную военизированную окраску, обычно связы-ваемую в историографии с кочевой угрозой (кучумовичи,ногаи, чуть позже калмыки). Однако в пределах рассмат-риваемой территории кочевниками до середины XVII сто-летия было совершено всего чуть более двух десятковнабегов, причем, бульшая их часть приходилась не нарусские колониальные поселения, а на инородческиеясачные волости. К тому же колониальная поселенчес-кая структура в массе своей была уже подготовлена ввоенном отношении к периодам обострения ситуации, ане возникала в результате этого обострения (исключени-ем является постройка острогов у ряда слобод в конце20-х – 30-е гг. XVII в.). Не было также в пределах русскогозаселения до 60-х гг. и сколько-нибудь значительных иопасных выступлений местных инородцев (по крайнеймере осуществившихся).
Итак, не следует преувеличивать реальную угрозурусской колонии в Зауралье. Более того, документаль-ные данные показывают, что поселенческая структураЗауралья, несмотря на ее отчетливо военную окраску,фактически обходилась без различного рода укреплений,поскольку многие из них не были функциональны (хотяподобные факты вызывали самую серьезную озабочен-ность у колониальной администрации и служили пово-дом к бесконечным челобитным на государево имя опомощи в восстановлении обороноспособности колонии)[3, 69-72]. Помимо плачевного состояния острожного стро-ения крупных населенных пунктов Зауралья, последниеотличались и недостаточным количеством служилогонаселения, а также хронической нехваткой вооруженияи боеприпасов [3, 72-74].
С одной стороны, значительная степень нефункци-ональности военно-оборонительных атрибутов поселен-ческой структуры Зауралья косвенно подтверждает нашивыводы о мифичности серьезной военной опасности поменьшей мере до 60-х гг. XVII столетия. Но с другой сторо-ны, наблюдавшаяся на этом фоне «психология осадногоположения» у колониальной администрации (а возмож-но в какой-то степени и у рядового населения) приобре-тает явно патологический оттенок.
Вообще, чрезмерные защитные реакции возникаютне только в ответ на мнимые угрозы, но и в качестве не-коего общесистемного явления – как следствие неспо-собности системы к адекватному и/или своевременномуреагированию на опасные внешние или внутренние флук-туации. Причем, неспособность эта может быть вызванакак свойствами элементов этой системы, так и особенно-стями протекания информационных потоков между ними.На наш взгляд, именно специфика информационных вза-имосвязей в колонии сыграла решающую роль в том, чтопоселенческая структура здесь имела выраженную во-енную окраску (функциональность ее принципиальногозначения не имеет).
Сибирские инородцы, постоянно живущие в преде-лах русского расселения, имели потенциальную возмож-ность осуществления быстрой и неожиданной атаки на
колониальное население. Мало того, что большинствокрупных населенных пунктов Зауралья были функцио-нально связаны с местным населением, а локализацияих в известной степени определялась его расположени-ем, многие представители инородческих военизирован-ных образований (главным образом татарских), входя вколониальный военно-служилый контингент, постоянножили в городах или подгородных юртах.
Что касается кочевников, то для них на территорииЗауралья не было сколько-нибудь существенных преградни географического, ни информационного характера.Места их традиционных кочевий часто лежали уже в пре-делах сферы влияния Русского государства, нередко нарасстоянии всего в несколько дней пути от сибирских го-родов и слобод. Сначала ногаи, кучумовичи, а затем исоюзные последним калмыки предпочитали кочевать посреднему течению рек Ишима и Тобола, а также по при-токам последнего – речкам Абуге, Ую и Тогузаку, в 6-10«днищах» от Тюмени. Места традиционных зимовий, какправило, уже находились в 3-7 днях пути или ближе.
Иногда места кочевий почти вплотную приближалиськ окраине русского заселения. Так, летом 1601 года по-явились сведения о намерении ногайцев и казахов к осе-ни прикочевать на Исеть реку в Пускурскую волость тю-менского уезда [2, 198]. Весной-летом 1605 года «от Тю-мени за полтора днища», на устье реки Суери, кочевалсо своими людьми царевич Азим [2, 223]. О близкой под-кочевке калмыков сообщали из Туринска в 1614 году [2,269]. В июле 1628 года стало известно, что «многие кол-мацкие люди… кочуют от города от Тюмени за три днищаи ближе» [2, 395]. В зиму 1628-1629 гг. Чокур тайша соби-рался «итти зимовать на Тобол выше Тюмени» [2, 397]. В1632-1634 годах, в период обострения отношений с кал-мыками, последние фиксировались на реках Пышме,Исети, Суери [2, 462-464, 466-469, 488-490].
Столь близкая угроза извне (со стороны кочевни-ков) и изнутри (со стороны местных инородцев) должнабыла выглядеть еще более опасной, если учесть, что со-общения о возможных или уже свершившихся нападени-ях в пределах колонии хронически запаздывали.
Так, 6-го июля 1612 года пелымский воевода П. Ис-леньев по «пыточным речам» вогула Тахтанской волостиЕнбахты узнал, «что вишерцы и лозвинцы собрався всебольше двухсот человек дорогу прочищать к Пелымско-му городу, а ходу де тою дорогою к Пелымскому городутри дня, и пришед де им на Пелымку реку, сходиться скондинцы и со всею землею, и из пелымских изо всехволостей итти к ним же в скоп, а срок положен у них, какприйти к Пелымскому городу, от того числа три дня… иони де для того приговору меж себя идут все за одинвсеми землями Пелымской город воевать» [2, 262-263].В Тобольске эта информация стала известна не ранее12-го июля, поэтому Пелым (состояние крепостного стро-ения которого в это время оставляло желать лучшего)практически не имел временнóго ресурса для подготов-ки к защите города.
Хроническое запаздывание жизненно важной ин-формации было характерно и для сведений о кочевни-ках. Приведем несколько примеров.
Шестого августа 1608 года писал на Тюмень уфимс-кий сын боярский Иван Каловский, что был он в Карата-бынской волости 21-го июня, «и того ж де числа пришли вКаратабыньскую волость нагайские торговые люди… асказали ему в распросе: послал де Урус мурза резвыхвоинских людей 200 человек под Тюмень… а сам де Урусмурза идет под Тюмень после их, а с ним воинских людей2000 человек» [2, 243].
Четвертого июля 1629 года «прибежали на Тюменьтюменские юртовские и тарханцы, служилые люди и ясаш-
111
ные татаровя с Ишима реки с промыслу з бобров… авидели они сакму воинских людей, перевезлись из заИшиму на сю сторону… а гораздо де их много по каменюшли, а дорогу в пол колена выбили, а видели ту сакмуиюня в 23 день» [2, 415].
Семнадцатого июня 1635 года под Верхнюю Ницынс-кую слободу «приходили изгоном воинские колматцкиелюди и государевы изменники тарские и тюменские тата-ровя Кочашко Танаторов с товарищи и слободы пожгли, искот отгнали, и полон поимали» [2, 494]. В Тобольске обэтом стало известно не ранее 27 июня, и лишь третьимиюля датируется указание из Тобольска в Нижнюю Ницын-скую слободу о мерах предосторожности по этим «вестям».
Третьего августа 1647 года в Нижнюю Ницынскуюслободу пришли вести с Пышмы от уфимского ясачноготатарина, что «идут де войною калмацкие люди под Тю-мень и на слободы по смете человек с полторасто, а идутде они легким делом, а как он их видел, тому девятойдень» [2, 607].
Четвертого августа того же года «прибежал ис поляв Ирбицкую слободу ирбитцкой оброчной крестьянинМикитка Антипин, а в роспросе сказал…: был де он Ми-китка с товарищи у Исети реки на усть Суварыша речки нарыбной ловле, и июля в 30 день нашли на их станы кал-матцкие воинские люди… и всех де калмытцких людейпо смете будет ста с полпята, а куды они идут: под Тю-мень или под слободы, про то им неведомо; а от Ирбит-цкие слободы до тое речки до усть Суварыша коньмиехать дни два» [2, 607].
Приведенные случаи весьма красноречивы: «вес-ти» опаздывали как минимум на несколько дней. Совер-шенно очевидно, что в этих обстоятельствах управляю-щие органы колониальной структуры просто не имеливозможности адекватно, а главное своевременно, отре-агировать на чрезвычайные события.
Для системы, которая не контролирует ситуацию врежиме реального времени, жизненно необходимымстановится наличие определенного временнóго ресур-са, который бы позволил отреагировать на опасную ситу-ацию заранее. Система пыталась путем усиления инфор-мационных сигналов обнаружить следы возможного иопасного для нее будущего, которое неизбежно должноотбрасывать свои тени в настоящее. Это информацион-ное усиление породило особый способ получения све-дений о происходящем в колонии – посредством слухов.
Слухи (любая непроверенная информация с претен-зией на полную достоверность) были без преувеличениядоминирующей формой информационного обмена каквнутри колонии, так и в ее связях с метрополией. Любоесообщение, имевшее отношение к безопасности коло-нии, вне зависимости от правдоподобности (так, в нояб-ре 1645 года настоящую панику вызвала весть о сборекалмыков «со 100000», которые «хотят итти войною» [2,592]), воспринималось как совершенно достоверное (т.е.за ним следовали определенные административныедействия). Вместе с тем, из более чем 70-ти проанализи-рованных нами слухов («вестей»), предупреждавших онесомненно («одноконечно») готовящихся набегах кочев-ников, лишь по 12-ти из них «вести» подтвердились. При-чем доля подтвердившихся слухов составила всего околополовины от общего числа совершенных набегов (чутьболее двух десятков). Таким образом, подавляющая часть«вестей» работала впустую – на обеспечение защиты ототсутствующей угрозы. Если же учитывать любые тревож-ные сообщения, касавшиеся кочевников, их близких под-кочевок, наличия их сакм (следов), вестей об откочевкеих со своих кочевий «неведомо куды», появления подо-зрительных людей и т.п., каждое из которых вызывалотревогу в колонии, то легко представить себе ту степень
настороженности, которой характеризовалось восприя-тие колониальным населением своей кочевой окраины.
Со значительной степенью недоверия относилисьи к местным инородцам, жившим рядом с русским коло-ниальным населением. В известном смысле «чувстви-тельность» колониальной администрации к «шатости»инородцев была даже острее, чем по отношению к внеш-ней угрозе со стороны кочевников (внутренние флуктуа-ции всегда опаснее для стабильности системы, чем флук-туации внешние). Любые проявления нелояльного пове-дения со стороны инородцев становились объектом вни-мания органов колониального управления и предметомактивной административной переписки. В практике пос-ледней даже появилась особая формула: в инородцах«шатости велеть проведывать всякими мерами тайновсякими людьми».
Так, пелымский воевода П. Исленьев отписывал ту-ринскому воеводе Ф. Акинфову, что 27 июня 1612 года«извещала пелымского стрельца Титка Иванова женаОленка Яковлева дочь на пелымского ясачного вагуля-тина на Янкилдейка Микирова… что пришел тот Янкил-дейко к ней на двор с утра, и она ему Янкилдейку сталаговорить, что де тебе дело ко мне ходити на двор; и тот…Янкилдейко стал ей говорить: много де ты расшумелась,ужо де будем мы вас стрелять; а в те поры была у нее надворе пелымского пушкаря Данилка Юрьева девка, и таде девка его Янкилдейка бросила щепою и излаяла, чтоде ты так говоришь, и тот Янкилдейко стал девке гово-рить: а тебя де мы сожжем…» [2, 261]. Именно этот изветстал основой раскрытия целого «заговора» инородчес-кого населения Пелымского, Березовского и Верхотурс-кого уездов против русского колониального населения.
Констатировавший шатость в тюменских и туринскихтатарах приказчик Чубаровой слободы М. Харламов от-писывал в Туринск в начале 1630 года о таком случае:«…приехал с Тюмени Туринского острогу жилец плотникТренка Оксенов, а сказал: как де он ехал на Тюмень всанех, и встретил на дороге дву татаринов на санях… икак де розезжалися, и ево излаяли по руски матерным, иучали говорить: ужо де головы посечом всех руских мужи-ков, а плетью по саням стегают по Тренькиным» [2, 427].По всей видимости, настороженность по отношению кинородцам в отдельные периоды достигала такого уров-ня, когда любые случаи неприязненных отношений меж-ду ними и русским населением автоматически подпада-ли под определение «шатости».
Впрочем, даже нейтральные и во многом вполнелояльные высказывания местных инородцев могли статьпредметом административного разбирательства. В 1630году татарин Аккана, находясь у чубаровского крестьяни-на А. Федорова и «розговорясь про Ермака, про сибирс-кое взятье, говорил, что ужо де тушман будет, русские делюди все пропадут… и они де ево Аккана спросили: ка-кой тушман откуды будет; и он де им сказал на отбой, чтоколмаки будут» [2, 426]. Эта на первый взгляд совершен-но невинная беседа закончилась допросом у приказчи-ка и перепиской с туринским воеводой. Все это, конечноже, свидетельствовало о слабости колониальной адми-нистрации и неспособности ее к адекватному восприя-тию обстановки, поскольку вынуждало реагировать ее налюбые сведения о возможной угрозе.
Сам способ получения этой информации детерми-нировал не только значительные искажения при ее пе-редаче, но и некритическое отношение к ее интерпрета-ции. Относительно частым явлением становятся так на-зываемые «всполохи» – часто не имевшие реальных ос-нований тревожные вести, вызывавшие панические на-строения в колонии.
В начале июля 1607 года стало известно на Тюмени
112
от юртовских татар, «будто перевозилися Алеевы людичерез Туру реку, ниже Тюмени» и «по тем вестем посыла-ли на усть Тоболу проезжую станицу; и те вести пролгали-ся, не бывало ничего» [2, 233].
Летом 1625 года в Верхотурском и Туринском уездахпоявились слухи, что «на Невье в поле збираютца вогули-чи вместе со всем скопом и з женами и з детьми, а про тоде на Невье руские люди думы в них не ведают, для чевоони вместе копятца» [2, 374]. Об этом же писали кресть-яне Невьянской волости в челобитной на царское имя,где указали, что «в нынешнем де во 133-м году июня в 21день верхотурского де ясаку и Туринского острогу ясаш-ные тотаровя и вагуличи, которые живут по рекам по Ней-ве, и по Нице, и по Режу, из юртов выехали вон з женамии з детьми, и собираютца де те вагуличи и тотаровя наАять озеро, а ездят де они на то озеро человек по 5, и по6, и по 10, а где они, едучи на то озеро, станут варить кашиили ночевать, и на тех де станех те вагуличи и тотаровестружут стрелы и желесца стрельные делают сами; и при-езжают де те вагуличи и тотарове с Ояти озера под Не-вьинскую слободу ночью и из утра рано подсматриваютпо 10 и по 15 человек, и те крестьяне видают их многих»[2, 375]. Туринский воевода, видимо, имевший какие-тосомнения в достоверности этих сообщений, указал прове-рить, «все ли есть тотаровя по юртом. И июля в 6 деньтолмач Беляйко Иванов в Туринской уезд ездил и, при-ехав, в роспросе сказал, что туринские татаровя и вагуличиживут все по своим юртам, а в отъезде никово нет» [2, 375].
В конце июля 1629 года приказчик Красной (Нижне-Ницынской) слободы Остафий Михалевский отписывалтюменскому воеводе: «В нынешнем во 137-м году июля в24 день зделали всполох есашные епанчинской татаринТиугелдейко Мучнев да Иленского города татарин Чекма-метко Турубаев, даючи вести ночию по юртам иным тата-рам и на Чюбарово, и в Ницынскую слободу, а сказали,что погромили идучи ис Ката[я] колмацкие люди Букшур-ских волостей татар на Утеше озере… и, языков побрав,идут в Тюменской да в Епанчинской уезды под государе-вы слободы. И я по тем вестям их велел крестьяном со-братца в острог… а сам хотел допряма проведать, взяв ссобою Обуховых юрт татар… в подъезды ездил полтораднища, откуды и чаяли приходу, и на Чюбарово заезжал,про те вести допрашивал, откуды им те вести были; и при-казной Чюбаровской Михайло Харламов призывал истатар епанчинских лутчево татарина мурзу Гилдея Кил-дибаева, и он сказал: те де татаровя ложно всполох сде-лали» [2, 415-416], на основании чего О. Михалевскийпросил «о том велеть сыскать, для чево они такой вспо-лох зделали, не было бы у них каково заводу…» [2, 416]. Впроцитированном документе показательна реакция сло-бодского приказчика на тревожные вести. С одной сто-роны, они заставили его совершенно определенно про-реагировать на них («велел крестьяном собратца в ост-рог»), но с другой, вызвали столь же определенную реак-цию недоверия («а сам хотел допряма проведать»).
Распространенность «всполохов», часто не имевшихреальных оснований, еще более наглядно показываетреакция приказчика той же Нижне-Ницынской слободыИвана Венгеровского на вести о нападении калмыков наТюмень осенью 1634 года, на этот раз подтвердившиеся:«И я тому не веречи (!. – В.П.), с Ницы на Тюмень… писал,чтоб допряма про тех про колматцких воинских людейпроведать, и на Тюмень ницынских служилых людей двучеловек конных казаков… послал» [2, 488-489]. Подоб-ную реакцию на сведения очевидцев нападения калмы-ков на Тебендинскую, Коурдацкую и Верх-Вагайскую во-лости в ноябре 1631 года мы видим и у атамана Ишимс-кого острога Юрия Воеводского: «И он де Юрей, не пове-ря им (!. – В.П.), посылал с Ишимской заставы служилых
людей и татар в подъезд; и служивые де… люди и татаро-вя, приехав ис подъезду, сказали ему то же» [2, 448].
Однако не всегда разумное недоверие к поступаю-щей тревожной информации могло пересилить страхперед «воинским приходом», что приводило иногда к со-вершенно курьезным случаям. В декабре 1645 года поНицынской, Киргинской и Чубаровской слободам пронес-ся слух о том, что «декабря де в 1 день пришед многиеколмацкие люди Мурзинскую слободу осадили и многихрусских людей в полон поимали», в результате чего чуба-ровский приказчик срочно запросил прислать из Туринс-ка служилых людей для «обереганья» слободы [2, 593].Как вскоре выяснилось, «в Мурзинской слободе гулящиелюди и крестьяне билися кулаки и подрались, и услышавту драку, иные гулящие люди 2 человека, а не розведавподлинно, почаяли приходу колмацких людей и, прибе-жав в Невьянской острог, сказали прикащику Илье Бакше-еву, что колмацкие люди Мурзинскую слободу повоевали;а под Мурзинскую де слободою воинские люди не бывали,и на Невье тех гулящих людей ныне сыскивают…» [2, 594].В 1672 году прокатилась тревожная весть о «воинскомприходе» калмыков и башкир под все ту же Мурзинскуюслободу из-за ошибочного принятия бежавшего с полятабуна лошадей за набег «воинских людей» [3, 87].
Иногда ложные «всполохи» охватывали не толькозначительную часть колониальной поселенческой струк-туры, но и докатывались до Москвы. По отписке Тагильс-кого приказчика Андрея Перхурова на Верхотурье следо-вало, что в начале декабря 1645 года калмыки «повоева-ли» новую Благовещенскую слободу. В начале следующегогода об этом узнали в Москве, а оттуда в Тобольске. 31 мар-та 1646 года тобольский воевода кн. Григорий Куракин всвоей отписке выговаривал туринскому воеводе кн. ПетруБарятинскому, почему он «де о тех вестях для чево в Тобо-леск не писал»? [2, 596] Последний несколько обиженноотвечал: «…в Туринском уезде в Благовещенской слободеколматцких людей и вестей отнюдь не бывало, и ложно овестях писать ни в которые городы нечево» [2, 596].
Временами «всполохи» вызывали судорожные и побольшому счету бессмысленные попытки обороны:«…как де изменили Березовского уезда все ясашныелюди (осенний «процесс» 1607 года над инородцами. –В.П.), и они де в те поры на Березове сидели в осаде двамесяца, и около города ров копали, и во рву острог стави-ли, и город крепили…» [2, 240]. Во время инородческихволнений 1612 года: «И он де Петр (пелымский воеводаПетр Исленьев. – В.П.) на Пелыме на посаде половинупосадских дворов велел сломати и острогу велел убави-ти, потому что острогу осадити не кем…» [2, 263]. В 1625году «на Верхотурье и в Верхотурском уезде, на Тагиле ина Невье, учинился всполох по вестям от колмацких лю-дей, и в тот сполох на Тагиле поставили острог около на-ших житниц, а надолбы не поставлены и ров не выкопан,а на Невье около слободы поставлены надолбы, а ост-рогу поставить и рву выкопать не успели» [2, 380].
Поиск ростков опасного будущего в настоящем и ихнейтрализация становятся одной из специфических фун-кций административной структуры. Проявлением этойфункции можно считать и распространение института«аманатов» («закладов»), когда у вызывавших сомнениев благонадежности местных инородцев и кочевников бра-ли временных заложников – «лутчих людей», что в опре-деленной степени служило гарантом безопасности дляколонии на ближайшее будущее. Когда в зиму 1595-1596 гг.из Тюмени бежали 50 человек татар, по царскому распо-ряжению следовало, если они не вернутся по своим юр-там, «которые заклады у них в городе сидят… побить дляих измены» [2, 175].
В 1613 году, в период «шатости великой» в пелымс-
113
ких вогулах, пелымский воевода Федор Годунов писалгосударю о вогулах, что «укрепить их нечем», так как «прежсево из вагулич в город в заклад не имывали» [2, 266].Чтобы не допустить новых волнений, Ф. Годунов уведо-мил государя о своем решении «взяти из волости по че-ловеку побыти в городе в закладе до тех мест как пашен-ное время минетца» [2, 266], на что получил выговор:«…людей в закладе держишь и тем татар жесточишь… атем бы ясачных татар не жесточил, в городе их без уликивперед не держал» [2, 266].
Летом 1629 года тобольский воевода кн. А. Трубец-кой отписывал туринскому воеводе А. Зубову: «Да и в ту-ринских татаровях проведывати тебе тайным обычаем:нет ли в них какие шатости и измены и с царевичем сАблагеримом и изменники ссылки; а будет в которых тата-рех почаят такую шатость и измену… и без закладов будетверить им немочно, и тебе б, господине, у тех татар иматизаклады лутчих людей, поскольку человек пригоже, смот-ря по тамошнему делу, и держати их в остроге» [2,418].
«Сановитых» кочевников, бывших в аманатах, от-правляли в Москву «под высокую царскую руку», щедроодаривали платьем, сукном и пропитанием. Впрочем,иногда эта практика давала сбои и вызывала противопо-ложную реакцию. Так, в самом начале XVII века по при-глашению из Тобольска Кучумовы царевичи «отпустили вТоболеск брата своего меньшово Кубей Мурата царевичана том слове, что, побывав де было царевичю в Тобольс-ком городе и договор учиня о полону, и отпустити былоцаревича Кубей Мурата к ним назад на срок; а из Тоболь-ского брата их Кубей Мурата царевича назад не отпусти-ли, и тем де их ожестили… А из Тюменского де… горо-да… звали их на государево же имя, и они де в Тюменс-кой город для того же не поехали, а послали де… лутчегочеловека своего Минлибая абыза ко государю о себе битичелом. И к ним де от братьи их и от людей их, которыхотпустили ко государю, вести никакие нет» [2, 196]. Вес-ной 1623 года появились сведения, что поскольку «Иши-мов посол с Уфы и по сю пору не отпущен, и хочет деИшим царевич на Уфинской уезд приходить за того свое-го посла войною» [2, 350].
Еще более ярким примером «модификации буду-щего» в части нейтрализации его наиболее опасных длярусской колонии тенденций являлась практика «охотына ведьм», проявлявшаяся в поиске и искоренении «ша-тости про измену» в среде местных инородцев. Причемдумается, что значительная часть этих «процессов» неимела под собой реальных оснований, хотя в существую-щих мнениях по поводу этих «кампаний» достоверностьоснований сомнению не подвергается. Как бы то ни было,представление о «шатости» местных инородцев былошироко распространено (а в отдельные периоды и доми-нировало) в зауральской части русской колонии в Сибири.
Осенью 1604 года стрельцами был схвачен сосвен-ский вогулетин Алпаутка по подозрению в намерении«соляной промысел сжечь и деловых людей побить»; «датот же Алпаутко сказал с пытки, что в 112-м году весноюприсылали к ним на Сосву лялинские вагуличи вагуляти-на Иванка Есанчина, чтоб они де сосвинские вагуличипришли к нам на Лялю, и приходить было им с тагильски-ми вагуличи на Усть-Ляли реки и громить твой государевпелымский хлеб, а русских людей побить, и к Верхотурьюпод город с войною приходить, и город сжечь, и по доро-гам и на пашнях русских людей побивать было…» [2, 215-216]. На указание государя о поиске «воров» по инород-ческим волостям и юртам верхотурский воевода НеудачаПлещеев отписывал в Москву: «И которых, государь, Вер-хотурского уезда ближних юртов и волостей сотников илутчих людей на Верхотурье и призовем и мы холопи твоипо твоему государеву указу о ворах у них распрашиваем
накрепко, и кормим и поим их по твоему государеву указудовольно, и они, государь, нам холопем твоим про изменуи на воров отнюдь не сказывают ничего, и воров и молодыхлюдей, которые умышляют про измену, сходя меж собой вовсяком воровстве, укрывают, потому что они сотники и лут-чие люди сами воры и с ними воруют с одного, потому чтоим воровство по се пору пробывало» [2, 217]. В данномслучае показательно совершенно определенное представ-ление власти о местных инородцах и о «лутчих» их предста-вителях как о «ворах». По государеву указу на Верхотурье,«сыскав допрема пущих начальных воров, велели потому жповесити, а иных сажали в тюрьму» [2, 221].
Осенью 1607 года полонянка Осдоня из березовс-ких подгородных юрт пришла в съезжую избу и «сказалана всех Березовского уезда остяков измену… что хотелинашу казну и хлебные запасы громить, и служилых и тор-говых людей побить…» [2, 236]. В измене были обвиненыкнязь Василий Обдорский и его сын Мамрук, остяки ля-линские, ломинские, казымские, сосвенские, кодские,березовские подгородные и сургутские ясачные люди ипелымские вагуличи, «и изменная у них мысль и ссылкамеж себя была одна, а всех де было у них людей в сбореостяков и самоеди 2000 человек, а съезду быть было у нихвсем людям за неделю до Петрова дня в обской протоке,в Изяпали, выше Березова города 15 верст, и казна былогромить и к городу приступить» [2, 237]. В результате недо-лгого следствия (не более двух месяцев) «пущие воры»были казнены, остальные повинились и были прощены.
Ранней весной 1609 года проводилось дознание поповоду слуха, что тюменские служилые татары «хотят го-сударю изменить, выехать все вдруг в те поры, как снегстанет с поль сходить, а изменя приходити им под госу-даревы городы с колмаками вместе» [2, 244-245]. След-ствие ни к чему не привело, а тюменские служилые иясачные татары били челом государю «о праведном сыс-ку, что… государю они не изменники» [2, 245].
Летом того же 1609 года посланные на Сосьву длянедоборного ясака березовские казаки принесли стре-лу, «а на ней нарезано 11 шайтанов с рубежи, а поперекшайтаны резаны, и железо стрельное терто; а сказалиим те казаки, что они тое стрелу взяли у котского остяка уКочегомка; и оне тое стрелу казали служилым и торго-вым людям, и служивые и торговые люди сказали, чтонаперед сего такие стрелы ходили промеж остяков дляизмены (известия о хождении «изменных стрел» средиинородцев встречаются и позже. – В.П.)» [2, 248]. На пыт-ке Кочегомка обвинил в измене кодскую княжну Анну Иги-чееву, ее родственников, а также обдорского князя Мам-рука, который был «со всеми обдорскими остяками и ссамоедью с ними в думу готов; а преже де было им… напроезде побивать всяких русских людей и, собрався совсеми остяки, итти было им к Березову городу войною,как будут темны ночи» [2, 248]. Также была получена ин-формация, что тобольские юртовские татары «и кондин-ские остяки все с ними войною под Тобольск готовы… акоторые остяки на усть Иртыша живут близко, и те остякис ними ж в одной изменной думе» [2, 249].
Летом 1612 года в Пелым поступила информация,«что приехали с верх Лозвы, с Вишеры, вагуличи в Пе-лымской уезд в Сынкину сотню к Сынке к сотнику с това-рищи для воровского совета и умышления; а говорят деони пелымскому сотнику Сынке: с нас де сего году ясакуне хотели взять, а хотели де нас лозвинских и вишерскихвагулы на Русь в войну везти…» [2, 261]. Пелымский сот-ник Сынка и «лучшие» пелымские ясачные вагуличи «враспросе и с пытки сказали, что было де у нас умышле-ние подлинное с березовскими остяки, и вишерскими, ис лозвинскими, и Верхотурского уезда, что де приходитьнам преже воевать Пелымской город ныне о Ильине дни
114
или после Ильина дни на первой недели, как сена зачнуткосити и хлеб жати, и пришед преже де было зажигать…и промышлять над Пелымским городом, и над воево-дою, и над русскими людьми, и выпустоша де было Пе-лымской город, да итти было в Пермь воевать и в пермс-кие волости» [2, 262].
Преследования продолжались по меньшей мере доконца 1612 года. Еще в декабре пелымский воевода ПетрИсленьев отписывал в Туринск, что местный новокрещенговорил ему в распросе: «…как де у вас на Епанчин по-едут по хлебные запасы, и у нас де сдумана дума у всех…что быть на Пелымь всем волостям вместе… и собравсяде итти в город… и промышлять, как де позовут в город сясаком; и нам де в те поры убить меня Петра и всякихрусских людей, а достальным де людям зажигать в ост-роге и достальных русских людей побить…» [2, 263].
«Шатость великая» в пелымских вогулах заверши-лась тем, что были «многие вагуличи в ызмене переима-ны и перевешаны» [2, 266]. «Шатости» в местных инород-цах фиксировались и в дальнейшем (1618, 1625, 1629-1630 гг.), однако расследования по этому поводу уже недостигали размаха «смутного времени».
Как мы видим, основная часть сообщений о небла-гонадежности сибирских инородцев приходится на пери-оды кризисных ситуаций в метрополии, главным образом,на период Смуты. Это можно объяснить, во-первых, ре-альной активизацией недовольного своим положениеминородческого элемента, воспользовавшегося ослабле-нием русских колониальных структур для изменения ситу-ации в лучшую для себя сторону. Во-вторых, согласно на-шему тезису о неспособности системы к своевременной иадекватной реакции как источнике гипертрофированнос-ти защитных реакций, степень проявления последних мо-жет быть увязана с мерой ослабления самой системы.
Информационная система видит и находит то, чтохочет видеть и стремится найти. Русская колониальнаяструктура, настроенная на поиск в информационном шумелюбых сигналов, свидетельствующих об источниках воз-можной опасности, неявно попадала в ею же созданнуюинформационную ловушку. Поиск подтверждений суще-ствования угрозы неизменно находил их, а психологияосадного положения во все большей степени определя-ла мировосприятие и поведение населения колонии.
Список литературы1. Миллер Г.Ф. История Сибири. - Т. I. – М., 1999.2. Миллер Г.Ф. История Сибири. - Т. II. – М., 2000.3. Пестерев В.В. Организация населения в колонизуемомпространстве: Очерки истории колонизации Зауралья кон.XVI – сер. XVIII в. – Курган, 2005.
А.В. Беляковг. Рязань
СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ ПРИ ДВОРАХСИБИРСКИХ ШИБАНИДОВ КОНЦАXVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В.Начиная с последней четверти XVI в. Россию начи-
нает попадать значительное количество сибирских Ши-банидов. Это были жены, дети, племянники и внуки ханаКучума. Каждый из них имел свой особый статус на новойродине. Одни практически всю жизнь оставались на по-ложении почетных пленников. В лучшем случае мы зна-ем их по именам. Другим удалось принять активное уча-стие в бурной истории России рубежа XVI-XVII вв. и оста-вить после себя определенный след в приказных доку-ментах [5, 8-30; 7, 9-48; 9, 21-35; 10]. Но вместе с Шибани-
дами в России теми же путями оказывались и отдельныечлены их дворов. Последние до последнего времени нестановились предметом научного исследования. Главнаяпричина этого кроется в более чем скудной базе источ-ников по данной теме. Благодаря тому, что в РГАДА запоследние годы были обнаружены неизвестные ранеедокументы, мы можем частично восполнить данный про-бел. При этом в подавляющем большинстве случаев мыможем только составить некий финансовый отчет о ма-териальном содержании данных людей. Тем ценнее лю-бые сведения, касающиеся их семейных связей, профес-сиональных навыков, отдельных черт характера. Это за-ставляет исследователя быть предельно осторожным всвоих выводах, дабы не создать новых мифов.
Нельзя не отметить, что появление в европейскойРоссии служилых сибирских татар оказалось связаннымне только с только с сибирскими Шибанидами, но такжес казахским царевичем Ураз-Мухаммедом ибн Онданоми тайбугидом князем Сеид-Ахмедом [8, 29-60]. Это одиниз наиболее темных моментов в рассматриваемой намипроблеме. Очевидно, что вместе с ними в России оказа-лось их ближайшее окружение. Дворы царевича и князятакже могли увеличиваться за счет самостоятельно вы-езжавших сибирских татар. Но здесь мы практически пол-ностью лишены источников и вынуждены очень осторож-но подходить ко всем уже известным нам фактам.
У нас практически отсутствуют данные о составе дво-ра касимовского царя Ураз-Мухаммеда ибн Ондана (допровозглашения его царем подобная информация отсут-ствует полностью). Мы можем использовать только бо-лее чем отрывочные данные. Так, известно, что приобъявлении Ураз-Мухаммеда касимовским царем в Мос-кве находилось «человек двести» касимовских беков,мирз и простых татар. Уже в Касимове на золотой кошменового хана подняли четыре бека: Исбай мангыт Сама-най-бек, джелаир Кадыр-Али-бек, кипчак Тукай-бек, ар-гын Чешь-бек [10, 401-403].
При этом у нас возникают вполне оправданные воп-росы. Являлись ли все татары, присутствовавшие на це-ремонии, членами двора нового царя? Являлись ли чле-нами двора Ураз-Мухаммеда упоминаемые беки? Мож-но ли их отнести к сибирским татарам в широком пони-мании данного термина? Попытаемся разобраться споставленными вопросами. Если привлечь уже имеющи-еся у нас данные о структуре дворов прежних касимовс-ких Чингисидов, то мы можем утверждать, что в своемподавляющем большинстве это все же татары, оставши-еся после предыдущих «правителей». Если обратиться кколичественному составу дворов касимовских Чингиси-дов в более позднее время [5, 8-30], то мы можем пред-положить, что двор Ураз-Мухаммеда мог состоять не бо-лее чем из нескольких десятков человек. Некоторые изних могли попасть с ним в Россию еще из Сибири. Другиемогли выехать к Чингисиду позднее из Сибири, казахскихстепей или иных территорий. Конечно же, могли попастьво двор и отдельные представители собственно касимов-ских татар. Вполне возможно, что имена некоторых изних мы в дальнейшем встречаем в списке двора после-дующего касимовского царя Арслана ибн Али. Что каса-ется упоминаемых здесь беков, то перед нами главы че-тырех наиболее влиятельных на тот момент в Касимовеэлей, или просто наиболее влиятельные люди города.Наличие в регионе Мещеры классической степной эле-вой системы, по крайней мере в этот период, следуетпоставить под сомнение. Если принять во внимание тотфакт, что во дворе Ураз-Мухаммеда числилось вряд либолее нескольких десятков человек (скорее всего, не бо-лее 30% всех наличных татар в городе и уезде), то мывправе предположить, что как минимум часть из пере-
115
численных беков не имела ко двору нового хана никакогоотношения.
Отдельно стоит остановиться на личности Кадыр-Али-бека ибн Хошум-бека, авторе «Сборника летописей»,из которого мы и черпаем наши знания об описываемыхсобытиях. О себе он пишет следующее: «Гребне-тамго-вый джелаирец, служивший еще предкам Ураз-Мухамме-да» [19, 46]. В последнее время в литературе благодаряМ.А. Усманову утвердилось мнение, что это упоминаемыйсибирскими летописями некий карача сибирского ханаКучума, который в 1582 г. изменяет своему сюзерену иначинает вести свою собственную политическую игру. В1583 г. он предлагает мир Ермаку и получает от после-днего для охраны своего улуса 40 казаков, которых и пе-ребил вероломно. Весной 1584 г. он предпринял неудач-ную попытку захвата русской крепости Сибир (Искер), врезультате которой потерял трех своих сыновей. Около1586 г. между Кадыр-Али-беком и князем-тайбугидомСейтяком (Сеид-Ахмед ибн Бекбулат) был образованвоенно-политический союз. Тогда же начинает упоми-наться некий «царевич казачьей орды» (Ураз-Мухаммедибн Ондан). По мнению М.А. Усманова, был образовансвоеобразный триумвират. Вскоре все трое попадают вплен воеводе г. Тобольска Данииле Чюлкову [19, 33-51].Таким образом, перед нами вырастает фигура видногополитика и военачальника, оказывавшего самое прямоевлияние на развитие событий в Сибири конца XVI в. Ме-няется и образ казахского царевича. Теперь перед намине знатный пленник Сейтяка, а вполне самостоятель-ная фигура. Данный взгляд на события и роль в них Ураз-Мухаммеда и Кадыр-Али-бека, конечно же, имеет правона существование. Однако у него имеется один серьез-ный недостаток. Дело в том, что в Москве очень чуткоотносились к определению статуса того или иного плен-ника или же добровольного выходца из мусульманскогомира. Соответственно его статусу, в частности, назнача-лось и содержание. Как правило, фигуры положения Ка-дыр-Али-бека, каким он видится М.А. Усманову, получаливо второй половине XVI в. значительное содержание. Так,в Коломенском уезде в Маковском стане зафиксированообширное поместье некоего казанского татарина Мура-лея Булатова, явно своими размерами выбивающегосяза обычные рамки: «Поместье было за казанского тата-рина за Муролем за Булатовым, после него было за Ва-сильем Норышкиным: пустошь, что было село Фоминс-кое, в нем была церковь Николы Чудотворца (пашни се-редней земли наездом пахано – 450 четей, перелогу –200 четей, перелогу лесом поросло – 50 четей, сена ста-вилось по речке Песоченке и по речке Городенке до Ва-сильевского рубежа – 350 копен); пустошь, что была де-ревня Занкина, на Ганшинском враге (пашни середнейземли наездом пахано – 70 четей, перелогу – 50 четей,перелогу кусторем поросло – 110 четей, сена по Пашеннуврагу – 50 копен, лесу не пашенного – 10 десятин). Всего:в пусте село и пустошь, пашни наеждие - 520 четей, пере-логу – 250 четей, перелогу кустарем и лесом поросло –160 четей «и обоего пашни и перелогу и кусторем порос-ло доброй землею с наддачею - 744 четей, сена – 400копен, лесу не пашенного – 10 десятин» [16, 436-437].М.В. Моисеев отождествляет его с Нур-Али ибн Булатом(Пуладом) ширином. Согласно Шерефи Хаджитархани,Нур-Али в 1550 г. был мирзой, в 1551 г. русские источникиупоминают его как князя (бека). У него также известенбрат, Мамай-бек, который после 1550 г. в источниках неупоминается (указано М.В. Моисеевым). Кадыр-Али-бек,если он являлся именно той личностью, что рисуетМ.А. Усманов, должен был претендовать, по крайнеймере, на неменьшие земельные пожалования. Подоб-ных знатных татарских выходцев могли наряду с Чингиси-
дами использовать и в тех или иных военных компаниях.Упоминаемый нами князь Сеитяк, в частности, участво-вал вместе с Ураз-Мухаммедом в зимнем походе 1592 г.Тогда царевич возглавлял передовой полк, а князь сто-рожевой [РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1589 г. Д.2. Л. 1 об.; 8, 29-60;17, л. 932]. О Кадыр-Али-беке у нас подобной информа-ции нет. Он довольствуется только «скромным» положе-нием, возможно, первого придворного при казахском ца-ревиче, затем касимовском царе. И статусно, и матери-ально оно несравненно ниже того, на что должен былрассчитывать образ, созданный М.А. Усмановым. Поэто-му, по нашему мнению, все же ближе к истине считатьКадыр-Али-бека воспитателем-дядькой (аталыком) Ураз-Мухаммеда. В доказательство этого мы можем привестипример аталыка касимовского царя Арслана ибн Али Кул-мамета Агилдеева (см. ниже). Доказывает это и судьбаимелдеша одного из последних казанских царей Салтан-Булата, сына аталыка Билгидеева (Бигилдеева), ставшегопосле крещения своего господина только мелким помещи-ком в Мещере. Ему предоставили поместье в 10 четвертейв одном поле и сенные покосы в 18 копен сена [3, 19].
Таким образом, следует признать, что из состававсего двора Ураз-Мухаммеда нам точно известно толькоодно имя. Это Кадыр-Али бек ибн Хошум-бек. Остальныеимена мы можем назвать только с большой долей пред-положения. При этом данное лицо с большим трудом под-ходит на роль летописного сибирского карачи. Правиль-нее признать его аталыком или же лицом, взявшим насебя подобные функции и неотстанно находившимся ря-дом с юным царевичем с момента его вывоза в Сибирь.
Но мы можем сделать некоторые наблюдения повопросу о том, кто же мог являться этим загадочным си-бирским карачей из известных нам лиц. В свете вышеиз-ложенного на данную роль больше подходит Мамай мир-за Семендерев или же Карамыш мирза Мусаитов. Соб-ственно о Мамае мирзе нам практически ничего не изве-стно. Мы знаем, что с 1596/97 по 1602 г. он владел круп-ным поместьем в Сотемском стане Ростовского уезда(535 четей в одном поле) из дворцовых сел. Скорее все-го, его поместный оклад составлял значительную по темвременам величину в 600 четей. В апреле 1603 г. данноепоместье досталось ногайскому мирзе Хозяшу Исупову[2, 299-300]. Его жена Нагел-султан Карамышева дочьМусаитова, возможно, через свою мать происходила изрода пророка. Их сына звали Мустафа мирза Мамаев сынСемендерев. Он имел поместный оклад 600 четей. Воз-можно, он приходился Нагел-султан пасынком. У Муста-фы мирзы имелось значительное поместье (судя по все-му, не менее 566 четей в одном поле). По крайней мере,за московское осадное сиденье времен В.Шуйского емуотписали из поместья в вотчину 113 четей с осьминой изего касимовского поместья. Эти пожалования, как пра-вило, составляли 1/5 от общих размеров поместья. Слож-ность заключается в том, что в одном судебном деле, покоторому нам известно об этом пожаловании, находятсядве жалованные грамоты, противоречащие друг другу. Попервой Мустафа мирза получил данную вотчину из ста-ринного своего поместья. По другой мирза получил этуже вотчину от своей тетки Исен-бике (Исенбичка), мате-ри Яншея (Еншея) и Сеитяка Мусаитовых детей. При этомдо нее вотчиной владел ее сын Яншей, получив ее замосковское осадное сидение [РГАДА. Ф.1209. Оп. 4. Кн.5980. Л. 493-516 об.; Ф. 131. Оп. 1. 1633 г. Д. 17.]. Можнопредположить, что Исен-бике являлась женой Исенеямирзы Карамышева. Но для окончательного вывода у насслишком мало данных. О Карамыше мирзе Мусаитовенам не известно ничего, кроме того, что он, скорее всего,являлся аталыком одного из сибирских Шибанидов. ВГИМе хранится капторга его сына, Исенея Карамышева,
116
с владельческой записью, из которой мы знаем, что онявлялся имелдешем [11, 27; 12, 106]. Зато у нас имеютсязначительные сведения об его детях и внуках. Помимоуже сообщенных нами данных, известно, что вторым бра-ком Нагел-султан была за касимовским царем Арсланомибн Али ибн Кучумом (1613/14 г.). Принимая во вниманиебольшую разницу в возрасте (Чингисид был значительномоложе) мы можем предположить, что данный брак былоснован на принципах закона левирата, как, впрочем,большинство брачных союзов Арслана [5, 8-30]. Брат На-гел-султан, Исеней Карамышев, судя по источникам, иг-рал более чем важную роль в Касимове и в целом в Ме-щере в первые два десятилетия XVII в. В царствованиеБориса Годунова по его извету касимовский царь Ураз-Мухаммед «живот свой мучал» [18, 86]. На исходе Смут-ного времени мирза являлся Касимовским воеводой(между 1610 и 1613 гг.). Возможно, под его контролемодно время находилась вся Мещера. Тогда же ему уда-лось захватить часть имущества прежнего касимовскогоцаря, Ураз-Мухаммеда. Более того, в документах упоми-нается некая грамота царя Василия Шуйского, даннаяИсенею Карамышеву, «царя Уразмаметевских на людей».В этот же период за мирзу заложились многие касимов-ские посадские люди [5, 29]. У Исинея известны племян-ники Изереп Достокасимов, Мустафа Мамаев (скорее все-го, Мустафа мирза Мамаев сын Семендерев), Сутек Му-сатов [14, 540]. Судя по всему, это дети его сестер. В Ярос-лавле XVII в. известны их родственники, кормовые служи-лые татары Бердикей и Нурикей Бактаразовы (Бахтура-зовы), дети Карамышевы. С ними, кажется, проживалиеще 2 их сестры и племянник [РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1626 г.Д. 1. Л. 2.]. Бахтураз Карамышев являлся шурином сибир-ского царевича Мухаммед-Кула ибн Атаула. Он выехал вРоссию вместе с женой последнего (своей сестрой) в 1586/87 г. [РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1589 г. Д. 24. Л. 1.] Его помест-ный оклад составлял 500 четей, годовое денежное жа-лование 30 рублей [РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1622 г. Д. 4]. Егодети получали поденный корм: Бердикей 7,5 копеек, аНурикей 6 копеек в день [Ф. 131. оп. 1. 1626 г. Д. 1]. Овысоком статусе Карамыша Мусаитова говорит и тот факт,что его потомки приняли именно его имя как свое устой-чивое родовое прозвище. Ходя здесь можно сделать ииное объяснение. В России просто не знали, кто такойМусаит. В реалиях новой родины семейства это прозви-ще просто никому ничего не говорило. Но нужно еще разподчеркнуть, что сделанные нами догадки о реальномлице, скрывающемся за летописным сибирским карачей,только более чем спорное предположение, доказать ко-торое на настоящий момент не представляется возмож-ным. В любом случае, клан Карамышевых, столь многи-ми ниточками оказавшийся связанным с сибирскимиШибанидами, заслуживает отдельного упоминания. Темболее что сделанные нами наблюдения позволяют ут-верждать, что сибирские царевичи, оказавшиеся в Рос-сии начала XVII в., предпочитали искать партнеров длязаключения браков среди своего ближайшего окружения.Как правило, это были дочери иных плененных Шибани-дов или же дочери и сестры выехавших с ними имелде-шей и аталыков. В целом при объединении всех имею-щихся данных клан Карамышевых-Мусаитовых можнопредставить так:
Мусаит Карамыш сын Нагел Исиней Бахтураз дочь
~Исен-бике
~ Мамай мирза Семендерев
~ Мухаммед-Кул ибн Атаул
~ Арслан ибн Али Яншей Сеитяк Бердикей Нурикей
У нас есть возможность установить происхождениеи сроки службы большинства служилых людей сибирско-го царевича, затем касимовского царя Арслана ибн Али.В Россию он попал 8-летним ребенком в результате пле-на. До Смуты, в 1603/04 г. у юного царевича известны 12человек его людей. Они упоминаются по случаю их при-сутствия вместе с Чингисидом на первом приеме у Бори-са Годунова. Скорее всего, его дали в честь достиженияЧингисидом совершеннолетнего возраста (14 лет). Людицаревича были разделены на 3 категории. Данное деле-ние реконструируется по размерам полученного ими цар-ского жалования: двое лучших по платку злотному в 10рублей, кафтану в 8 рублей, шапке в 2 рубля, сафьяновымсапогам в 50 копеек, серебряному ковшу весом в гривен-ку и по 8 рублей денег. Три человека получили по одно-рядке в 3 рубля, кафтану в 3 рубля, шапке в 1,5 рубля,серебряной чарке весом в 2
1 гривенки, сафьяновым са-погам в 50 копеек и по 5 рублей денег. Остальным доста-лось по однорядке в 2 рубля, кафтану в 2 рубля, шапке зарубль и по 3 рубля денег [РГАДА. Ф. 134. Оп. 1. 1622 г. Д. 1.Л. 27-32; 5, 9]. Скорее всего, все эти 12 человек имелисибирское происхождение. После провозглашения Чин-гисида касимовским царем в 1614 г. размеры его дворарезко возросли. Нас в первую очередь интересуют тата-ры сибирского происхождения или связанные с инымисибирскими Шибанидами. Таких насчитывается 13 чело-век. У нас имеется возможность не только назвать ихпоименно, но и сообщить отдельные биографическиесведения.
Келмамет аталык Агилдеев - судя по всему, аталыкЧингисида. Выехал вместе с ним в 1598 г. В таком случаеон должен был находиться в числе лучших людей царе-вича на приеме 1603/04 г. При Араслане из его касимов-ских поместий аталыку передали права на дд. Шоста иМалые Пекселы (231 четь). Также ежегодно ему полага-лось 40 рублей деньгами из касимовских доходов [РГА-ДА. Ф. 131. Оп. 1. 1627 г. Д. 1. Л. 28-55]. Позднее, при каси-мовском царевиче Сеид-Бурхане ибн Арслане за нимоставили только д. Шоста (125 чети) [РГАДА. Ф. 131. Оп. 1.1628 г. Д. 14.].
Иштерек мирза Байтереков. Упоминается у Арсла-на с 1615 г. При Арслане ему были переданы права над. Мосеева (98 чети) и 20 рублей деньгами [РГАДА. Ф. 131.Оп. 1. 1627 г. Д. 1. Л. 28-55]. То же содержание за мирзойосталось и при Сеид-Бурхане [РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1628 г.Д. 14.].
Баймамет Зенчаров (Сенчаров). Во дворе Чингиси-да с 1612 г. Выехал с сибирским царевичем Келмаметомибн Кучумом и служил у него до того как его «литовскиелюди убили». Других сведений об этом Чингисиде обна-ружить не удалось. Можно предположить, что татаринвместе со своим господином принимал активное участиев военных действиях на стороне II ополчения. При Арсла-не и Сеид-Бурхане Баймамету полагалось на год 12 руб-лей деньгами, по 12 четей ржи и овса и 4 пуда соли [РГА-ДА. Ф. 131. Оп. 1. 1627 г. Д. 1. Л. 30.; РГАДА. Ф. 131. Оп. 1.1628 г. Д. 14.]. Однако в 1628 г. он покинул двор царевичаи стал кормовым касимовским татарином с поместнымокладом в 200 четей, годовым денежным жалованьем в9 рублей и поденным кормом в 3.5 копейки [РГАДА. Ф.131. Оп. 1. 1628 г. Д. 14. Л. 22-23.]. Здесь следует отме-тить, что реальные доходы кормовых татар состояли толь-ко из поденного корма.
Деуш Бехтемирев. У царевича с 1611 г. При Арсланеему полагалась пашня без крестьян, и 10 рублей денег[РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1627 г. Д. 1. Л.]. Его тесть - Сафарабыз Ишкинеев, член двора царя Арслана из касимовс-ких татар [РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1621 г. Д. 11.]. При Сеид-
117
Бурхане ему передали жеребей в д. Куземкиной (46 чети)[РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1628 г. Д. 14.]. Был жив еще в 1646 г.Отмечен как касимовский дворовладелец [15, 7].
Исенгилдей Янгилдеев. У царя с 1615г., до этого слу-жил сибирскому царевичу Азиму ибн Кучуму. После смер-ти дяди Арслан женился на его вдове, своей тетке, Кара-чаце, дочери некоего абыза Ибердея, скорее всего си-бирского татарина, и взял к себе в дом его дочь, царевнуАлтын. Позднее от этого брака появится еще одна дочь,царевна Салтыкай [5, с. 20; РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1628 г. Д.9]. При Арслане и Сеид-Бурхане ему полагались пашня и12 рублей денег [РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1627 г. Д. 1. Л. 31;РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1628 г. Д. 14.]. Вскоре он отошел отцаревича. Скорее всего, он отъехал в Ярославль вследза царицей Карачацей и царевнами Алтын и Салтыкай,не нашедшими общий язык с Шакуловыми, родственни-ками царицы Фатимы-султан, матери Сеид-Бурхана, зах-ватившими власть при малолетнем царевиче.
Кичей Чоров. «Бил челом задолго до Ак-Мухаммедасеида» (тесть Чингисида, отец царицы Фатимы-султан,дед касимовского царевича Сеид-Бурхана). В другом ме-сте упоминается, что он бил челом в службу задолго доАраслана Алеевича. В 1618 г. отвечал за казну. Известенего брат Богдан – ставил перед царем еду. В 1618 г. ихобвинили в попытке отравления царя кореньями. Тамже упоминается еще один человек Алея: «Да у царя деесть татарин, Шихом зовут, ворожит во многих мерех, ацарь де его ворожбы держитца». Жену Кичея, кажется,звали Авнусалтанка. В 1618 г. упомянутых людей обвини-ли в попытке окормить касимовского царя. Одно времяих даже посадили у царя «за пристовом». Но, кажется,для них это дело закончилось благополучно [РГАДА. Ф.141. Оп. 1. 1622 г. Д. 8]. При обоих Чингисидах ему былоположено 12 рублей денег, по 12 четей ржи и овса, а так-же 4 пуда соли на год [РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1627 г. Д. 1. Л.28-55; РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1628 г. Д. 14.].
Билял Безергенев сын Байцын. У царя с 1621 г. ПриАрслане ему полагалось на год 8 рублей денег и такая жесумма за хлеб [РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1627 г. Д. 1. Л. 28-55].После смерти Арслана его содержание стало составлятьтолько по 6 четей ржи и овса, а также 3 пуда соли [РГАДА.Ф. 131. Оп. 1. 1628 г. Д. 14.]. В 1628 г. он покинул двор иперешел в категорию касимовских кормовых татар с по-местным окладом в 150 четей, годовым денежным жа-лованием в 8 рублей и поденным кормом в 3 копейки[РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1628 г. Д. 14. Л. 22-23.]. В 1631/32 г.он стал переводчиком с татарского языка. Неоднократ-но посылался в Крым, Турцию и Персию. Умер в 1654/55 г.Он находился при принесении шерти царевичем Сеид-Бурханом и татарами его двора в 1653 г. в Москве, дер-жал Коран. В 1649 г. женил своего сына Абдулу в Касимо-ве. Его сын Абдула Билялов сын Байцын также был пере-водчиком внешнеполитического ведомства (1653/54-1678гг.). В 1670 г. он стал касимовским помещиком. Его испо-местили за 15 рублей поденного корма на 75 четвертях вдеревне Левкове. Помимо этого, возможно, приобреталздесь дополнительные земли, а также был пожалован вСаранском уезде «на степной стороне из дикого поля200 четвертей со всеми угодьи» [6, 38; 4, 151]. В 1700 г. заих потомками в Касимовском и Шацком уездах значился81 крестьянский двор [20, 234].
Молла Чепанов. Калмык, его вместе с иными тата-рами прислал к сыну из Сибири отец, Али ибн Кучум в1601 г. [13, 33]. При Арслане и Сеид-Бурхане на год емуполагались 7 рублей денег, по 6 четей ржи и овса, и 3пуда соли [РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1627 г. Д. 1. Л. 50; РГАДА.Ф. 131. Оп. 1. 1628 г. Д. 14.] Вскоре по невыясненной при-чине он покидает состав двора. Возможно, умер.
Моян князь Бетин и Едигер Шамаев. «Царевы Арас-
лановы старинные люди, у царя и породилися» [ РГАДА.Ф. 131. Оп. 1. 1627 г. Д. 1. Л. 28-55]. Скорее всего, это былилюди из ближайшего окружения, не получавшие никакихсредств на свое содержание и жившие на всем готовомпри Чингисиде.
Тумак Тохмаметьев. У царя с 1617 г. [РГАДА. Ф. 131.Оп. 1. 1627 г. Д. 1. Л. 28-55] При Арслане ему ничего недавали. При Сеид-Бурхане ему было положено на год 6рублей, по 6 четей ржи и овса и 3 пуда соли [РГАДА. Ф.131. Оп. 1. 1628 г. Д. 14.].
Кулабердей Анлебердеев. Отмечен как ногаец. Водворе Чингисида с1624 г., до этого служил у царевича Кут-лугана ибн Али [РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1627 г. Д. 1. Л. 53.]
Причину того, что некоторые татары решили поки-нуть двор, выявить несложно. Дело в том, что власть,пользуясь младенчеством царевича Сеид-Бурхана, зах-ватили родственники его матери Шакуловы. Пользуясьтем, что у царевича отняли доходы с городских кабаков,таможни и посада, они сократили содержание ряду та-тар. Помимо этого деньги, отмеченные в окладах, не оз-начали их обязательной ежегодной выплаты. «А царевприказной человек Акмамет сеит сказал, что царевичСеит-Бурхан служилым людем дает на год рубли по два ипо три, а конюхом денги по окладом их сполна. А хлебслужилым людем и конюхом всем сполна, по тому, почему давано было при царе Араслане» [ РГАДА. Ф. 131.Оп. 1. 1628 г. Д. 14. Л. 19.]. Таким образом, более всегопострадали те, кто не был испомещен и не получал нату-ральные дачи хлебом и солью. К тому же, скорее всего,сюда в значительной мере примешивались и личные от-ношения с новыми неформальным лидером. Но это былидалеко не все причины, по которым татары покинулидвор. Один умер, другой отошел в Романов к мирзе Бара-малею Кутумову, третий в Ярославль к царевнам, не на-шедшим общий язык с Шакуловыми и решившим поки-нуть Касимов, двое просили государя поверстать их по-местным и денежным окладом. Другой информации осибирских татарах в Касимове у нас нет.
О дворах иных Шибанидов мы имеем более чем от-рывочные данные. Зачастую мы не можем однозначновыделить в их составе сибирских татар. Но они там, безус-ловно, имелись. Приведем все известные нам данные.
В 1599 г. с женой сибирского царя Али ибн КучумаХан-заде (Кандаза) и двумя сыновьями царя упоминают-ся дядька царевича Арслана ибн Али Келмамет аталыкАгилдеев, люди царевича, шесть человек во главе с Ха-маем (скорее всего, второй «лучший» человек царевичана приеме 1603/04 г.), дядька царевича Янсюера Безе-лек абыз и нянька Шебарка, да нянькины сын и дочьНаук [1, 21-22].
У некой сибирской царицы, Кучумовой дочери, смалолетним сыном направляющейся в Москву и по болез-ни вынужденной перезимовать в Самаре в 1600/1601 г., извсех людей упоминается только одна мамка [ РГАДА. Ф.131. Оп. 1. 1601 г. Д. 1.].
У сибирского царевича Берди-Мурада ибн Кучума в1601 г. упоминается пять человек.
У Ишима ибн Кучума тогда же названо два человека[ РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1601 г. Д. 2. Л. 3.].
В декабре 1602 г. во двор сибирских цариц, живших вМоскве, бил челом выехавший из Сибири от детей Кучумацаря Али с братьями Янглыч Безеляк Бегечев с сыномМурзашом. При этом жена татарина ранее выехала сженами Кучума [РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1601 г. Д. 3.].
У Алтаная ибн Кучума после приезда из Новгородаупоминается два человека. После женитьбы их числовозросло. Скорее всего, после смерти тестя, царевичаМухаммед-Кули ибн Атаула, часть людей его двора такжеперешла к Алтанаю [9, 21-35].
118
У Кутлугана ибн Али в Ярославле отмечено семь че-ловек [ РГАДА. Ф. 134. Оп. 1. 1622 г. Д. 1. Л. 33-34.]. Одногоиз них мы теперь знаем по имени (Кулабердей Анлебер-деев).
В начале XVII в. добровольно выехал из Сибири «отцаревичей от Кучюмовых детей от Алея з братьею» Янг-лыч Безеляк Бегичев с сыном Мурзашом. В своей чело-битной на имя Бориса Годунова он утверждал, что егожена служит у «сибирских Кучюмовых цариц на Москве».Туда же с сыном был определен и он [РГАДА. Ф. 131. Оп.1. 1601 г. Д. 3.].
Судя по всему, имеют отношения ко дворам сибирс-ких Шибанидов и ряд кормовых ярославских служилыхтатар. Однако однозначно утверждать это мы не можем.
На этом наши знания о сибирских татарах при дво-рах Кучумовичей прекращаются. Возможно, при после-дующих поисках в архивах мы сможем со временем ихдополнить. Тогда общая картина постепенного вовлече-ния части сибирских служилых татар в общий состав слу-жилого сословия России будет нам более понятна.
Список литературы и источников1. Акты исторические. Т. II. - СПб., 1841.2. Акты служилых землевладельцев. Т. I. - М., 1997.3. Акты служилых землевладельцев. Т. III. - М., 2002.4. Белокуров С.А. О Посольском приказе. - М., 1906.5. Беляков А.В. Араслан Алеевич – последний царь касимовс-кий // Рязанская старина. 2004-2005. - Вып. 2-3. - Рязань.2006. - С. 8-30.6. Беляков А.В. Касимовские татары-переводчики, толмачии станичники Посольского приказа XVII в. // Материалы иисследования по рязанскому краеведению. - Вып. 2. - Рязань,2001. - С. 36-42.7. Беляков А.В. Чингисиды в России XV-XVI веков // Архиврусской истории. - Вып. 8. - М., 2007. - С. 9-48.8. Беляков А.В. Ураз-Мухаммед ибн Ондан // Мининскиечтения: 2006. - Н.Новгород, 2007. - С. 29-60.9. Беляков А.В. Участие сибирского царевича Алтаная ибнКучума в событиях Смутного времени // Мининские чтения:2004. - Н.Новгород, 2005. - С. 21-35.10. Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовскихцарях и царевичах. Ч. 2. - СПб., 1864.11. Золото. Металл богов и царь металлов. - М., 2007.12. Казани – 1000 лет. Иллюстрированный каталог выстав-ки. - Казань, 2003.13. Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. II. - М., 2000.14. Осадный список 1618 г. // Памятники истории Восточ-ной Европы. Т. 8. - М., 2009.15. Переписная книга по городу Касимову за 1646 (7154) г. //Труды Рязанской ученой архивной комиссии 1891 г. Т. VI. -Рязань, 1892.16. Писцовые книги Московского государства. - Т. I. - СПб.,1872.17. Разрядная книга 1475-1605 гг. - Т. III. - Ч. 3. - М., 1989.18. Тюменцев И.О., Мирский С.В., Рыбалко Н.В., ТупиковаН.А., Тюменцева Н.Е. Русский Архив гетмана Яна Сапеги1608-1611годов: опыт реконструкции и источниковедческо-го анализа. - Волгоград, 2005.19. Усманов М.А. Татарские исторические источники XVII-XVIII вв. - Казань, 1972.20. Черников С.В. Дворянские имения Центрально-Чернозем-ного региона России. - Рязань, 2003.
В.Д. Пузановг. Сургут
РУССКИЕ И ОЙРАТЫ НА ЮГЕ СИБИРИВ XVII В.
В своем движении на восток в XVI – XVII вв. русскиестолкнулись с десятками народов, как уже известных им,так и открываемых для себя впервые. Особое место сре-ди этих контактов заняли отношения с кочевыми племе-
нами, с которыми русские встретились на юге своих вла-дений. Это время стало последней эпохой, когда кочев-ники могли представлять серьезную опасность для осед-лого мира. Раньше русские имели постоянные отноше-ния в основном с привычными для себя кочевыми груп-пами Белой орды (в нашей исторической науке ее при-нято называть Золотой), которые этнически и культурноявлялись потомками кипчаков, и находившихся здесь доних тюркских орд, подчинившихся монголам. Арабскийавтор XIV в. Эль-Омари писал, что после завоевания кип-чаков монголами «они смешались и породнились с ними,и земля одержала верх над природными и расовымикачествами их, и все они стали точно кипчаки, как будтоони одного рода, оттого что монголы поселились на зем-ле кипчаков, вступали в брак с ними и оставались жить вземле их». В. В. Бартольд отмечал, что, в отличие от дру-гих кочевых нашествий в эпоху завоеваний монголов, назапад переселилось очень небольшое число кочевни-ков. В Белую орду переселилось, по одним данным, толь-ко 4 000, а по другим – 9 000 монгольских семей [2, 551].Теперь русским пришлось вступать в отношения с орда-ми, о которых они могли только слышать.
Территория Западно-Сибирской равнины примыка-ет к одному из отрезков так называемой Великой степи,где во время завоевания Россией Сибирского царстваборолось между собой несколько кочевых союзов – ой-раты, казахи и ногаи. Все они в политическом и культур-ном отношениях были наследниками монгольской им-перии. Ногаи – ближайшие соседи Сибирского царства исоюзники Кучума – уже к второму десятилетию XVII в. быливытеснены из азиатских степей за Волгу ойратами.
В русской исторической науке было отмечено, чтозападные монголы называли себя ойратами, а термин«калмыки» – это название, которое дали ойратам тюр-коязычные народы, через посредство которых терминбыл усвоен и русскими в XVI – XVII вв. Позднее термин«калмыки» (в значении «отделившийся» от основноймассы), был принят волжской группой ойратов, отделяв-шихся от остальных монголов в XVII в. [6].
Ойраты были известны в исторической литературе сXI – XII вв., будучи одним из племенных объединений мон-голов. В империи монголов ойраты управлялись своимивладетельными князьями, мало выделяясь из общеймассы монгольских племен. Ойраты участвовали в заво-еваниях монголов. В XIII – XIV вв. несколько тысяч ойрат-ских семей жили в Иране. В эпоху распада империи мон-голов и изгнания монголов из Китая в 1368 г. ойраты пер-выми из монгольских племен выступили против хановМонголии.
В результате с XV в., по мнению И.Я. Златкина, мож-но говорить о выделении ойратов из среды монгольскихплемен и формировании особой этнической общности –ойратской народности с рядом этнографических отличий.Под влиянием тюркских языков из монгольского языкаформируется особый ойратский язык, который оконча-тельно отделился к началу XVII в. В XVII в., в эпоху контак-тов с русскими, у ойратов появляется особый алфавит илитературный язык. В состав ойратов вошли многие мон-гольские племена, позднее группы тюрков, финнов, кав-казцев и славян. Ойраты обладали значительными во-енными силами [6, 54 – 61].
В это время ойратам пришлось вести войну на трифронта, в результате чего их положение стало достаточ-но тяжелым. В XVI в. княжества Монголии объединяются.В 1587 г. ойратам удалось объединиться и разгромитьмонгольское войско в 40 000 человек. Однако борьбаойратов с монголами на этом не закончилась. В концеXVI в. знать Халхи нанесла ряд поражений ойратам. В этовремя Халха была объединена династией, известной в
119
России как род Алтын-ханов. В конце XVI в. ряд пораже-ний нанесли ойратам казахи.
По данным П. С. Преображенской, в конце XVI в.начинаются передвижения ойратских племен из Запад-ной Монголии на территорию Южной и Западной Сибири[6, 80]. В XVII в. ойраты совершают экспансию в трех на-правлениях – на восток, запад и юг. В 1618 г. хан торгоутовУрлюк с р. Иртыша перешел на верховье рек Ишима, То-бола и Эмбы. В 1630 г. Урлюк прибыл к берегам р. Волги,подчинив обитавшие на р. Яик тюркские племена. В этовремя улус Урлюка насчитывал 50 000 кибиток. Когда улусУрлюка расположился от Яика до Волги, ойраты знали,что эти земли принадлежат Белому царю – правителюРусского государства. Однако Урлюк занял ее, не спра-шивая разрешения у Москвы.
Степные пространства Западно-Сибирской равни-ны на протяжении XVII в. становятся частью ойратскогомира, раскинувшегося от озера Кукунор до р. Волги. Ха-рактерно, что отряды ойратов принимали участие в такихважных событиях на восточной и западной окраинах Ев-разии, как взятие Пекина маньчжурами в 1644 г. и бояхпод Веной 1683 г.
Наиболее важными в Сибири XVII в. стали отношенияс ойратами. К тому времени Россия имела большой опытпостоянных отношений с кочевниками. Традиции и инсти-туты кочевого общества оценивались через призму своихпорядков, кочевники, хотя свидетельств об этом еще мень-ше, также видели Россию по аналогии со своим порядком.
Русские Сибири хорошо знали культуру ойратов. Рус-ские служилые люди Сибири отмечали высокий уровеньвоенного искусства калмыков. Юрий Крижанич, в 1661 –1667 гг. живший в ссылке в Тобольске, писал, что о воен-ном деле калмыков и монголов «люди рассказывают намчудеса». Крижанич относил строй калмыков к гусарско-му, писал, что они носят копье, саблю, лук, латы, кольчуги,прикрывая доспехами локти и бедра. Надо отметить, чтогусарами Крижанич считал тяжелую конницу. В битве кал-мыки гнали перед собой скот, разрушая военный поря-док противника. В это время у кочевников востока рас-пространялись пищали. По данным Ю. Крижанича, на югеСибири монголы, кроме традиционного оружия кочевни-ков, имели пищали. Русские люди Сибири в 70-е гг. XVII в.отмечали, что главным оружием калмыков остался лук,но среди них распространялись и пищали.
По данным русской географической работы XVII в.,хан Джунгарии и его тайши за 15 дней собирали в улусахармию в 100 тысяч всадников. По данным европейскогопутешественника, в 1660-е гг. бывшего в Сибири, армияойратов достигала 80-100 тысяч человек. Тобольскийслужилый человек, историк и географ Сибири Ремезовписал, что калмыки воевали только на конях, «а безкон-ному сражению так необыкновенны, что совсем его незнают». Обычным оружием были саадаки, копья и саб-ли, «по большой части военное у них платье» – панцири,доспехи, шишаки и поручни. В тактике калмыков главнаяроль отводилась первому нападению – «в сражении спервого напуску весьма жестоки, а ежели так сперва неудастся одержать победу, тогда будут весьма уступчивы»[5, 381; 4, 98; 1, 357] .
По данным Черепановской летописи, во время боевна озере Ямыш калмыки взяли в плен шведа Ягана Ре-меза и оружейного мастера сибиряка Зеленовского, ко-торых Контайша «обещанною им своею милостью и не-малыми награждениями склонил на свою сторону». ЯганРемез изготовил пушки и «обучил их несколько артилле-рии», Зеленовской обучил ойратов делать ружья, «кото-рым они хотя неправильно, однакож стрелять обучились,только их ружья были без замков», с фитилями [РГАДА,Ф. 196, Оп. 1, Д. 1542, Л. 124] .
Основу экономики ойратов, их «главное богатство»составлял скот, в первую очередь, кони, верблюды, коро-вы, бараны. Скотоводство дополнялось в степи охотой иземледелием, «их степи содержат несколько диких илесных зверей… сайги, маралы и кабаны, также хотя иплохих, но несколько находится лисиц, куниц, бобров,выдр, горностаев, корсаков». Хлеб ойраты сеяли в реч-ных долинах «при реках и речках», «по большей частиячмень, просо, полба, пшеница, овес, горох и овощи».
Между русскими властями и ойратами неоднократ-но возникали споры по вопросу о принадлежности рядатерриторий между южными сибирскими уездными горо-дами и калмыцкими кочевьями. В конце XVI в., по дан-ным Ремезовской летописи, ойраты кочевали к западуот рек Ишима, Нор-Ишима, Оми и Камышлова, которыевообще тогда считались «калмыцким рубежом». Однакосама эта территория не находилась еще под контролемойратов. После поражения сюда отступил из Сибирскогоцарства Кучум со своими детьми и «между озер в крепкихместах и ту живяше скрытно» нападал на Тарский уезд.
Позднее русское правительство заявило о российс-ких правах на всю ту территорию, где жил Кучум послебегства из Кашлыка, отмечалось, что он построил горо-док по реке Иртышу, взятый в 1595 г. русским отрядом, аиногда кочевал еще южнее этого городка «по Иртышу в 6,а от Оми реки выше в 2 днях, а в котором урочище неизъ-яснено». Позднее русские отмечали, что в 1595 г. служи-лые люди, разгромив Кучума, не упоминали о том, чторядом кочуют калмыки. «Калмыцкой землей» в летопи-си считаются верховья р. Иртыша, в частности, озеро Зай-сан-нор, куда совершил свой последний набег за лошадь-ми Кучум [3, 51].
П.С. Преображенская считала, что первое упомина-ние об ойратах встречается в грамоте Ивана IV Строгано-вым 1574 г., где ойраты отмечены в числе кочевых наро-дов Азии. Когда русские в Сибири познакомились с ойра-тами? По данным Сибирского приказа, первые контактысостоялись в самый ранний период русского продвиже-ния, когда русские только утверждали свою власть надСибирским царством. Кучум в борьбе с русскими за югСибири нанимал на службу небольшие отряды ойратов,пытаясь таким образом пополнить свои силы после по-несенных его двором крупных потерь. Иногда в этот рай-он заходили с востока военные отряды калмыков. Здесьна службу Кучуму поступил отряд в 300 ойратов. В июле1596 г. служилые татары Тары, посланные на разведку,сообщили воеводе Федору Елецкому, что в улусе Кучума,кочевавшего южнее г. Тары по р. Иртышу, произошло стол-кновение с отрядом ойратов, которые хотели отъехать отнего. Кучум пытался задержать ойратов, произошла стыч-ка, где были убиты 3 его человека. В результате послеэтого боя улус Кучума серьезно ослаб, от него отъехали300 человек с женами и детьми и ушли на верхний Ир-тыш. Однако и позднее русские источники также отмеча-ют наличие ойратов в улусе Кучума. В апреле 1598 г. ясач-ные татары сообщили воеводе г. Тары, что «Кучум стоит всобрании со всеми людьми и с ойраты, и с ногайскимилюдьми» и собирается идти войной на город и волости[РГАДА, Ф. 214, Кн. 11, Л. 22 – 39].
На рубеже XVI – XVII веков появляются противоре-чия между русскими интересами и группами ойратов.Можно предположить, что эти противоречия были выз-ваны борьбой за южные тюркские группы, которые ра-нее входили в Сибирское царство. После военного раз-грома в 1598 г. Кучума, контролировавшего часть этих тер-риторий, русским пришлось столкнуться здесь с ойрата-ми, часть которых, возможно, ранее воевала в улусе Кучу-ма. В 1598 г. воевода Тарского уезда Воейков получилизвестие, что к р. Оби прикочевало с юга 500 калмыков.
120
Первый раз требование Москвы собирать вести об ойра-тах было послано в наказе воеводе Тобольска Ф.И. Ше-реметеву от 11 февраля 1601 г.
В процессе колонизации Западной Сибири русскиена юге края встретились с ойратскими племенами. В этовремя под давлением монголов ойраты покинули своистарые кочевья и продвигались на запад. В первые де-сятилетия XVII в. в результате борьбы с другими кочевы-ми народами – монголами, казахами и ногаями, ойратызаняли южные территории Западной Сибири. Здесь онивступили в отношения с представителями русской влас-ти, русским и ясачным населением уездов Сибири. При-нятие русского подданства частью ойратов в 1607 г. былонужно для занятия южных территорий Тарского уезда имобилизации сил для борьбы с другими кочевыми наро-дами. После побед ойраты отказались платить ясак иначали борьбу с русскими за эти территории.
Первоначально русско-калмыцкие столкновенияпроходили именно на территории Тарского уезда, кото-рый стал пограничным по отношению к мигрировавшимна север группам калмыков. В 1606 г. из Тары был пред-принят поход для изгнания ойратов из уезда. Этот походзакончился победой русских служилых людей над однойиз групп ойратов. 200 служилых людей получили наградыза калмыцкую службу. Однако ойраты продолжали коче-вать на юге уезда. Недостаток сил в Таре заставил властьорганизовать ряд походов из центров русской Сибири –Тюмени и Тобольска. Весной 1607 г. по приказу прави-тельства на калмыков был отправлен крупный военныйотряд из Тобольска, Тюмени, Тары, а также других сибир-ских городов.
В 1608 г. в грамоте на Тару правительство царя Ва-силия Шуйского разрешило ойратам кочевать в Сибирс-кой земле по р. Иртышу, р. Оми, р. Камышлову, и другихместах, где они захотят быть «под царской рукою», то естьзанятие подобных территорий обусловливалось приня-тием русского подданства. Правительство разрешилоойратам торговать в Тобольске, Таре, Тюмени, Перми,Уфе, Казани и Москве.
Политика Русского государства по отношению к ой-ратам менялась. В декабре 1616 г. Боярская дума поста-новила основное внимание на востоке уделить именноотношениям с ойратами, с которыми предполагалосьобмениваться посольствами и подарками, с целью уста-новления подданства над ними – «приводити их под госу-дареву руку». Центром русско-ойратских связей оставал-ся Тобольск, откуда отправлялись посольства на юг, ой-ратские посольства к царю должны были сразу отправ-ляться из Тобольска в Москву, с другими государствами,соседями русской Сибири, предполагались менее интен-сивные отношения, о Китае и государстве Алтын-хановпредполагалось узнать дополнительные сведения, а дотого времени с ними «ссылке не быти», с Бухарой обме-ниваться грамотами, но без подарков.
В январе 1621 г. Боярская дума в ответ на запростобольского воеводы М. М. Годунова решила не прини-мать ойратские посольства, приходящие в города Сиби-ри, по причине нападений ойратов на ясачное населе-ние края. От ойратов требовалось откочевать подальшеот русских городов, при этом однако предусматривалосьпродолжение торговых отношений с ойратами, но в осо-бом месте, подальше от Тобольска. В 1623 г. из Уфы вМоскву были присланы новые ойратские послы, послечего Михаил Федорович приказал принимать посольствана месте в Уфе и сибирских городах, не посылая в Москву,«и для того отказывать, что они люди многие и воинские»не узнали дороги на Москву.
На всем протяжении русско-ойратской границы дву-мя сторонами была фактически признана ранее устано-
вившаяся естественным путем ситуация двоеданства,когда тюркские группы вынуждены были платить дань какрусским, так и ойратам, и таким образом быть в поддан-стве сразу двух государств. При этом русским властямприходилось мириться с постоянными недоимками вплатеже. Это положение вело к частым конфликтам наюге Сибири между русским населением Кузнецкого, Том-ского, Тарского уездов и джунгарами, киргизами, теле-утами и другими народами края. Русские власти пыта-лись прекратить подобное положение, однако дань джун-гарам платилась тюркским населением юга Сибири доразгрома Джунгарии китайцами. В 1755 г. члены Сенатапо делам, взятым из Сибирского приказа, узнали, чтоясачные люди Тарского и Кузнецкого уезда платят даньправителю Джунгарии и захотели узнать, с какого годапроисходит этот платеж и по каким грамотам. Однако вСибирском приказе данных об этом не нашли [РГАДА, Ф.113, год 1647, Д. 1, Л. 11 – 27; Ф. 214, Оп. 1, Ч. 8, Д. 6299, Л.1 – 3; Ф. 248, Оп. 8, Кн. 473, Л. 127].
К середине XVII в. улусы ойратов находились нар. Тоболе и р. Ишиме, непосредственно подходя к юж-ным уездам Сибири. Близость улусов ойратов оказыва-ла большое влияние на жизнь южных уездов Сибири,особенно на положение ясачного населения. Кочевникизанимали вотчинные речки и угодья ясачных людей.
Кроме набегов, ойраты часто приходили в городаСибири в качестве послов и торговцев. Посольства ойра-тов, которые обычно были торговыми экспедициями, велиактивную торговлю в русских городах. Правительство и во-еводы Тобольска пытались запретить ойратам торговатьс городами Тобольского разряда, кроме Тобольска и Тары.На востоке центром торговли с ойратами был Томск.
В XVII в. крупная торговля с калмыками велась в пе-риод русских экспедиций для добычи соли на озереЯмыш. Русский отряд добирался от русского уездногоцентра на юге Тобольского разряда Тары до озера Ямышстругами по р. Иртыш за 5 недель. В районе озера коче-вали калмыки, которые считались не подданными рус-ского государя, а соседями русской Сибири. К озеру при-езжали бухарцы с китайскими товарами и калмыки с ра-бами, лошадьми и скотом для торговли с русскими людь-ми. Район озера Ямыш имел большое значение для рус-ской Сибири, у воевод и служилых людей были планыстроительства там острога. В 1626 г. служилые люди То-больска по приказу воеводы Хованского ездили на озе-ро Ямыш, чтобы найти там участок для русского острога.
Ю. Крижанич справедливо считал, что для Русскогогосударства в Сибири отношения с ойратами имели оченьважное значение. В это время ойраты были могуществен-ным и многочисленным кочевым народом, который вла-дел землями от р. Оби до р. Волги. Большие тайши ойра-тов старались жить с русскими в дружбе, поддерживаяторговлю городов Сибири с Бухарией и Китаем, а такжерусские экспедиции на озеро Ямыш. Кочевники на озереЯмыш и в русских городах торговали с русскими скотом ирабами. По сведениям Ю. Крижанича, в Сибири одногоили нескольких рабов-ойратов имели почти все предста-вители русского населения. Культурные и экономическиесвязи русского населения Сибири с народами Востокаимели глубокие последствия.
Список литературы1. Алексеев М.П. Сибирь в известиях западноевропейскихпутешественников и писателей. - Иркутск, 1941.2. Бартольд В.В. Кипчаки // Сочинения. - Т. 5. - М., 1968.3. Богоявленский С.К. Материалы по истории калмыков впервой половине XVII в. //Исторические записки. - Т.5. – М.,1939. - С. 48–101.4. Крижанич Ю. Политика. - М., 1997.5. Описание Сибири по списку Императорской публичной
121библиотеки // Сибирские летописи. – СПб., 1907. – С. 367–397.6. Очерки истории Калмыцкой АССР. - Элиста, 1967.ИсточникиРГАДА, Ф. 113 (Зенгорские дела), год 1647, Д. 1, Л. 11 – 27;РГАДА,Ф. 214, Оп. 1, Ч. 8, Д. 6299, Л. 1 – 3;РГАДА, Ф. 214 (Сибирский приказ), Кн. 11, Л. 22 – 39.РГАДА, Ф. 248 (Фонд Сената), Оп. 8, Кн. 473, Л. 127.
В.В. Менщиковг. Курган
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫВ ЗАУРАЛЬЕ В XVII-XVIII ВВ.
Этнополитическая и военная ситуации в регионеопределялись рядом обстоятельств, важнейшим из ко-торых стало проникновение в Зауралье русского населе-ния со стремлением прочно здесь обосноваться. Успехии неудачи этого стремления зависели от степени сопро-тивления этому движению со стороны местного населе-ния. Поэтому важное значение в уяснении характера изу-чаемой ситуации имеет анализ этнической структуры на-селения Зауралья. Под Зауральем мы понимаем исто-рически сложившийся первым земледельческий районСибири, названный В.И. Шунковым Верхотурско-Тоболь-ским. Однако, на наш взгляд, этот историк неоправданнорасширил его границы, включив в состав комплексы по-селений в низовьях Тавды, Вагая и Иртыша, простран-ственно отделенных от основной массы компактного раз-мещения земледельческих слобод, расположенных всреднем и нижнем течении левых притоков речной сис-темы Тобола – Исети, Пышмы, Ницы и Туры. Именно этислободы играли важную роль в хлебном и другом ресурс-ном обеспечении территорий Урало-Сибирского регио-на в течение XVII-XVIII вв.
К моменту прихода русских Зауралье являлось со-ставной частью Сибирского ханства. Ведущим, полити-чески господствующим этносом здесь являлись сибирс-кие татары. Как отмечает В.А. Оборин, «в XIV-XV вв. нача-лась сначала стихийная, а затем и регулированная миг-рация в лесостепное и лесное Зауралье сибирских та-тар, осваивавших плодородные земли по Исети, Пышме,нижнему и среднему течению р. Туры» [21, 59]. Помимоних с XVI в. в Зауралье появляются и казанские татары,ушедшие с родины после присоединения Казанского хан-ства к России при Иване Грозном [12, 103]. В северной,лесной части Зауралья проживали финно-угорские на-роды – ханты и манси, но их политическое влияние, преж-де всего, сказывалось на более северных территориях,выходящих за пределы территориальных рамок нашегоисследования. В западной части Зауралья, то есть не-посредственно прилегающей к Уральским горам, прожи-вали башкиры, которые с середины XVII в. усиливают свойнатиск на восток, приведший к столкновениям с русски-ми поселенцами. С конца XVII в. в Зауралье начинаютвторгаться киргиз-кайсаки (казахи), а в начале данноговека серьезным препятствием для русской колонизациистали калмыки-торгоуты, кочевавшие в южных пределахрегиона вплоть до XVIII в.
Специфика межэтнических взаимодействий опреде-лялась также «характером и уровнем потребностей эт-нического развития субъектов взаимодействия» [10]. Вотечественной и, прежде всего, в советской историогра-фии прочно утвердился тезис о мирном характере при-соединения Сибири к Российскому государству. Однако впоследние десятилетия он подвергся существенной кор-ректировке и уточнению. Проникновение русских пере-селенцев в Сибирь все больше уподобляется европейс-
кой колонизации Нового Света. Тем не менее, отече-ственная историография не склонна, как нам представ-ляется, полностью перейти на концептуальную позицию«завоевания Сибири». Оценки современных российскихисториков носят более сложный и, в какой-то мере, осто-рожный характер: «Азиатская Россия дает нам… адап-тивно более гибкий и конструктивный вариант взаимо-действия с азиатскими цивилизациями, при котором онаболее или менее успешно принимает в себя многооб-разные влияния Востока, но «переформатирует» и син-тезирует их в соответствии с исходной культурно-цивили-зационной доминантой» [2, 10]. По нашему мнению, бо-лее детальный взгляд в масштабах отдельных регионов(например, Зауралья) создает несколько иной образ ис-торической действительности, а именно высокую степеньконфликтности в тех районах Сибири, где русская коло-низация шла путем создания традиционных хозяйствен-ных комплексов на основе пашенного земледелия. Та-ким образом, «характер потребностей этнического раз-вития детерминирован функциональными отношениямиэтнического коллектива с природой» [10].
Первым исследователем, заложившим основы кон-цепции военного присоединения Сибири к России, былГ.Ф. Миллер, собравший значительный материал по во-енным столкновениям русских с аборигенами. Поэтомуобратимся, прежде всего, к анализу его «Истории Сиби-ри». Исследователь писал: «Важнейшими врагами былисыновья изгнанного хана Кучума. Сами по себе они небыли сильными, однако, представляли опасность, пото-му что татары и другие сибирские народы смотрели наних как на законных владельцев страны» [18, 26]. После-днее утверждение Миллера никак не аргументировано,хотя изложение последующих событий, кровавый харак-тер столкновений и их длительность косвенным обра-зом подтверждают этот тезис.
«Местом пребывания их (кучумовичей. – В.М.) слу-жила преимущественно обширная степь в верховьях рекИшима, Иртыша и Тобола» [18, 26]. В 1606 г. на этих тер-риториях появляются калмыки-торгоуты, которые сразуже начинают участвовать в походах против русских вмес-те с кучумовичами. В 1607 г. калмыкам было нанесеносокрушительное поражение. Но уже в следующем годуна русские поселения в Тюменском уезде совершают на-падения ногайские татары [18, 31].
Следующий период ухудшения отношений с калмы-ками начался в 1623 г. Калмыки понесли тяжелые поте-ри в очередных столкновениях с монголами и испортилиотношения с казахами, совершив походы на их земли [18,96]. «В 1628 г. тайша Хоорлек, теснимый монголами, джун-гарами и казахами, прикочевал к рекам Тобол, Яику, Эмес 50000 кибиток и подчинил себе ногайских татар... Тата-ры жаловались, что калмыки подошли к Тюмени «Бли-же, чем на три дня пути» [26, 328]. Как отмечает В.Д. Пуза-нов, «все Зауралье в это время стало местом калмыцкихкочевий, начались грабежи ясачных татар» [26, 328]. В1628 г. русским отрядам удалось вытеснить калмыков изЗауралья, но ненадолго. Уже в 1629-1631 гг. калмыкивновь кочуют по обе стороны Тобола, совершают граби-тельские набеги. В 1632 г. русские войска вновь наносятпоражение калмыкам при впадении Уя в Тобол, но ужечерез год зауральские земли опять подвергаются напа-дениям. Принципиально калмыцкая угроза начинаетисчезать с 1640-1660-х гг., когда калмыки из Зауральяначинают уходить на восток в Джунгарию и на запад вприкаспийские степи [26, 328-329].
В материалах «Истории Сибири» мы встречаем мно-гочисленные свидетельства о военных столкновениях натерритории всего зауральского региона на протяжениипервой половины XVII в. Из анализа этого материала яв-
122
ствует, что южная часть Зауралья в первой половине XVIIв. хотя и входила в сферу интересов Российского государ-ства, но еще не стала зоной активной русской колониза-ции. Эта территория была своего рода «буферной» зо-ной между освоенными районами Зауралья и террито-рией основных кочевий калмыков, кучумовичей и чутьдальше – ногайских татар.
Башкиры в первой половине XVII в. практически ни-как себя не проявляли, по крайней мере, сообщений обэтом в источниках нет. До 1660-х гг. русская администра-ция активно использовала башкир в борьбе с калмыка-ми и кучумовичами в качестве своих союзников [27, 10].Это оказалось возможным благодаря тому, что башки-ры продолжали владеть своими землями на вотчинныхправах и пока не стремились к активной колонизацииЗауралья.
Опасность для русских поселений помимо калмы-ков в первой половине XVII в. представляли потомки ханаКучума. Е. Вершинин задает вопрос: «Претендовали липотомки Кучума на утраченное отцом наследство?» и даетна него ответ: «Возможно, но вот реальных сил вернутьего у них не было. Кочевые юрты отдельных царевичейредко превышали одну-две сотни мужчин. И, тем не ме-нее, в течение полувека Кучумовичи являлись серьезнымдестабилизирующим фактором на южных границах от Уфыдо Томска» [6]. Видимо, можно согласиться с тем, что уКучумовичей действительно не было реальных возмож-ностей возродить Сибирское ханство. Но сам же Е. Вер-шинин признает, что наследники Кучума создавали серь-езные препятствия для русской колонизации на доволь-но значительной территории [6]. Это, прежде всего,объяснялось тем, что царевичи могли стать консолиди-рующей силой всего кочевого мира, противостоящего рус-ским в контактной зоне Зауралья, да и всей Южной Си-бири в целом. «В своей антирусской политике Кучумови-чи старались – и небезуспешно – использовать военныесилы ногаев и калмыков. Отдельные ногайские мурзы ибеки, несмотря на отдаленность кочевий, время от вре-мени участвовали в грабительских набегах царевичей»[6]. В 1649-1651 гг. были совершены набеги кучумовичейи калмыков на русские поселения по р. Исеть, была со-жжена Исетская пустынь (Далматовский монастырь) [13,88]. Только после построения в середине XVII в. в Заура-лье крупных острогов, прежде всего, в Приисетье, а так-же успехов крестьянской колонизации, совершать набе-ги степнякам становится все труднее.
Кучумовичи все в меньшей степени воспринимают-ся аборигенным населением как возможные претенден-ты на обладание верховной властью в Зауралье и во всейСибири. Происходит и своеобразное «распыление» это-го некогда могущественного клана. Некоторые из них окон-чательно переходят на русскую службу, другие породни-лись с калмыцкими тайшами и постепенно растворилисьв иной этнической среде.
Во второй половине XVII в. в Зауралье происходятизменения в системе межэтнических отношений. На пер-вый план в отношениях с русскими переселенцами выхо-дят взаимоотношения с башкирами и киргиз-кайсаками(казахами). Башкирское население начинает постепен-но перемещаться на восток, начинается башкирская ко-лонизация Зауралья. В.А. Оборин пишет: «Башкиры в XIII-XV вв. из Южного Приуралья расселялись на север, атакже на восток – в лесостепное Зауралье – на верховьяУфы, Чусовой, на Исеть, Пышму и Синару. Обычно ониселились на свободных землях, сохраняя скотоводчес-кое хозяйство, и редко переходили к оседлости. Нача-лось их смешение с тюркизированным угорским и сибир-ским татарским населением» [21, 60-61].
В середине XVI-начале XVIII в. башкиры от Чусовой,
по Миассу, с верховьев Яика и Уя постепенно расселяют-ся в крае, достигая даже территорий по Тоболу. Различ-ные этнические группы башкир в разное время появля-лись в Зауралье. Так, например, род сызгы, очевидно,некогда входил в родоплеменное объединение Айле.Сызгинцы пришли в Зауралье в XVI-XVII вв. и осели пор. Миасс и ближайшим озерам. Башкиры-сарты появи-лись в Зауралье не позже начала XVII в. [19, 182]. Ещеодна этническая группа башкир Зауралья – башкир-ялан-катайцы. М.В. Мурзабулатов отмечает, что известный ис-следователь Р.Г. Кузеев считал их потомками улу- и бала-катайцев, пересилившихся в XVIII в. в притобольские иприуйские степи в поисках свободных земель. Это утвер-ждение находит подтверждение в наличии общности ро-довых тамг бала- и ялан-катайцев и народных преданийоб их переселениях. «До выхода в Зауралье, согласноустным преданиям, катайцы жили на Южном Урале, врайоне нынешнего Златоуста. В Зауралье они прикоче-вывали ради охоты, перегоняли на лето скот; позднееони остались здесь навсегда» [19,179; 20,20-28].
В целом структура башкирского населения Заура-лья отличалась сложностью слагающих ее компонентов.Такие этнические группы как салъюты, бекатинцы, тер-сяки, сызгинцы, сынряне, по крайней мере, с конца XVIIили начала XVIII в. живут в подавляющем большинстве вЗауралье в значительном отдалении от основной этни-ческой территории башкир. Другие же группы (табынцы,катайцы, айлинцы, сарты) довольно большим количе-ством представлены на землях к западу от Урала [19,183]. Эти обстоятельства имели важные последствия длязначительного изменения военно-политической ситуа-ции в Зауралье вплоть до конца XVIII в. Теперь российс-кое правительство отходит от политики покровительствав отношении башкир (хотя и не последовательно), таккак калмыки вскоре перестают быть серьезным против-ником, а затем и откочевывают в прикаспийские степи ина восток, и потребность в союзниках отпадает сама со-бой. Башкиры же в это время стали вести практическиполуоседлое хозяйство, проникновение в Зауралье жеспособствовало воспроизводству полукочевых элементовв образе жизни башкир-мигрантов, именно зауральскиебашкиры максимально долго сохраняли полукочевойобраз жизни [32, 272]. Это начинало создавать серьез-ные помехи для хозяйственного освоения этой террито-рии русскими. Возникло два встречных колонизационныхпотока – башкирский с запада и русский с севера.
В 1662-1664 гг. вспыхнуло первое крупное башкирс-кое восстание. Первоначально нападению подверглисьКатайский острог, Ирбитская слобода и Далматовскиймонастырь. Катайский острог осаждался четыре дня, нотак и не был взят. Под Далматовским монастырем былисожжены все деревни, женщины и дети были уведены вплен, многие были убиты, был угнан весь домашний скот.В восстании принимали участие не только башкиры, но ипримкнувшие к ним татары и вогулы. В одной из челобит-ных верхотурских служилых людей и крестьян говорилосьо восставших: «Воевали монастырь на Исети; и после тогоони, тотара и вогуличи з башкирцами, повоевали Верхо-турского уезду Чусовскую слободу, да они ж повоевалиУсть-Ирбитскую слободу, да они ж повоевали деревниирбитские, да они ж повоевали деревни невьянские наПисанце, да они ж повоевали деревни на Шогрыше, даони ж повоевали монастырскую деревню на Пышме, даони ж повоевали Покровский монастырь, да они ж пово-евали Арамашевскую слободу», а также слободы Крас-нопольскую, Мурзинскую и Киргинскую [13, 89-90]. Тоболь-ский воевода был вынужден послать в места восстаниявооруженный отряд под командованием Дмитрия Полу-ехтова. После этого произошло некоторое затишье, но в
123
1663 г. боевые действия возобновляются. Следующаявспышка боевой активности пришлось на март 1664 г.Отряд Д. Полуехтова смог нанести восставшим башкирамкрупное поражение.
Размах этого восстания и потенциальная опасностьего определялись тем, что часть башкир признала в ка-честве своих сюзеренов калмыцких тайшей и связанногос ними царевича Кучука (сына Аблая), что явилось, види-мо, последней вспышкой активности калмыков как серь-езной антирусской силы. Но данное восстание охватилолишь часть Зауралья, прежде всего территорию по за-падным притокам Тобола, не распространившись даль-ше Мехонского острога. Это косвенно доказывает, чтобашкирская колонизация, по все видимости, не распрос-транилась в это время дальше указанного рубежа. Наи-большего размаха восстание достигло именно там, гдеимелось башкирское население [3, 55, 61].
Следующие крупные военные столкновения башкир срусскими относятся к 1665-1667 гг., а затем к 1680-1685 гг. Вэто время нападения совершались уже на новые слобо-ды в Среднем Притоболье [13, 92].
Ухудшение военно-политической ситуации, связан-ное с началом массовых башкирских восстаний, потре-бовало от русских властей обратить более пристальноевнимание на защиту русских поселений. В период вое-водства П.И. Годунова (1667-1670 гг.) была предпринятапервая попытка создать единую линию оборонительныхсооружений в Зауралье. Она должна была начинатьсяпри впадении речки Тарханки в Тобол Тарханским остро-гом, затем через Ялуторовский острог вверх по Исетирасполагались Исетский острог, Шадринская слобода,Далматовский монастырь, Катайский острог. В каждомиз указанных пунктов должны были размещаться воинс-кие силы в размере от полуроты до роты драгун [5, 278].Причем драгунские роты создавались путем переводаисетских беломестных казаков в драгуны. В этом заклю-чалось еще одно мероприятие воеводы П.И. Годунова поусилению эффективности обороны края. У воеводы былисвои оригинальные мотивы проводимой им реформы:«К осаде... драгуны рейтар и солдат к татарскому боюприбыльнее, потому что рейтар татарина догнать в полестроем не поспеет», кроме того, драгуны сочетали всепреимущества конного и пешего строя, «а драгун в похо-де – конный, а пеш драгун – солдат же» [5, 278].
В полном объеме эта реформа П.И. Годунова небыла выполнена, тем не менее, ряд мероприятий сыгра-ли свою положительную роль в закреплении Зауралья всоставе Российского государства.
Наличие постоянной военной опасности требовалоот власти постоянного реагирования на эти обстоятель-ства, это отражалось, в частности, и в деловой докумен-тации. В большинстве наказных грамот (документов наоснование слобод) имелась традиционная «формула»требования обращать постоянное внимание на безопас-ность. Так, в наказной грамоте, выданной Семену Бело-шейкину на основание Крутихинской слободы в 1684 г.,говорилось: «... не стесняя татар ясашных, жить в той сло-боде от калмыцких воинских людей с бережением, что-бы не только к ней, но и под городы под слободы безве-стно войною они не пришли, и дурна какова не учинили»[7, л. 168 об].
Если в 1660-80-х гг. основной зоной военных столк-новений было Приисетье, то с 1680-х гг., когда русскаяколонизация сместилась южнее долины р. Исеть, новымобъектом нападения становятся поселения в СреднемПритоболье – слободы Царево Городище, Утятская, Иков-ская и др. Это может также свидетельствовать и о про-должении башкирской колонизации края.
В 1690-х гг. в пределах Зауралья появляется еще
один грозный соперник русских поселенцев – киргиз-кай-саки (казахи). Их кочевья подошли вплотную к русскимпоселениям на юге региона. Приход новых кочевниковне мог не отразиться в документальных источниках, на-пример, в летописях, в том числе, в одной из самых пол-ных – Есиповской (начало XVIII в.). Эти первые набегизапомнились русским поселенцам надолго. Так в отве-тах на анкету Г.Ф. Миллера в 1741 г. жители слободы Ца-рево Городище (в частности, деревни Шкоцкой) вспоми-нали не только ближайшие разорения 30-х гг. XVIII в., но инабеги 1695 г. [28, л. 243-253].
В Есиповской летописи под 1691 г. сообщалось, что«... воинские люди Казачьей Орды бесермены, розвое-вали тоболского ведомства вверх Тобола реки две слобо-ды, Утяцкую да Камышевскую, и в тех слободах прикащи-ка тоболского сын боярского Спиридона Рачковского зженою и з детьми и с ним много беломестных казаков икрестьян з женами и з детми во дворе сожгли, а иныхпобили, и в полон с собою увезли человек з двести» [25,104]. Аналогичные сообщения с подробностями о пря-мых военных столкновениях имеются в записях летописии под 1692, и 1693 гг. [25, 104].
На рубеже XVII-XVIII вв. русская колонизация обес-печила формирование в регионе устойчивой зоны ком-пактного русского населения. Но вся первая половинаXVIII в. отмечена достаточно ожесточенными столкнове-ниями русских с башкирами и киргиз-кайсаками. Как от-мечает А.Ю. Огурцов, «специфический интерес исследо-вателей к деятельности русских земледельцев часто при-водил к тому, что они не обращали внимания на уровеньвоенной опасности. Тем самым создавалась иллюзиябесконфликтности вхождения новых народов и их терри-торий в состав России» [22, 8]. А уровень этой опасностибыл все-таки высоким. Иначе бы не вооружались копья-ми, бердышами, огнестрельным оружием крестьяне (сло-бода Царево Городище) [1].
В 1704-1711 гг. в Башкирии вновь вспыхнуло крупноевосстание, захватившее и Зауралье. Только в 1708 году сиюня по сентябрь в рамках изучаемого региона произош-ло 87 столкновений башкир с русскими [22, 8]. С 1709 г. по1711 г. нападению подвергались Крутихинская, Красно-мысская слободы, Катайский острог, Далматовский мо-настырь [13, 92-93]. В 1709 г. капитан В. Томилов доно-сил: «Августа-де во 2 день прибежали из степи воровскиелюди под слободу Царево городище из-за Тобола реки идеревни Смолино и трех человек русских взяли в полон, алошадей и рогатого скота отогнали сто пять» [13, 92-93].
Отмечены военными столкновениями и 1720-е гг., ав мае-июне 1736 г. нападения башкир приняли массо-вый характер. Вооруженный конфликт охватил террито-рию полосой от Среднего Притоболья до верховьевр. Исеть. Эти набеги также упоминались в ответах на ан-кету Г.Ф. Миллера, причем практически все деревни сло-боды Царево Городище подверглись разорению именнов эти годы [28, л. 243-253].
Военные конфликты продолжались и в последую-щие годы. «Майор Павлуцкий с командою близ Кислянс-кого села башкирцев побили 1737 года июня 8 дня» [7, л.31 об]. Более масштабные столкновения были в Утятс-кой слободе – нападавшими башкирами было угнано1026 голов скота. В этом же году башкирские предводи-тели Бекень и Мандар с двухтысячным отрядом направи-лись к Катайскому острогу и сожгли десять деревень. В1740 г. были совершены нападения на притобольныеслободы – Верх-Суерскую и Утятскую [13, 107], таким об-разом, практически все Среднее Притоболье было охва-чено военным противостоянием русских и башкир.
Активизация военного противостояния башкирско-го населения была, прежде всего, связана в это время с
124
ущемлением вотчинных прав башкир на свои земли в свя-зи с активным горнозаводским строительством на Урале.Это вызвало в свою очередь усиление колонизационногонатиска башкирского населения на территорию Зауралья.Теперь, в отличие от XVII в., башкирские набеги вплотнуюохватывают и Притоболье. Вопрос о владении землей сталодним из центральных в XVIII в., он был одним из главныхмотивов башкирских восстаний. Так, в мае 1709 г. во времянападения на Крутихинскую слободу один из предводите-лей восставших подъезжал к стенам острога и кричал рус-ским: «То де все наша земля Башкирская» [23, 344].
Необходимо отметить еще одно важное обстоятель-ство, которое неизбежно должно было приводить к кон-фликту двух сторон в межэтнических взаимодействиях. Эторазличное понимание одних и тех же терминов, преждевсего, касающихся властных отношений. «Стремлениеподойти к коренным народам Сибири с мерками русско-го общества XVII в., непонимание особого менталитетатуземцев было, пожалуй, слабой стороной... системы вза-имоотношений представителей российской государствен-ности с сибирскими автохтонами» [9, 107]. Р.Г. Кузеев от-мечает, что «разное понимание характера присоедине-ния со стороны царского правительства (подданство) исо стороны башкир («свободный вассалитет») стало цен-тральным моментом дальнейшего взаимодействия двухсторон» [15, 268]. Это как раз и приводило к периодичес-кому нарушению политического равновесия. В целом вXVII в., по словам того же Р.Г. Кузеева, в отношении баш-кирского населения «Москва осуществляла своеобраз-ный российский вариант политики функционализма (ак-тивно используя местные родоплеменные структуры,влияние элит и т.д.)». Но уже с XVIII в. «политика России...круто меняется в сторону прямого, военного осуществле-ния целей социально-политической интеграции» [15,268]. Важную роль в этом процессе сыграл Указ 11 фев-раля 1736 г. Как отмечает А.И. Акманов, по указу предус-матривалось жестокое наказание башкир – участниковвосстания. Немаловажное значение имели решения,касающиеся земельных отношений. Земельные владе-ния активных мятежников безвозмездно передавалисьслужилым мишарям, тептяри и бобыли освобождалисьот уплаты оброка за землю башкирам-повстанцам [4, 14-15]. Весьма красноречивое подтверждение практикиприменения принципа «разделяй и властвуй». С уверен-ностью можно утверждать, что после этого указа был взяткурс на самую широкую русскую колонизацию Башкирии.Это изменение стало одной из причин обострения рус-ско-башкирских отношений и их большего ожесточения.
Несмотря на безусловные успехи русской колониза-ции края в первой половине XVIII в., русской администра-ции так и не удалось создать мирные условия жизни врегионе. Зауралье оставалось зоной постоянных столк-новений с башкирским и киргиз-кайсацким населением.Все это требовало более эффективных действий. Тако-выми стали действия по наращиванию воинских ресур-сов в регионе. Одну из центральных ролей в этом делесыграл в середине XVIII в. расквартированный в заураль-ских слободах и острогах Сибирский драгунский полк подкомандованием Я.С. Павлуцкого.
Несколько слов об этом человеке. Вот некоторые вы-держки из послужного списка Якова Павлуцкого (1748 г.):«А определен из дворян в капитаны в Сибирский гарни-зонный драгунский полк, в котором и поныне служит, ибывал во многих партиях и на боях против неприятелей...Да того ж 736 г. командирован был легкою партию обще сподполковником Миклашевским за воровскими башкир-цами, кои немалым собранием приходили под ЦаревКурган, и оных догнав верстах во 100, чинили сильноесражение, при котором их воров побили и лошадей из
под тех воров отбили немалое число... В 740 г. побитокомандою Павлуцкого 1630 человек (башкир. – В.М.), да вполон взято 1450 человек, из того числа, на страх прочимворам повешено 183 человека; отбито лошадей, коров иовец довольное число, и немалое число деревень соз-жено воровских разных волостей 82, в них 689 дворов»[16, 1-5].
Данный документ наглядно и весьма убедительнопоказывает ожесточенность русско-башкирского конф-ликта. Страдали не только русские поселенцы, периоди-чески подвергавшиеся набегам, убиваемые и угоняемыев Среднюю Азию для продажи в рабство. Не менее жес-ткими были ответные меры русских властей. Как видноиз приведенного нами документа, воинские команды нетолько преследовали нападавших, но и совершали ка-рательные походы против мирного населения – «нема-лое число деревень созжено», а из 1450 взятых в плен в1740 г. 183 человека было повешено, причем как мераустрашения, а не в качестве справедливой меры наказа-ния. Справедливости ради отметим, что подобное ожес-точение в данных конфликтах – явление для того време-ни вполне обыденное. Понятие толерантности есть про-дукт современного общества, мы должны понимать на-ших предков, но не судить их с позиций современных нормморали. Поэтому и Яков Павлуцкий, и предводители вос-ставших башкир в равной степени были ответственны зажестокости, творимые в ходе военных столкновений.
Но вернемся к русским военным ресурсам Заура-лья. В 1744 г. в Царевом Городище, форпостах Утятском,Иковском, Верх-Суерском, Емуртлинском и Усть-Суерс-ком располагалось 1351 человек воинской команды иимелось 38 пушек. Еще в десяти степных пунктах были раз-мещены 803 человека. Таким образом, общее число про-фессиональных военных составило 2154 человека [16, 17].
Одной из косвенных характеристик состояния воен-но-политического положения в регионе является долявоенных в совокупном населении края. По даннымГ.Ф. Миллера, в 1741 г. в слободе Царево Городище из937 дворов драгунам принадлежали 373 [28, л. 243-253],то есть почти 40%. Рассмотрим, как этот показатель рас-пределялся по отдельным деревням слободы. В дерев-не Шевелевой все 17 дворов были драгунскими, в д. Кур-ганской из 31 двора драгунских было 11, д. Смолина – из89 драгунских всего 18, д. Красильникова – 13 драгунскихдворов из 22, д. Малая Чеусова – из 15 дворов 6 драгунс-ких [28, л. 243-253]. По деревням интересующий нас по-казатель имел довольно значительную вариативность –от 100% до 20%.
Подобные вычисления для сравнения мы можемсделать и в отношении данных 1710 г. [29]. В слободеЦарево Городище военнослужилому населению принад-лежало 30,2% дворов, сравнимый уровень имелся толь-ко еще в двух слободах Среднего Притоболья – Суерской(32,3%) и Иковской (20,8%). Как видно из приведенныхвыше данных, доля военного населения за более чемтридцатилетний период в среднем повысилась. Это,прежде всего, касается важнейшего в военном отноше-нии населенного пункта – Царева Городища. Не случай-но именно он стал основной базой Сибирского драгунс-кого полка.
Отметим также, что в данных 1710 г. было учтено всевоеннослужилое население, не только драгуны, но пред-ставители других категорий, например, пушкари. Такимобразом, реальное увеличение доли военных, вероятно,было более значительным, чем это представляется припервичном рассмотрении (хотя, возможно, некоторыепредставители категорий военного населения могли бытьпереведены в драгуны). Тем не менее, увеличение доливоенного населения является неоспоримым фактом.
125
Однако, какими бы крупными ни были профессио-нальные воинские формирования, большинство населе-ния в Зауралье составляло крестьянство. В отечествен-ной историографии уже давно закрепилось устойчивоевыражение «мирная крестьянская колонизация». Хотяс точки зрения функциональных целей этой части рус-ской колонизации деятельность крестьян-переселенцевпо освоению территорий, безусловно, являлась мирнойдеятельностью, но повседневная жизнь на так называе-мом «фронтире», в зоне постоянных конфликтов, неиз-бежно накладывала отпечаток, причем далеко не мир-ный, на образ жизни русских крестьян в Зауралье. Крес-тьяне не только пассивно оборонялись от набегов, но и соружием в руках активно добивались права на освоениеи заселение новых земель.
В связи с этим имеет смысл вновь поднять вопрос охарактере русской колонизации Сибири. Исследователь-ница Е.А. Ерохина отмечает: «Говоря о взаимодействиирусской старожильческой и традиционных культур наро-дов Сибири, следует подчеркнуть комплиментарный ха-рактер их взаимоотношений» [10]. С общей теоретичес-кой точки зрения это утверждение возможно и верно,имея в виду то, что и русская крестьянская и абориген-ная культуры типологически находились в рамках тради-ционной культуры. Однако, как видно из источников, вXVII-XVIII вв. комплиментарность в русско-аборигенныхотношениях, по крайней мере в Зауралье, проявляласьвесьма слабо.
Такая двойственность положения – необходимостьпостоянно быть готовым к неприятельскому нападениюи вести свое хозяйство, формировала и особую психоло-гию зауральского крестьянства, и повседневный быт, идаже породило особую, специфическую социальную ка-тегорию – беломестное казачество. Это обстоятельствоусугублялось и противоречивостью государственной по-литики в процессе присоединения новых земель. Ново-сибирский исследователь А.С. Зуев довольно определен-но пишет об этом: «... сделав ставку в деле присоедине-ния новых земель и народов на максимальное извлече-ние с них прибыли, Московское государство рассматри-вало иноземцев только как потенциальных плательщи-ков ясака. И это обстоятельство привело к принципиаль-ному противоречию в конкретной политике и тактике пра-вительства и его агентов на местах. С одной стороны,государство постоянно провозглашало миролюбивое ипокровительственное отношение к аборигенам, пытаясьоградить их от злоупотреблений и лихоимств, к которымприбегали местная администрация и служилые люди. Но,с другой стороны, оно же требовало безусловного объя-сачивания иноземцев, рекомендуя воеводам и приказ-чикам использовать для этого любые способы и мерывплоть до силовых». И далее А.С. Зуев делает оконча-тельный вывод: «В результате заложенный в правитель-ственной установке приоритет “ласки” над “жесточью” напрактике воплощался, как правило, с точностью до на-оборот, а провозглашаемая охранительная патерналис-тски-прагматическая политика государства на этапе при-соединения новых территорий превращалась в пустуюдекларацию и даже фикцию» [11].
Однако столь категоричные утверждения А.С. Зуевапри обращении к конкретно-историческому материалуприобретают скорее относительный, чем абсолютныйхарактер. В 1729 г. крестьянин Крутихинской слободыСтепан Ильич Кузнецов обратился с прошением к импе-ратору Петру II, в котором в частности отмечал: «А в про-шлые годы, будет лет з двадцать, оныя татары и башкир-цы своевольством своим тамошнего краю россиян селыи деревни... воевали и церкви божии жгли и людей рус-ских многое число вырубили, а других в полон брали и
продовали во оные калмыки, в Казачью Орду, чего от нихи впредь весьма мы жить опасны, понеже место то ста-ло быть на рубеже. Да оные башкирцы владеют и безоб-рочно рыбными озерными ловлями с угодьями и отдаютмногим на кортому, в чем получают себе корысть нема-лую, от чего Вашему Императорскому Величиству инте-ресу немалая трата. А в тех местах для осторожности иохранения в близости крепости не имеетца, и для лутчегосмотрения и распространения во оной Сибирской стра-не близь оного Каменя Урала надлежит быть крепости ик той крепости для поселения вновь сколько надлежит впереведенцы дворов, а в близи того места Каменя Уралау Чебаркуля озера имеют жительство Далматова монас-тыря крестьяне» [17, 487-489].
В этом прошении крестьянина Кузнецова мы не ви-дим ни комплиментарности в отношении к аборигенам,ни проявления толерантности русской традиционнойкультуры. Существует устойчивое представление о погра-ничном положении родных для крестьянина мест – Кру-тихинская слобода («... место то стало быть на рубеже»),а это ведь Приисетье, которое стало заселяться еще вXVII в. Строительство же крепости у озера Чебаркуль яв-лялось бы выдвинутым в сторону башкирских земельфорпостом, призванным быть устрашением для местно-го населения. Вроде бы этот документ подтверждает ут-верждения А.С. Зуева. Но весьма интересна реакция вла-стей на это прошение крестьянина. Его рассматривалСенат, в решении было отмечено, что «в том ему, Кузне-цову, отказать для того: ежели в том месте построить кре-пость, то могут иноверцы, с которыми велено поступатьласкою, причитать к себе в озлобление, к том ж не безо-пасно есть в селении слобод, что будут принимать бег-лых, а за дальностию туда помещикам ездить и сыски-вать будет не мочно» [17, 487-489].
Как выясняется, поступать с иноверцами «ласкою»было не пустым словом, не фикцией. Власти не посчита-ли возможным строить новую крепость, хотя конфликт-ность в межэтнических отношениях в этом регионе оста-валась достаточно высокой, и она (крепость) могла быусилить военное присутствие русских в крае, но это при-вело бы к недовольству со стороны башкирского населе-ния. Конечно, в этом решении Сената преобладали праг-матические интересы, в том числе корпоративные эко-номические интересы дворянства. Уже после упомяну-того нами Указа 11 февраля 1736 г. власти меняют своеотношение к русской колонизации Южного Урала. В этомже году сибирским крестьянам было разрешено селить-ся при озере Чебаркуль [30, л. 1]. Но в любом случае ис-торическая реальность регионального масштаба оказы-вается более многообразной и неоднозначной, чем ка-тегорические и, порою, односложные оценки общего ха-рактера российской политики.
Сохранение военной опасности в первой половинеXVIII в. продолжало требовать от крестьян быть готовы-ми к военным опасностям «фронтирной» (пограничной)жизни. Русская администрация специально обращалавнимание на необходимость крестьянскому населениюбыть готовым к участию в боевых действиях. Так, в Указе от24 августа 1723 г. говорилось: «... чтобы во всех Тобольско-го уезду острогах и слободах всякого чина людей от вне-запного приходу воинских людей Казачьи Орды и Башкир-цов жили с великим опасением и осторожностью и ко обо-роне имели ружье, как огненное, так и острое...» [24, 421].
Чреватая постоянной военной опасностью повсед-невная жизнь русских поселенцев заставляла крестьянсамим, без специальных решений администрации, об-заводиться собственным оружием. Так, в отписке тоболь-ских воевод от 27 июня 1709 г. читаем: «... апреля де в 26день под Пещанскую слободу пришли башкирцы и ото-
126
гнали скот с поскотины. И крестьяне той же Пещанскойслободы, 34 человека с ружьем бегали за теми Башкир-цами в погоню и нагнав с ними бились, и под Уракаемподстрелили лошадь, а скот отбили» [23, 378]. В другомсообщении от 7 июня того же года сообщалось о том, чтобашкиры, придя в деревню Ключевскую Далматовскойвотчины, взяли в полон людей и отогнали скот. Далее: «Иони де полуполковник и майор с капитаны и с драгунамии со крестьяны, всего сот с пять и больши, за теми воров-скими людьми гонялись в погоню, и настигли на дороге»[23, 384]. Как видим, порою крестьяне весьма активноучаствовали в военных столкновениях с башкирами и кир-гиз-кайсаками, не только пассивно оборонялись, но ипринимали участие пусть и в небольших, но активных пре-следованиях неприятеля вместе с военными.
В 1748-1749 гг. командующий сибирскими войскамигенерал Киндерман, выясняя воинские ресурсы Запад-ной Сибири, приказал в первую очередь переписать кре-стьянское мужское население в возрасте от 16 до 50 лет,количество дворов в селениях, а также наличное огне-стрельное оружие, имевшееся у крестьян. Данная пере-пись как раз интересна тем, что дает содержательнуюинформацию о постоянной готовности крестьян к воен-ному отпору. По данным этой переписи, крестьяне име-ли следующее количество огнестрельного оружия: Тебе-няцкая слобода – 32 единицы, Солтосарайская – 16 еди-ниц, Иковская – 106 единиц, Царево Городище – 154 еди-ницы, Утятская – 123 единицы, Белозерская – 93 едини-цы, Верх-Суерская – 56 единиц, Усть-Суерская – 117 еди-ниц. Таким образом, в восьми зауральских слободах укрестьян имелось 697 стволов огнестрельного оружия[8]. Обращает на себя внимание разнообразие этого ору-жия. Здесь и самопалы, и так называемые «турки», фу-зеи и глади, мушкеты и даже пистолеты.
Постоянная военная опасность также заставлялажителей укреплять свои населенные пункты. По данным1749-1750 гг. укрепления имели следующие населенныепункты: Ялуторовский острог, Суерский острог, Верх-Су-ерская слобода, Усть-Суерская слобода, село Шмаковс-кое, Белозерская слобода, Тебеняцкая слобода, Солто-сарайская слобода, Иковская слобода, деревни Баклан-ская, Чунеева, Варлакова, слобода Царево Городище,село Введенское, Утятская слобода, слобода Абацкая,деревни Менщикова, Предеина [31, 52-53]. «Укрепленияглавным образом состояли из рогаток и надолбов... Сте-ны вокруг селений были или лежачие или стоячие, попреимуществу первые, то есть бревна, положенные го-ризонтально» [31, 52-53]. Как видим, укрепления име-лись не только в острогах и административных центрахтой или иной территории, но и в обыкновенных деревнях.
Только во второй половине XVIII в. военно-полити-ческая ситуация в Зауралье стабилизировалась. С этоговремени начинается процесс исключительно мирногоразвития региона, не отягощенного военной опасностьюизвне или наличием внутренней этнополитической опас-ности. Вероятно, это означало и окончательную победу вЗауралье экологической модели хозяйствования русско-го крестьянства. И может быть, характеристика, даннаяА.У. Кросби европейской колонизации справедлива и дляотдельных территорий Сибири: «Демографический три-умф европейцев в колониях умеренных климатическихзон представляет собой часть биологического и экологи-ческого завоевания, которое не могло бы быть осуществ-лено одними людьми, даже при помощи пороха» [14, 178].
Список литературы1. Абрамов Н. Слобода Царево Городище// Тобольскиегубернские ведомости. - 1860. - №5.2. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной
динамике. XVI-XX вв. – М., 2004.3. Акманов И.Г. Восстание 1662-1664 гг. – первое массовоедвижение в Башкирии// Крестьянство и крестьянскиедвижения в Башкирии в XVII-начале ХХ вв. - Уфа, 1981.4. Акманов А.И. Именной указ от 11 февраля 1736 г. – началонового этапа в политике русского царизма на территорииБашкортостана// Россия и Восток: проблемы взаимодей-ствия. Ч. II. - Челябинск, 1995.5. Бахрушин С.В. Научные труды. - Т. 3. - М., 1955.6.Вершинин Е.В. Неверность «бродячих царевичей». Заураль-ское степное пограничье в XVII веке// Родина. - 1998. - №1.7. Государственный архив города Шадринска, ф. 224, д. 3243.8. Государственный архив Курганской области, ф. 2260, оп.1, д. 97.9. Демин М.А. Коренные народы Сибири в ранней русскойисториографии. - СПб.; Барнаул, 1995.10. Ерохина Е.А. Народы Сибири: к вопросу о спецификемежэтнических взаимодействий// Евразия: культурноенаследие древних цивилизаций. Вып. 1. Культурный космосЕвразии. - Новосибирск, 1999. -С. 142-145; или Сибирскаязаимка, 2001. - №3 // www.zaimka.ru11. Зуев А.С. Русская политика в отношении аборигеновкрайнего Северо-Востока Сибири (XVIII в.)// Вестник НГУ.Серия: История, филология. Т. 1. - Вып. 3: История. -Новосибирск, 2002; или Сибирская заимка, 2002. - № 7// www.zaimka. ru.12. История Курганской области (с древнейших времен до1861 г.). - Курган, 1995. - Т. 1.13. Кондрашенков А.А. Крестьяне Зауралья в XVII-XVIII веках.Ч. 1. - Челябинск, 1966.14. Кросби А.У. Экологический империализм: трансатланти-ческая миграция западных европейцев как биологическийфеномен// Человек и природа: экологическая история. –СПб., 2008.15. Кузеев Р.Г. Особенности присоединения Башкирии кРусскому государству// Урал в прошлом и настоящем:Материалы научной конференции. - Ч.1. - Екатеринбург, 1998.16. Материалы для истории Сибири/ Сост. Г.Н. Потанин. -М., 1867.17. Материалы по истории Башкирской АССР. - М.-Л., 1949.Т. III.18. Миллер Г.Ф. История Сибири. - М.-Л., 1941. - Т. 2.19. Мурзабулатов М.В. Зауральские башкиры в XIX-начале ХХвека// Урал в прошлом и настоящем: Материалы научнойконференции. - Ч.1.- Екатеринбург, 1998.20. Мурзабулатов М.В. Этнополитическая история башкир//Курганские башкиры: Историко-этнографические очерки. -Уфа, 2002.21. Оборин В.А. Заселение и освоение Урала в конце XI-начале XVII века. - Иркутск, 1990.22.Огурцов А.Ю. Военно-инженерная политика России на югеЗападной Сибири в XVIII в.: Автореф. дис. .. канд. ист. наук. -Свердловск, 1990.23. Памятники Сибирской истории XVIII в. Книга первая. -СПб., 1882.24. Памятники Сибирской истории XVIII в. Книга вторая. -СПб., 1885.25. ПСРЛ. Т. 36. - М., 1987.26. Пузанов В.Д. К проблеме контактов русских и кочевниковпервой половины XVII века в Южном Зауралье// Урал впрошлом и настоящем: Материалы научной конференции.- Ч.1. - Екатеринбург, 1998.27. Рахматуллин У.Х. Крестьянское заселение Башкирии вXVII-XVIII вв.// Крестьянство и крестьянские движения вБашкирии в XVII-начале ХХ в. - Уфа, 1981.28. Российский государственный архив древних актов, ф.199, д. 481, т. 2.29. Российский государственный архив древних актов, ф.214, кн. 1526.30. Российский государственный военно-историческийархив, ф. 20, оп. 1/47, д. 66.31. Список населенных мест Тобольской губернии. - СПб.,1871.32. Янгузин Р.З. Переход башкир от полукочевого скотовод-ства к оседлости и земледелию (XVIII-XIX вв.)// Этнокуль-турная история Урала XVI-ХХ вв.:Материалы международ-ной научной конференции. - Екатеринбург, 1999.
127
Г.Х. Самигуловг. Челябинск
ТЮРКИ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ В КОНЦЕXVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА:
КОНСОЛИДАЦИЯ/РАЗДЕЛЕНИЕ –К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
Систематическое изучение истории Южного Заура-лья, как и всей Сибири, насчитывает уже более 250 лет –с начала деятельности Г.Ф. Миллера. Однако, многиевопросы этой истории на день сегодняшний остаются нетолько не решенными, но иногда даже не оконтуренны-ми, иначе говоря, не сформулированными. Одни вопро-сы подразумеваются, иногда на эти (явные, но не прояв-ленные) вопросы ищут ответа. Другие вопросы находят«своих авторов» – людей, их сформулировавших, но име-ет смысл проговорить их в контексте более широком, т.е.в череде других проблем. Собственно, это старый способ– попытаться собрать различные вопросы большой про-блемы, вдруг проявятся новые аспекты как самой про-блемы, так и частных вопросов в ее рамках?
В первую очередь, я имею в виду вопросы, связан-ные с историей населения. Создается впечатление, чтосо времен Г.Ф. Миллера и И.Э. Фишера никто не рассмат-ривал историю тюркского населения Южного Зауралья вцелом (а не только Приисетья) как часть истории Сиби-ри, если угодно - общей истории Урала и Сибири. Иссле-дователи ставили проблемы исходя из территориальныхи/или этнических рамок своей работы, что вполне объяс-нимо, но никто не пытался охватить более-менее широ-кий фрагмент «полотна». У одних этнический аспект ис-тории выступал в работах как своеобразный «фон», кото-рый учитывался в разной степени – это характерно дляисследований, посвященных русской колонизации. У дру-гих (в первую очередь, уфимских, частью казанских исто-риков) тема этническая преобладает, но ясной картиныразвития этнической ситуации в Южном Зауралье XVI–XVIII вв. не только нет, она пока даже не намечена. Неко-торые моменты имеют разное, одинаково спорное осве-щение. Сегодня создалась парадоксальная ситуация –если мы, основываясь на имеющихся исследованиях, по-пытаемся восстановить этнополитическую историю ре-гиона, то поймем, что задача эта неразрешима. Темыистории региона, которые можно назвать проработан-ными, относятся к русской колонизации. Автохтонноенаселение в таких исследованиях служит «фоном», кото-рый периодически взрывается бунтами. Даже в исследо-ваниях уфимских авторов, касающихся истории башкирс-кого народа, история родов Южного Зауралья идет в сво-еобразном «фоновом» режиме – не хватает детализа-ции, причем детализации именно процессов. Попытаем-ся выделить вопросы, которые нам представляются ос-новными, и оконтурить попытки их решения.
Несомненно первый и основной вопрос, касающий-ся истории этих территорий XVI в., – где же все-таки про-ходила граница владений Сибирского ханства и Ногайс-кой Орды? Практически все историки обходят его сторо-ной, ограничиваясь упоминаниями о разделении терри-торий. Подразумевается, что границы владений различ-ных пост-ордынских государств на Южном Урале впос-ледствии воплотились в границы «дорог»/ даруг. Сразувозникает вопрос – когда и где существовало Осинскоеханство, давшее название Осинской дороге? Но в дан-ном случае меня больше интересует вопрос о границахСибирского ханства и Ногайской орды в Зауралье. Р.Г.Кузеев определяет зону ногайского господства на терри-тории Южного Урала от низовьев Белой на западе до
вершин Яика и Ая на востоке [8, 484]. Отметив, что мне-ние Р.Г. Кузеева подтверждается документальными ма-териалами [11, 194], В.В. Трепавлов включил в ногайскуючасть еще Катайскую волость [18, 470]. Причем опиралсяВ.В. Трепавлов на ту же самую цитату из документов, что иР.Г. Кузеев: «… нагайские люди … имали де ясак в Уфин-ском уезде с ясашных волостей от устья Белы Воложкидо уфинские и до аиские вершины и на Катайской волос-ти» [11, 194]. Далее В.В. Трепавлов предложил северо-восточную границу владений Ногайской орды считать повосточной границе Катайской волости. В формулировкеавтора: «Катайской волости будущей Сибирской даругиБашкирии – приблизительная меридиональная линия поюжноуральским озерам Иткуль (или, может быть, Щел-кун), Синарское, Касли, Кизыл-Таш, Увильды, Аргази. Да-лее границу возможно провести по верхнему течению Уя(может быть до впадения в него Увельки), по обеим сто-ронам которого некогда также обитали “роды ногаев”»[18, 470]. Только вот какая Катайская волость имеется ввиду – катайцы в Зауралье в середине XVII в. жили направом берегу Исети. Для подтверждения приведу цита-ты из двух документов: в 1633 г. «…приезжали те воинс-кие люди к нему Козюбайку к юртам (на Исети выше устьяТечи. – Г.С.) от Билягиля ида пошли назат к Билягилю ж вКатайские волости» [11, 468] (Билягиль, с большой долейвероятности – оз. Беликуль в нынешнем Красноармейс-ком районе Челябинской области); 1651 г., в розыске онападении на Далматов монастырь, сказано: «те воинс-кие люди приходили к Успенскому монастырю из за Исе-ти реки пониже Катайского бору да тою же де сакмою иназад пошли» [12, 348–349]. И еще из одного документа,1623 г., известно, что Катайская и Сырянская волостинаходились рядом: «… сьехались Уфинского уезду Ка-тайской волости татарове и Верхотурского уезду сырян-цы» [11, 342]. А границы Сырянской волости, по крайнемере на 1673 г., нам известны: «Вотчина де у них у сени-рянцов у всех вопче за Урал горою, на степной стороне, амежа той вотчине с вершины речки Багаряк и до устья, аот той речки с вершины речки Елганды (совр. Боевка –Г.С.) и до устья, а от устья той речки по речку Казигандыдо вершины и до устья, да на вершины речки Уйлабастыи до устья, да через речку Сесер (Сысерть – Г.С.) на со-сняг а с того соснягу на вершины речки Исеть и с верши-ны Исети на речку Уктус, с устья и до вершины» [2, 81].Сырянская волость также располагалась преимуще-ственно в правобережье Исети, а Катайская, очевидно,граничила с ней с востока. Очень примечательно упоми-нание в документе 1647 г. о том, что калмыки идут от уфим-ских Катайских волостей вниз по Исети к «нашим» (т.е.сибирским) волостям [11, 609]. То есть в таком случаеграницей между владениями ногаев и сибирских хановнадо считать Исеть, хотя бы в районе нынешнего Катайс-ка. А на озерах Иртяш, Касли, Кызылташ в первой поло-вине XVIII в. жили мякотинцы (бикатин), и волость, соот-ветственно, называлась Мякотинской. И если эти самыемякотинцы жили на территории Катайской волости, в зоненогайского влияния, тогда совершенно непонятно, что ониделали вместе с сотнями табынцев и сырян в отрядахКучумовичей [16, 8; 11, 194–196; 9, 150]? Возможно, ответна вопрос о границах Сибирского ханства в Южном Зау-ралье будет дан в одной из статей настоящего сборника.Хотя и сами эти границы наверняка не были «неподвиж-ны» в разные периоды существования ханства и Ногайс-кой орды.
Еще вопросы: каковы были границы даруг? Изменя-лись ли они? Каково соотношение даруг и русских уез-дов? Например, в конце XVII в. башкиры Сырянской во-лости Сибирской дороги Уфимского уезда в конце XVII в.просят избавить их от уплаты ясака за сбежавшего ясач-
128
ного татарина, объясняя, что им и так нелегко, – на ихземле поставлены Ремянская (Арамильская), Камышен-ская и Багаряцкая слободы и Колчеданский острог [2, Л.81об.]. При этом мы знаем, что упомянутые слободы иострог числились в Верхотурском уезде, а вовсе не вУфимском. Более того, в начале XVII в. сама Сырянскаяволость относилась к Верхотурскому уезду, в отличие отКатайской волости [11, 341–342]. Если даруги/дороги су-ществовали с основания г. Уфы (1586 г.), то включали лиони в начальный период их существования волости, на-селение которых платило ясак не в Уфу, а в сибирскиегорода? Это возвращает нас к той же проблеме разделе-ния/консолидации тюркских племен Южного Зауралья.
И вновь вопрос, тоже весьма непростой и возмож-но, несколько неожиданный – как мы можем различитьпо документам башкир и не башкир? Или татар и не та-тар? Где граница между местными татарами и местны-ми же башкирами? Можно ли их вообще называть тата-рами и башкирами? Естественно, имеются в виду прожи-вавшие в этих краях, владевшие здесь вотчинами пред-ставители тюркских народов. Современные исследова-тели часто пишут о «служилом» тюменском татаринеИлигее и его товарищах [15, 87–88; 13, 187–188], причемВ.Д. Пузанов полагает, что землю они получили уже пос-ле покорения Сибири, от русского правительства [15, 88].В единственном источнике об основании Далматова мо-настыря говорится: «тюменского ясаку татарина, зово-мого Илигея» [1, 85]. Эта, казалось бы, мелкая детальвыводит нас на гораздо более широкую проблему. Читаяработы по истории Зауралья, складывается впечатление,что авторы зачастую вкладывают в выражения «тюменс-кий татарин» или «уфимский татарин» содержание со-временное, нынешнее. И получается, что в Южном Зау-ралье были сплошь земли, которыми пользовались та-тары сибирские (либо поволжские, служившие в сибирс-ких городах), а потом вдруг появляются башкиры… Приэтом в том же тексте может рассказываться о живших вЗауралье сырянах и табынцах, часть которых кочевалавместе с царевичами, т.е. Кучумовичами. При попыткесовместить эти два тезиса возникает странность – сы-рян, табынцев и мякотинцев никто к сибирским татарамвроде как не относит. Так может дело все же в интерпре-тации «формулировок» XVII в.? Случай с Илигеем даетключ к пониманию ситуации. Ясачные татары - это обыч-но вовсе не то же самое, что служилые татары (как иясачные башкиры - не то же самое, что служилая про-слойка – тарханы). Скорее всего, Илигей и его сородичибыли людьми, чьи предки владели землей по Исети ещедо Ермакова похода. При приходе новой власти, т.е. рус-ских, они «шертовали» царю, и получили указную памятьна свои земли, в подтверждение вотчинных прав. По край-ней мере, оснований считать иначе у нас нет. Это былаобычная практика на присоединенных землях. С точкизрения русских, он был «татарин», как называл себя онсам, мне не известно – возможно, в каких-то документахсохранились указания на его племенную принадлеж-ность. Выражения «тюменский татарин», «уфимский та-тарин» или «тобольский татарин» означало не татар,живших в Тюмени, Уфе или Тобольске, а тюрков, платив-ших в эти города ясак. Разграничение происходило по«приписке» к конкретным городам и со временем изме-нялось. И среди «тюменских» и «тобольских» «татар»таких ясачных представителей было большинство – упо-минания о служилых «татарах» встречаются намногореже. Илигей Атиулов был, скорее всего, старшим в роду,в документах под 1647 г. встречаем: «повоевали юртытюменского татарина Илигайка Атиулова» [11, 606],«…ясачных татар Илигейковых юрт повоевали» [11, 609].Таким образом Илигей из служилого тюменского татари-
на, которому за службу якобы дали земли по Исети, како-вые он, в свою очередь, сдавал в аренду русским кресть-янам, чьи имена для нас сохранила история: «Ирбитцы иневьянцы Королевы и Шипицыны с товарищи» [1, 184;14, 73], превращается в местного жителя, вотчинника,который сдавал в аренду вотчинные угодья. Часть этихугодий он впоследствии уступил Далмату. Место располо-жения «юртов» Илигея в 1647 г. (а скорее всего и рань-ше) – устье р. Суварыш, т.е. он уступил под монастырскиеугодья именно часть своей (родовой) земли, сохранивземли, достаточные для обеспечения рода. Еще фразаиз документа 1647 г.: «те де уфинские татаровя весть по-дали башкирским татарам, и те де башкирские татаровяс уфинскими татары на тех калматских людей собралисьвместе на другой день июля в 26 день 150 человек» [11,608]. Рискну предположить, что под «уфинскими татара-ми» здесь понимаются тюрки, платившие ясак на Уфу, нобашкирами не считавшиеся, в отличие от «башкирскихтатар», т.е. собственно башкир. Причем жили те и другиебок о бок, если в течение суток смогли собрать отряд в150 воинов. А «тюменские» или «верхотурские» татарыначала XVII в. впоследствии, к концу XVII в., вполне моглиоказаться «уфимскими», что мы видели выше на приме-ре сынрян и увидим дальше в отношении представителяплемени терсяк.
Вопрос следующий, не менее актуальный – какиеясачные волости, где и когда располагались в ЮжномЗауралье XVI–XVII вв.? Наверное, самое подробное об-ращение к этой проблеме мы видим в работах В.Д. Пуза-нова. Но его реконструкция основана, в значительнойстепени, на работе Б.О. Долгих, что сразу заметно по сте-пени «освещенности» разных территорий и некоторойпротиворечивости данных. Основываясь на материалахБ.О. Долгих и Г.Ф. Миллера, В.Д. Пузанов довольно под-робно, хотя и весьма приблизительно (непонятно, каксоотносились границы волостей по Исети) описываетволости, располагавшиеся собственно в Приисетье, про-говаривая, что некоторые из них захватывают и террито-рии по среднему течению Тобола, но непонятно, какие игде именно. Потом оказывается, что на Исети была еще иКатайская волость. Терсютская волость локализуется врайоне впадения р. Терсюк в р. Исеть, и тут же оказыва-ется, что «по Исети, Чусовой и Уфе жили тюркоязычныегруппы терсяков Верхотурского уезда, родственные Тю-менским терсякам» [15, 16]. Один момент, который де-лает сложным соотнесение реконструкций автора с ис-ходными материалами – весьма скудное ссылочноеоформление. Большая часть утверждений, фактов при-водятся вообще без всяких ссылок. Еще одна цитата: «…вконце XVI – первой половине XVII в. на юг Зауралья усили-вается приток татарского служилого и ясачного населе-ния, местом размещения которого стало Среднее При-тоболье, а также район верхнего и отчасти среднего При-миассья после ухода оттуда к Кучумовичам башкирскихгрупп сырянцев и табынцев» [15, 14]. При этом ниже сы-ряне локализуются на территории от верховьев Пышмыдо Катайска [15, 16], и не совсем понятно, каким образомуход части табынцев к Кучумовичам делал возможнымзаселение их территорий – оставшиеся представителиэтого племени платили ясак на Уфу и распоряжалисьтерриториями своей волости (Кара-Табынской), котораясчиталась «дальною волостью» и существовала на про-тяжении всего XVII в. [11, 193–197; 9, 153], как собственнои позже. И не совсем понятно, откуда шел этот самыйприток татар.
Зачастую критика достается тому, кто просто первымвзялся за новую тему. Так произошло и здесь – приведен-ные выше замечания - это вовсе не попытка показать,что работы В.Д. Пузанова некачественны. Напротив, у него
129
весьма основательные исследования по теме формиро-вания государственной военной организации (и собствен-но русскому расселению) в Зауралье. Более того, он прак-тически первый за долгий период времени историк, пред-принявший попытку выстроить картину расселения на-родов и племен на территории Южного Зауралья концаXVI–XVII вв. Можно привести пример известного исследо-вателя крестьянской колонизации Зауралья А.А. Конд-рашенкова, который в своей основной работе практичес-ки вообще не упоминает «инородческое население», какбудто его здесь не существовало [5]. В.В. Менщиков в сво-ей монографии дает общий очерк развития этнополити-ческой ситуации, без детализации (несколько замеча-ний, сделанных им о ялан-катайцах, сызгы и т.д., явно непретендуют на детальную реконструкцию) [10, 68–83].Поэтому недочеты реконструкции этнополитической ис-тории Южного Зауралья периода русской колонизации инакануне ее в книгах В.Д. Пузанова отражают существую-щую сегодня картину – практически полное наше неведе-ние в этом вопросе. Дело в том, что даже среди работбашкирских специалистов мы не найдем ни одной, кото-рая бы позволила корректно восстановить эту историю.Если бы В.Д. Пузанов использовал при своей реконст-рукции еще и схему Р.Г. Кузеева, то рисковал запутатьсяокончательно. Полагаю, что именно поэтому он предпо-чел опираться только на материалы Б.О. Долгих иГ.Ф. Миллера.
Здесь я «замахиваюсь на святое» – самая автори-тетная работа, которую упоминает и на которую ссылает-ся, наверное, каждый специалист, затрагивающий воп-росы этнической истории Южного Урала (и Зауралья) –«Происхождение башкирского народа» Р.Г. Кузеева [8].Кроме этого есть большая статья «Зауральские башки-ры», написанная им совместно с Н.В. Бикбулатовым иС.Н. Шитовой [7], где более подробно рассматриваетсяистория расселения зауральских башкир в XVI–XIX вв.Р.Г. Кузееву следует поставить памятник за то, что он сде-лал – массив информации, сведенный им воедино в «Про-исхождении башкирского народа», восхищает. Но все жеэта работа была лишь первым обобщением, требующимдальнейшего развития исследований, доработки мате-риала, выяснения причин нестыковок данных и т.д., и т.п.Его монография (как и работа по зауральским башки-рам) написана в основном на полевых материалах, изархивных материалов привлекались преимущественноопубликованные, без специального поиска дополнитель-ных сведений. А если мы начнем сегодня читать те ееразделы, что посвящены зауральским башкирам, то вы-ясним, что выкладки, приведенные Р.Г. Кузеевым по рас-селению башкир в XVII–XVIII вв., зачастую не совпадают сматериалами документов, в том числе и опубликованныхна сегодняшний день. Иногда не совсем понятны интер-претации ситуации, в частности с историей сынрян: «Тер-ритория сынрянцев в XVII—XVIII вв. неоднократно меня-лась … В конце XVI – начале XVII в. они кочевали вместес царевичем Алеем в “семи днях от Тюмени на так назы-ваемых боровых пяти озерах”». Вскоре сынрянцы ушлииз-под Тюмени; в 1623 г. они числились уже в Верхотурс-ком уезде. Здесь они заняли территорию по левобере-жью верхнего и среднего течения р. Исети. Б.О. Долгихпредполагает, что в Бачкырской волости (Бучкурской – поспискам И. Кириллова и П. И. Рычкова; Бускурской – пореестру 1737 г.), расположенной между Исетью и Пыш-мой, в районе течения р. Беляковки и озера Атяж, такжежили сынрянцы…» [8, 239]. Первая посылка должна по-казать, что сынрян в начале XVII в. занимали территориюнедалеко от Тюмени и лишь потом переселились к Исе-ти. Вторая посылка приводит нас к тому, что сынрян наИсети занимали территорию Бачкырской (Пускурской,
Бушкурской и пр.) волости. Совершенно непонятно, по-чему часть сынрян не могла жить в своей волости, а частьслужить у Алея и прочих Кучумовичей, как это было у та-бынцев. Сынрянская волость, как показано выше, нахо-дилась на правом берегу Исети в ее верховьях и по ре-кам Уктус, Сысерть, Багаряк, Елганды, а не между Исе-тью и Пышмой. А Кучумовичи в литературе не зря получи-ли «титул» «бродячих» царевичей – говорить о привязкеих самих и их «подданных» к каким-то территориям, как кволостям, вряд ли возможно.
С Бачкырской, она же Бушкурская, волостью вооб-ще непонятная история, она существовала еще в XVIII в.,но о дальнейшей судьбе племени, давшего ей название,неизвестно. Население этой волости «повисает в возду-хе», поскольку их дальнейшая судьба не обозначена ни вработе Р.Г. Кузеева, ни в монографии Н.А. Томилова. При-чем сомневаться в том, что «бачкырцы» – это одно изтюркских племен или родов, оснований нет: «… погроми-ли бушкурцев на Устюше озере Бехтемирковы юрты да наПышме Ямшибаевы юрты…» [11, 416]. Н.А. Томилов упо-минает об этой волости, и из контекста бачкырцы оказы-ваются башкирами [17, 33–34]. При этом в его работе,рассматривающей историю тюркских народов ЗападнойСибири, также не дается конкретной характеристики рас-положения волостей. Но контактный характер террито-рии Южного Зауралья (Чусовая–Исеть–Пышма–Тобол ивплоть до Туры) отражен в ней довольно хорошо, хотя несовсем понятно, на каком основании, скажем, терсякиили бачкырцы XVII в. однозначно отнесены к башкирам[17, 30–35, 186–187]. В целом для этих территорийН.А. Томилов придерживается «политкорректной» пози-ции о разделенности в XVI–XVII вв. племен Приисетья нататарские и башкирские. В работах Д.М. Исхакова такженаблюдается эта тенденция экстраполяции понятий се-годняшних на ситуацию периода постордынских госу-дарств. При этом он четко проговаривает, что фактическиот Поволжья до Прииртышья существовало пространство,на котором формировалось население, обладавшее сход-ными чертами и, в значительной степени, сходной исто-рией формирования [4, 19–23]. Но применение совре-менной этнонимии к ситуации того времени вряд ли оп-равдано [3; 4]. Идентичность в XVI–XVII вв. для большейчасти этого населения была связана с племенной (родо-вой) принадлежностью и ситуацией административногоподчинения. Скажем, терсяки XVI в. имели гораздо боль-шую возможность влиться в формирующийся в рамкахСибирского ханства тюркский этнос (сыбыр). После па-дения Кучумова царства ситуация начала меняться. Боль-шая свобода, которой пользовались башкиры, выгодывыплаты ясака на Уфу и подсудности только тамошнемусуду притянули часть терсяков в сферу формированиябашкирского этноса. Восточная часть племени терсяк,очевидно, вошла в состав туринско-тюменских татар. Го-ворить, что «башкиры рода терсяк» вошли в состав си-бирских татар, либо что «татары рода терсяк» вошли всостав башкир, на мой взгляд, не совсем верно. Предста-вители рода (племени) терсяк вошли в состав как баш-кир, так и сибирских татар – это не компромиссный вари-ант изложения истории, это, на мой взгляд, корректныйвариант такого изложения. Очень характерна фраза изкниги Н.А.Томилова: «Контакты и семейно-брачные свя-зи между тюменскими татарами, с одной стороны, бач-кирцами, терсяками и сырянцами, с другой, были в це-лом настолько широки, что три последних группы в XVII в.не выделялись из состава тюменских татар» [17, 33–34].Иначе говоря, три этих рода тяготели к своим соседям и«соотечественникам» по Сибирскому ханству, что впол-не естественно. Под тюменскими татарами подразуме-ваются, в данном случае, тюрки, платившие ясак на Тю-
130
мень – сынрян, терсяк и бачкыр естественным образомвходили в это число как бывшие подданные Сибирскогоханства. А затем, как я писал выше, начался постепен-ный переход в «уфимские татары», что хорошо иллюст-рирует один из документов 1648 г.: «сказывал де им ясаш-ной татарин Денметько Терсяк, а прежде сего он ясакплачивал на Тюмень, а ныне де он платит ясак на Уфу…»[11, 613]. Вопрос: стал ли Денмет после перехода в Уфим-ское «ведомство» башкиром? И был ли он до этого тата-рином? Это вообще беда практически всех этноистори-ков, которые оперируют понятиями «татары» и «башки-ры» для больших групп населения эпохи средневековья.Представляется, что для этого времени, применительнок тюркскому населению бассейнов Исети, Пышмы, Чусо-вой и, возможно, даже Туры, корректнее говорить о «тер-сяк», «сынрян», «бушкур» («бачкыр»), «киныр» и т.д., ане о татарах и башкирах. Перефразируя классика марк-сизма-ленинизма: «Прежде чем объединять, надо ре-шительно размежевать». А то недавно я услышал мне-ние о том, что представители шести башкирских племенучаствовали в поднятии Темучина на белой кошме и дол-го ломал голову, с чего бы это вдруг возникла такая вер-сия, а потом до меня дошло, что племена, которые черезнесколько веков вошли в состав башкир, уже будучи тюр-коязычными, воспринимаются как башкирские изначаль-но, еще с того времени, когда они были монголами… Во-истину, полна чудес страна родная…
Еще один вопрос, который до сих пор не получилдостаточного освещения: ясачная волость - это одна тер-ритория, или возможно «сочетание» двух-трех террито-рий, расположенных в разных местах, но причисляющих-ся к одной волости? Для выяснения этого необходимоанализировать архивные материалы в огромных коли-чествах. Я не ставлю под сомнение ценность шежере какисторического источника, но архивные документы, на мойвзгляд, обладают несомненным приоритетом. И тема,являющаяся продолжением вышеприведенного вопро-са – как изменялись границы волостей, хотя бы на протя-жении XVII–XVIII вв.? Проиллюстрирую непростую ситуа-цию как с собственно изменением границ, так и с истори-ей изучения этих изменений на примере сальют.
Если исходить из Р.Г. Кузеева: «Уход катайцев и са-льютов с Чусовой, с верховьев Исети и вообще с север-ных земель находится в тесной связи с двумя крупнымисобытиями: с одной стороны, с активизацией русскойполитики по освоению Пермского края и Сибири…; сдругой – с ослаблением и падением Сибирского ханства.<…> Массовый уход башкир с северных земель относил-ся, однако, ко второй половине и даже к концу XVI в. <…>Первыми откочевали на юг сальюты. Они поселились кюгу от Исети, локализуясь в бассейнах рек Синара и Теча.Катайцы вновь разделились. Основная их часть сдвину-лась на юг <…>. Другая часть катайцев вслед за сальюта-ми направилась в Зауралье; там они в основном засели-ли междуречье Синары и Течи в их верхних течениях» [8,237–238]. Еще: «…вплоть до конца XIX в. сальюты имелибольше земель, чем соседние катайцы и даже табынцы»[7, 188]. Далее говорится о том, что сынрян, терсяк (тер-сют) и бикатин жили в качестве припущенников на земляхсальют, как и значительная часть катай. Если мы посмот-рим массив документов хотя бы первой половины XVIII в. –можно даже ограничиться опубликованными Н.С. Коре-пановым [6], то увидим, что все не так просто.
Границы Сальютской (Салжеутской, Челжеутской ипр.) волости описаны в документах разного времени.Самый ранний документ, известный мне и датирован-ный 1672–1673 гг. (7181 г. от сотворения мира – факти-чески одновременный документу о границах Сынрянс-кой волости, приведенному выше): «Вотчина-де у них у
всех – Челжеуцкие волости в обще за Уралом-горою. Амежа-де той вотчине: Сеняр-озеро, а с того озера на горуМоховую, а с той горы на устье речки Исеняк, а с тое речкидо Котлунского устья и до вершины, а с той речки черезУрал-гору к Уфимской стороне на вершину речки Уилги, ас той вершины на вершину ж речки Анагуль, а с той речкина вершину речки Чусовой, а с той вершины на вершинуречки Шаханлы, а с той вершины на вершину ж речкиКоган, а с той вершины на речку Елагач, а с той речки наречку Чекмарды, а с той речки на гору Чивулду, а с тойгоры на гору ж Навиердяк, а с той горы на речку Кавилгу, ас той речки на суходол Наенгарерчу, а с того суходолу наУергын-камень, а с того камени на вершину речки Леуш,да по речке Левларды и сосняком, а с той речки черезУрал-гору на степную сторону на речку Бултав, а с речкиБултава на речку Усман, а с той речки на речку Секирян,да с той речки на гору Елдамыш, а с той горы на речкуАремыль, а с той речки на вершину речки Сабаут, а с тойречки на речку Каминши, а с той речки до Толбинскогоустья, а с того устья на Ик-речку, а с той речки на каменьКумю, а с того камня на речку Сяир, а с той речки на речкуЛубасты с устья и до вершины, а с той речки на озероКунгур, а с того озера на болото Кулес, а с того болота наречку Сеняр» [6, № 8]. В 1721 г.: «А межу своим вотчинамсказывают по сю сторону Чусовой-реки с Багарякскогоозера на Арамильскую вершину и ниже Курганской де-ревни» [6, № 2]. В 1724 г.: «По Чусовой-де реке и которыеречки [в]пали во оную Чусовую – вотчина-де исстари их,Челжеутской, да Терсятской, да Сениренской волостейБашкирцев» [6, № 7]. Обратим внимание, что южная гра-ница Салжеутской волости, указанная в приведенныхцитатах, совпадает с северной границей Сынрянской во-лости, описанной в цитированном выше документе. Тоесть сказать, что сальюты ушли с Чусовой в XVI в., никакнельзя – они остаивают свои права на эти территорииеще в XVIII в. Но в 1730-х гг. сальюты уже доказывают, чтоим принадлежит земля по Синаре и к югу от нее, оспари-вая межевание, проведенное в пользу башкир Кушсинс-кой волости [2, Л. 82]: «В тех писцовых книгах проронкоюписца к той волости во владение прописаны по имянуе-мым тем урочищам по Синаре реке по мысу Бабак Кара-гаю, от Бабака по лугу по ту сторону Маяна до Течи реки, ипо сю сторону Течи реки вверх по озеру Яланда и уловляяТабинское озеро по сю сторону по лугу Куры-Ялги по тусторону речки Карабалки по край березнику по Тургаковулогу даже до именуемого Нырлава камени и просили,чтоб вышеозначенные прописные по книгам урочищаземлю лесные угодья речки и озера повелено было опи-сав и обмежевать во владение к помянутой Салюжскойволости вотченников…» [2, Л. 128]. Кстати, кушсинцы, от-межевывая себе территорию, на земли за оз. Маян и зар. Течей не претендовали, называя их катайскими [2, Л.82]. Межевание, проведенное летом 1745 г., определялограницу совместного владения Салжеутской и Терсятс-кой волостей между реками Синара и Теча [2, Л. 266–270]. В действительности там же, ближе к р. Тече и нетолько, в XVIII в. располагались деревни, относившиесякак к Улу-Катайской, так и Бала-Катайской волости, в ча-стности на оз. Кунашак (Итаяк) [6, № 43]. Фактически тер-ритория, которая в XVIII в. была своего рода чересполос-ным владением (сынрян также отстаивали свои правана земли по р. Синаре), сегодня воспринимается как из-начальная вотчина сальют, где остальные жили как при-пущенники.
Это лишь маленький и далеко не полный фрагментразвития ситуации в северо-восточной части территорииформирования башкирского этноса, которая усугубляласьзанятием территорий русскими крестьянами, отводамипод заводы и пр. Судить по нынешнему расселению и
131
даже по шежере о реалиях XVII–XVIII вв. представляетсяочень проблематичным. Насколько можно судить, наоценку событий и отображение хода исторических про-цессов сильно влияет нынешнее преобладание сальют всеверо-восточных районах Южного Зауралья. Очевидно,они были доминирующей группой среди башкир катайс-кой группы уже в первой трети XVIII в., но для более ран-него периода это далеко не так очевидно. Катай, как былопоказано выше, уже в первой половине XVII в. четко фик-сируются на правобережье р. Исеть, выше впадения внее р. Течи. Сынрян, очевидно, занимали частью как разту территорию, на которой, по мнению Р.Г. Кузеева, рас-селились в конце XVI в. сальют – по рр. Багаряк, Синара.Ну а терсяк, которых Р.Г. Кузеев охарактеризовал как «не-большое племя» и пытался проследить их передвиже-ния с места на место [8, 241], судя по упоминаниям вдокументах XVII в., были расселены от верховьев р. Чусо-вой, включая среднее течение р. Пышмы, среднее тече-ние р. Исеть, а их «вотчинные» промысловые угодья вклю-чали в себя верхнее течение р. Тобол вплоть до Юргамы-ша и Алабуги [6, № 7 – Л. 134; 11, 212, 213, 450, 613].
Представленные тезисы не являются попыткой ре-шить проблемы, скорее, обозначить их, заострить. Не-сомненно, возможности для поиска ответов на постав-ленные вопросы есть, необходимо осознание важностиэтих ответов. Наше сегодняшнее состояние неведенияоб истории местного населения Южного Зауралья, пери-ода начала русской колонизации, прискорбно. Надо про-сто продолжать собирать материал и понемногу восста-навливать картину. Но если мы будем исходить из ситуа-ции некоей «этнической детерминированности» процес-сов, то вряд ли получится увидеть картину такой, какойона была. Мы будем смотреть «этнически окрашенные»полотна, где отсечено все, что не умещается в рамки кон-цепций этногенеза, имеющих место у различных родствен-ных народов.
Список литературы1. Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря(последняя четверть XVII – начало XVIII в.): Сб. документов/ Сост. И.Л. Манькова. – Свердловск: Уральское отделениеАН СССР, 1992. – 246 с.2. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1092.3. Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарамНового времени (этнологический взгляд на историю волго-уральских татар XV–XVII вв.). – Казань: Мастер лайн, 1998.– 276 с.4. Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства. –Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2006. –196 с.5. Кондрашенков А.А. Крестьяне Зауралья в XVII–XVIII вв.Часть I: Заселение территории русскими / Отв. ред.Н.А. Лапин. – Челябинск: Южно-Уральское книжное изда-тельство, 1966. – 176 с., с карт.6. Корепанов Н.С. «Горная власть» и башкиры. – [Электрон-ный ресурс] – http://book.uraic.ru/elib/Authors/korepanov/Sait3/111b2.html (Дата последнего обращения — 29.03.2011).7. Кузеев Р.Г., Бикбулатов Н.В., Шитова С.Н. Зауральскиебашкиры: Этнографический очерк быта и культуры концаXIX – начала XX в. // Археология и этнография Башкирии. Т. I.– Уфа, 1962. – С. 171–267.8. Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа: Этничес-кий состав, история расселения / Отв. ред. Т.А. Жданко. –М.: Наука, 1974. – 570 с.9. Материалы по истории Башкирской АССР / Отв. ред.А. Чулошников. – Ч. I. – М.-Л.: Издательство Академии наукСССР, 1936. – С. 153.10. Менщиков В.В. Русская колонизация Зауралья в XVII–XVIIIвв.: общее и особенное в региональном развитии: Моногра-фия / Науч. ред. В.В. Пундани. – Курган: Изд-во Курганскогогос. ун-та, 2004. – С. 68–83.11. Миллер Г.Ф. История Сибири / Ред. кол. Батьянова Е.П.,Вайнштейн С.И. и др. – Т. II. – Изд. 2-е дополн. – М.: Вост.
лит., 2000. – 796 с., карта.12. Миллер Г.Ф. История Сибири / Ред. кол. Батьянова Е.П.,Вайнштейн С.И. и др. – Т. III. – М.: Издательская фирма«Восточная литература» РАН, 2005. – 598 с.: ил., карты.13. Пестерев В.В. Организация населения в колонизируемомпространстве: Очерки истории колонизации Зауралья концаXVI – середины XVIII вв.: Монография / Науч. ред. В.В.Менщиков. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2005. –237 с.14. Плотников Г.С. Очерки истории бедствий Далматовска-го монастыря и частию края с 1644 по 1742 год // Чтения вОбществе истории и древностей российских / Генварь–март, кн. первая. – Москва: В университетской типогра-фии, 1863. – Раздел V: Смесь. - С. 72–114.15. Пузанов В.Д. Военно-административная системаРоссии в Южном Зауралье (конец XVI – начало XIX вв.) //История Курганской области (Управление Южного Зауральяв досоветский период). Т.7. // Отв. ред. Н.Ф. Емельянов. –Курган: Курганское областное общество краеведов, 2002. –С. 7–212.16. Пузанов В.Д. Военно-политические факторы колонизацииПриисетья. – Шадринск: ПО «Исеть», 2001. – 42 с.17. Томилов Н.А. Этническая история тюркоязычногонаселения Западно-Сибирской равнины конца XVI – началаXX в. – Новосибирск: Изд-во Новосиб ун-та, 1992. – 271 с.18. Трепавлов В.В. История Ногайской орды. – М.: Издатель-ская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. – 702 с.
132
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Беляков Андрей Васильевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-культурногосервиса, туризма и межкультурных коммуникаций Рязанского филиала Московского психолого-социальногоинститута, г. Рязань
Бустанов Альфрид Кашафович - аспирант кафедры Европейских исследований Амстердамского уни-верситета,, г. Амстердам
Илюшин Андрей Михайлович – доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории,теории и истории культуры Кузбасского государственного технического университета, г.Кемерово
Исхаков Дамир Мавлявеевич – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института исто-рии им. Ш. Марджани АН РТ, г. Казань
Кадырбаев Александр Шайдатович – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отделаистории Востока Института востоковедения Российской Академии наук, г.Москва
Капитонов Сергей Анатольевич – доктор юридических наук, профессор Елецкого государственногоуниверситета, г.Елец
Макаров Леонид Дмитриевич – доктор исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Удмур-тского государственного университета, г.Ижевск
Маслюженко Денис Николаевич – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой культу-рологии Курганского государственного университета, г.Курган
Матвеев Алексей Викторович – кандидат исторических наук, заместитель директора по развитиюосновной деятельности БУК «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля», г.Омск
Менщиков Владимир Владимирович – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедройтеории и истории государства и права Курганского государственного университета, г.Курган
Молодин Вячеслав Иванович – академик РАН, доктор исторических наук, заместитель директора понаучной работе Института археологии и этнографии СО РАН, г.Новосибирск
Нуржанов Арнабай Абишевич – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Институтаархеологии им. А.Х. Маргулана, г.Алматы, Казахстан
Парунин Алексей Владимирович – соискатель Курганского государственного университета, г.Шадринск
Пачкалов Александр Владимирович – кандидат исторических наук, доцент кафедры «История» Фи-нансовой академии при Правительстве РФ, г. Москва
Пестерев Вячеслав Викторович – кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной исто-рии и документоведения Курганского государственного университета, г.Курган
Почекаев Роман Юлианович – кандидат юридических наук, доцент, Санкт-Петербургский государствен-ный электротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
Пузанов Владимир Дмитриевич – доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой теологииСургутского государственного университета, г.Сургут
Рафикова Татьяна Николаевна – научный сотрудник сектора археологии и этнографии Института гума-нитарных исследований Тюменского государственного университета, г.Тюмень
Рахимзянов Булат Раимович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Институтаистории им. Ш.Марджани Академии Наук Республики Татарстан, г.Казань
Рябинина Елена Алексеевна – старший лаборант археологической лаборатории Курганского государ-ственного университета, г.Курган
133
Сабитов Жаксылык Муратович – PhD, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,г.Астана, Казахстан
Самигулов Гаяз Хамитович - кандидат исторических наук, доцент , Южно-Уральский государственныйуниверситет, г. Челябинск
Смагулов Ербулат Акижанович – кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Институтаархеологии им. А.Х.Маргулана, г.Алматы, Казахстан
Соловьев Александр Иванович – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Институтаархеологии и этнографии СО РАН, г.Новосибирск
Солодкин Янкель Гутманович – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исто-рии России Нижневартовского государственного гуманитарного университета, г.Нижневартовск
Султанов Турсун Икрамович – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Цент-ральной Азии и Кавказа Санкт-Петербургского университета, г.Санкт-Петербург
Татауров Сергей Филиппович – кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудникОмского филиала Института археологии и этнографии СО РАН, г.Омск
Тихонов Сергей Семенович – кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник секто-ра археологии Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН, заведующий кафедрой перво-бытной истории Омского государственного университета, г.Омск
Трепавлов Вадим Винцерович – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института рос-сийской истории РАН, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений, г.Москва
Тычинских Зайтуна Аптрашитовна – кандидат исторических наук, старший преподаватель Тобольс-кой государственной социально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева, г.Тобольск
Худяков Юлий Сергеевич – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Инсти-тута археологии и этнографии СО РАН, г.Новосибирск
Юсупов Юлдаш Мухамматович – кандидат исторических наук, заведующий отделом этнологии Инсти-тута гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан, г.Уфа
Ярков Александр Павлович – доктор исторических наук, профессор, заведующий сектором изученияэтноконфессиональных отношений Института гуманитарных исследований, г.Тюмень
134
СОДЕРЖАНИЕ
АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКО-ТАТАРСКИХ ГОСУДАРСТВЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Нуржанов А.А.СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОРОДА СЕМИРЕЧЬЯ В ЭПОХУ ТЮРКСКИХ КАГАНАТОВ (СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА) .. 5Илюшин А.М.НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ КЫПЧАКСКОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА ............... 6Рафикова Т.Н.РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЦАРЕВА ГОРОДИЩА (2007-2009 гг.) ..................................................................... 11Смагулов Е.А.ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ ГОРОДА ЯСЫ-ТУРКЕСТАН: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ .............................. 15Молодин В.И., Соловьев А.И.ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В ОБЬ-ИРТЫШСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ (ЭПОХА ПОЗДНЕГОСРЕДНЕВЕКОВЬЯ)............................................................................................................................................. 20Султанов Т.И.О ТЕРМИНАХ УРАН И СУРЕН У СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКСКИХ КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ... 23Юсупов Ю.М.ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ И ДИНАМИКАЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЖУЧИДОВ(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ) .............................................................................................................. 24Тычинских З.А.О ХОЗЯЙСТВЕННОМ УКЛАДЕ ТЮРКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРСКОГО ХАНСТВА ................................. 29Матвеев А.В., Татауров С.Ф.К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ СИБИРСКОГО ХАНСТВА .... 33Ярков А. П.К ВОПРОСУ О ЗОЛОТООРДЫНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ПО ОТНОШЕНИЮК ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) ..................................................................................................................................... 37Пачкалов А.В.НОВЫЕ НАХОДКИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ МОНЕТ В СИБИРИ И НА УРАЛЕ ..................... 39
ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКО-ТАТАРСКИХГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Парунин А.В.ПОСОЛЬСКИЕ КНИГИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ТЮМЕНСКОГО ХАНСТВА ....................................... 42Солодкин Я.Г.«СИБИРСКОЕ ЦАРСТВО И КНЯЖЕНИЕ» В ИЗОБРАЖЕНИИ САВВЫ ЕСИПОВА И РЕДАКТОРОВЕГО ЛЕТОПИСИ .................................................................................................................................................. 44Тихонов С.С.К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПО ИЗУЧЕНИЮ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ... 47Макаров Л.Д.ВЯТСКИЙ КРАЙ НА КАРТАХ СИБИРИ С.У.РЕМЕЗОВА .................................................................................. 49Бустанов А.К.ЧТО ИСКАЛ И ТАК НЕ НАШЕЛ Г.Ф.МИЛЛЕР? ОБЗОР МУСУЛЬМАНСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХНАРРАТИВОВ ИЗ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ .......................................................................................................... 51
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ТЮМЕНСКОГО И СИБИРСКОГО ХАНСТВ XV-XVI ВВ.
Исхаков Д.М.ПОЗДНЕЗОЛОТООРДЫНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ТЮРКО-ТАТАР СИБИРСКОГО РЕГИОНА:В ПОИСКАХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОСНОВ...................................................................................... 52Сабитов Ж.М.О ХРОНОЛОГИИ СОБЫТИЙ В ВОСТОЧНОМ ДЕШТ-И КЫПЧАКЕ В 60-90-е ГОДЫ XV ВЕКА ..................... 58Маслюженко Д.Н.ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИБИРСКИХ ШИБАНИДОВ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVI ВЕКЕ(ПО ПЕРЕПИСКЕ АК-КУРТА С МОСКВОЙ) ...................................................................................................... 62
135
Сабитов Ж.М.О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА И СИБИРСКИХ ШИБАНИДОВ ...................................... 68Матвеев А.В., Татауров С.Ф.ГРАНИЦЫ СИБИРСКОГО ХАНСТВА КУЧУМА .................................................................................................. 70Рахимзянов Б.Р.КОНТАКТЫ МОСКВЫ С СИБИРСКИМИ ЧИНГИСИДАМИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI В.: ВОЕННОЕПРОТИВОСТОЯНИЕ, ПОЧЕТНЫЙ ПЛЕН И ЛЕГИТИМИЗАЦИЯ ПРАВА НА «ВЫСОКУЮ РУКУ» .................. 78
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СИБИРСКОГО ХАНСТВА И ЕГО НАСЛЕДНИКОВС РОССИЕЙ В КОНЦЕ XVI-XVII В.
Кадырбаев А.Ш.ЕРМАК И «ВЗЯТИЕ СИБИРИ»: ТЮРКСКИЙ КОНТЕКСТ ................................................................................. 82Ярков А.П., Капитонов С.А.КУЧУМ И ЕРМАК: «ОСЕВОЕ ВРЕМЯ» СИБИРИ .............................................................................................. 87Рябинина Е.А.ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КУЧУМ-ХАНА В 1582-1598 ГГ. ...................................................................................... 90Трепавлов В.В.СИБИРСКИЙ ХАН(?) АЛИ .................................................................................................................................... 95Почекаев Р. Ю.СИБИРСКИЕ ШИБАНИДЫ XVII В.: ПРЕТЕНЗИИ, СТАТУС, ПРИЗНАНИЕ ..................................................... 100Худяков Ю.С.БОРЬБА ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИБИРСКОГО ХАНСТВА В XVII ВЕКЕ .................................................... 104Пестерев В.В.РУССКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ В БОРЬБЕ С ФАНТОМАМИ СИБИРСКОЙГОСУДАРСТВЕННОСТИ .................................................................................................................................... 109Беляков А.В.СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ ПРИ ДВОРАХ СИБИРСКИХ ШИБАНИДОВ КОНЦАХVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII вв. ................................................................................................................. 114Пузанов В.Д.РУССКИЕ И ОЙРАТЫ НА ЮГЕ СИБИРИ В XVII В. .......................................................................................... 118Менщиков В.В.ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В ЗАУРАЛЬЕ В XVII-XVIII ВВ. ............................................................. 121Самигулов Г.Х.ТЮРКИ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ В КОНЦЕ XVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА: КОНСОЛИДАЦИЯ/РАЗДЕЛЕНИЕ – К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА ................................................................. 127
136
Научное издание
ÈÑÒÎÐÈß, ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÊÓËÜÒÓÐÀÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÛÕ ÒÞÐÊÎ-ÒÀÒÀÐÑÊÈÕ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИГ. КУРГАН, 22 - 23 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Редактор Н.А. Леготина
Подписано в печать Формат 60х90 1/8 Бумага тип. №1Печать трафаретная Усл. печ. л. 16,5 Уч.-изд. л.16,5Заказ Тираж 200 Цена свободная
Редакционно-издательский центр КГУ.640669, г. Курган, ул. Гоголя, 25.Курганский государственный университет.
«»