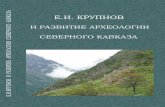ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ В...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ В...
К,АЗАК,СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, Б1Л1М ЖЭНЕ РЫЛЫМ МИНИСТРЛ1Г1,
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ УЛТТЫК, РЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫН
ХАБАРЛАРЫ ИЗВЕСТИЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
СЕРИЯОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
1 ( 236)Я Н В А Р Ь -Ф Е В Р А Р Ь 2002 г.
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1962 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
АЛМАТЫниц «рылым»
Известия МОН РК, НАН РК.Серия общественных наук. 2002. № 1
Е. А. С М А ГУ Л О В
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ В УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Городская или шире оседло-земледельческая культура Западного Казахстана исследована в настоящее время крайне неудовлетворительно. История региона в целом на протяжении тысячелетий представляется как история исключительно кочевых скотоводческих племен, не знавших якобы оседлых форм культуры.
Этому, на наш взгляд, способствовали два, кроме прочих, основных фактора. Субъективный - в регионе не осуществлялось целенаправленных поисковых работ в этом направлении. В 60-80-х годах существовал явный перекос в пользу исследования погребальных памятников (курганов). Объективный - действительно, в количественном отношении памятников оседлой культуры в регионе не много и они имеют специфичные внешне топографические признаки. Трудно различимые на местности, они могут быть обнаружены случайно при проведении масштабных земляных работ. Дальнейшие археологические исследования этого рода памятников связаны с существенными
91
материальными затратами и иной, чем это было прежде, организационной основой проведения работ.
Историческая наука давно отошла от понимания “кочевой культуры” как культуры, которой в корне не свойственны “оседлые” культурные признаки. Ведение кочевого скотоводческого хозяйства не отрицает, а предполагает наличие городов как центров ремесла и торговли относительно стационарных поселений как мест зимовок и баз-убежишь в стратегически важных местах1. Итоги археологических исследований последних десятилетий евразийских степных культур со всей наглядностью показали условность понятия “кочевая культура”.
Тем не менее Уральская область на исторической карте Казахстана до сих пор остается регионом вечно кочующих племен, не имевших своих поселений и городов. Культура их известна только по находкам из многочисленных раскопанных погребений. Это относится и к эпохе средневековья. Такое положение обусловлено в большей степени тем обстоятельством, что поиску и исследованию памятников средневековой городской (оседлой) культуры не уделялось должного внимания. Кроме небольших исследований городища Сары Айдын на юге области, исследование этой категории памятников не предпринималось2.
Если в 1960 г. в “Археологической карте Казахстана” (АКК) находки средневековых артефактов, например, в окрестностях города Уральска зафиксированы как случайные местонахождения и информация о них крайне скупа3, то и через 30 лет местный археолог Г. Кушаев с сожалением констатировал, что “ни один пункт, где вероятно обнаружение средневекового города, археологически не исследовался”4. Им же обозначено, по крайней мере, шесть таких пунктов в ближайших окрестностях г. Уральска и сформулирована гипотеза о существовании здесь целого “оазиса средневековых городов”. Гипотеза эта из-за отсутствия репрезентативного материала мало обоснована и опирается на ряд неоправданно смелых допущений и идентификаций. Однако, как показывают первые итоги исследований УАЭ, составляющие элементы этой гипотезы должны быть подвергнуты критике в частных моментах, но в главном - предположении существования средневекового предшественника города Уральска - она вполне доказуема5.
Для восполнения лакуны в изучении средневековых памятников Уральского региона разведка и исследование оседлой и городской культуры стали одними из важных направлений работ Уральской археологической экспедиции (УАЭ).
1 См. напр.: Плетнева С. А. Кочевники средневековья. М., 1982.2 Раймкулов Б. Т. К проблеме средневековых городов Приуралья. Рукопись. Архив ИА.3 Археологическая карта Казахстана. Алма-Ата, 1960. С. 64-65.4 Кушаев Г. В. Этюды древней истории степного Приуралья. Уральск, 1993. С. 122.5 Под “частными моментами” мы имеем в виду интерпретацию автором тех или иных мест
как городищ; объединение их в оазис, т. е. в синхронно существующую систему городов и поселений, локализацию в окрестностях г. Уральска Саксина - одного из самых знаменитых средневековых поволжских городов и т. п.
92
Естественно, что первой нашей задачей было проведение стационарных разведочных работ на тех объектах, которые фигурировали в перечне Г. В. Кушаева. В этот перечень “средневековых городищ” входили: 1) “развалины кирпичной стены в окрестностях пос. Круглоозерное” (так в АКК), 2) “развалины отдельного сооружения в 8 км к югу от г. Уральска”, 3) “развалины укрепленного сооружения в пойме р. Чаган к 1,5 км западу от г. Уральска”, 4) “курени Яицкого городка”, 5) городище “Сундук” (“развалины сооружения” в АКК), 6) городище Дарьинское в 1,5 км от поселка (в АКК здесь обозначена лишь случайная находка монет)6.
Проведенные нами стационарные стратиграфические исследования и раскопки на таких приметных в пойме р. Урала местах, как Сундук гора (№ 5 списка) и Лысая гора у пос. Дарьинское (№ 6), показали, что они представляют собой естественные ландшафтные образования и на их поверхности нет следов культурного слоя средневекового времени.
Поиску культурного слоя с остатками средневековых сооружений под южной оконечность г. Уральска, район Куреней, препятствует современная застройка. Но отмеченные и, к сожалению, не документированные, случайные находки обожженных кирпичей, облицовочных плиток, печей и других конструкций, упомянутые в Г. В. Кушаевым, делают этот район весьма перспективным в плане исследования прошлого г. Уральска.
Основным объектом раскопочных работ явилось Уральское городище, обнаруженное севернее пос. Круглоозерное. Вполне возможно, что именно этот памятник фигурирует у Г. Кушаева под № 1 и 2 в списке городищ “городского оазиса”. Площадь городища предварительно оценивается в 7-9 га. Оно не имеет искусственных оборонительных сооружений в виде валов, стен, рвов. Границами ему служили естественные рвы и берег речной протоки. Внимание к этому месту было привлечено тем, что при прокладке полотна трубопровода, который разрезал городище пополам, землеройной техникой были обнажены развалины кирпичеобжигательной печи и другие признаки средневекового культурного слоя (рис. 1). Расчистка остатков печи показала, что сохранилась лишь подовая (топочная) часть (раскоп 1). Удалось зафиксировать основные параметры печи, конструктивные особенности и применявшиеся строительные материалы. Этот объект является самым северо-западным сооружением подобного рода в Казахстане. Ранее была известна аналогичная печь, исследованная на городище Сарайчик7. Нужно отметить, что вдоль берега речной протоки, на котором расположена раскопанная печь, находятся еще три характерных холма, под которыми могут оказаться остатки аналогичных кирпичеобжигательных печей. Как известно, в средневековых городах ремесленное производство одного вида продукции имело свойство концентрироваться в одном городском районе.
6 Археологическая карта Казахстана. С. 64-65; Кушаев Г. В. Указ. соч. С. 122.7 Пацевич Г. И. Печь для обжига кирпича в древнем городе Сарайчике // КСИИМК. 1957.
Вып. £9. С. 111-114.
93
Рис. 1. Полотно трассы
трубопровода обнажило
культурный слой Уральского городища
Раскопки двух близлежащих к трассе трубопровода холмов показали, что под ними скрываются руины жилых комплексов отдельно стоящих усадеб (раскопы 2 и 3). Постройки возведены из сырцового кирпича прямоугольного и квадратного формата. Жилые помещения отапливаются канами, топкой которых обычно являются тандыры. Дополнительно к ним в “большой усадьбе” и одном из жилищ “малой усадьбы” имеются печки прямоугольной формы, сложенные из жженого кирпича. Жилые помещения имеют обычно П-образные суфы, в хозяйственных - ямы-хранилища, мусорные ямы, таш- нау. Основные стены построек имеют толщину 70-80 см, кирпич уложен в перевязку. Малая сохранившаяся высота стен не позволяет окончательно ответить на вопрос: на всю ли высоту стены возводились методом сырцовой кладки? Дело в том, что исследования жилищ поволжских городов золотоордынского времени выявили домостроения так называемого “монгольского типа”8. Для этих домов характерен квадратный план, сырцовая кладка цокольной части стен на высоту 50-70 см, а выше устанавливался деревянный каркас стен. Сопоставление планов, технических приемов жилищного строительства поволжских городов и Уральского городища показывает, что на строительную культуру Приуралья оказали преобладающее влияние традиции домостроения Хорезма и Присырдарьинских оазисов. Планы жилищ, исследованных на Уральском городище в целом, совпадают с планами жилищ послемонгольского Ургенча, Отрара, Туркестана. Разница наблюдается в расположении некоторых деталей интерьера, суф, системы отопления и пр. Поэтому можно высказать предположение, что стены жилищ Уральских усадеб возводились на всю высоту из сырцового кирпича. Об участии хорезмий- ских мастеров в формировании синкретичной золотоордынской городской культуры неоднократно писали исследователи поволжских городских цент
8 Егоров В. JI. Жилища Нового Сарая (по материалам исследований 1959-1965 гг.)// Поволжье в средние века. М., 1970. С. 172.
94
ров9. Возможно, в дальнейшем при более масштабном изучении Уральского городища мы сможем выделить и детально охарактеризовать “сырдарьин- скую струю” влияния. Пока же стоит обратить внимание на чрезвычайную близость планировок городского жилища Отрара XTV-XV вв. и жилищ Уральского городища. Тот же анфиладный принцип компоновки трех помещений, П-образные суфы в жилых помещениях, каны, тандыры, ташнау и пр. в интерьерах помещений10. Только вот в Отрарском оазисе сложение такого типа жилища можно проследить с раннесредневековой эпохи, а в степях Приуралья и Поволжья такой тип жилья был явно привнесенным явлением.
Усадьбы, по всей видимости, имели дворы с надворными постройками, которые строились из облегченных конструкций (деревянно-каркасные, плетневые и пр.). Об этом говорят довольно обширные пониженные пространства, разделяющие холмы, под которыми обычно остатки жилого комплекса усадьбы. В дальнейшем необходимо обратить особое внимание на исследование этих пониженных пространств в целях обнаружения следов ограждений (заборов, плетней), надворных построек, мусорных ям и пр.
Нельзя не отметить то, что при расчистке жилых комплексов не зафиксировано никаких признаков разрушений, пожаров и пр., т. е. всего того, что можно было бы интерпретировать как последствия каких то трагических событий, приведших к разрушению города и последующему запустению. Все помещения чистые: нет оставленной посуды, циновок, каких то в спешке забытых вещей. Складывается такое впечатление, что жилища были оставлены в спокойной обстановке. Это могло произойти при условии, что жители заранее узнали о надвигавшейся внешней опасности (вражеское нашествие, наводнение и пр.).
О том, что на месте Уральского городища в ХШ-X IV вв. находился достаточно развитый город, свидетельствует обнаружение здесь руин “восточной бани” (раскоп 5). Бани - непременный атрибут средневекового города на Востоке. К сожалению, после прекращения функционирования постройка подверглась почти полному разрушению. Обожженный кирпич из стен и полов выламывался в целях вторичного использования. Нужно отметить, что такова участь всех фундаментальных построек из обожженного кирпича, остатки которых встречаются в культурных наслоениях средневековых городищ. В настоящее время сохранность конструкций бани такова, что мы фиксируем лишь отдельные фрагменты планировки (рис. 2). К тому же северная (входная часть) бани еще не докопана. Однако изученность сооружений подобного рода золотоордынского времени в Центральной Азии такова, что мы можем в будущем, опираясь на аналогии, с определенной долей уверенности реконструировать ее облик. В XIII-XIV вв. общественные бани на огромной территории Азии приобрели законченную планировочную структуру и строились
9 Греков Б., Якубовский А. Золотая Орда. Л., 1937. С. 127; Якубовский А. Ю. К вопросу о происхождении ремесленной промышленности Сарая-Берке // ИГАИМК. Л., 1931. Т. VIII. Вып. 2-3.
10 Е[Ьакович Л. Б. Жилища Отрара и некоторые этнокультурные и хозяйственные процессы на юге Казахстана в XIII-XVIII вв. //Средневековая городская культура Казахстана и Средней Азии. Алма-Ата, 1983. С. 81.
95
как бы по одному (с небольшими вариациями) “типовому проекту ” . В этом типовом проекте кристаллизировалась наиболее рациональная организация столь j специфичного по назначению сооружения. Специалисты уже отмечали планировочную близость, например, отрарской бани XI[-XIV вв. (южная окраина Золотой Орды) и бань Булгара XIV в. (северная окраина Золотой Орды)11. К этом же типу относится баня, недавно исследованная на городище Антоновское в Восточном Семиречье, отождествляемого с историческим Коялыком12.
Размеры бани Уральского городища предварительно оцениваются нами в 110-120 м2 (?). Цен-1 тральный зал имел восьми уголь-
______________________________________ ную планировку. С востока и за-1D _ ~ я пада к нему примыкали малые IРис. 2. Остатки основания бани J v I
помещения для мытья. Обогревалась баня подпольной отопительной системой. Жаропроводящие каналы были устроены под полами и суфами всех внутренних помещений. Цокольная часть всей постройки была, как минимум, на 1,5-1,4 м заглублена под землю. Вода в моечные помещения (и в саму баню?) подавалась посредством разветвленной системы керамических трубопроводов. В хронологически синхронных банях Булгара, значительно лучше сохранившихся до раскопок, вода посредством керамического водопровода, проложенного внутри стен, подавалась практический во все помещения, причем холодная и подогретая. В помещениях под выходами труб из стены поставлены небольшие каменные емкости13.
Наличие общественной бани в городе фиксирует повышенный статус самого города. Теперь нам становится ясно, что в ближайших окрестностях на городище надо искать руины таких значимых городских построек, как мечеть, караван-сарай и пр. При этом следует сосредоточить основное внимание на часть городища к югу от проложенной трассы трубопровода. Именно здесь наблюдается концентрация наиболее массивных холмов. Требует корректировки и методика раскопочных работ. Необходимо включать в площадь
11 Акишев К. А., Байпаков К. М., ЕрзаковичЛ. Б. Отрар вХШ -ХУ вв. Алма-Ата, 1987. С. 123.12 Байпаков К. М., Савельева Т. В. Город Каялык - столица Тюркского государства кар-
луков // Отан тарихы. 2000. № 1-2. С. 95-99.13 Смирнов А. П. Волжские Булгары. М., 1951. С. 216.
96
раскопа и всю примыкающую к жилой части территорию двора. При этом постараться выявить границы усадьбы по остаткам ограждающих заборов (плетней), следы надворных построек, которые, видимо, имели более легкие (деревянные, каркасные) конструкции.
При раскопках в сентябре-октябре 2001 г. на Уральском городище пока не найдено ни одной монеты. Однако предварительный анализ керамического материала дает некоторые основания датировать время существования города концом ХШ-XTV вв. Топографические признаки и раскопанные объекты говорят о том, что на этом месте находился довольно значительный город золотоордынской эпохи. Существование города на этом месте обосновывается и природно-географическими условиями. В районе Меловых горок, что расположены в 3 км к СВ от городища, на р. Урале находились два переката, которые служили местом переправы через реку вброд - Нижнемеловой и Верхнемеловой. Столь важное в стратегическом отношении место на значительном водном рубеже не могло быть не отмечено наличием крупного поселения или города.
Свидетельства существования города приблизительно на месте обнаруженного и предварительного обследованного Уральского городища сохранились в картографических материалах XIV-XV вв. Как известно, наиболее подробной картой Золотой Орды является карта 1367 г. составленная итальянскими купцами братьями Франциско и Доменико Пицигани. На ней, в частности, “восточнее Лайети (город на побережье Каспия, между р. Волгой и р. Уралом. - Е. С.) только надписью, без изображения направления русла, отмечена р. Яик. На ней, на некотором отдалении от морского берега, изображен безымянный город. Выше его (к северу) нанесено изображение второго безымянного города. Судя по довольно большому размеру рисунка башен и развивающемуся над ним флагу, это крупный экономический и административный центр ”14 (курсив мой. - Е. С.). Первый безымянный город на р. Яике довольно надежно может быть идентифицирован как городище Сарайчик, в 50 км выше г. Атырау. Второй же безымянный город к северу от Сарайчика на правом берегу Яика вполне может быть сопоставлен с Уральским городищем.
Можно предположить, что его название отражено на известной карте капитана Антония Дженкинсона, составленной в 1562 г., т. е. почти через двести лет после карты братьев Пицигани. Исследовавший эту карту Б. А. Рыбаков показал, что в основу ее положена более ранняя карта 1497 г. - “первая русская карта всей московской державы”. На ней выше Сарайчика, но более мелким значком отмечен на правом берегу р. Яика город под названием Shakafni. Правда сам Б. А. Рыбаков отметил мимоходом, что это дважды нанесенный, при соединении двух листов карты г. Сарайчик - “один правильно помещен у устья Яика, другой значительно выше”. Теперь при сопоставлении “карты Дженкинсона” с картой купцов Пицигани и в свете открытия и исследования Уральского городища подтверждается мнение о том, что здесь не техническая ошибка издателей, а на берегу р. Яика нанесены два разных города с разными названиями.
14 Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. М., 1985. С. 134.
97
Так как мы пока не имеем оснований распространить датировку Уральского городища на XV в., то можно предположить, что картографические материалы, отразившиеся в “чертеже 1497 г.”, которым располагал А. Дженкин- сон, представляли XIV в.15 В любом случае где-то неподалеку от г. Уральска нужно искать городище с культурным слоем XV-XVI вв. Собственно это будет не другой, а все тот же город, но заново отстроенный на новом месте теми же жителями, жившими ранее в городе, стоявшем на месте Уральского городища, и следует полагать, что название его было тем же - Шакафни.
Аргументом против этого отождествления, впрочем, может быть созвучие названия на “карте Дженкинсона” названию ногайского города “Шака- шин”, что располагался, по сведениям П. С. Папласа, на р. Урале (Яике) при впадении р. Киндалы16. Сам путешественник не посещал “развалины старого города”, а приводит эти сведения со слов сопровождавших его казаков. Данные П. С. Палласа, получены в сер. XVIII в., но, вероятно, относятся к началу XVII в., сведения Дженкинсона - к концу XV в., сведения братьев Пицигани к середине XIV в. Если признать, что все эти сведения относятся к одному городу, стоявшему на одном месте, то тогда следует, что он просуществовал неизменно в течение трех веков. В связи с открытием Уральского городища логичнее предположить, что ногайский Шакашин есть исторический наследник Shakafni, бывшего на месте Уральского городища.
Таким образом, полуторамесячные раскопочные работы показали, что Уральское городище является остатками достаточно значительного развитого города золотоордынской эпохи. Культурный слой городища представлен единственным строительным горизонтом. Это говорит о том, что на этом месте город существовал непродолжительное время, вероятно, в пределах одного века. После чего город был организованно покинут жителями в сравнительно спокойной обстановке. Сейчас пока трудно определенно ответить на вопрос: что явилось причиной переселения - природные или внешнеполитические причины? Соблазнительно, конечно, связать это событие с походом эмира Тимура в 1391 г. Или же с событиями междоусобной борьбы в 70-80-х годов XIV в. Пока же считаем, что этот вопрос должен быть открытым до накопления безупречных аргументов.
История города, существовавшего на месте Уральского городища, естественно, отражает историю монгольского улуса-государства, его северных пределов. Конец XIII в. - первая половина XIV в. исследователями истории
15 Еще одним архаизмом в протооригинале А. Дженкинсона можно считать отображение стока вод р. Амударьи в Каспий. Как показал в свое время В. В. Бартольд, такая ситуация документально подтверждается для периода XIII-XV вв. {Бартольд В. В. Соч. М., 1965. Т. 3. С. 6.). Во второй половине XVI в. сток амударьинских вод через Саркамыш и Узбой в Каспий прекратился. Сам А. Дженкинсон в описании к карте заметил (1560 г.): “Надо отметить, что в прошлые времена великая река Оксус (Амударья. - Е. С.) впадала в этот залив [Култук?] Каспийского моря... Теперь она не доходит так далеко, но впадает в другую реку по имени Ардок...”. (Английские путешественники в Московском государстве в X V - нач. XVI вв. М., 1937. С. 176.).
16 Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи в 1768-1769 гг. СПб., 1809. Ч. 1.С . 406.
98
лотой Орды характеризуются как период наибольшей стабильности и рас- вета городской культуры. Возрождаются некоторые важнейшие торгово- кономические центры, пострадавшие в период завоевания, появляются де- ятки новых городов и крупных поселений. Этот кратковременный период
интенсивного роста приходится в основном на время правления ханов Узбека иДжанибека (1312-1357 гг.). Это время характеризуется ростом территорий “старых” городов и возникновением большого числа новых крупных поселений. Зачастую в старых урбанизированных оазисах на ведущее место в экономическом и политическом отношении выдвигаются прежде незначительные поселения, которые переживают период бурного роста. Старые же столицы микрорегионов теряют свое значение. Так произошло на бывшей территории Волжской Булгарии, где в первой половине XIV в. город Болгар, не игравший в домонгольский период особой роли, пережил период блестящего расцвета, астарые центры Биляр и Сувар захирели17. На южной окраине Золотой Орды, в среднем течении р. Сырдарьи в Туркестанском оазисе вместо домонгольской столицы г. Шавгар (городище Шойтобе) расширяет свою территорию и становится центром округи г. Ясы (городище Туркестан)18, возрождается в XIII—XIV вв., но уже на новом месте, город Сауран - столица Ак-Орды19. Центральный Поволжский регион государства почти сплошь застраивается новыми оседлыми поселениями и городами. Они образуют, как это обычно и бывает в процессе оседания и урбанизации, своеобразные микрорегионы с соответствующей внутренней иерархией поселений. Следует полагать, что
I благоприятные условия способствовали появлению и росту поселений и городов не только в Поволжском регионе, но и на берегах р. Яика. Примером чего может служить исследуемое Уральское городище. Опираясь на данные археологии, нумизматики, письменных памятников, выделяются пять основных стадий градостроительного процесса в золотой Орде20:
1. Период восстановления и использования старых городов, существовавших до прихода монголов - 40-е годы XIII в.
2. Начало и подъем градостроительства в степях во время правления хана Бату и Берке - первая пол. 50-х - 60-е годы ХШ в.
3. Период некоторого спада роста городов - 70-е годы XIII в. - 2-е десятилетие XIV в.
4. Расцвет градостроительства при ханах Узбеке и Джанибеке - со 2-го десятилетия до 60-х годов XIV в.
5. Затухание и упадок градостроительства - с 60-х годов до 1395 г.Как соотносится история города, бывшего на месте Уральского городища,
с данной периодизацией, покажут будущие исследования. Пока же можно
17 Смирнов А. П. Волжские булгары. С. 54. V18 Смагулов Е. А., Туякбаев М. Ясы-Туркестан-Шавгар: археологические данные к истори
ческой идентификации // Известия МН-АН РК. Сер. общ. наук. 1997. № 1. С. 35.19 Байпаков К. М. Средневековый Сауран // Города Туркестана. Алматы, 1999. С. 85.20 Егоров В. JI. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. М., 1985. С. 78.
предположить два варианта: 1) город на месте Уральского городища возникает во второй период, во время градостроительной активности в третьей четверти ХШ в., и покидают его жители в начале пятого периода (в 60-70-х годах XIV в.), в период внутренних раздоров, поводом к которым послужило нарушение порядка престолонаследия в ханстве после смерти Бердибека; 2) город возникает в 20-30-х годах XIV в., в период расцвета городской культуры и появления в Золотой Орде множества новых городов и поселений, и гибнет вместе со всей золотоордынской городской культурой на исходе XTV в., после разрушительных походов эмира Тимура.
Хотя этот регион и не попал в основную зону разрушительных походов войск Тимура, как это явствует из реконструкции маршрутов этих походов21, запустение города могло произойти вследствие общего разрушительного воздействия этих походов на всю систему экономического жизнеобеспечения Золотой Орды. Как известно, после этих разрушений Золотая Орда не смогла восстановится, и собственно на этом закончился блестящий, но краткий период развития ее городской культуры.
Город, как и большинство новых золотоордынских городов, имел усадебную застройку. Жилые дома стояли поодаль друг от друга, их окружали дворы с надворными постройками. Основным строительным материалом жилищ являлись сырцовый кирпич и дерево. В сооружении общественных зданий широко использовался обожженный кирпич квадратного формата, в декоративной облицовке применялась глазурованная орнаментированная плитка. Эти строительные материалы изготавливались тут же на месте.
В целом результаты наших работ по разведке и исследованию средневековых памятников позволяют несколько скорректировать гипотезу Г. Кушаева о существовании в XIII-XIV вв. “оазиса средневековых городов” в регионе современного г. Уральска. Два основных объекта, интерпретированные Г. Ку- шаевым как средневековые городища (Сундук гора и Лысая гора у пос. Дарьинское), как показали наши стратиграфические исследования, таковыми не являются. Раскопки на Уральском городище пока дают основание предположить, что речь может идти не о нескольких одновременно существовавших городах, а об одном городе, который менял свое местоположение. Смена местоположения города или крупного поселения в рамках конкретного исторического региона в силу каких-то причин - обычное явление в истории среднеазиатских городов.
Не получает пока подтверждение и предположение Г. В. Кушаева о раннем, домонгольском генезисе оседлых поселений в регионе. При этом он опирается не столько на исторический первоисточник, а, скорее, на его не критически воспринятую интерпретацию. Первоисточником в данном случае является сочинение Ахмеда Ибн-Фадлана, которому довелось быть одним из первых арабских авторов, оставивших достаточно подробное описание ныне Западно-Казахстанской области. Как известно, он принял участие в посольстве
21 Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды. С. 232-233 (вклейка).
100
багдатского халифа Джафара ал-Муктадира, организованного в 921 г. в ответ на посольство булгарского правителя, которое прибыло в Багдад весной того же года. Ибн-Фадлан выполнял в посольстве весьма ответственную функцию секретаря и оставил подробное описание своего путешествия, давно ставшего весьма ценным источником по истории народов Центральной Азии и Восточной Европы22.
Как следует из этого документа, посольство из Хорезма, где они перезимовали, проследовало по степям Северо-Восточного Прикаспия в весенние месяцы 922 г. и, переправившись через ряд больших и малых рек, за 70 дней достигло ставки булгарского царя на левом берегу Волги в районе трех озер ниже впадения в нее р. Камы. При этом ориентирами, по которым возможна реконструкция маршрута посольства, служат исключительно названия рек и озер23. На всем этом отрезке маршрута не упомянут ни один город или селение.
По реконструкции А. П. Ковалевского переправа через р. Урал (Джаих) произошла в районе впадения в него р. Чаган (Шаган), т. е. около г. Уральска. К р. Урал посольство подошло после однодневной остановки у печенегов24 на берегу оз. Чалкар. Так описывает этот сюжет Ибн-Фадлан: “Потом мы отправились и сделали остановку у реки Джайх, а это самая большая река, какую мы [только] видели, самая огромная и с самым сильным течением. И действительно, я видел дорожный мешок, который перевернулся в ней, и те, которые были в нем, потонули. И [вообще] погибло много человек из числа наших людей. Мы переправились через нее с большим трудом.
Потом мы ехали [много] дней и переправились через реку Джаха (курсив мой. - С. Е), потом после нее через реку Ирхиз, потом через реку Бочаг, потом через Самур, потом через Кинал, потом через реку Сух, потом через реку Кюнджюлю и попали в страну народа из [числа] тюрок, называемого баш- кирды.”25. Если идентификация рек А. П. Ковалевским верна, то место переправы через р. Урал (Джайх) в месте впадения р. Чаган в районе нынешнего г. Уральска можно поставить под сомнение. Дело в том, что от р. Урал (Джайх) до р. Чаган (Джаха) в районе г. Уральска не надо добираться “несколько дней”.
22 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. Харьков, 1957.
23 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана... С. 97.24 Как известно со слов Константина Богрянородного, печенеги в основной своей массе в
конце IX - начале X вв. были вытеснены (о)гузами из поволжско-уральских степей на правый берег р. Волги. Западная ветвь печенежского союза племен, вытесненная со своих территорий, заняла в дальнейшем, потеснив далее мадьяр, все южнорусские степи, следы их расселения отмечаются на Кавказе, в Венгрии и Болгарии. (См. Щербак А. М. Знаки на керамике и кирпичах из Саркела-Белой Вежи // МИА. М.; JL, 1959. № 75. С. 373-375.). Восточные же печенеги, оставшиеся на своих прежних местах, в силу не способности к длительным перекочевкам, скорее всего, были ассимилированы и приняли участие в местном этногенезе. Видимо, с одним из таких обедневших, “малосильным”, племенным подразделением печенегов и встретился Ибн- Фадлан на берегу оз. Чалкар.
25 Ковалевский А. 77.* Книга Ахмеда Ибн-Фадлана. С. 130.
101
Здесь расстояние между реками составляет не более 8-10 км. Только выше пос. Даринское расстояние между этими реками, даже учитывая миграцию русел за тысячелетие, начинает превышать 30 км (среднее расстояние однодневного перехода груженого каравана), т. е. возможно, что переправа через р. Урал произошла значительно выше слияния рек Урала и Чагана, но никак не в месте слияния р. Урала с его левым притоком р. Барбастау, которое находится ниже впадения р. Чагана в Урал, как это предполагает Г. Кушаев26. Ведь в этом случае посольству не нужно было бы переправляться еще и через р. Ча- ган. Если бы где-то поблизости на любом из берегов р. Урала было сколько- нибудь значительное поселение или город, то в этом месте, наверное, была бы организована местным правителем или жителями этого поселения какая то переправа (паромы, лодки и пр.). Дело это было весьма доходное во все времена. Об этом бы знали проводники, и они привели бы посольство, дабы избежать неоправданных потерь, к месту этой переправы. В любом случае сведения Ахмеда Ибн-Фадлана никак не укрепляют концепцию о существовании уже в X в. в ближайших окрестностях г. Уральска крупного поселения, тем более города. Г. В. Кушаев размещает это поселение прямо под южной оконечностью г. Уральска, т. е. под Куренями. При этом он опирается не на критически воспринятую реконструкцию А. П. Ковалевского маршрута посольства багдадского халифа, а на случайные археологические находки, вероятно, с более поздней датировкой. В связи с данными Ибн-Фадлана интересно отметить, что, характеризуя быт булгар, он ни разу не упоминает о наличии у них поселений и городов. Даже если признать, что правитель булгар Алмуш принимал посольство в своей летней “кочевой” резиденции, куда по обычаю он мог отправляться с наступлением весны из стационарного места зимовки, то наблюдательный Ибн-Фадлан не преминул бы отметить этот факт, о чем он мог узнать хотя бы по рассказам самих булгар. К тому же одной и просьб правителя булгар к багдатскому халифу было содействовать в пост ройке в булгарской земле крепости, “чтобы укрепиться в ней от царей, своих противников”27. Это со всей очевидностью свидетельствует о том, что у булга не было в это время города-крепости, в котором размещалась бы резиденци правителя. Данные археологических исследований Волго-Камья свидетель ствуют о том, что в X в. у волжских булгар еще не было городов. “Материа; для изучения собственно болгарской культуры ограничивается одними м' гильниками. Поселения исследовались мало, а то, что исследовалось, отн сится, несмотря на синхронность могильникам, к местной культуре. Во вся ком случае, говорить об укреплениях, домостроительстве, ремеслах болгар н Волге мы не можем”28. К такому выводу, вполне согласующемуся с набл дениями Ибн-Фадлана, приходят авторы авторитетного издания.
26 Кушаев Г. Этюды... С. 121.27 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана... С. 121.28 Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 77.
102
Предварительные итоги и выводы начатых нами исследований памятников городской культуры Уральского региона пока также свидетельствуют о том, что основание первых значительных населенных пунктов происходит здесь в золотоордынскую эпоху (XIII-XIV вв.). Выводы, естественно, будут скорректированы, если будут продолжены рекогносцировочные и стационарные исследования памятников средневековья в Уральской области. Это позволит поставить исследование истории региона на надежный фундамент достоверных фактов.
Summary
The article considers some problems o f the scientific research of the medieval city-sites o f the West Kazakhstan oblast. Their actual obscurity has caused a poorly grounded hypothesis of the ‘oasis of medieval towns’ located in the area of the Uralsk city (G. V. Kushaev). The permanent research works started by the Uralsk Archaeological Expedition of the Margulan Institute of Archaeology have shown that some of the ‘sites’ of the above-mentioned ‘oasis’, such as Lysaya hill near the Daryinskoe village and the Sunduk hill, are not the medieval hillforts.
The one-layered city-site revealed by the Expedition at the right bank of the Ural river in 8 km southward of Uralsk belongs to the Golden Horde period and represents the remains of the relatively large city of the XIII-XIV cc AD. The remains o f farmsteads, o f a brick kiln and of the traditional Golden-Horde bath-house have been excavated there. It is suggested that this city is shown in the map ofPizigani brothers, the Italian merchants (1367), and also in the map o f Anthony Jenkinson (1562). The latter one shows even the name o f the city (probably misrepresented) - Shakafni.