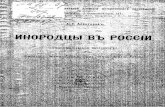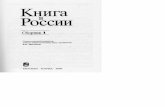Армянская печать в России: деятельность и...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Армянская печать в России: деятельность и...
Глава 2. АРМЯНСКАЯ ПЕЧАТЬ В РОССИИ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
АРМЯНСКИЕ ДИАСПОРЫ И АРМЯНСКАЯ ПЕЧАТЬ: ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ В предыдущей главе мы говорили о том, что в XIX в., особенно во
второй его половине, в России были сформированы все предпосылки длявозникновения иноэтнической печати: самостоятельной или подгосударственным покровительством, на окраинах страны и в столице. Вэтой же главе, сконцентрировав внимание на армянской печати, мыпроследим за ее развитием в пространственно-временной динамике иопределим, как влияет социокультурное окружение на развитие печати,насколько взаимосвязана печать разных регионов, какие существенные различияобусловили их типологию. Кроме того, рассмотрим, какие процессы ифакторы на микроуровне определяли деятельность и специфику данногообщественного явления.
Армянская общественно-политическая жизнь развивалась в соответствиис географическим расселением армян: в Российской, Персидской иТурецкой Армении, включая и Киликийскую, и в системе диаспор,образованных в мире в течение долгого исторического пути.
Несмотря на все военно-политические катаклизмы между Россией иТурцией, граница между ними в конце XIX в. была еще довольнопрозрачной. Например, в период переписи населения в 1897 г. былотрудно получить достоверные данные о численности курдского населенияпо той причине, что «они нередко перекочевывают со своими стадами <…>в Турцию и Персию, а затем обратно переходят в Россию»1 . Похожаяситуация была и на турецко-персидской границе.
Это означает, что контакты между армянским населением трех страндолжны были быть довольно тесными. Самими армянами этническаятерритория воспринималась как единое целое, существующее состояние –как приемлемое, довольно условное и исправимое. Ставка делалась наподдержку России в достижении политических свобод. Взаимодействие ивзаимовлияние общественно-политических и культурных процессов междуармянами разных частей исторической территории были также достаточноактивными. События, происходящие в одной части родины, находилиотклики в другой, были небезразличны основной массе армян, являлись
вопросом общенародного обсуждения и одной из причин возникновения раз-ветвленной системы периодической печати. Создалась развитая сетькоммуникации через периодику в многочисленных диаспорах в Индии (с1794 г.), Италии (с 1799), России (с 1815), Австрии (с 1819), Турции(с 1832), Грузии (1846), во Франции (с 1855), Англии (с 1863), Египте(с 1865 г.). Немалое число составляли армянские газеты и журналы,выходившие в Болгарии, США и других странах мира. По существующимпоследним библиографическим каталогам армянской печати в мире до 80-хгодов XX в. в разное время издавалось более 3000 газет и журналов2 .
Традиционно в армянской историографии армянская периодикаразделяется на западноармянскую и восточноармянскую. К последней относятпрессу, выходившую на территории Российской империи: в Тифлисе идругих городах России. Западноармянская периодика делится на прессу,выходившую на территории Турецкой империи (в Константинополе и другихрегионах Турции), а также в азиатских, европейских, американских идругих странах мира. Но данное разделение не дает возможности понятьобщие и специфические тенденции возникновения и развития иноэтническойпечати как социального явления.
Можно было бы разделить армянскую дореволюционную прессу попринятому в российской науке принципу: на столичную печать (Санкт-Петербург, Москва) и провинциальную: закавказскую (Эривань, Эчмиадзин,Александрополь, Горис, Тбилиси, Ахалцихе, Сухуми, Ахалкалак,Елизоветополь, Шуши, Баку) и печать колоний (Астрахань, Новый-Нахичевань, Анапа, Феодосия). Однако это разделение относится толькок одной части армянской периодики и не дает возможности увидеть общуюкартину.
Армянскую прессу, выходившую за границей Армении, не принятоназывать эмигрантской журналистикой, несмотря на наличие политическогокомпонента (вынужденный переезд редакторов, активные занятияполитикой, направленность на решение проблем на родине).
В нашей книге мы предлагаем определить структуру армянской прессы попринципу расширения ареала расселения армянского народа с учетомспецифики армянской периодики. То есть: пресса материнского региона,пресса в ближайшем регионе и пресса в отдаленном регионе. Эторазделение произведено не только в соответствии с территориальнымиособенностями, но и в соответствии с исторически сложившейсясоциокультурной средой регионов.
Пресса материнского региона охватывает территорию историческогопроживания армян как коренного этноса местности и в свою очередьделится на западную и восточную. В прессу ближайшего региона, илиближайшей социокультурной среды, входит армянская периодика соседнихтерриторий материнского региона: с восточной стороны – кавказской, сзападной стороны – Османской империи, исключая территории Западной иКиликийской Армении, и северной части Персии. В прессу отдаленногорегиона, или отдаленной социокультурной среды, входит как армянскаяпресса в европейских и других странах мира, так и в отдаленных отэтнической территории армян российских столицах и других регионахРоссийской империи.
Пресса материнского региона. До 1905 г. в восточной части Армениивыходило всего 7 газет и журналов: в Эривани (1880), Эчмиадзине (1868)и Александрополе (1901). Эчмиадзинские издания – это религиозные,педагогические издания, связанные с Эчмиадзинским католикосатом. Дляпериодики, выходившей в Эривани, характерно литературное, исто-рическое, национальное, политическое направление. В этот период«Эриванскими объявлениями» было заложено начало юмористическогоиздания особого типа, ставшего своеобразной визитной карточкойармянского юмора. В Александрополе выходили лишь этнографический иженские журналы.
В Западной Армении в тот же период выходило около 20 изданий в 9городах: Ване, Муше, Карине и др. Это были в основном газеты и журналыс политическим, национально-религиозным, филологическим направлениемили издания при церквях. Многие из них напечатаны способом хморатип3 .
В период с 1905 г. до Октябрьской революции в этом регионе значи-тельно увеличилось количество периодики. В Эриванской губернии вышлоеще 21 новое издание в четырех городах. В западной части Армении и вгородах армянской Киликии появилось более 70 новых изданий. Для этойпериодики характерно то, что она начала выходить с 1908 г. и особеннозаметно в 1909 г. и оставалась на таком уровне до 1912–1914 гг.Увеличение количества армянских изданий в турецких регионах былосвязано со временем переворота младотурок (1908 г.) и низвержениемсултана Гамида (1909 г.).
К типам эриванских газет в этот период прибавились газетыобщественного, экономического, философского, художественного направ-ления, увеличилось число политических и литературных газет и журналов.Западным изданиям также присущи литературно-политическое инациональное направления. В некоторых городах появились специальныежурналы с морально-нравственным, философским и медицинскимнаправлением, богословские, женские и др. Возник новый тип изданий совторым названием «Гаваракан терт» («Провинциальная газета»).
Особенность основного региона исторического проживания армян –экономическая отсталость, слабое развитие городов. В XIX в. на своейэтнической территории большинство армян принадлежали к крестьянскомусословию. По переписи населения Российской империи 1897 г. примерно из830-тысячного населения Эриванской губернии 89% были крестьяне. В этойчасти Армении, кроме губернского города Эривани, находилось ещенесколько городов, но это были в основном административные центры,возведенные в ранг уездного города. В городах преобладала мелкаяторговля, более или менее крупное производство отсутствовало.
Правительство считало необходимым везде, в особенности в значимых игустонаселенных местностях, издавать официальную периодику с цельюраспространения указов и распоряжений властей. В случае с армянаминаблюдается парадоксальное явление. В такой густонаселенной местности,какой была Эриванская губерния, официозные «Ведомости» начали выходитьтолько в 1907 г. Число жителей на версту здесь доходило до 35,71человека, тогда как средний результат по Империи составлял всего 6,66.Чем можно было бы объяснить такую самоуверенность правительства? Чем
оно руководствовалось, позволив выпуск частной периодики, в то времякак в регионе не выходили официальные издания? В контексте сказанноговыше можно отметить, что такое доверие могло быть вызвано высокимстатусом армян у правительства, убежденностью в их лояльном отношениик нему. Нельзя исключить и такие факторы, как патриархальный укладармянского общества на этнической территории, миролюбивый характерместного населения и вялая политическая жизнь, протекавшая там.
В западной части продолжали функционировать древние города Армении.Но здесь экономическая, политическая, техническая отсталость,неразвитая сеть дорог также влияли на развитие периодических изданий.Газеты и журналы, выходившие здесь, имели в основном местное значение.
Политические перевороты в Турецкой и Российской империях благотворносказались на развитии армянской прессы. Наметилось необычайноеоживление. Увеличилось количество выпускаемой периодики, разнообразнеестала типология. Но к середине второго десятилетия XX в. общиетенденции изменились. Все издания, выходившие приблизительно в 20городах Западной Армении, полностью прекратили свое существование каквид общественной деятельности. В восточной же части в конце того жедесятилетия периодика начала быстро развиваться, создавая мощную сетьсовременной армянской прессы на этнической территории.
Пресса ближайшего региона, или ближайшей социокультурной среды.Столицами армянской печати до революции стали не города на территорииисторической Армении, а Константинополь, столица Турции – для западныхармян, и Тифлис, центр Кавказского наместничества – для восточныхармян. Армянские газеты и журналы выходили еще в 6 городах Кавказскогорегиона России. Среди них наибольшее значение имела периодика Баку иШуши (соответственно 35 и 9 наименований); в нескольких приморскихгородах Турции, таких, как Смирна, Трапезунд (соответственно 16 и 7) идр., и в городах Тегеран, Тебриз в Персии (соответственно 3 и 13). До1917 г. из 258 изданий армянской периодики, выходивших в России, болееполовины приходилось на Тифлис. Из 463 изданий Турции около двухтретей было сосредоточено в Константинополе (см. табл. 3).
Надо отметить, что количественное преобладание турецкой армянскойпечати, кроме социально-политической и экономической ситуации, былосвязано с численностью армянского населения в регионе. Поприблизительным данным переписи 1845 г. на территории Турции проживалоболее 3 млн армян4 (здесь не учтено большое количество армянскогонаселения, принявшего мусульманство). Армяне в Российской империи вконце XIX в. составляли всего лишь 1,22 млн человек, на Кавказепроживало 1,16 млн5 .
Константинопольская периодика впечатляет своим многообразием. Нигдеармянская периодика не имела такого масштаба развития, особенно в 60–70-е годы XIX в. Здесь, кроме традиционных политическо-национально-филологических и литературно-морально-нравственных, общественныхизданий, выходило немало религиозных, коммерческих (даже в сочетании сриторикой) и специальных изданий: театральные, музыкальные, помедицине и здравоохранению, по сельскому хозяйству, спортивные, для
детей и учащихся, журналы мод. Были и издания юридические,философские, социальные.
Среди этой разнообразной периодики вызывает интерес печать натурецком языке, но на основе армянской графики. Данным типом изданиябыло заложено начало армянской периодики в Турции, когда стал выходитьофициозный «Тагвими вагайи» («Известия» Великой Османской империи) в1832 г. Эти газеты и журналы были предназначены армянским подданным,в основном простолюдинам, глубоко ассимилированным, разговорный языккоторых был насыщен турецкими словами и выражениями и уже мало чемотличался от турецкого языка. Сходство с армянским языком главнымобразом проявлялось в синтаксисе6 . До конца XIX в. этот тип периодикипреобладал: если до 1865 г. вышло в свет около 10 таких новых изданий,то за последующие 30 лет – еще 26. Данная тенденция присутствовала ив провинциях самой Западной Армении. Выходило и множество книгприключенческого, научно-фантастического содержания, дамские романы илитература для легкого чтения7 . Во второй половине XIX в. такой типизданий иногда попадал и на российскую территорию. Из-за сложностицензурования возникали определенные трудности, связанные с поискоммогущего их читать доверенного лица. В ХХ в. ситуация резкоизменилась. В течение первых двух десятилетий было зарегистрировановсего три новых еженедельника, изданных на турецком языке на основеармянской графики.
Таблица 3
Направление армянской периодики в Турции не регламентировалось, иармянская периодика получала естественное для себя развитие. Лиди-рующей по количеству оставалась пресса политико-литературнойнаправленности, нередко сопровождаемая морально-нравственным(этическим) направлением, с оригинальными вариациями. Армянскиередакторы не видели ничего противоестественного, когда религия, наукаи политика соседствовали друг с другом в одном журнале, газете.Например, нередко можно было встретить такие подзаголовки изданий:религиозный, научный, политический; религиозный, национальный,литературный, научный, политический; морально-нравственный,филологический, экономический, научный и т.д. Встречается политическаяпресса и для легкого чтения, имеющая политическое, коммерческое и
прогулочное направление. Количество политических и литературных газети журналов увеличивалось из года в год. Но расцвет армянской периодикив Константинополе приходится на 1908–1914 гг., когда вышли в свет 14вестников современных событий, 18 политических и 17 литературныхеженедельников и журналов, 32 сатирических издания, 11 изданий длядетей и юношества и др. Все издания, за редким исключением, пересталипечататься в период 1912–1914 гг., а за последующие четыре года незарегистрировано ни одного нового издания.
Армянская пресса в Константинополе не уступала периодике на другихязыках, выходившей в столице Османской империи. По статистическимданным в 1876 г., в год, когда в Турции была провозглашенаКонституция8, в Константинополе выходило не менее 72 газет. Из них: 13– на армянском, 16 – на турецком, 29 – на французском, 12 – нагреческом, остальные 7 – на болгарском, еврейско-испанском,итальянском языках9.
Слова одного из первых исследователей армянской прессы Аро(Никогайос Тер-Арутюнян) о том, что «безусловно инициатива развитияармянской новой литературы, журналистики, интеллектуального движения иполитического мышления принадлежит армянам Турции»10, звучат вполнесправедливо. Такие периодические издания, как «Аршалуйс Араратян»(«Араратская заря», 1840–1887), «Айастан» («Армения», 1846–1852),«Масис» (1852–1908), «Мегу» («Пчела», 1856–1874), «Пундж» («Букет»,1860–1907), «Аревелк» («Восток», 1884–1912) и другие, оказали большоевлияние на развитие армянской общественно-политической мысли иформирование армянской интеллигенции.
Несмотря на многочисленность и многоликость, немалая часть газет ижурналов закрывалась после выхода первых номеров или после одного-двухлет выпуска. Например, из 152 новых изданий, вышедших в период 1865–1905 гг., третья часть закрылась в течение одного года, а еще 24 –через год. Соответственно за период 1905–1916 гг. из 186 изданийзакрылись 82 и 38.
Турецкая печать в целом представляла собой лишь карикатуру нажурналистику. Так оценивал ситуацию с прессой в Турции Соломон Людвигв 1909 г. Среди других причин, связанных с менталитетом турок ипрепятствующих возникновению газет, он называет беспримерно строгуюцензуру, стоящую «на страже того, чтобы журналисты не выходили изсвоей скромной роли простых хроникеров» 11 .
Сама турецкая пресса возникла в 1826 г.12 Цензура же, получившаязаконодательную основу в середине XIX в., быстро «прогрессировала».Правительство торопилось наверстать упущенное в регулированиикнигопечатания. В 1857 г. был издан закон о типографиях13 , по которомуподлежали предварительной цензуре только книги. Турецкое правительствопока не осознавало и недооценивало роль прессы. Через несколько лет, вконце 1864 г., вышел новый закон о печати, который считалсялиберальным по своей основе. По этому закону устанавливаласькарательная цензура в отношении газет и журналов, осмелившихсякритиковать государство, правительство, религию, отдельные личности.
За исполнением закона в армянских изданиях следили как армянскийпатриархат и Национальное собрание, так и султанское правительство.
Спустя три года правительство приняло Временное решение, сводившеена нет правовую основу закона о печати. Последствием этого решениястал усилившийся полицейский произвол. Поражение в русско-турецкойвойне в 1878 г. привело к дополнительным ужесточениям.
Завершение Берлинского конгресса в 1878 г. положило начало Армян-скому вопросу. Среди армян сложилось убеждение, что нация должнарешать свои проблемы сама. «Вместо того, чтобы продолжить дипло-матические иллюзии, было бы более гуманно и более умно сказатьармянам, чтобы сами подумали, какими средствами выйти из этойневыносимой ситуации», – учит лондонская газета «Айастан»14. Возникалиразные организации, общества и группы, а потом и национальные партии:организация Арменакистов, армянская социал-демократическая партияГнчакян, армянская революционная партия дашнаков, которые считалисвоей основной задачей «самостоятельное» решение Армянского вопроса,правда, при поддержке России. В Западной Армении развивалосьгайдукское движение.
По мере активизации общественно-политической жизни армян, появленияпартийной журналистики усиливалось цензурное насилие над армянскимиизданиями, была введена предварительная цензура в Турции. По приказуправительства было запрещено использование слова «Армения» вофициальных документах и печати, армянские вилайеты15 былипереименованы в одно общее название – Курдистан. Запрещались слова«свобода», «нация», «звезда». Журналисты не могли сказать «хожусвободно», «звезда погасла» (дворец султана назывался «Еэлдэз» –«Звезда»), «национальная церковь» – только «церковь моего рода». Былизапрещены слова, выражающие отрицательные черты характера иотрицательные эмоции: «глупость», «тупость», «злость», «зависть»,«ненависть». Был установлен запрет и на армянские представления.Цензором армянских сочинений был назначен некий араб. Неверно понятоеим выражение «телесный большой недостаток» было запрещено как«вредное, нравственно извращающее общество» высказывание16 .
Цензура не ограничивалась только запретами в светской печати.Редактуре подлежали и религиозные книги. Например, для разрешенияиздания Святого Писания константинопольским «Байбл Хауз»-ом цензорпотребовал, чтобы были вычеркнуты слова из главы 33 Иеремии «грустьизменится на радость», из главы 4 Эсфира – «во дворце унынья», изкниги Римлянам – «радоваться во время угнетения» и другие, около 50выражений. Делались также попытки внести такие изменения вхристианские книги, чтобы они согласовывались с книгами ислама17 .
По сообщениям лондонской прессы во время постоянных полицейскихпроверок в провинции уничтожалось все написанное на армянском: книги,журналы, газеты, рукописи. Было запрещено печатание стихов. За многиемесяцы в периодике не появилось ни одного стихотворения, в то времякак многие стихотворные рукописи пылились на столе у цензора. «Уследующего после Магомета (т. е. султана. – Ф. А.) с виду двух строкстихов начинались такие же нервные судороги, какие он получал из вида
извещения оплаты российского долга», – с горечью иронизирует один изаналитиков армянской литературы в Турции18.
За некоторыми исключениями армянские издания с 80-х годов XIX в.ограничивались освещением узкого круга национальных, религиозных иадминистративных вопросов. Были забыты многие жанры, запрещены нетолько этнографические материалы, фольклор, публицистика, но ирассуждения, касающиеся метафизики и этики. Закрылись многие издания.
В 1893 г. запретили национальную конституцию армян, остановилидеятельность армянского Национального собрания Константинополя.Редакторы лишились права критиковать в публикациях национально-административную жизнь. Ряд кровавых расправ над армянами в Сасуне,Константинополе, Трапезунде, Эрзруме, Мараше, Себастии, Ване,Диарбекире и других городах, начавшихся с 90-х годов XIX в. (былоубито около 300 тыс. армян), завершился геноцидом в 1915 г. Былоуничтожено более 1,5 млн и депортировано в другие страны мира примерно800 тыс. армян.
Мы вынуждены повторять некоторые известные факты, так как этотпериод в истории армян граничил с новой эпохой. Последствиями данныхсобытий проникнута вся общественно-политическая жизнь армян. Этисобытия определили основные направления и настроения в политике,культуре, литературе, а также в журналистике, повлияв непосредственнона содержание и формы ее существования: количество, тираж,периодичность и др. Они стали определяющими для правительств другихстран в проведении цензурной политики по отношению к армянскойжурналистике.
В Тифлисе периодические издания имели пеструю типологию, хотя и не моглисоставить конкуренцию константинопольской периодике. Установленныеограничения со стороны цензуры не позволяли редакторам, издателям бытьсвободными в выборе направления, программы. Армянская пресса в Тифлисетакже была подвержена тем закономерностям, которые установились вИмперии. Вехи развития армянской периодики не отличаются от общихтенденций в стране.
Армянская пресса была частной. Даже первое издание в этом регионе –перевод официозного «Кавказа» в 1846 г. – выходило по частнойинициативе. После александровских реформ количество армянских изданийвырастает почти в 7 раз и доходит до 34. Несмотря на ужесточениенадзора над печатью после 1907 г., армянская периодика в Тифлисеувеличивается почти в 3 раза по сравнению с предыдущим периодом. Дореволюции здесь выходили 95 новых изданий, из которых 38 –политические и 15 – литературные19 .
Однако в тифлисской армянской периодике наблюдались такие жетенденции, что и в западной армянской прессе этого региона: кратковре-менное существование, малотиражность. Традиционная типология здесь –литературные, литературно-художественные, литературно-политическо-общественные издания в сочетании с экономическим, историческим,производственным, публицистическим, научным направлениями. Встречалисьи специальные издания: педагогические, по медицине и здравоохранению,этнографические, театральные, сатирические и др. Под влиянием
революционной ситуации в России в регионе появились также рабочие,партийные издания социал-демократов. Восточная часть материнскогорегиона получала из Тифлиса все необходимое для духовного развития: ипублицистику, и художественную литературу, и учебники, и научныепроизведения.
Многочисленность константинопольской армянской периодики в какой-тостепени стимулировала развитие этой периодики в России. «Вообще, помоему мнению, – писал граф Э.К. Сиверс, – было бы весьма полезноразмножение у нас армянских изданий в тех видах, что при постоянномувеличении потребности в книгах и газетах, между армянами вообще, итурецкими в особенности, как видно из количества издающихся в Турцииармянских периодических изданий, желательно было бы, чтобы этапотребность удовлетворялась изданиями, выходящими в России, что можетспособствовать сближению заграничных армян с Россиею и установлениюнравственного влияния на них нашей цивилизации. Затруднение жеармянских изданий у нас может, напротив, побудить и наших армянобратиться к заграничным изданиям»20 . Эти соображения графа Э.К.Сиверса, высказанные по поводу выхода армянских периодических изданийв столице в 1863 г., были созвучны изменениям, происходящим вцензурной политике страны во второй половине XIX в.21 Кроме того, удиректора Духовных дел иностранных исповеданий был повод длябеспокойства, так как в то время, до 1863 г., в России было издановсего 10 новых армянских периодических изданий против 85, вышедших заграницей, в том числе в Турции – 62, а из них только в Константинополе– 4122 .
Уже в середине XIX в. в России в интересах правительства не былоупоминания о привилегиях, дарованных Екатериной II армянскому народу,и была запрещена в печати грамота об этом23 . В 80-х годах XIX в. былазапрещена публикация стихотворений Р.Г. Патканяна, до того свободноходивших в обществе: «…Многие стихотворения Патканяна, особеннописанные во время восточной войны, заключают в себе, как сказано впредложении Главного управления по делам печати, последовавшем вдекабре 1884 года, воззвания в политическом духе, направленные хотя ипротив Турецкого правительства, но несогласные с воззрениями нашего…»24
Этот период оказался крайне напряженным для российскогоправительства. Консул России сообщает руководству Турции обеспокойстве своего правительства по поводу последних событий,вызвавших «большое волнение на Кавказе, где армянский элемент оченьсильный и может втянуть в сложную ситуацию два пограничныхгосударства»25. Начало новой войны было не в интересах России. Принимаяна свою территорию многочисленных беженцев, она делала максимальновозможное в этой ситуации. Чтобы оградить «своих армян» от всякихнациональных, националистических призывов, с середины 80-х годов XIXв. цензурным органам был циркулярно отдан указ об особо строгомрассмотрении армянских сочинений. Эта мера остается непонятойармянскими общественными деятелями и стонущим от боли и ран армянскимнаселением и расценивается как жестокость.
Во второй половине XIX – начале ХХ в. около 40% всех ввозимых вРоссию периодических изданий на армянском языке было изКонстантинополя26 . Среди них особым спросом пользовались: «Масис»,«Пундж» («Букет»), «Аревелк» («Восток»), «Цагик» («Цветок»),«Бюзандион» и «Аревелян Мамул» («Восточная пресса»), привозимая изСмирны (Турция).
Газеты «Масис» и «Пундж» нередко привлекали внимание цензуры своимипубликациями о внутренней жизни России и об отношении местногоправительства к армянам. Со страниц газет последовательновычеркивалась нелепая информация о России, например, такиевысказывания, как принадлежность Великого князя НиколаяКонстантиновича к социалистической партии и подготовка им революции впользу своего отца, за что он будто бы был арестован и сидел вкрепости в Павловске («Масис», 1881)27 . Или информация в газете «Пундж»в 1891 г. о наследнике цесаревиче Николае Александровиче и егопомолвке с греческой принцессой Мариею28 . Или «будто бы Россия своейвоенной славою и величием обязана главным образом армянским воинам»(газета «Азатутюн» – «Свобода», 1891)29 . Были и более серьезные темы,вызывавшие недовольство цензуры, – политическое состояние России,повторяющиеся акты террора против царствующих лиц30 . «Жизнь его (царя.– Ф. А.) сравнивается с жизнью Железной маски и с образом жизниТибетского Ламы»31 , – пишет цензурующий по поводу публикаций в газете«Масис» в 1881 г.
С каждым годом усиливалось напряжение в общественно-политическойжизни России. Нейтральная позиция правительства по отношению к армянамподвергалась критике. Газета «Масис» в 1887 г. жаловалась на строгуюцензуру в России, которая «не дает вздохнуть и говорить о своихнуждах»32 . Подвергалось критике Кавказское начальство, которое«стремится всеми мерами к истреблению национальностей туземных, чемвозбуждает гнев народа к себе и к своей власти – ненависть». «Великийкнязь Михаил во время своего наместничества не находил нужнымприбегать к подобным мерам»33 , – заключает газета.
Общее в периодике этого региона определялось теми социально-политическими процессами, которые происходили в мире. Известно, чтоXIX век, особенно его вторая половина – период развития капитализма иглобальных миграций из деревень в большие города. Интеллектуальныесилы армян находили пристанище в ближайших региональных центрах, гдеразвернулась основная издательская деятельность и располагалось ядроармянской журналистики. Пресса в центрах этого региона опередилажурналистику на этнической территории количеством, богатой типологией,качеством изданий и значимостью в общественно-политической жизниармян.
Насыщенность армянской периодикой центров ближайшей социокультурнойсреды создавала у армян миф о существовании национальной, такназываемой центральной, периодики в Западной и Восточной Армении. Делодоходило до того, что тифлисские газеты выражали недовольство поповоду широкой национально-политической программы ереванских газет.Например, редактор газеты «Мшак» (Тифлис) считал, что газета «Псак»
(Ереван) должна была заняться только анализом губернских событий, аобщие вопросы, относящиеся к общественно-политической жизни –прерогатива «центральных», т. е. тифлисских газет34 . За пределамиобщественного сознания остается тот факт, что эта периодика, несмотряна многочисленность и свойственные ей черты национальной журналистики,все же выходила за рубежами Армении, в местах компактного проживанияармян и имела колониальный характер, аналогично прессе вмногочисленных армянских колониях в Индии, Египте, Сирии и т.д. Сизменением политической ситуации количество этих периодических изданийсократилось или они исчезли, уступив место прессе титульного этноса.
Пресса в отдаленном регионе, или отдаленной социокультурной среде.Пересекая границы мест традиционного проживания, армянская молодежьрасширяла поле деятельности. Большую роль играли здесь и колонии вкрупных политических, культурных и торговых центрах стран проживания.В Индии, где находилась одна из крупных армянских и богатых колоний,начали издаваться первые армянские периодические издания. Выходиломного газет и журналов и в других странах Востока, но большую рольпредстояло сыграть прессе западных стран и России.
Армянская пресса Италии была связана с венецианской конгрегациейМхитаристов. Из 13 периодических изданий, вышедших до 1917 г., только2 (1807 и 1812 гг. – начало выхода) имели в своих вторых названияхполитическую составляющую. Остальные – это литературно-художественные,литературно-научные, семейные, религиозные издания, игравшиезначительную роль в истории армянской прессы. Здесь с 1843 г. выходит«долгожитель» армянской периодики журнал «Базмавэп» («Полигистор»).Позже к этому журналу прибавилось другое издание мхитаристов,выпускавшееся в Вене, «Андес амсореа» («Ежемесячный журнал»), такжезавоевавшее популярность среди армянских читателей и особенно средиармянской интеллигенции в России.
В основе этих журналов, конечно же, лежало католическоемировоззрение, что и беспокоило армянского католикоса в период решениявопроса об их распространении среди его паствы. Но армян-католиковбыло недостаточно для выпуска солидного журнала, и мало кого можнобыло привлечь религиозной тематикой. На это и надеялось российскоеправительство, разрешив распространение журналов венецианскихмхитаристов в российских пределах. Со своей стороны редакцияориентировалась на довольно широкий круг читателей, которых привлекалаарменоведческими, филологическими, естественнонаучными статьями,изысканной беллетристикой, переводами мировой и русской литературы.
Журналы распространялись в основном на турецкой и российскойтерриториях. Например, из 16 представительств журнала «Базмавэп» в1890 г. 8 находились в Турции, 7 – в городах России и 1 – в Болгарии.Эти представительства были расположены не только на территорииисторической Армении, но и в таких крупных городах, какКонстантинополь, Трапезунд в Турции, Феодосия, Симферополь, Астраханьи другие города в России. Стоимость подписки на журналы и газетыуказывалась как в европейских денежных единицах, в основном франках,так и в российских рублях35 .
Во Франции находят пристанище армянские партийные органы печати.Здесь начал выходить центральный орган социал-демократической партии«Гнчак» («Колокол»). Во французских армянских изданиях преобладалапечать с такими названиями, как «Аревмутк» («Запад». Эхо европейскогопросвещения), «Азат хоск» («Свободное слово»), «Апага» («Будущее»),«Хай кянк» («Армянская жизнь». Свободный, независимый орган) и т.д. ВоФранции значительное число составляли литературные издания (6 из 17).Другой орган печати армянской революционной партии дашнаковобосновался в Австрии, потом в Швейцарии. Французская армянская прессаоставила значительный след в художественной разработке армянскихшрифтов.
В Англии армянская пресса выпускалась главным образом во второйполовине XIX в. Из 11 новых газет и журналов только 10 приходилось напериод до 1902 г. Здесь впервые встречается журнал с названием«Община» (1894), что говорит об осознании армянами-переселенцами себякак особого элемента местной социокультурной среды и об обращенииредакции к местным проблемам и событиям. Надо отметить такжесуществование армяно-французских изданий в Англии. Цель этих изданий –защита интересов армян в европейских странах.
Если венецианская пресса, выросшая в среде католических клерикалов,явно носила отпечаток религиозности, несмотря на научно-исторический,популярный характер публикаций, то многие печатные издания в другихевропейских странах были на содержании состоятельной армянской элиты,которая нередко диктовала свои пожелания редакторам. Целевойаудиторией этих изданий также были соотечественники на этническойтерритории и в местах компактного проживания армян в ближайшемрегионе.
Были ли особые распоряжения правительств этих стран по поводу выходаармянских изданий на их территориях? Какой характер они носили?Насколько свободными были условия, где функционировали армянскиеиздательства?
В 1888 г. газета «Айастан» («Армения») поместила статью о посещенииредакции тайными агентами английской полиции. Эту газету выпускалорган армянского патриотического общества в Лондоне на армянском ифранцузском языках. Мотив вторжения – якобы необходимость выяснить,где выходило издание: в Англии или во Франции? Дело в том, что в этотпериод Англия находилась в тесных дипломатических отношениях сТурцией. Проверка редакции, как сообщает газета, совпала с посещениемАнглии представителем гамидовского правительства Турции, на территориикоторой газета была запрещена к распространению. Правда, английскоеобщество было возмущено этим фактом, и английская печать поддержалаармянских редакторов36 .
О фактах проверки типографии в 60-х годах XIX в. во Франции, гдепечатался армянский журнал, неугодный влиятельной армянской элите,упоминает А.Б. Каринян в своих очерках о западноармянскойпериодической печати37 . Согласно правительственным законам каждоепериодическое издание должно было иметь особый «выпускающий номер»,
утвержденный столичным управлением цензуры. А.Б. Каринян называетнекоего французского деятеля де Летра38 .
В 1844 г. в цензурном комитете России обсуждался вопрос ораспространении в стране «общеполезного журнала», издаваемого монахамиармянской конгрегации Мхитаристов. Предлагалась версия о бесцензурномраспространении журнала по стране лишь потому, что «журнал издается сдозволения Австрийской цензуры, весьма строгой во всех отношениях…»39
В отдаленных для армян регионах России армянская пресса также выходила вкультурно-экономических центрах, в столицах. До 1865 г. московскиеармянские издания конкурировали с тифлисскими. Армянская периодикапоявилась здесь примерно на 20 лет раньше, чем на Кавказе, и былавторой после астраханской «Аревелян цануцмунк» («Восточный вестник»,1816). До 1865 г. в Москве выходили 4 журнала, издаваемыепреподавателями Лазаревского института. Это были в основномлитературно-исторические журналы. Единственное политическое издание вМоскве выпускалось в 1911 г. Здесь увидел свет журнал «Юсисапайл»(«Севернее сияние», 1858–1864) Ст. Назарянца, надолго определившийнационально-воспитательное направление российской армянской периодики.
Несмотря на все официальные строгости, российские армяне оказалисьсамыми активными в политике, на их поддержку надеялись другиеармянские регионы. Во втором номере армянской газеты «Дануб» («Дунай),издаваемой в Болгарии, для решения национальных проблем приглашались ксодействию «русские армяне как наиболее деятельные и развитые»40 .Турецкая армянская газета «Аревелк» («Восток») в статье, посвященнойармянской прессе, писала: «Степанос Назарянц навсегда направил прессурусских армян в такое русло, что общественное сознание, развиваясь подее пробуждающим воздействием, сделало периодическую печатьинтеллектуальной необходимостью для армян России»41 . Отвечая на этовысказывание, редактор другого журнала, выходившего в Санкт-Петербурге, размышляет: «Наверняка написавшие эти строки никогда неспрашивали себя, имеют ли они своего Степаноса Назарянца? Но важностьэтого заявления в том, что, несмотря на 40-летнюю богатую прессу армянТурции, современная молодежь ищет для себя образ публициста вроссийской школе публицистики»42 .
Выходили газеты и журналы в Феодосии, Новом-Нахичеване и Анапе. События, происходящие в Турции, напрямую влияли на отношение
правительства к армянской периодике. Хронология цензурногозаконодательства в основном совпадает с турецкой. Особо сложнымоказалось для армянской печати последнее десятилетие XIX в. Изпоступавшей из европейских стран периодики исключались целые страницы,посвященные вопросу о необходимости создания организационного комитетадля армянских патриотических целей и воспитания армян в военном духе(«Цагик», «Хайк»)43 . Сюда можно отнести и первое издание Армянскогопатриотического союза в Марселе «Катехизис свободы Армении»44 .
Цензурные притеснения коснулись и такого академичного журнала, каквенецианский «Базмавэп». В конце XIX в., когда началось угнетениеармянского народа в Турции, даже исторические научные статьи внушали
опасение цензуре. Предполагалось, что эти материалы направлены навозбуждение армянского патриотизма45 .
Не подлежащей распространению среди армян оказалась и рукопись«Вождь рабов» о Спартаке46 . Не случайно, что одно из крупныхпериодических изданий, выходивших в Марселе – «Армения» (1885–1921), спервых же номеров было запрещено в России47 . Не подлежалараспространению в стране и газета «Азат Айастан» («Свободная Армения»)– орган армянских рабочих-революционеров. «Специально армянского вэтом листке нет ничего, – пишет цензурующий, – кроме стихотворения«Авазакин» («Разбойнику»), приглашающего армянских наездников вступитьв Армению с мечом в руках. Ни газета, ни приложение к ней не могутбыть допущены к обращению в публике», – заключает он48 .
Исключаются и материалы, критикующие турецкое правительство. Статья102 Устава о цензуре и печати регулярно становится основанием длярешений Цензурного комитета по отношению к армянской периодике, «покоторой не должно быть допускаемо ничего оскорбительного дляправительств, состоящих в дружественных с Россиею сношениях»49 .Запретили карикатуры, изображающие султана под Дамокловым мечом, т. е.Армянским вопросом, а также трусливых и хвастливых армянских деятелейв виде зайца и льва («Аптак» – «Пощечина». Лондон, 1894, 8 дек.)50 .Армянские периодические издания также часто попадали под ст. 94–96,104 Цензурного устава51 .
Разделение на регионы указывает на существенные различия в характереармянских изданий по мере отдаления от материнской территории.Значимость и историческая роль газет и журналов, вышедших в диаспорахи на этнической территории Армении, были неоднозначны. Армянскаяпериодика на родине была слабо развита и незаметна, качественная жеармянская периодика зарождалась в диаспоре. Эти издания отличались каксодержанием, функциями, задачами, выполненной ролью в общественно-политической жизни армян, так и качеством печати и другимитехническими характеристиками.
Армянские издатели, редакторы на востоке этого региона пыталисьвести целенаправленную воспитательно-просветительскую деятельность, ана западе – повлиять на решения правительств тех стран, где вершиласьсудьба армянского народа. Однако в процессе созидания национальнойкультуры интересы Армении и ее печати сталкивались с интересами стран,под господством которых она находилась. Любовь к родине, тоска побылой славе Армении, даже упоминание о ней, не говоря уже о планахосвобождения, порой не соответствовали как политике этих стран, так ипроцессам, происходившим в мире. Глобальные политические процессыстановились губительными для армянского населения, а навязанныеевропейскими странами «правила игры в большую политику», сковывающиедействия России на юге, остались им непонятными. «Скажи, о Европа,есть ли у тебя боль?»52 – восклицает в недоумении поэт.
Армения находилась вдали от европейских стран, не имела с нимитерриториальной общности. Это обстоятельство давало редакторамвозможность ставить радикальные вопросы и указывать на кардинальныепути их решения, вести целенаправленную работу в среде армянского
народа вокруг идеи объединения, вооруженного освобождения этническойтерритории.
Правда, в материнском регионе и близкой социокультурной среде армяненередко становились первыми среди своего более широкого окружения.Например, типография, созданная армянами в 1638 г. в Иране, былаединственной на всем Среднем Востоке, в то время как первая книга наперсидском языке была напечатана только в 1830 г.53 Первая книга натурецком языке вышла в свет лишь в 1729 г., через полтора столетияпосле начала изданий книг на армянском языке в столице Османскойимперии. В конце XIX в. персидские царские особы, дипломатыиностранных государств в Тебризе, многие европейцы с семьями приходилив единственный театр города на армянские представления54 .
Такие же тенденции наблюдались и на Кавказе. Здесь армянская прессатоже преобладает в сравнении с печатью других кавказских народов. Мыне согласимся с утверждением, что «в течение тридцати лет, с 1830 по1860 г., провинциальная печать в России была представлена практическилишь официальными губернскими ведомостями»55 . Уже в 1815 г. в Астраханивыходила армяно-русская газета «Аревелян цануцмунк» («Восточныйвестник», 1815), в Тифлисе – периодические издания «Арарат» (1850–1851), «Мегу Айастани» («Пчела Армении», 1858–1861), «Крунк айоцашхари» («Журавль армянской земли», 1860–1865). Сюда можно отнести иофициозный «Кавказ» на армянском языке (1846–1847) и журналы «МузайкАраратян» («Музы Арарата», 1829), «Юсисапайл» («Северное сияние»,1858–1864), «Чраках» («Перлы», 1858–1862), выходившие в Москве, атакже «Масяц агавни» («Голубь Масиса», 1859–1865), издаваемый вФеодосии. В Тифлисе, как объяснял армянский историк Лео (А.Г.Бабаханян), армяне и грузины как будто разделили между собойсоциальные роли. Интеллектуальную жизнь развивали армяне, а вуправлении регионом были заняты грузины. В 1894 г. в Тифлисе выходило14 газет и журналов на армянском, в то время как на грузинском – всего7. Армяне принимали активное участие в культурном развитии соседнихнародов и невольно становились проводниками просвещения на Кавказе, вМалой Азии и на Среднем Востоке.
Таким образом, социально-политические явления с середины XIX в.непосредственно отразились на иноэтнической печати.
Урбанизация является мощным консолидирующим фактором. Онацентрализует интеллектуальные силы, формирует профессиональнуюкультуру, литературу и становится толчком развития периодики каксредства связи и межгруппового общения. Эти процессы, происходящие вмире, отсутствие социальных предпосылок для качественной журналистики,патриархальность среды заставляют представителей из менее развитыхстран мигрировать в соседние и отдаленные регионы для удовлетворениядуховных потребностей своего народа и реализации собственныхинтеллектуальных сил. В связи с этим повышается значимость городов какближайшего региона, так и крупных центров отдаленного региона.Традиционные связи, добрососедские отношения с местными жителями икачество этнической общины в этих центрах обусловливают развитиеиноэтнической печати. Нередко возникновение печати какого-либо народа
связано именно с иной этнокультурной средой, а периодика в ближайшихкультурно-политических центрах замещает национальную или «центральную»печать. Но только экономического фактора для возникновения этого типапечати недостаточно.
Важную роль для миграции интеллектуалов из мест историческогопроживания играет социально-политическая обстановка. Невозможностьсвободно говорить о проблемах своего народа, влиять на политическуюситуацию на родине, распространять там просвещение побуждаетобщественных лидеров вести необходимую деятельность за пределами своейродины. Возникает особый тип политической периодики, который направленна политическое или национальное (в зависимости от целей издателей)воспитание основной аудитории в материнском или ближайшем регионах.
Пресса отдаленного региона, особенно его европейской части, гдевозникали новые общественные движения, где происходили крупныесоциально-политические события, решающие будущее многих народов,становится ведущим, организующим звеном в культурном развитии данногонарода, а также его голосом при необходимости влиять на решенияправительства. Именно в отдаленной социокультурной среде зарождаласькачественная периодика, а проблематика публицистики обострялась помере отдаления от материнской территории. Издатели отдаленных диаспорстремились достичь европейского уровня искусства печати. Эта прессаотличалась изысканным оформлением, использованием разнообразныхшрифтов, четкой периодичностью и издавалась в течение длительноговремени.
Но любая свобода относительна. Этот тип периодики зависит отобщественно-политических колебаний общества, в котором онфункционирует. Активизация деятельности иноэтнической печатинаблюдается в период и после политических переворотов, когда резкоувеличивается ее количество, типология становится более разнообразной.С изменением политической ситуации, с наступлением реакции этикачества иноэтнической печати утрачиваются, вплоть до полногоисчезновения изданий.
Иноэтническая печать вынуждена подчиняться законам той или инойстраны, отражать культурно-общественную жизнь соотечественников в техрамках, которые соответствуют интересам этих государств. В нейтральныхстранах (по отношению к своей родине), где отсутствует территориальнаяобщность или общность границ, эта пресса более открыта, пользуетсябольшими свободами в постановке вопросов, требующих территориально-политических изменений. Иначе обстоит дело в странах, где остро стоиттерриториальный вопрос, нарушающий дипломатические отношения междугосударствами и установившийся политический порядок в мире.Правительства этих стран усиливают регулирование печати – повышаетсязначение цензуры.
Сравнивая ситуацию с печатью в Турции и России, мы задавалисьвопросом: какие факторы стали определяющими для политики двухправительств по отношению к периодике своих армянских подданных?
В обеих империях было установлено строжайшее цензурноерегулирование. Этапы контроля за печатью чередовались взаимосвязано:
за усилением угнетения армян в Турции последовало запрещение армянскойпечати. Эти события эхом откликнулись в диаспорах и на российскойтерритории, где ожесточились цензурные запреты, не дававшиеразвиваться страстям. Требования цензуры двух стран были сходны впринципиальных положениях, таких, как умалчивание правительственныхрешений, вопросов религии, критика отдельных личностей.
С целью определения различий мы хотели бы апеллировать здесь ксоциологическому термину «девиация», «девиантное поведение». Всоциологии девиацией называется отклонение от групповой нормы, котороевлечет за собой наказание нарушителя. Н. Смелзер выделяет три основныхкомпонента девиации: человек, которому свойственно определенноеповедение; ожидание или норма, которые являются критерием оценкидевиантного поведения, и некий другой человек, группа или организация,реагирующие на поведение56 .
Из различных теорий девиации нам интересны культурологический подходи теория стигматизации. Первый подход объясняет девиацию как результатконфликтов между нормами культуры. В нашем случае возникает конфликтмежду культурными нормами, навязываемыми правительством, и нормамикультуры народов России; он отражается на взаимоотношениях редакторовиноэтнической печати и властей. Второй подход предполагает навязываниестандартов поведения одних социальных групп, наделенных властью,другим. В данном случае «наклеиваются ярлыки (стигма)» определеннымлюдям и против них применяются правила и санкции.
На основании этого мы можем расценивать требования цензоров инаказания издателей и редакторов как реакцию на неоправданноесоциальное ожидание, реакцию на девиантный поступок, за нарушениеутвержденных властями норм и правил. Против «девиантных» редакторов иих изданий применяются установленные цензурные правила и законыназначенными правительством лицами – «оценщиками». Культурные различияи стереотипы, как субъективные, так и этнокультурные, углубляютконфликт между сторонами, расширяется область применения этих норм иправил по отношению к иноэтнической печати и рождается произвол.
Различие между двумя государствами по отношению к иноэтническойпериодической печати выявляется на уровне внешних детерминацийэффективности журналистской деятельности57 . Социокультурные факторыстраны, в особенности уровень информационной и политической культурыобщества, непосредственно влияют на развитие и деятельность этого типаизданий. Данный фактор определяет критерии оценки девиантности, нормыи правила взаимоотношений властей с издателями, редакторами иприменение этих критериев «оценщиками», независимо от состоянияконституционно-правового поля деятельности печати.
Формы, приемлемые методы наказания в практике обусловлены исоциально-политическим и историческим контекстом. Одни и те же нормыне работают в другой политической среде, в другой политическойситуации. Культурная отсталость страны, исходящая из отсталостититульного этноса, а соответственно и ее чиновников, как в случае сТурцией, приводила к варварским методам управления и к варварским
критериям оценки. Неопределенность правил и норм порождала произвол«оценщиков». В роли «оценщиков» от правительства выступали цензоры.
Как была организована цензура иноэтнических изданий в России, мырассмотрим в следующем параграфе.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМЯНСКИХ ИЗДАНИЙ: Формирование цензурной номенклатуры и взаимоотношения с ней
Мы выяснили, что цензура была системообразующим фактороминоэтнической прессы и зорко следила за печатным словом в интересахправительства. Армянская печать не являлась исключением и подвергаласьвсем колебаниям процессов, связанных с формированием цензурногозаконодательства и номенклатуры. Кто принимал на себя роль «оценщика»армянских изданий? Какие взаимоотношения складывались с ними, находящимисямежду правительством и редакторами-издателями? Как влияли эти отношенияна развитие периодики? Вот вопросы, которые предстоит рассмотреть.
До 50-х годов XIX в. должность цензора армянских сочинений, каквыясняется из доклада министра народного просвещения Е.П. КовалевскогоАлександру II в 1858 г., была выделена только в Кавказском цензурномкомитете58 . Вместе с тем армянские сочинения печатались не только вЗакавказском крае, но и в других регионах России, а в Москве началивыходить в свет армянские периодические издания. Ввиду этого властисочли целесообразным производить цензурное рассмотрение и одобрение впечать этих изданий на основании отзывов преподавателя армянскогоязыка Санкт-Петербургского университета Н.Л. Бероева. Однако «сношениеего с редакциею предполагаемого журнала производилось чрез Санкт-Петербургский цензурный комитет, который поручил бы одному из своихчленов выставлять на книжках журнала цензурное одобрение, на основаниизаключений рассматривавшего оных преподавателя Санкт-ПетербургскогоУниверситета»59 . В основе принятия такого решения лежал болеесущественный политический мотив.
Кавказский цензурный комитет находился в ведении общей цензуры.Однако, кроме цензурного устава и изданных для него законоположений,он руководствовался еще указаниями наместника, на которого быливозложены также обязанности председателя Главного управления по делампечати. Поэтому работа Кавказского цензурного комитета находилась внекотором смысле вне зависимости от центра. «Практика этого комитета…совсем неизвестна», – признали позже составители «Сборника действующихзаконов по печати» в 1878 г.60 Сконцентрировав цензуру армянскойпечати, выходившей в России (кроме Кавказского края), и изданий,поступавших из-за границы, в столице, правительство получаловозможность наблюдать за состоянием умов своих кавказских подданных наокраине страны.
Граф Э.К. Сиверс, директор Департамента духовных дел иностранныхисповеданий, считал, что сосредоточение цензуры армянских книг и
периодических изданий в Санкт-Петербургском цензурном комитете имелото преимущество, что правительство получало возможность «непосред-ственно оказывать влияние на направление армянской письменности <…>чрез цензора, который, в свою очередь, находясь вне централитературной деятельности армян, остается изолированным от влияния нанего местных интересов и личных отношений»61.
Согласие императора с новыми обязанностями Бероева было получено 17марта 1857 г.62 , что можно считать официальной датой начала цензурыармянских сочинений в Санкт-Петербургском цензурном комитете. Какзаверяет Бероев, он выполнял эти обязанности еще с 1845 г., почтисразу после официального открытия кафедры армянской словесности наотделении восточных языков университета в декабре 1844 г.63 Такимобразом, в связи с принятием под покровительство России новыхтерриторий в Закавказье вступило в силу решение Главного управленияцензуры 1828 г. о цензуре армянских и восточных сочинений в Санкт-Петербургском университете64 .
Мы не ставим своей задачей рассмотрение всей истории цензурыармянских сочинений, так как изданное в 1957 г. исследование С.Г.Арешян «Армянская печать и царская цензура» раскрывает основныетенденции ее развития. Но некоторые оценки автора требуют пересмотра идополнения. Мы укажем только на те документы, которые ускользнули отвзгляда уважаемого исследователя, и добавим новые сведения,обнаруженные нами.
Первая армянская типография в России была основана еще в 1780 г.,примерно за полвека до вхождения армян в российское подданство. В этотпериод русско-армянские отношения стали активно развиваться. Ни у когоне возникало сомнения в 1798 г. в том, чтобы дать полное правоархиепископу Иосифу Аргутинскому-Долгорукому издавать и цензуроватькниги по собственному усмотрению в его же типографии в Астрахани65 . Наосновании Высочайшего указа было объявлено «о наименовании АрмянскогоАрхиепископа Иосифа Ценсором печатаемых в Астрахани армянских книг»66 .
Таким образом, архиепископ Иосиф стал первым армянским цензором вРоссии. В дальнейшем, вплоть до 30-х годов XIX в., будет продолжатьсяпрактика назначения рассматривающих армянские сочинения из числадуховных лиц. За печатью следил центр армянского духовенства во главес Католикосом в Эчмиадзине. С начала 1820-х годов для облегченияпроцесса цензурования для авторов и издателей цензура была передана введение епархиальной главы армянской церкви в Астрахани, хотя добитьсяэтого российским армянам было нелегко67 .
Мы не согласны с утверждением С.Г. Арешян, что до официальногоназначения цензурующего в Санкт-Петербургском цензурном комитетерассмотрение армянских сочинений носило случайный характер, поручалосьслучайным лицам, находящимся на государственной службе68 .
Из ходатайства графа генерал-адъютанта А.Х. Бенкендорфа в 1842 г.выясняется, что решение 1828 г. всегда оставалось действующим. Наосновании этого документа армянские сочинения должны былипереправляться из Цензурного комитета в Академию наук, в университет«или даже в Азиатский департамент Коллегии иностранных дел»69 . Несмотря
на то, что Азиатский департамент рассматривался как крайний,необходимый случай, из доклада явствует, что к этому времени основнаянагрузка по цензуре армянских изданий была возложена именно на этотдепартамент70 .
По внутренней цензуре книги духовного содержания просматривалисьместными архиереями армянской церкви и далее вносились в цензуру наосновании общих правил. Там, где не было представителей армянскогодуховенства, книги отправлялись в Грузию. Издания не духовногосодержания препровождались в Азиатский департамент Министерстваиностранных дел или в армянские духовные правления через цензурныекомитеты, если сочинение было издано в России, и через Комитет цензурыиностранной, если оно поступило из-за границы. Книги же на русскомязыке, касающиеся армян, рассматривались в общей цензуре лицами, невсегда компетентными в вопросах армянской истории и вероисповедания71 .Цензурование экстраординарного академика М.И. Броссе72 , заменившегодрагомана в Азиатском департаменте Худобашева в период его болезни в1839 г.73 , носит фрагментарный характер.
Этот порядок не удовлетворял ни одну из сторон: ни армянскогопатриарха, который был обеспокоен распространением западныхрелигиозных учений среди его паствы, а именно распространениемжурналов венецианских мхитаристов, ни издателей и редакторов (из-завынужденных задержек, связанных с прохождением нескольких инстанций),ни читателей, подолгу ожидавших получения печатных изданий. Да иправительство не устраивала сложившаяся ситуация, которая несла ссобой массу неудобств. Лица, которым поручалась цензура армянскихкниг, имели различный уровень образования и соответственно применялиправила цензурного устава по-разному: слишком строго или, наоборот,слишком снисходительно. Передача книг из цензурного комитета вармянские духовные правления, как считал граф А.Х. Бенкендорф, несоответствовала цели правительства, так как армянское духовенство неимело достаточного классического образования, чтобы правильнорасценить намерение автора. В книгах же на русском языке из-занекомпетентности лиц в общей цензуре часто печатались положения, несоответствующие учению Армянской церкви, иногда даже истинамхристианской веры. Нередко они содержали сведения, оскорбляющие нравыармянского народа74 .
Лазаревский институт при посредничестве графа А.Х. Бенкендорфапоторопился перехватить инициативу. Эчмиадзинский патриарх попробовалвзять реванш и в 1844 г. предложил свой путь решения: предоставитьцензуру всех поступающих из-за границы книг и периодических изданийили ему лично, или Эчмиадзинскому синоду75 . Ни одно, ни другоепредложение не получило поддержки.
Правительство старалось быть принципиальным: не изменять принятыецензурные правила и не делать исключения ни для кого. Министрнародного просвещения С.С. Уваров отказался отступить от Устава оцензуре (§ 23, п. 3), по которому деятельность Католикоса иЭчмиадзинского синода по духовной цензуре ограничивалась изданиямидуховного содержания, печатаемыми в Империи76 . Даже решения по духовной
цензуре, принятые архиереями или патриархом, были неокончательными.Для переиздания церковных книг Католикос также испрашивал дозволениеот центральных органов власти77 . А после просмотра духовных книгпредставителями армянского духовенства они передавались в Департаментдуховных дел иностранного исповедания, так как цензурующие прицензурном комитете отказывались дать теологическую оценку духовныхкниг78.
Вопрос же передачи цензуры в Лазаревский институт был решеннесколькими годами раньше – окончательно и бесповоротно.
В 1838 г. в Комитете министров обсуждался и был отвергнут проектпередачи армянской цензуры Лазаревскому институту. При утвержденииэтого положения последовало Высочайшее повеление: «За сим никаких ужеправ и преимуществ Институту сему не предоставлять, и всякое о томдомогательство на будущее время устранять»79 .
Неоднократные обращения московских армян-издателей во властныеструктуры о неудобстве принятого порядка и о желании перевестирассмотрение своих книг в Московский цензурный комитетигнорировались80 .
Цензурующие армянские сочинения в Санкт-Петербургском цензурномкомитете. Здесь армянские сочинения рассматривались в основномармянами: Н.Л. Бероевым (1845–1872), К.П. Паткановым (1872–1889), Г.К.Чарыховым (1908–[1915]). Исключением были Н.Я. Марр и В.С. Драгомирецкий(цензуровали соответственно в 1889–1897 и 1897–1908 гг.)81 .
Николай Яковлевич Марр не был армянином. Его национальность в личныхделах указывалась по-разному. В начале жизни он слыл сыном английскогоподданного, позже – грузином, иногда его национальность не указываласьвовсе82 . Но армянам редко встречался такой друг, каким был Марр,беззаветно полюбивший Армению и ее культуру.
«Я чрезвычайно симпатизирую мысли поддерживать переписку синтересующимися вообще Востоком, а еще более с теми, которые посвятилиили посвящают свое время изучению Армении <…> Арменоведение, как бытам ни пожимали плечами профаны, при всей своей молодости довольно-таки обширная наука <…> Если я не обманываюсь горько, надеюсь, удастсямне вселить любовь к этой науке и заинтересовать хоть нескольких лиц,как скоро я получу возможность чтения лекций в Университете»83 , – пишетМарр в письме в 1891 г., будучи еще исполняющим обязанности цензора.
В апреле 1889 г. магистрант Марр приступил к занятиям при комитетепосле кончины тайного советника Патканова. Впервые для рассмотренияармянских сочинений назначался человек другой национальности. Этообстоятельство особенно радовало председателя цензурного комитета А.Е.Кожухова. «Г[осподин] Марр по происхождению грузин и основательноизучил и знает армянский язык, к преподаванию которого в университетеи готовится… – мотивировал Кожухов свой выбор в письме начальникуГлавного управления по делам печати. – Назначение Г[осподина] Марра,по моему мнению, тем более является удобным и полезным, что он,происходя из Грузин, не будет нисколько стеснен национальным армянскимвопросом и с полным беспристрастием оценит эти вопросы и сумеет
подавить излишнее национальное возбуждение молодых армянскихписателей»84 .
В полезности Марра председательствующий особенно уверился после еготрехмесячных занятий по цензурованию из-за болезни Патканова. «Втечение этих месяцев, при исполнении данных мною ему цензорских работ,он оказал полное понимание дел и необходимый для цензорского делатакт» 85 , – отозвался одобрительно Кожухов. Марр рассматривалармянские сочинения при комитете до 1897 г. 86
Поиски нового доверенного лица продолжались долго. Через пятьмесяцев Василий Степанович Драгомирецкий, коллежский секретарь вДепартаменте духовных дел иностранных исповеданий, согласилсязаниматься цензурой армянских сочинений87 , продолжая работать в том жедепартаменте. Возможно, он еще долго находился бы на этой должности (втечение 11 лет), если бы в Санкт-Петербург не переехал Г.К. Чарыхов88
со своей семьей, состоящей из десяти человек.Галуст Карпович Чарыхов находился на государственной службе около 25
лет. Два года он преподавал в Лазаревском институте восточных языковпри Министерстве народного просвещения и около 23 лет был ректоромармянской Духовной семинарии в Новом-Нахичевани (Ростов-на-Дону) приМинистерстве внутренних дел и инспектором классов Гогоевскогодевичьего училища по ведомству Учреждений императрицы Марии89 . Послемногократных обращений в Департамент духовных дел иностранныхисповеданий и Министерство внутренних дел с личными прошениями и черезвлиятельных родственников Чарыхов получил по вольному найму местопереводчика статей90 армянских газет, а с мая 1908 г. занялсярассмотрением армянских сочинений при Санкт-Петербургском цензурномкомитете91 . Неоднократные обращения Чарыхова по поводу получениядолжности при Министерстве внутренних дел из-за тяжелого материальногоположения оставались тщетными.
Добровольным ли был уход Драгомирецкого? Трудно судить по егократкой докладной записке конца апреля 1908 г. В своем письме к В.В.Владимирову, директору Департамента духовных дел иностранныхисповеданий, некий родственник Чарыхова Иван Григориан указывал навозможные источники оплаты труда Чарыхова, в числе которых и«освободившиеся суммы при увольнении одного из служащих»92 . Надополагать, что этот Григориан был близок к правительственным кругам идостаточно осведомлен о положении дел. Чарыхов был бы полезным, какобъяснял он в 1906 г., особенно в то время, в период «разныхзаконопроектов, разрабатываемых в Министерстве»93 . Имя Чарыхова какрассматривающего армянские издания встречается до 1915 г.94
В архивных документах кроме указанных лиц встречаются подписи Эзова,Смирнова, Будагова, Хорасанджяна, которые замещали цензурующих впериод их отсутствия95 .
Статус цензурующих армянские сочинения. Взаимоотношения, официальноустановленные в 1857 г. между Санкт-Петербургским цензурным комитетоми цензурующими армянские сочинения96 , сохранялись до ликвидациикомитета. Непосредственная связь рассматривающих армянские сочинения сиздателями и авторами по вопросам цензуры не одобрялась цензурным
комитетом. «Вообще-то, цензоры не имеют права самостоятельно вестипереписку с издателями по поводу разрешения изданий без ведомацензурного комитета»97 , – отвечал Марр после разъяснений в комитетеодному неизвестному издателю в письме, написанном, скорее всего, вначале его цензорской деятельности.
Был случай, когда при таможенном досмотре на границе пытались изъятьу Марра и отправить на цензурное рассмотрение написанную им жедиссертацию, тогда как Марр уже был занят рассмотрением армянскихсочинений при Цензурном комитете. Об этом неприятном инциденте Маррупоминает в своей записной книжке в 1896 г. 98
Цензурующие сочинения на армянском, впрочем, как и на восточных инекоторых других языках, не входили в штат Цензурного комитета, нечислились отдельными цензорами и, следовательно, не имели никакихслужебных прав, их участие в заседаниях комитета исключалось99 . Ихслужба приравнивалась к службе по частному найму100 . Не случайно, что вофициальных документах выполняющих обязанности цензоров армянскихизданий не называли цензорами и не принимали на должность цензора.Преимущественно встречаются выражения: «занимающийся при Санкт-Петербургском цензурном комитете рассмотрением сочинений на армянскомязыке»101 , «цензуровавший издания на армянском языке»102 , «наблюдающийза армянскими изданиями», «цензурное рассмотрение будет поручено»103 ,«чтение армянских сочинений <…> было мною возложено»104 и т.д. ЕслиПатканов подписывался просто «Патканов», Марр – «за цензора», тоДрагомирецкий более четко, с характерной для него дотошностью – «на-блюдающий за армянскими сочинениями» или «цензурующий армянскиесочинения». Это же выражение нашло место и в его формулярном списке105 .
Из сказанного следует, что часто встречающиеся выражения «цензорармянских сочинений» или «армянские цензоры», равно как и «цензорвосточных языков», относительно наемных лиц в Санкт-Петербургскомцензурном комитете являются ошибочными. Статус рассматривающихиноэтническую печать был несоизмерим со статусом лиц, занимавшихдолжность цензора, и в сравнении с ними занижен. Следовательно, чтобыбыть точным, правильнее использовать понятие «цензурующий».
Цензурованием армянских сочинений они занимались помимо основнойработы в других ведомствах.
Встречающиеся же подписи «цензор Лебедев», «цензор Пантелеев» и,возможно, имя Гончарова, упоминаемое в труде С.Г. Арешян, скореевсего, являются именами тех цензоров в штате, которым было порученокурировать работу цензурующих армянские сочинения.
Оплата цензурующих зависела не столько от выполняемой работы,сколько от статуса самого цензурующего и составляла от 200 до 1200руб. в год106 .
Круг обязанностей. В отличие от других регионов, где лица, занятыерассмотрением иноязычной печати числились при Цензурном комитетеиностранном, цензурующие армянские, восточные и финские сочинения встолице находились при Санкт-Петербургском цензурном комитете107 . В ихобязанности входило рассмотрение не только всех армянских сочинений повнутренней цензуре. В докладе Драгомирецкого 1901 г.108 по пунктам была
разобрана вся выполняемая ими работа. К цензурующему поступали всесочинения по иностранной цензуре, драматической цензуре, по Главномууправлению по делам печати, по почтовому ведомству и из Виленского иОдесского цензурных комитетов, на них было возложено и наблюдение заармянскими сочинениями на Кавказе. Сочинения приходили из Москвы,Астрахани, Нового-Нахичевана, Ростова-на-Дону, Баку. В Санкт-Петер-бургском цензурном комитете давалось разрешение на издание новогопериодического издания, новых книг и брошюр, пьес, песенников,календарей.
Взаимоотношения между цензурующими и армянскими редакторами,издателями. Вторая половина XIX в. – период расцвета культур многихнародов, в том числе армянского. Формировался новый литературный язык.Иноэтническая интеллигенция целенаправленно работала над просвещениемсвоих народов. Его представители получали образование в одних и тех жеучебных заведениях, принимали участие в одних и тех же процессахобщественной жизни. В столицу переезжала активная и образованная частьинтеллигенции, представители которой находились в постоянномвзаимодействии и оказывали друг другу взаимную поддержку. Возникалидинастии литературно-общественных деятелей.
Например, семья Патканянов создала целый культурный пласт в историиармянского народа. Благодаря немалому влиянию деятельности членов этойсемьи на культурную жизнь армян сложилась ситуация, когда новыйармянский литературный язык мог возникнуть на основе диалекта армянНового-Нахичевана, откуда происходили Патканяны. Наверное, не случайноредактором и сотрудниками первой армянской газеты «Хюсис» в Санкт-Петербурге являлись в основном члены семьи Патканян: Рафаель Патканян,Гавриил Патканян, Керопэ Патканян (Патканов), Ованнес Патканян, ВаагнПатканян, Ольга Амиди (будущая жена редактора). Здесь же в 1863 г.К.П. Патканов поместил свою статью о роли печати, в будущем ему былодоверено наблюдение за армянскими сочинениями. Редактор этой газетыприходился ему двоюродным братом, чьи стихи и произведения с 80-хгодов ХIХ в. он должен был вычеркивать из всех газет, сборников,песенников. К.П. Патканов находился в сложной ситуации. С однойстороны – цензурные требования, строгие указания, с другой стороны –литературные деятели, коллеги и друзья по общему делу, его ученики,родственные связи.
Какой представлялась роль периодических изданий К.П. Патканову?Своими соображениями по этому вопросу он делится на страницах газеты«Хюсис». Примером для подражания Патканов считал англичан. По егомнению, англичане хорошо знали достоинства своего народа, но в то жевремя они не боялись смело говорить об отрицательных явлениях вобществе: «Он (англичанин. – Ф.А.) может самую маленькую язву и самуюогромную ошибку одинаково выявить и обратить внимание всего народа напоиск средств для избавления от этих недугов <...> Он может смелоставить в известность всех, какие ошибки сделаны правительством»109 .
Наверное, этим принципам, по возможности, оставался верен КеропэПатканов, став цензурующим армянских изданий в 70–80-е годы XIX в. Ончасто получал предупреждения от цензурного комитета за невнимательное
отношение к своим обязанностям. В 1884 г. Главное управление по делампечати обратило его внимание «на необходимость особенно строгогопросмотра сочинений на армянском языке ввиду замеченных сепаратистскихтенденций, проводимых армянскими писателями в своих произведениях»110 .Об этом предписании будут напоминать Патканову вновь и вновь в 1886 и1888 гг. Начальник Главного управления по делам печати Е.М. Феоктистовуказывал на необходимость «следить с особенным вниманием занаправлением передаваемых ему на просмотр армянских изданий иотноситься к ним с особенною строгостью»111 .
Скорее всего, не понимая логики требований цензурного комитета,Патканов при малейшем подозрении запрещал произведение. Так, вызвалисомнение стихи «Посвящение» в детском сборнике, обращенные к опальномупоэту Р.Г. Патканяну из-за фраз: «раскрыло душу армянина», «пустьголос его раздастся по всей стране армянской». «Я не нахожу удобным, –писал Патканов, – дать дозволение на печатание этого посвящения,представляя Санкт-Петербургскому цензурному комитету решение кнапечатанию этого вопроса, тем более, что к посвящению приложен точныйрусский перевод»112 . Комитет не усмотрел в стихах ничего политическогои дозволил их к печати113 .
К.П. Патканов запретил распространение брошюры из Марселя простопотому, что она была выпущена издательством газеты «Армения», ввозкоторой был запрещен с 1886 г.114 За это Патканов, занятый в основномнаучной деятельностью в нескольких научных организациях (Санкт-Петербургский университет, Императорская Археологическая комиссия,Академия наук), должен был выслушать резкий тон секретаря цензурногокомитета: «Цензура может запретить к печати или к обращению в публикепроизведения печати по существу его содержания; единственноеисключение из сего правила – это недозволение к обращению сочиненийгосударственного преступника, эмигрантов, т.е. лиц, тайно покидавшихотечество <…> Сообщите Ваше заключение Комитету о степени их вредностисо стороны их содержания»115 .
Мы не согласны с мнением С.Г. Арешян, которая называет «не совсемблаговидной» роль К.П. Патканяна в запрещении брошюр о жизни болгар,которые издавали армянские студенты в Санкт-Петербурге116 . Публикации оболгарах, их борьбе против турецкого ига были запрещены цензурой,потому что в этих произведениях просматривалась аналогия с армянскойдействительностью.
Деятельность другого цензурующего – Бероева – особенно удовлетворялацензурный комитет, но не строгостью и свирепостью, а «усердием истаранием»: «Появлявшиеся в сем году на армянском языке бесцензурныекниги, долженствующие по общему правилу, быть просмотренными втрехдневный срок, без участия г. Бероева в их рассмотрении, поставилибы Комитет в немалое затруднение…»117
Как уже говорилось, цензурующими армянские сочинения, не имевшимиармянского происхождения, были магистрант Санкт-Петербургскогоуниверситета Марр и откомандированный от Министерства внутренних дел вДепартамент духовных дел иностранных исповеданий коллежский секретарь
Драгомирецкий. Нам представляется полезным сравнить деятельность этихдвух цензурующих: ученого и чиновника.
Н.Я. Марр наблюдал за армянскими изданиями с 1889 до 1897 г. Идеясовершенствования преподавания арменоведения его вдохновляла.Необходимость развития арменоведения понимали и в Императорскомуниверситете. В связи со смертью проф. Патканова в 1889 г. восточныйфакультет вынужден был отказать всем желающим поступить на отделенияармяно-грузино-персидского и санскритско-персидско-армянского языков,где армянский являлся основным языком. Декан факультета восточныхязыков в обращении к ректору университета в апреле 1891 г.признавался, «что казалось бы и вообще совершенно несогласным с честьюфакультета не иметь у себя специалиста по такому языку, на которомговорят сотни тысяч подданных России инородцев, который имеет у себябогатую литературу и на котором в пределах самой России ведутсяежедневные периодические издания»118 .
Значение исследований Кавказа, в том числе Армении и армянскогоязыка, понимали и в Академии наук, где считали, что изучение этой«любопытнейшей страны» составляет прямую задачу русских востоковедов.
Н.Я. Марр отличался свободными взглядами, честностью, добросо-вестностью, знанием дела. После долгого руководства восточнымфакультетом он запомнился преподавателям университета как «первый ипоследний декан-демократ»119 . Эти его человеческие качествапредопределили выход в свет достойных произведений литературы и наукипо арменоведению. Он сам часто принимал в этом непосредственноеучастие и печатал свои материалы, в основном рецензии, в подцензурномему журнале «Аракс» (Санкт-Петербург) и «Хандэс амсоря» (Вена).
За время занятий Марра в Санкт-Петербургском цензурном комитете встолице вышел в свет журнал «Аракс», редактором-издателем которого былС.С. Гуламирянц. Уважительное отношение друг к другу двух молодыхлюдей (в 1889 г. Марру было 25 лет, а Гуламирянцу – 32), полных сил иэнергии, с большими планами на будущее, переросло в крепкую дружбу,основанную на полном доверии и взаимопонимании. В личном архиве Маррасохранилась вырезка статьи «Памяти скромного, но полезногонационального деятеля» из газеты «Санкт-Петербургские ведомости» за1909 г.120 , посвященная Гуламирянцу в знак глубокого уважения и памятио нем.
Наверное, 32-летний Гуламирянц мог попросить 25-летнего цензурующеговыполнять маленькие частные поручения, такие, как отправка несколькихкниг в Ереван и Тифлис121 . Нередко он занимал у него деньги: «МилыйНиколай Яковлевич <…> В случае, если только можно, то просил бы чрезрассыльного – предъявителя этой записки – в письме послать шестьрублей, а в случае если располагаете – лучше одиннадцать, а если нерасполагаете, то, конечно, извините, что пришлось так Вас побеспокоитьчастными просьбами»122 .
Чтобы выиграть время и обойти цензурную волокиту, молодые людивыработали своеобразный механизм взаимоотношений. Гуламирянцудозволялось предъявлять материалы журнала в цензурный комитет вкорректурных листах. Для этого он каждый год обращался с прошением в
цензурный комитет. Материалы для журнала одновременно набирались ипроверялись с учетом цензурных требований за стенами цензурногокомитета. Часто корректуры для проверки передавались почтой или черезпосыльного. «Честный друг, – обращался Гуламирянц открытым письмом кМарру. – Прошу вернуть с моим письмоводителем прежние листы (журнала.– Ф.А.), посланные почтой – библиографию и подписать эти новые»123 . Былислучаи, когда Марр сам нес проверенные корректуры в типографию попросьбе редактора: «Присылаемую корректуру внимательно рассмотрите ипотом, если можно, поскорее доставьте в типографию для приступления кпечати пол[овины] листа, чтобы освободить шрифт ш (армянская буква«а». – Ф.А.), так как вновь полученного ш также не хватает на целыйлист. При этом захватите с собою и те сокращения, которые Вы имеете ввиду поместить вначале»124 . После окончания работы над текстом и егонабора корректурные листы предоставлялись в цензурный комитет дляформальной регистрации: «Завтра, если Вы ответите, будут отпечатаныобложки и, если поспеть представить в цензуру, затем все экземплярычерез два дня пошлю Вам на квартиру»125 . Заметим, что дружескиевзаимоотношения не переходят на фамильярность.
Надо полагать, что такой механизм работы устраивал все стороны,вовлеченные в процесс выпуска печатной продукции. За время работыМарра каких-либо цензурных претензий к нему мы не обнаружили.
Со временем Марр все больше и больше погружался в работу. «РукописьIndia Officе’a, рукопись венских Мхитаристов, рукописи Азиатскогоинститута, нескончаемые корректуры разночтений М[овсеса] Хоренского иновое дело, с которым только теперь начинаю свыкаться – преподавание,да еще ряд мелких срочных работ с цензурою совершенно лишаютвозможности вздохнуть и перекинуться словом даже с кем бы то нибыло»126 , – жаловался он в письме. К нему присылали сочинения поарменоведению и по Армении из разных инстанций: он должен был даватьрецензии Министерству народного просвещения на учебники Лазаревскогоинститута восточных языков в Москве, выполнять переводы рукописей изАзиатского департамента127 ; из Императорской Археологической комиссии кнему поступали на заключение документы о необходимости сохраненияисторических памятников на Кавказе128 ; к нему переправляли сочинения,относящиеся к Армении и Грузии, из Академии наук после смертиакадемика М.И. Броссе129 .
Нельзя сказать, что цензура была для Марра нежелательнойдополнительной нагрузкой. Она давала ему преимущество быть в курсесамых последних научных достижений в области арменоведения: он знал,какие книги, статьи, учебники вышли в свет, какие отзывы они получилив периодике, какие перспективы наметились в этой отрасливостоковедения, а также, что было немаловажно, он получалдополнительный материал для магистерской диссертации. Это было полезнои для преподавательской деятельности, так как можно было внести всписок литературы издания, только что прошедшие цензуру. «Недавно яполучил по цензуре добавление Х. Иоан[несова] к словарю к Егише <…>Хорошо, если успеют отпечатать за лето: я уже назначил своим
слушателям издание Х. Иоан[несова] c этим добавлением на предстоящийсеместр», – писал он в 1893 г.130
Из журналов и газет и через их редакции Марр получал полнуюинформацию о существующих рукописях на армянском. В 1891 г. черездекана факультета восточных языков ему переслали из Вены рукописьсборника басен «Воскепорик», о котором он узнал из представленного вцензурный комитет армянского журнала «Хандэс амсоря»131 .
Из письма Гуламирянца: «Профессор Н. Марр и как человек так любящийармян, и как арменист и поборник армянского языка, незаменим. В нашибедственные дни существование такой личности должно быть достойно намиоценено. Характером крайне скромный, душой безмерно приятный. Дай Богтаким исключительным личностям успехов и здоровья, чтобы как маяк онипредстали в вопросах нравственных и идеологических повсюду ивсегда»132 .
Марр редко выражал свои мысли в записных книжках, которые имели восновном деловой характер: записи в них связаны с работой наддиссертацией или очередной археологической экспедицией. Но бывалислучаи, когда он, чтобы освободиться от будоражащих ум мыслей, доверялих бумаге. Нами обнаружены две записи на русском языке, относящиеся кцензурным делам и указывающие на его крайнюю эмоциональнуювозбужденность. «Второй случай по цензуре (первый с “Ардзаганк”), –пишет Марр в записной книжке в 1891 г. – 2 июля ко мне препроводилидля заключения заявление неизвестного лица, говоря проще – донос, вГлавное правление по делам печати. [Инкриминированная] статья –критика книги Арист[акеса] Седракяна, написанная Арамяном (“Нор-Дар”,1891, № 94 etc.). Я готовлю оправдательный, в пользу “Нор-Дара”доклад. – И добавляет на полях: – Донос сей, как всякий, лжив игнусен. Предписано приготовить доклад для министра в 12 ч. 4 июля»133 .
Черновик доклада Марра в цензурный комитет, состоящий из пятизаполненных листов, где с трудом разбираются фразы из-за многократныхисправлений, показывает, как тщательно Марр подвергал анализу ситуациюи подбирал слова: «Честь имею доложить, что заявление неизвестноголица об армянской газете “Нор-Дар” <…> в существенной своей частилишено всякого основания. Оно представляет в ложном свете содержаниеинкриминируемой статьи армянской газеты “Нор-Дар” и напраснонабрасывает неблагоприятную тень на тифлисского цензора армянскихизданий…»134
Нам пока неизвестны результат и реакция министра на этот доклад. ВРГИА обнаружено только приглашение Марра к начальнику Главногоуправления135 . Но после этого инцидента в цензурных делах нет недоверияк его занятиям по цензурному ведомству. Он продолжал цензуроватьармянские сочинения до 1897 г. и, вернув непросмотренные работы,отказавшись от полагающегося вознаграждения за последний месяц,уволился, так как научные занятия не оставляли времени длясвоевременного исполнения этих обязанностей136 . До закрытия цензурныхучреждений в 1917 г. от цензурного комитета, от Министерствавнутренних дел к Марру поступали различные документы для перевода изаключения137 .
Отношение Марра к прессе было весьма снисходительным. В конце XIX в.никто уже не питал иллюзий по поводу высоких моральных и нравственныхидей, которые должна была привнести в общество периодическая печать:«Многоуважаемый Леон Зармайрович… – утешал Марр своего московскогодруга, – если гнаться за всеми невежественными искажениями газетныхрепортеров, то жизни не хватило бы на их исправление, и, в концеконцов, ни к чему не приведет. Если это так (таково, по крайней мере,мое убеждение) по отношению к русским газетам, то что говорить обармянской прессе, находящейся, к сожалению, в еще более худшихусловиях»138 .
Трагические события в Турции взбудоражили умы армянского населения.Для сохранения спокойствия в стране максимально удерживаласьинформация, поступающая извне. Цензура была особенно тщательной,изменился характер изданий. Если в 1889 г. при назначении Марраматериалы отклонялись редко, часто из-за нелепого содержания, то вконце его цензурования увеличилось их количество и обостриласьпроблематика.
Отзывы Марра отличались сдержанностью, отсутствием эмоциональнойнагрузки. В начале своих занятий в Цензурном комитете он старался датьмаксимально полную информацию о вопросе, чтобы Комитет мог вынестиобъективное решение. Далее Цензурный комитет доверил ему вынесениерешения и только в редких, трудных случаях брал ответственность насебя. Марр тщательно анализировал текст, составлял подробные рецензиина издаваемые книги. Между тем дружба с авторами и редакторами немешала ему соблюдать цензурные требования и при необходимости даватьотрицательную оценку: «…Посланные мне шесть корректуры для армянскогосборника “Аракс” просмотрены мною, и заключающиеся в них статьи могутбыть дозволены к напечатанию, за исключением стихотворения “Антергерезман” (“Беззащитная могила”)»139 .
Цензура армянских сочинений составляла лишь незначительный фрагментв бурной жизни Марра и не упоминалась среди значимых фактов егобиографии. «Николай Яковлевич Марр – одна из самых заметных фигур всоветской науке. На его плечах, кроме Публичной библиотеки, былиГосударственная Академия истории материальной культуры, Историко-лингвистический институт национальностей при ЦИК СССР, Кавказскийисторико-археологический институт, Институт по изучению этнических инациональных культур народов Востока СССР, Институт сравнительногоизучения литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ), ЛенинградскийИнститут живых восточных языков и др.»140 , – пишет современный биографМарра О.Д. Голубева. Мы хотели бы добавить, что Марр стал известнымученым не в советский период. К 1917 г. он уже был академиком Академиинаук (1912 г.) и за достижения в науке был награжден орденами Св.Станислава 2-й ст., Св. Анны 2-й ст., Св. Владимира 3-й и 4-й ст. исветлобронзовой медалью для ношения на груди, в память 300-летияЦарствования Дома Романовых141 .
Василий Степанович Драгомирецкий – одна из одиозных фигур в историиармянской цензуры. Из его биографии нам известно, что он попроисхождению из дворян. Окончил курс в специальных классах
Лазаревского института восточных языков с правом на чин XII класса.Благодаря усердию и ревностному отношению к своим должностнымобязанностям он сделал неплохую карьеру, начав от простого служащегоДепартамента духовных дел иностранных исповеданий МВД с 1890 г. довице-директора того же департамента в 1915 г. Но эта его деятельностьбыла малоизвестна широкой общественности. Драгомирецкий занималсяжурналистикой, и его знали в обществе в основном как журналиста,редактора, издателя ежемесячного журнала «Галицко-русский вестник»(1894–1896 гг., далее «Русская беседа») и ежедневной газеты «Русь»(1897)142 . Кроме армянского, он знал турецкий и арабский языки143 .
Сохранившийся архивный документ об одном биографическом факте изжизни Драгомирецкого дает нам возможность дополнить и раскрыть еголичностные качества, показывающие, что он был не самым лучшимпредставителем своего круга. Дело было связано со скандалом вокругматериала в газете «Сын Отечества» за 1897 г.144
В сентябре в газете «Сын Отечества» (№ 261) в рубрике «Судебнаяхроника» проходит информация о завершении дела в Правительствующемсенате по обвинению В.С. Драгомирецкого в клевете на его прислугу. Каксообщает газета, Драгомирецкого ждала двухнедельная изоляция в домеарестуемых. К этой теме газета возвращалась в № 265, 279, 284.Заголовки заметок говорят сами за себя: «Редактор и кухарка», «Г.Василий Драгомирецкий ищет славы». «Это чуть ли не первый случайосуждения редактора за клевету не «в печати»145 , – писала с ехидствомгазета и прибавляла в следующем номере с иронией: «Чего собственнодомогается г. Драгомирецкий своими «письмами в редакцию»? Славы,исключительно славы – упрочения славы совершенных им подвигов»146 .
Обстоятельства дела таковы: Драгомирецкий отказывался оплатить своейприслуге последние три месяца работы, вернуть занятые у нее 15 руб.,кроме того, он сделал запись «клеветнического характера» в еепаспорте. Прислуга обратилась в мировой суд и съезд мировых судей, порешениям которых Драгомирецкий должен был уплатить указанные суммы, аза клевету – отсидеть определенный срок. Не согласившись с такимрешением, Драгомирецкий подал кассационную жалобу в Правительствующийсенат, но потом, испугавшись разбирательства, забрал жалобу и закончилдело мировой сделкой с прислугой.
Драгомирецкий написал опровержение в редакцию. Письмо былонапечатано, но с добавлением заметки хроникера, где указывалисьподробности делопроизводства в Сенате по этому делу. Возмущенныйобнародованием своего имени в этом свете, Драгомирецкий решил наказатьгазету, в надежде использовать свои связи и влияние в цензурномкомитете. На заседании цензурного комитета в октябре 1897 г. граф И.В.Головин докладывал о деле титулярного советника Драгомирецкого какотносящемся к частному лицу, и в просьбе к редакции напечатать еговозражения повторно было отказано. В поисках правды и защиты своегодостоинства он должен был обратиться в суд147 . Тем и закончилось этодело.
Меркантилизм Драгомирецкого проявлялся и при цензуровании армянскихсочинений. С его приходом армянские книги, периодические издания будто
бы наполнились оскорбительными суждениями, статьями, «клонящими кпотрясению существующего порядка и водворению анархии»148 ,направленными на «возбуждение среди армян неудовольствия нынешнимполитическим положением и распространение идеи независимости армян»149 .Эта фраза, возникшая из-под пера Драгомирецкого в первых отзывах,преследовала армянские издания в течение выполнения им обязанностейцензурующего.
В 1901 г. в Главное управление по делам печати поступило егодонесение об изданиях на Кавказе150 . Оно было связано с волнением вармянском обществе в связи с кончиной одного из патриархов армянскойистории и литературы Гевонда Алишана. «С первого дня по полученииизвестия о кончине этого армянина (курсив наш. – Ф.А.) кавказскиеармянские газеты “Мшак”, “Нор-Дар” и “Тараз” ежедневно, в течениепоследних трех недель, наполняют свои страницы целой массой статей, вкоторых с крайне приподнятым патриотизмом, доходящим до фанатизма,описываются последние дни Алишана151 , его высокий патриотизм,неоценимые заслуги для национального возрождения Армении,перечисляются его многочисленные патриотические сочинения, их огромноевлияние на армянский народ и т.д., – писал Драгомирецкий снегодованием. – В одном текущем году армянская печать чествовала“столетний юбилей Лазарева”, “открытие памятника тенденциозному поэтуПатканяну”, “двухсотлетие венецианских мхитаристов” и теперь “кончинуАлишана”. Каждый раз в течение трех-четырех недель усердно печатались,подобно настоящему случаю, статьи о величии Армении, о ее быломмогуществе, ее несчастной судьбе, о возрождении, поднятии патриотизмаи т.п.»152. «Хотя подобные статьи и не подходят ни под одну из статейцензурного устава, – поднимал он панику, – но систематическое появ-ление их в печати достаточно ясно свидетельствует о том, что главнаяцель этих статей возбуждать среди армян чувство фанатическогопатриотизма, скорбь за потерянную независимость, надежду навозрождение и т.п.»153 .
Аналогичное донесение поступает и в 1902 г.154
Кавказский цензурный комитет вынужден был оправдываться передГлавным управлением по делам печати и указывать на произвольноесопоставление цитат из разных газет автором записки, из-за чегосоздавалось впечатление, что цензоры Кавказского комитета допускали «вармянской прессе систематическую национальную пропаганду, которая всвою очередь вызвала, по-видимому, уже вне пределов прессы, какие-товраждебные России проявления среди армянской молодежи»155. «К сожалению,– продолжал председатель комитета М.П. Гаккель, – автор записки неуказывает когда и где имели место эти прискорбные события о стольвраждебном России настроении, ввиду чего я лишен возможностиподвергнуть обсуждению эти превратные толкования действительногоположения дел»156 . Гаккель, продолжая защищать кавказских цензоров,объяснял, что полемические приемы местных публицистов часто переходятобщепринятые в европейской прессе границы потому, что это свойственноюжному темпераменту, как у армян, так и у грузин, но не доходит до техкрайностей, о которых говорил автор записки157 .
Короткие, однотипные вердикты Драгомирецкого или ссылки на статьицензурного устава по поводу статей и газет не дают возможностисопоставить его оценки с реальностью. Но одна возможность все же есть.
В конце 1905 г. в Санкт-Петербурге выходил характерный для этоговремени литературно-сатирический журнал «Сафрич» («Цирюльник», 1906–1907 гг.). В 1907 г. между московским градоначальником и Санкт-Петербургским цензурным комитетом началась переписка. Поводом послужилпервый номер журнала. Московский градоначальник интересовалсяофициальным разрешением на выпуск этого журнала и разрешением нараспространение данного номера. Недовольство вызвали карикатуры напредставителей высшего чиновничьего сословия (К.П. Победоносцева, М.Н.Каткова и др.) 158. Драгомирецкий представил искаженный перевод текста,исходя из которого журнал расценили как революционный159.
В этом донесении Драгомирецкий указал еще на последнюю страницуномера, где был изображен разгром в городе Нахичевани, произведенный,как он информирует, «черносотенцами». В оригинале журнала нетподтекста, который указывал бы на то, что редакция обвиняет кого-то всовершении разгрома. Этот номер был дозволен к обращению. Как следуетиз донесения Драгомирецкого, при его выпуске, «отпечатанном в декабре1905 г., он не был задержан ввиду того, что все его содержаниеявилось точным повторением напечатанного в русских юмористических идругих газетах»160.
Таким образом, взаимоотношения сторон треугольника: армянскиередакции – цензурующие – цензурный комитет складывались довольносложно и неоднозначно. Изучение этих взаимоотношений объясняетопасения и настороженность правительства.
Если исходить из теории «девиации», то возможно, что возникающиеиноэтнические издания можно расценивать как некое отклонение от общих,желательных, с точки зрения правительства, групповых норм, какдополнительную «головную боль» и без того сложного внутреннего ивнешнего политического состояния страны.
Однако исторический процесс необратим. Все расширяющийся ареалраспространения печати – местной и заграничной – на территории Россииставил на повестку дня срочное решение проблемы «оценщиков». Впринципе в руках цензурующих была сосредоточена огромная власть надкультурной жизнью народов. От их личности, от их решений зависеласудьба многих произведений. Возможно, даже не подозревая об этом,возможно наоборот, чувствуя огромную ответственность или жебезграничную власть, они становились руководителями многих процессовобщественной жизни этих народов. Поэтому на эти социальные ролиназначались не случайные лица.
Главными критериями для правительства при назначении цензурующегоявлялись его отдаленность от влияния литературных процессов народов,обеспечение компетентности и «беспристрастности оценки» произведенийлитературы. Но в тех исторических условиях придерживаться этихкритериев оказалось невозможно.
Будучи вынужденным назначать наблюдающими за иноязычными сочинениямипредставителей этих же народов, правительство шло на определенный
риск, риск сговора. Впрочем, повод для такой осторожности поформальным признакам был. Опасения вызывали сложившиеся близкиеотношения между людьми, занятыми общим делом: изучением и развитиемкультуры своего народа. С другой стороны, назначение чиновников былочревато предвзятым отношением, непониманием культуры и ценностнойиерархии другого этноса. Происходила смена внутреннего субъективноговзгляда на внешний взгляд, нередко отличавшийся стереотипами.
Оценка деятельности редакторов и издателей, а также самих изданий иокончательное решение зависели от эрудиции и мировоззрения «оценщика»– цензора, как в случаях Марра и Драгомирецкого. Свою роль онипонимали по-разному, что отражалось и в подходах к иноэтническойпрессе, принимающих две формы: культурный релятивизм и этноцентризм.Широта мировоззрения, эрудиция позволяли одному согласовыватьтребования властей с этнической культурой, другому же был не понятенязык иной культуры, соответственно его оценки носили явный отпечатокстереотипов, субъективизма, усердной осторожности. Немалую роль игралои такое личное качество цензурующего, как желание особо выделитьсяперед начальством.
Критерии оценки поведения изменялись как в диахронном разрезеистории, так и в синхронном. На решения цензурующих накладывалиотпечаток исторический контекст (релятивность), национальнаявнутренняя и внешняя политика страны, когда изменялись и критерииоценки. Не существовало всеобщего согласия. Использование статейустава о печати на микроуровне получало субъективное отражение.
Эти обстоятельства нередко играли определенную роль длянеобоснованных запретов материалов, закрытия периодических изданий,что сдерживало развитие журналистики иных этносов в России.
АРМЯНСКИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Разрешение издавать в столице иноэтническую печать имелогосударственную важность и являлось поводом для размышлений: стоит лидопускать выпуск такого типа газет и журналов в столице, как этоотразится на равновесии внутри страны?
Выше мы выяснили те тенденции, на основании которых в Санкт-Петербурге возникла армянская община. Для понимания и объяснениясобытий важное значение имеет социальная мотивация действующих лиц.Здесь мы попытаемся найти ответ на вопрос: в чем заключалась социальнаяпотребность армянской периодической печати в Санкт-Петербурге? Какосуществлялись намерения армянских редакторов во взаимодействии свластями?
По архивным данным РГИА до 1917 г. для получения разрешения издаватьв столице армянские повременные издания поступило всего 14 прошений.Из них 9 были удовлетворены, реально выпускалось 7 изданий, о двух
других сведений о выходе в свет не встречается, 5 прошений былиотклонены161 .
Первыми, кто подал прошения, были М.З. Будагов и Р.Г. Патканян. Ихобращения в Санкт-Петербургский цензурный комитет рассматривалось по-разному, но оба интересны тем, что они положили начало выпускупериодических изданий на армянском языке в столице.
Чтобы получить разрешение на издание «Газеты политической илитературной»162 , в 1859 г. в Цензурный комитет обратился МоисейЗахарович Будагов, титулярный советник, сверхштатный чиновникПочтового ведомства. От будущего издателя-редактора требовалосьодновременно с прошением предъявить программу издания, частноеудостоверение трех «заслуживающих доверие лиц»163 о литературных иредакторских способностях просителя и копию формулярного списка ослужбе.
Функции Санкт-Петербургского цензурного комитета и Главногоуправления цензуры были распределены таким образом, что Цензурныйкомитет имел отношения только с автором. Комитет принимал необходимыедокументы в соответствии с принятыми нормативами по делопроизводству,открывал дело по каждому прошению и представлял ходатайство в Главноеуправление цензуры. Здесь же разворачивалась основная работа попринятию решения. Главное управление обсуждало вопрос на заседании инаправляло решение «отказать» или «разрешить» в Цензурный комитет безкаких-либо комментариев. Цензурный комитет дублировал данный ответ дляпросителя. Прошение М.З. Будагова являлось прецедентом, и Главноеуправление цензуры волновал вопрос о целесообразности издания в столи-це газеты на армянском языке, о чем был сделан запрос Кавказскомунаместнику164 . Несмотря на одобрительные отзывы, Комитет отклонилпрошение М.З. Будагова, не забыв выразить свое особое уважение ктитулярному советнику165 и ничем не объяснив причины отказа.
Автор другого прошения – Рафаель Гавриилович Патканян, будущийпопулярный армянский поэт и писатель, но тогда еще действительныйстудент166 Санкт-Петербургского университета. Выход газеты «Хюсис»(«Север». Полигисторная167 газета, 1863–1864 гг.) ознаменовал зарождениепериодики на армянском языке в столице. Об этой газете в разныевремена говорилось и писалось много: по поводу биографии редактора,выдающегося поэта, писателя Р.Г. Патканяна, по поводу роли газеты вформировании армянской педагогической мысли. С нашей же точки зрения,важным является то, какими соображениями руководствовался редактор,начиная издавать в столице газету, каковы были взгляды издателя впонимании роли периодических изданий, его ожидания и степень ихосуществления.
Судьба обращения Р.Г. Патканяна в Цензурный комитет в 1861 г.складывалась довольно успешно. Возможно, причиной тому были высокиецели, изложенные в прошении. Несомненно, Р.Г. Патканян был искренен,когда писал: «Главная цель этого журнала168 – познакомить армян, какживущих в России, так и вне ее пределов, с теми благодеяниями,которыми армяне пользовались и пользуются под кротким правлениеммудрых ее царей, показать им преимущественно, что армяне, ныне живущие
в России, ни при каких своих пределах не находились в томблагоденствии, в каком находятся в настоящее время. Одним словом, нашепериодическое издание должно быть непрерывною похвалою второго моегоОтечества – России»169 .
Возможно, успеху содействовало свидетельство за подписью трех видныхв армянских кругах частных лиц: действительного статского советникаА.Худобашева, штабс-ротмистра и кавалера Шамшева и статского советникаЛ.З. Будагова170 .
Но скорее всего положительному решению этого дела способствовал членГлавного управления цензуры И.Д. Делянов, сделав то, что ему неудалось осуществить, будучи председателем Петербургского Цензурногокомитета в 1859 г. Тогда посредничество Комитета по прошению М.З.Будагова провалилось. Несмотря на то, что Р.Г. Патканян получилразрешение на издание по тем временам достаточно быстро – в течение1,5 месяцев171, добиться этого, как показывают дальнейшие события, былонелегко.
Представленная Патканяном программа отличалась своей разностороннейи прогрессивной тематикой. Издатель-редактор предполагал разделитьгазету на два отдела. Первый отдел – официальный, где должны былипомещаться Высочайшие манифесты, указы, вести из политической жизниРоссии. Второй отдел – историко-художественный, с материалами поистории России, по описанию путешествий, с различными сведениями погеологии, топографии, статистике, географии, экономике, этнографии, атакже беллетристика, фельетоны. Сюда входили и корреспонденции, крити-ческие статьи, полемика с «иноземными армянами».
С самого начала издания обнаружились противоречия между намерениямииздателя-редактора и требованиями Цензурного комитета. Отдел политикибыл предусмотрительно вычеркнут из программы172 . Патканян не мог знатьо строгом запрете на публикацию правительственных указов и законов.Еще в 1820 г. министром внутренних дел и народного просвещенияГолицыным было предписано попечителю Санкт-Петербургского учебногоокруга следующее: «…За нужное признаю подтвердить оному цензурномукомитету, чтоб впредь сам собою <…> какому-либо частному лицу нанапечатание Законов дозволение от Правительствующего Сената не давални под каким видом одобрение, ни согласие сего к изданию в печатьЗаконов, ни вообще, ни по частям…»173 Правительству был неугоден иотдел Святцев, освещающий русские и армянские праздники. Этот отделтакже был вычеркнут из программы. Рекламы и объявления предписывалосьпечатать только на армянском языке.
Такие требования существовали не только для изданий на армянском илина языках других народов России. Тогда же, в 1862 г., в Цензурныйкомитет обратились два англичанина с просьбой издавать английскийжурнал «The Nevsky Magazine» («Невский сборник»). Издатели-редакторы«обязываются избегать политики и рассуждений о религии»174 , – читаем впереводе Программы сборника в архивных делах РГИА.
Не успев «обзавестись типографическими снарядами» и выпустить первыйномер газеты своевременно, в течение 6 месяцев, Патканян – за этовремя ставший кандидатом175 – обращается в Цензурный комитет вторично –
в октябре 1862 г.176 На этот раз, несмотря на согласие III отделения,министр внутренних дел «признал неудобным дозволить кандидату РафаилуПатканяну основать в Санкт-Петербурге газету на армянском языке, подназванием “Хюсис” (“Север”), впредь до постановления новых правилотносительно повременных изданий»177 .
В этом затянувшемся деле последнюю точку поставил директорДепартамента духовных дел иностранных исповеданий граф Э.К. Сиверс.Осознавая важность и политическую целесообразность развития в Россииармянских изданий, он положительно отозвался на третье обращениеПатканяна178 . Получив разрешение в конце июня, Патканян обязался«подпискою о безусловном подчинении сего издания обратному действиютех постановлений, которые изданы будут касательно повременных изданийи книгопечатания вообще» 179 .
Как осуществились намерения редактора-издателя? Какой представляласьроль периодических изданий Р.Г. Патканяну?
Справка. «Хюсис» – еженедельная газета, от одного до полутора листовсредней величины in quarto, выходила каждую субботу. Стоила газета 10-6,5 руб. в год. Оформление простое, аналогично русским газетам тоговремени. Встречаются иллюстрации. Полоса газеты состояла из трехколонок. На первой странице объявлялось содержание. Статьи следовалиодна за другой, между ними – короткая черта. Использовались шрифты:миттель, цицеро, петит, нонпарель. Часто заголовки и подзаголовки неотличались по оформлению. Нумерация страниц была сквозная, спродолжением из одного номера в другой. Язык – «гражданский» армянский,смешанный с древнеармянскими словами, фразами, оборотами. Текстов нарусском практически нет.
В первых трех номерах газеты редакция обратилась к читателям состатьей «Несколько слов об издании газеты», где были изложены пони-мание социальной, политической функций газеты и способ привлеченияаудитории. Редакция «Хюсиса» отлично понимала, что ее дело –политические вести, а литература и искусство – это область изучениядля журналов и альманахов: «Народу интересно узнать сообщения о себе идревние, и современные. Надо только хорошо понимать свое время <…>Если знать дух народа, по-настоящему узнать его нужды, потребности игазетой удовлетворить его желания, будь уверен, что количествоподписчиков увеличится с каждым днем»180 . В этот период многимиидеализировался английский образ общественной жизни181 . Для армянскогоредактора также образцом прессы являлась английская печать: «Он(англичанин. – А.Ф.) создает новую страну, смешивается с чужиминациями, но всегда старается сохранить чистой свою национальность ивластвовать морально над другими нациями. С другой стороны, ни однанация на лице земли так свободно и смело во все слышание не критикуетнедостатки своего народа и правительства, как он»182. Начиная издаватьгазету, редакция сознавала, что только наполненными печатнымистраницами невозможно завоевать уважение читателя.
Отношение редактора к публицистике, критике современных событий иявлений, общественно-политических и культурных деятелей особеннопроявилось в седьмом номере газеты, где он отвечал анонимному авторустатьи «Осуждение», направленной против кавказских газет «Крунк»
(«Журавль») и «Мегу Айастани» («Пчела Армении»). Р.Г. Патканян –сторонник открытых выступлений: «Доброжелательный автор захотел скрытьсвое имя, а значит и <...> отвлечь ответственность от себя <...>Газета не арена для сведения личных счетов. Похвалив достойныйпредмет, нет необходимости тратить время на злословие, так как дурноесамо по себе является дурным, и все могут заметить это. Захотевхвалить луну, не стоит враждовать с солнцем»183 . «Пускай осуждениеукажет на светлые стороны плодотворной и общественно полезнойдеятельности писателей»184 , – продолжал Патканян. Несмотря на трудностипривлечения читателя, газета не прибегала к дешевым методам созданиясенсаций и скандалов. В противоположность кавказским изданиям, настраницах газеты не встречаются неэтические высказывания по отношениюк издателям-коллегам и известным деятелям своего времени. Критикаотрицательных сторон социальной жизни в «Хюсисе» находила место вредких фельетонах, притчах, баснях.
Уже через несколько месяцев после выхода в свет газеты, в марте1864 г., редактор-издатель обратился в Цензурный комитет с просьбой одозволении дополнить данную программу «Хюсиса» политическим отделом.Читатели упрекали редактора за то, что, издаваясь в столице, почти вцентре образованного мира, газета не знакомила соотечественников сважнейшими событиями просвещенных государств и судьбами их народов,пренебрегая таким разделом периодического издания, как политика185. Наэто прошение согласия г-на министра внутренних дел не последовало186.Повторное обращение имело место еще через несколько месяцев. На этотраз Патканян обязался вести отдел политических происшествий«буквальным переводом из “Северной почты”», официальной газетыМинистерства внутренних дел187. На это последовал очередной отказ188.
Не имея возможности высказаться о событиях, волнующих общество,Патканян уделял много внимания культурным событиям, театрам, проблемамвоспитания молодежи и национального образования, историческим темамвремен принятия христианства армянами. Репортаж из Нового-Нахичеваня(Ростов-на-Дону) освещал прибытие наследника Николая Александровича иимператрицы Марии Александровны в этот город.
Газета уделяла особое внимание размышлениям о тревожных явленияхсреди армянской общественности. Это, в частности, вопросы, связанные сролью армянского купечества и положением армян в Турции и России. Напримере польской армянской колонии делались попытки проанализироватьпроблемы, связанные с ассимиляцией и выявлением причин исчезновениякрупных армянских колоний. Не остались в стороне и темы положенияженщин в обществе, эмансипации женщин. В этом вопросе газетапридерживалась взглядов просвещенного консерватизма.
Среди литературных, исторических материалов из армянскойдействительности находит место и статья о Наполеоне и французскойреволюции, возможно, как пример героизма и свободы.
Основные жанры газеты – статья, очерк. Печатались и стихи, басни,поэмы. Особый интерес для современников представляли переводы ОльгиАмиды: «Путешествие Виктора Ланглуа в 1863 г.» с французского, «Мрак
последнего мира Лорда Байрона» с английского, «Мировая история» снемецкого языков.
Аудитория «Хюсиса», судя по опубликованным материалам, – это армяне,проживающие во всех концах света. Но материалы и корреспонденции,проливающие свет на события в Астрахани и Новом-Нахичевани, придаютгазете оттенок астраханского периодического издания. А вот жизньармянской общины в Санкт-Петербурге, где собственно печаталась газета,не находила своего отражения на ее полосах.
Несмотря на труды редактора-издателя и основных авторов – семьиПатканян, редакция все же не смогла использовать те возможности,которые давала программа. Все содержание газеты замыкалось в 5 – 10заглавиях. Эти статьи, очерки, переводы, поэмы, и сейчас не потерявшиеинтереса для исследователя, по частям продолжали кочевать с одноговыпуска в другой, занимая целые полосы в трех, четырех, пяти номерах,делали чтение скучным, утомительным. Отсутствие рекламных объявленийухудшало материальное состояние издателя. Внимательное отношение ктехнической редакции вначале, относительно чистая печать сменяютсявпоследствии небрежностью: часто встречаются корректурные ошибки –повтор букв, слогов, пропуски букв даже в заголовках, буквыперевернутые, разные шрифты в одном слове, перестает печататьсяуказатель содержания.
Несколько размытая формулировка цели и неопределенность аудитории,противоречия, возникшие между пониманием функций газеты со стороныредакции и требованиями Цензурного комитета, приводят газету в упадок.Мечта издателя-редактора стать глашатаем современных событий неосуществилась. Полосы издания стали наполняться литературно-художественными и историческими статьями, очерками, чем выполняласьтолько одна функция газеты – просветительская. Через год, в 1864 г.,«Хюсис» прекратил свое существование, а издатель-редактор оставилСанкт-Петербург и уехал в родной Новый-Нахичевань189 . Оценка работыредакции современниками-специалистами XIX в. строга: «В период за1864–1869 гг. в нашей журналистике появляются новые периодическиеиздания <…> в Петербурге – “Хюсис”, как видим, без особого блеска»190.
Несмотря на короткое существование, газета «Хюсис» – первое в Санкт-Петербурге периодическое издание на армянском языке, что определило ееместо в истории армянской печати.
Последующие лица, обратившиеся в Цензурный комитет, чтобы издаватьармянскую периодику в столице в конце XIX в., также преследоваливысокие цели. Во-первых, это желание распространить русскую литературусреди армян: «…Наличные литературные средства совершенно недостаточныдля удовлетворения этой духовной потребности, богатая же русскаялитература недоступна большинству армян по недостаточному знанию имирусского языка...»191. Во-вторых, это – качественное превосходствостоличного издания: «Мой журнал относительно легче, чем другие органы,может заручиться сотрудничеством лиц, наиболее компетентных»192. И в-третьих – замена широко распространенной заграничной армянской печатиизданиями, выходившими в России193. Но исторические и политические
условия ставят под сомнение, со стороны властей, дозволение армянскихгазет и журналов в столице.
В этот период формируется своеобразный шаблон-решение Цензурногокомитета для отказа в любых изданиях, независимо от положительногоотношения других важных инстанций: «Издание в Санкт-Петербургепериодических органов печати, предназначаемых главным образом краспространению на окраинах, представляется совершенно нежелательным,так как цензурование их составило бы большие затруднения длястоличного цензурного комитета, не знакомого с местными условиямижизни. Кроме того, замечено, что в подобных органах печати,издававшихся в Санкт-Петербурге, обыкновенно помещались такого родастатьи и известия, которые в газетах и журналах, выходящих на окраине,не дозволялись цензурою по местным условиям»194.
Такой ответ следует в 1900 г. на запрос о ежемесячном журнале «Кьянк»(«Жизнь») общественно-литературного направления195. «Не подлежащимудовлетворению» оказался и запрос на издание научного журнала«Гитутюн» («Знание») в 1902 г.196 по причине затруднительностицензурования для столичных цензоров. В программе этого журналауказывались статьи по естествознанию, географии, медицине, педагогике,искусству. В 1905 г. не оправдались надежды и будущих издателя иредактора на издание чисто семейного журнала типа «Нива», «Циацан»(«Радуга»)197 .
Справка. На основании перечня документальных материалов РГИА по теме«История Азербайджана» по отделу о повременных изданиях на русском,армянском и азербайджанском языках с 1841 по 1913 г. выявленаследующая статистика: разрешенные издания – 5; отклоненные ходатайства– 40, из них: на азербайджанском – 9, армянском – 10, без указанияязыка – 21; без указания решения Цензурного комитета – 6. МотивЦензурного комитета для отказа армянских изданий на Кавказе: «Всуществовании новых повременных изданий на армянском языкенеобходимости нет, так как и существующие ныне издания едва находятдостаточное число подписчиков» или «чрезмерное развитие армянскойпрессы может содействовать нежелательному национальному обособлениюармян от остальной части кавказского населения» 198 .
Возникновение шаблон-решений для столичных изданий, о которомговорилось выше, было вызвано, как нам кажется, инцидентом, связаннымс выпуском в Санкт-Петербурге очередного номера полугодичного журнала«Аракс» (1887–1898)199 .
Желая ускорить выход номера журнала, который был задержан на полторамесяца в связи с уходом исправлявшего обязанности армянского цензора,издатель-редактор С.С. Гуламирянц в феврале 1897 г. обратился вГлавное управление по делам печати с просьбой о назначении цензора200 .Главное управление направило готовые корректурные листы в Кавказскийцензурный комитет.
Между кавказским старшим цензором и издателем-редактором возник спорпо поводу запрещения одного рассказа, объемом в два с половинойпечатных листа. Задержание целого рассказа цензор Кишмишев обосновалсвоими предположениями о продолжении, какое может иметь такой рассказ
в будущем: «…Автор, судя по ходу рассказа, имеет намерение довестисвое повествование до последних событий в Сасуне, Муше и Битлисе,печатание которых не допускается Кавказским цензурным комитетом в силуособых распоряжений»201.
С.С. Гуламирянц, чтобы опровергнуть наличие в тексте рассказаописания указанных событий и показать необоснованность этихпредположений, представляет в Главное управление по делам печати общийперевод этого, по его словам, «невинного рассказа», с просьбойпечатать рассказ «в целости или в крайнем случае лишь с такимиисключениями, чтобы от них не пострадала целость очерка»202. Нокавказский цензор непоколебим: «Судя по началу, очерк будет заключатьв себе ряд картин тех зверств, какие были учинены курдами надтурецкими армянами <…> Что автор очерка желает представить ряд этихсцен и картин, видно из его предисловия…»203 К запрету рассказа цензорКишмишев прибавляет еще одну статью204 .
Этот номер журнала получил окончательное дозволение со стороныцензуры только в октябре 1897 г.205
После Октябрьского манифеста 1905 г. процедура получения разрешенияна издание газет и журналов была упрощена. Можно было оформитьразрешение на издание новой периодики в течение 10 дней. Произошлиизменения в программе: появились такие отделы, как правительственныераспоряжения, обзор печати, хроника русская и иностранная, статьи израбочего быта206. Но по неизвестным нам причинам не всезарегистрированные издания увидели свет.
Кроме «Хюсиса» до утверждения Советской власти в Санкт-Петербургеиздавались еще журналы «Аракс», «Манкаваржаноц», «Банбер граканутян еварвести», «Сафрич», «Арцункнер», «Шохер».
Журнал «Манкаваржаноц» («Учительская школа», 1884–1887 гг.) случайнопоявился в Санкт-Петербурге в связи с назначением в 1887 г. редактора-издателя викарием местной армянской религиозной общины207 .
Сан архимандрита не позволял Хорену Степанэ (Степан АрутюновичСтепанян, 1840–1900 гг.) издавать журнал периодично, своевременно. Онвынужден был перевозить его по разным городам в связи со своими новыминазначениями. Но и в Петербурге журналу не суждено было продолжитьсуществование. Вышло в свет всего лишь два номера.
Благодаря своим «влиятельным и своеобразным противникам», скореевсего членам Эчмиадзинского синода, «почетным прихожанам» армянскойцеркви, архимандрит был известен в Департаменте духовных делиностранных исповеданий «строптивым» характером, а его предыдущийжурнал «Айкакан ашхар» («Армянский мир») – как отличавшийсясепаратизмом208 . Хорен Степанэ вынужден был уехать из Санкт-Петербургав крымский монастырь и прекратить издательскую деятельность.
По словам Ю.А. Веселовского, Хорен Степанэ «всегда оставался побор-ником здравых взглядов на призвание идеального педагога и задачивоспитания и продолжал содействовать их популяризации в армянскойсреде»209. Проблемами педагогики, воспитания, образования были озабоченымногие армянские общественные деятели, и эти темы постояннообсуждались на страницах армянских газет и журналов независимо от их
направления. Архимандрит Хорен Степанэ был первым в России, ктопредпринял издание специального армянского педагогического журнала«Айкакан ашхар» («Армянский мир») в 1864 г. в Тифлисе.
Хорен Степанэ не был посторонним наблюдателем и теоретиком. Онактивно занимался педагогической деятельностью в известныхнациональных и казенных учебных заведениях или в новых школах,открытых им же. Журнал «Манкаваржаноц» выходил по той же программе,что и его предшественник «Айкакан ашхар». Издатель-редактор видел цельсвоих изданий в распространении в армянском обществе полезного чтениярелигиозно-педагогического направления, в развитии нового армянскогоязыка и в сообщении читателям общеполезных научных сведений210. «Начинаясвятое дело образования наших детей, мы должны знать, что нашесобственное образование было совсем неудовлетворительно, егопоследствия вообще очень печальны и бедственны, и мы должны вложитьвсе усилия, чтобы сделать наших детей людьми, превосходящими нас»211 , –писал редактор в 1884 г. Девиз журнала: «Мы выполняем свой долг,остальное – суета».
И он выполнял свой долг со всем усердием. Здесь взгляд редактора также направлен на принципы управления и
методы образования и воспитания в европейских школах. Х. Степанэсчитал «любовь к родине, уважение к закону, чувство общественногообязательства»212 основными моментами в воспитании. Его привлекалиоформление школ дидактическими картинами, уроки физкультуры, такиепредметы, которые не были приняты в армянских школах. Много места вжурнале он уделял дидактическим материалам, учебным программам,статистическим данным, а также практическим советам армянскимучителям. Редактор знакомил читателей с опытом немецкой, французскойпедагогики, с произведениями Руссо, Песталоцци и др. В петербургскомсборнике нашли место статьи о печальном состоянии образования вармянских колониях в Индии, Бирме, Трапезунде, Константинополе.Особенно беспокоила его миссионерская деятельность протестантскихшкол, число которых среди киликийских армян увеличивалось с каждымгодом.
Хорен Степанэ тщательно заботился о чистоте языка и корректурежурнала, чем он выгодно отличался от многих кавказских армянскихизданий. Редактор был автором новых правил правописания, некоторые изкоторых, осужденные в свое время, стали общепринятыми позже.
Один из недостатков подхода редактора к периодическому изданию,замеченный современниками, заключался в том, что, издаваясь в разныхгородах (Шуше, Тифлисе, Баку, Ахалкалаке, Ахалцихе, Вагаршапате,Астрахани), журнал не отражал современную жизнь армян в еесамобытности213 . По нашей оценке, этот упрек несправедлив, так какредактор не ставил перед собой таких целей. Программу журнала онвыполнял с большим усердием. Впрочем, он не обижался на критику:«Хотите критиковать? Более чем рады <…> Наши программы могут иметьнедостатки, мы выполнили наш долг так, как мы его видим и понимаем»214 .
«Банбер граканутян ев арвести» («Вестник литературы и искусства», 1903–1904 гг.) – полугодичный литературно-художественный журнал.
Бурные споры о языке, начавшиеся в XIX в., еще продолжались в новомвеке. Нет изданий, которые остались бы в стороне от этих споров и непытались бы экспериментировать на основе лингвистических правил.«Банбер…» также подключился к этому общенародному спору. Он подвергкритике состояние литературного языка, особенно тех литераторов,которые ради популярности снижали стиль до уровня «абсолютнойбедности, бездарного просторечия». Для редактора язык – величайшеесоздание человека215. И если что-то можно сделать для блага народа, толишь в области правописания, заявляет журнал. Если первый номер вышелна новом литературном языке, но с учетом старого правописания, то вовтором номере редакция ввела и новое правописание, обращаясь кчитателям с просьбой отнестись к этому нововведению с пониманием ипреодолеть старые стереотипы. Будущее доказало правоту ипроницательность редактора.
«Банбер…» – это два изящных тома, где были представлены современныенаправления армянской литературы: символизм, романтизм, реализм.Периодическое издание в своем эпическом, поэтическом, теоретическом илитературно-историческом отделениях печатало произведения армянскихписателей. Эта была первая попытка сближения западно- ивосточноармянской художественных литератур. Здесь нет случайныхпроизведений. Редактор, обладая тонким художественным чутьем, подбиралсочинения Сиаманто (А.Ярчанян), В.Текеяна, А.Арпиаряна, Е.Отяна,Ав.Исаакяна, Л.Шанта, В.Папазяна, О.Туманяна и других выдающихсязападноармянских и восточноармянских поэтов, писателей. Основной мотивсочинений – нежная любовь к родине, к армянской, хоть и горькой,действительности, тоска странника, любовь. Публиковались в журнале илитературоведческие работы Н.Адонца, вызывавшие полемику средиармянской интеллигенции.
Главная черта журнала – эстетичность. Эстетичность оформления,эстетичность подбора художественных произведений, пропагандаискусства.
Художественный отдел журнала вел известный армянский художник В.Я.Суренянц. Можно предположить, что оформление обложки журнала в стилемодерн тоже принадлежало ему. В журнале публиковались живописныеработы армянских, русских и европейских художников и скульпторов:В.Суренянца, Э.Шагина, Е.Тадевосяна, Э.Махтесяна, а также В.Котарбинского, Н.П. Богданова-Бельского, Л. Бакста, О. Родена, Е.Карриера, Г. Росетти и др., которые сопровождались популярнымиобъяснениями.
Это профессиональный журнал искусства, что существенно отличало егоот иллюстрированного журнала. Здесь не печатались портреты видныхдеятелей или пейзажи с монастырями ради исторической летописи. Авторывидели цель этого отдела в популяризации произведений известныхлитераторов и художников.
Несмотря на восторженные и одобрительные отзывы современников,редакция выпустила всего два номера – в 1903 и 1904 гг. Причинойприостановления журнала традиционно считаются материальные трудности,но доказательств этому не встречается. В 1904 г. редакция получила
письмо от петербургского жителя Григора Аристакесяна, где автор письмабрал на себя финансовые расходы по изданию «Банбер…». В своем ответередактор Н.Адонц, выражая благодарность меценату, упоминает осуществовании, кроме материальных, еще несколько условий, послеустранения которых было бы возможно продолжить беспрерывное изданиежурнала. Этот второй номер оказался последним.
В прекращении существования этого литературно-искусствоведческогожурнала мы не усматриваем цензурных препятствий. Возможно, занятостьредактора Н. Адонца научными исследованиями в университете стала томупричиной.
«Сафрич» («Цирюльник», 1905–1906 гг.) – литературно-сатирическийиллюстрированный журнал, выпускался в 1906–1907 гг.216, вышло в светвсего 12 номеров. Выход армянского сатирического журнала не вызываетудивления, так как это было характерное явление для периода послеОктябрьского манифеста 1905 г. Способствовали этому и новые Правила оповременных изданиях. Тем же можно объяснить и выход статей,удивляющих своей смелостью, и последующие цензурные преследованияжурнала, приведшие его в упадок: «Так как в настоящее время издание“Сафрич” встречает много препятствий в связи с его программой инаправлением, мы вынуждены бываем иногда полностью изменить и рисункии статьи, поэтому номера журнала не выходят своевременно»217 .
Журнал пользовался большой популярностью в России и за рубежом. Ужев 6-м номере появился огромный список денежных пожертвований журналу.Для привлечения аудитории редакция объявляла премии подписчикам –фотографии известных писателей, духовных деятелей. Платила запредоставленные неординарные материалы, например за номера журнала«Порц» с маргиналиями католикоса об армянских деятелях.
Программой журнала были предусмотрены фельетоны, сообщения изобщественной и обыденной жизни, письма и телеграммы «черезСатаэловское агентство загробной жизни» и юмористическо-сатирическиеобъявления218 .
Редакция была намерена как дополнить типологию армянскойпериодической печати новым юмористическо-сатирическим изданием, так иосвещать перед судом общественности темные стороны текущей жизни.Журнал «смеется» над методами правления стоящих у власти на Кавказе:«Действительно, как не насмехаться над такой властью, которойказалось, что разными репрессивными методами можно “русифицировать”народ, имеющий свое заслуживающее внимания историческое прошлое…»219
Редакция намеревалась развеять перед правительством страны ложныйобраз армянского народа, созданный прежним управлением Кавказа, образнарода-повстанца, с «анархическими настроениями и узкими националисти-ческими намерениями». «То, что Кавказ сейчас стал адом – это результатпрежней слепой политики…» – заключает редакция.
В журнале печатались фельетоны, критикующие национальную политику,выступления против произвола турецкой полиции в отношении армян(«обучающий» рисунок о способе защиты населения: полицейский, бьющийармянина), армянской резни, политики Германии на Востоке (карикатуранемецкого полицейского, указывающего путь турецкому воину).
Осуждалась также коррумпированность русских чиновников, печаталиськарикатуры на них. Один пример – «Письмо» в редакцию, не требующеекомментариев: «Обращаюсь в редакцию, будучи уверенным, что вы неотвергнете мою просьбу, помочь мне ежемесячно или единовременноопределенной суммой, потому что у меня еще остались права собрать сулиц от продавцов газет ту прессу, направление которой я буду считать“вредным” <…> Уверен, что отправите в мой адрес сумму, соответствующуюмоему званию и статусу»220 .
Высмеивались и мещанская мораль, армянское духовенство с егобезразличным отношением к нуждам народа, пристрастные действиянациональных партий (богач Оган и турок Али воспевают партию дашнаковкак спасителя221 ), наивность армянских политиков.
Журнал просуществовал лишь один год. Выполнив редакционныеобязательства перед подписчиками, издав последние четыре номера двумявыпусками, он закрылся по причине цензурного преследования в связи свыбранным им направлением.
Вышедшие позже литературно-музыкальный художественный сборник«Арцункнер» («Слезы», 1907 г.), издаваемый в пользу голодающих армян, илитературно-художественный, литературно-критический сборник «Шогер»(«Лучи», 1913 г.) отражали два состояния армянского общества. Печатаяпроизведения молодых писателей, поэтов, первый из этих сборниковоплакивал жертвы зверств в Западной Армении, второй, насыщенныйромантикой любви и философией о бытие человека, вселял надежду навозрождение и светлое будущее.
Итак, намерения инициаторов начать издательскую деятельность вСанкт-Петербурге имели патриотическую окраску. В одном случае это быложелание показать достижения своего народа в социально-политическойсфере под российским покровительством (как знак благодарности России).В другом случае – через русскую и европейскую культуру, литературуповысить художественное восприятие читателей, воспитать эстетическоечувство, а также ознакомить с высокими образцами национальнойлитературы. Аналитические материалы показывали настоящее состояниелитературы и искусства, предлагали способы его дальнейшего развития. Втретьем случае это было желание распространить образовательно-воспитательные, педагогические знания, цель которых – воспитаниечувства общественного долга, внедрение современных методовпреподавания, усовершенствование языка. В четвертом случае – этожелание обогатить типологию периодики своего народа новым направлениеми через критику отрицательных сторон жизни представить истинноесостояние своего народа, развеять ту атмосферу недоверия, котораявозникла за последние годы вследствие навешивания ярлыков (стигмы) состороны властей окраин. Кроме того, делалась попытка конкурировать сзаграничными печатными изданиями, активно внедряющимися на российскийрынок.
Столица России, находящаяся вдали от патриархальной родины,открывала большие перспективы для достижения этих целей, облегчаяпоиск компетентных авторов и давая хорошие технические возможности длявыпуска печатной продукции. Так как целевой аудиторией этой периодики
являлись соотечественники на родине и в соседних странах, то дляредакций немаловажное значение имела хорошо налаженная почтовая связь.
Однако намерения редакторов осуществились лишь частично. К изданиюиноэтнических газет и журналов в столице в Цензурном комитетеотносились осторожно и с недоверием. На решение вопроса влияли восновном политическая ситуация и происходящие изменения в Цензурномкомитете и вокруг него, как в структуре, так и в новых подходах кповременным изданиям. В конце XIX в. и особенно в начале ХХ в., впериод революционного брожения в России, цензура «убедилась» во«вредности» этих изданий, так как они не соответствовали требованиям,правильнее сказать ограничениям, установленным для окраин. Этопослужило основным мотивом отклонения Цензурным комитетом любыхпрошений независимо от направления, предлагаемого будущим издателем-редактором.
Цензурный комитет отклонял и прошения о новых изданиях на армянскомязыке, целью которых было распространение русской литературы средиармян. Правительство, недовольное развитием самой русской литературы ипрессы, опасалось ее влияния на общественную мысль народов России идаже в переводах из русской классической литературы усматривало некуюугрозу для страны. Тем самим задерживалось распространение русскойкультуры по всей территории России.
Цензурные запреты обусловили периодичность выхода изданий итематическую направленность. Вводились ограничения программы.Исключались материалы на политические и религиозные темы. Журналы,содержащие статьи аналитического, литературно-исторического жанра,всегда сохраняли информационную свежесть, давали возможность быть всогласии с цензурой, обходя острые проблемы, события современности. Посравнению с русской периодикой эти издания были малотиражными. Занятияиздательской, журналистской деятельностью не приносили дохода,редакции испытывали острую финансовую нужду. Вся тяжесть выпускалежала на издателе-редакторе, который чаще являлся и корреспондентом итехническим работником своих изданий. У этих изданий была слишкомкороткая жизнь: они угасали сразу с уходом издателя-редактора.
Иноэтнические периодические издания, выходившие в Санкт-Петербургево второй половине XIX – начале ХХ в., выполняли в итоге две функции:просветительскую и национально-воспитательную. Примером успешнойдеятельности в аналогичных условиях является журнал «Аракс»,выходивший в Санкт-Петербурге во второй половине XIX в.
Примечания 1 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Эриванская
губерния. СПб., 1905. Вып. LXXI. С. XI. 2 Библиография армянской периодической печати… / Сост. А. Киракосян. С. 14–15;
Баблоян М.А. Всеобщий библиографический каталог армянской периодической печати (1794–1980). Ереван, 1986. – В данной книге за основу взята «Библиография…», составленная А.Киракосяном. Другие каталоги по армянской периодической печати использованы какдополнительные источники. Направление изданий указывается на основании вторых названийгазет и журналов, без учета их содержания.
3 Способ печати, при котором копия рукописи переносится на особую тестообразнуюсмесь и потом размножается с ее помощью.
4 Статистика Турецкой Армении // Аракс. СПб., 1892. Кн. 1. С. 15–16. – Армянскиеисточники на основании епархиальных сведений отмечают фальсификацию этих данных.
5 Общий свод по империи результатов разработки данных первой Всеобщей переписинаселения, произведенной 28 января 1897 г. СПб, 1905. Т. 2. С. 92–133.
6 Это явление, вероятно, можно сравнить с идишем. 7 См., напр.: Степанян А. А. Библиография книг на турецком языке, написанных армянской
графикой (1727–1968). Ереван, 1985 (на арм. яз.). 8 Мюнниш Бернд. Европейцы ли турки? Ереван, 1991. С.18. 9 Соломон Л. Всеобщая история прессы… С. 180. 10 Аро Н. (Тер-Арутюнян Н.). Армянская пресса в России и на Кавказе. Тифлис, 1878. С.17
(на арм. яз.). 11 Соломон Л. Всеобщая история прессы… С. 178. 12 Мюнниш Бернд. Европейцы ли турки? С. 17. 13 Харатян А.А. Западноармянская печать и цензура в Османской Турции (1857–1908).
Ереван, 1989 (на арм. яз.). 14 Айастан. Лондон, 1890, август. № 21–22. С. 11. 15 Вилайет – крупная административно-территориальная единица в Турции. 16 Литература турецких армян // Аракс. СПб., 1893. Кн. 2. С. 113–115. 17 Библиография // Аракс. 1894–1895. Кн. 1. С. 147. 18 Там же. 19 См. табл. 3. 20 РГИА. Ф. 821. Оп. 7. 1863 г. Д. 71. Л. 2 об.–3. 21 Жирков Г.В. История цензуры в России XIX–XX в. М., 2001. С. 124. 22 Библиография армянской периодической печати… / Сост. А. Киракосян… 23 РГИА. Ф. 777. Оп. 2. 1868 г. Д. 58. 24 Там же. Оп. 3. 1886 г. Д. 21. Л. 22. 25 Айастан. Лондон, 1890, август. № 21–22. С. 10. 26 РГИА. Ф. 777. Дела о рассмотрении армянских сочинений; См. Приложение 5. 27 РГИА. Ф. 777. Оп. 3. 1881 г. Д. 2. Л. 70. 28 Там же. Оп. 4. 1891 г. Д. 18. Л. 25. 29 Там же. Л. 13. 30 Там же. Оп. 3 1881 г. Д. 2. Л. 79, 107, 110 и об., 118; Оп. 4. 1887 г. Д. 20. Л.
10, 84. 31 Там же. Оп. 3. 1881 г. Д. 2. Л. 123. 32 Там же. Оп. 4. 1887 г. Д. 20. Л.10. 33 Там же. 34 Назарян С.С. Периодическая печать Еревана (1880–1917). Ереван, 1986. С. 14. 35 Базмавэп. Венеция, 1890, январь.; Андэс амсореа. Вена, 1895, 5 мая. 36 Айастан. Лондон, 1888. 15 нояб. № 2. 37 Каринян А.Б. Очерки истории армянской периодической печати. Ереван, 1960. Т. 2. С.
451 (на арм. яз.). 38 Там же. С. 448. 39 РГИА. Ф. 772. Оп. 1. 1844 г. Д. 1707. Л. 1 об. 40 Там же. Ф. 777. Оп. 4. 1891 г. Д. 18. Л. 137. 41 Адонц Н.Г. Современная литература Западной Армении // Вестник литературы и
искусства. СПб., 1903. Кн. 1. С. 192. 42 Там же. 43 РГИА. Ф. 777. Оп. 4. 1891 г. Д. 18. Л. 18 об. 44 Там же. Л. 38.
45 Там же. Оп. 5. 1898 г. Д. 13. Л. 168, 274, 276. 46 Там же. Оп. 4. 1896 г. Д. 14. Л. 82. 47 Там же. 1887 г. Д. 20. 48 Там же. 1895 г. Д. 3. Л. 21 об. 49 Там же. 1891 г. Д. 18. Л. 69 б. 50 Там же. 1895 г. Д. 3. Л. 59. 51 См. Приложение 6. 52 РГИА. Ф. 777. Оп. 4. 1889 г. Д. 19. Л. 27. 53 Предисловие // Армянская книга. 1512–1800 гг. Ереван, 1988. С. VII. 54 Епископ Степанос Мхитарян // Аракс. 1892. Кн. 2. С. 69. 55 Булацев Х.С. Пионеры провинциальной печати… С. 4. 56 Смелзер Н. Социология… С. 203. 57 Социология журналистики… / Под ред. С.Г. Корконосенко…С. 93. 58 РГИА. Ф. 772. Оп. 1, ч. 2. 1856 г. Д. 3841. Л. 49. 59 Там же. Л. 24. 60 Сборник узаконений и распоряжений правительства по делам печати. СПб., 1878. С.
260. 61 РГИА. Ф. 821. Оп. 7. 1863 г. Д. 78. Л. 5. 62 Там же. Ф. 772. Оп. 1, ч. 2. 1856 г. Д. 3841. Л. 22. 63 Там же. Л. 52. 64 Там же. Оп. 1, ч. 1. 1828 г. Д. 64. 65 Там же. Ф. 1374. Оп. 2. 1798 г. Д. 1073. Л. 1–8. 66 Там же. Л. 8. 67 Арешян С.Г. Армянская печать... С. 20–24. 68 Там же. С. 109. 69 РГИА. Ф. 772. Оп. 1, ч. 1. 1828 г. Д. 64. Л. 3 об. 70 Там же. 1839 г. Д. 1237. Л.1. 71 Там же. 1842 г. Д. 1510. Л. 1–5. 72 Броссе М.И. – специалист по грузинской и армянской словесности, прибыл в Россию
по приглашению Академии наук в 1837 г. // Материалы для истории факультета. СПб.,1901–1909. Т. IV. С. 53–54.
73 РГИА. Ф. 772. Оп. 1, ч. 1. 1839 г. Д. 1237. Л. 2. 74 Там же. 1842 г. Д. 1510. Л. 1–5. 75 Там же. 1844 г. Д. 1707. Л. 4. 76 Там же. Л. 7. 77 Там же. 1842 г. Д. 1512. Л. 1. 78 Там же. Ф. 821. Оп. 7. 1884 г. Д. 182. Л. 44. 79 Там же. Ф. 772. Оп. 1, ч. 1. 1842 г. Д. 1510. Л. 2. 80 Там же. Ф. 1856 г. Д. 3841. Л. 1-8 об., 55; Ф. 821. Оп. 7. Д. 78. 81 См. Приложение 7. 82 ПФА РАН. Архив Н.Я. Марра. 83 Там же. Ф. 800. Оп. 2. 1891 г. Ед.хр. Б-4а. Л. 2–3 об. 84 РГИА. Ф. 777. Оп. 4. 1889 г. Д. 66. Л. 1–1 об. 85 Там же. 86 Там же. Оп. 5. 1897 г. Д. 26. Л. 9. 87 Там же. Ф. 776. Оп. 21, ч. 1. 1897 г. Д. 184. Л. 5. 88 Там же. Ф. 821. Оп. 12. 1906 г. Д. 564. Л. 4. 89 Там же. Л. 12–13. 90 Там же. Л. 16.
91 Там же. Ф. 776. Оп. 21, ч. 1. 1897 г. Д. 184. Л. 13. 92 Там же. Ф. 821. Оп. 12. 1906 г. Д. 564. Л. 6 об. 93 Там же. 94 Там же. Ф. 776. Оп. 23. 1915 г. Д. 74. Л. 3. 95 Там же. Ф. 777. Оп. 3. 1886 г. Д. 21. Л. 34; Ф. 821. Оп. 7. 1884 г. Д. 182.
Л. 33–34, 36, 37–38, 45. 96 Там же. Ф. 772. Оп. 1, ч. 2. 1856 г. Д. 3841. Л. 24. 97 ПФА РАН. Ф. 800. Оп. 2. 1890–1925 гг. Ед.хр. Б-48. Л. 1. 98 Там же. Оп. 1. 1896 г. Ед.хр. А-2996. Л. 8. 99 РГИА. Ф. 776. Оп. 21, ч. 1. 1897 г. Д. 184. Л. 1 об. 100 Там же. Оп. 11. 1872 г. Д. 67. Л. 8. 101 Там же. Л. 1 об. 102 Там же. Л. 6. 103 Там же. Оп. 12. 1883 г. Д. 78. Л. 52. 104 Там же. Ф. 777. Оп. 4. 1889 г. Д. 66. Л. 1. 105 Там же. Ф. 821. Оп. 12. 1890–1917 гг. Д. 311. 106 См. Приложение 8. 107 РГИА. Ф. 776. Оп. 20. 1879 г. Д. 96. Л. 2–3. 108 Там же. Оп. 21, ч. 1.1897 г. Д. 184. Л. 10. 109 Несколько слов об издании газет // Хюсис. 1863. № 2. С. 10–12. 110 РГИА. Ф. 777. Оп. 3. 1886 г. Д. 21. Л. 54 и об. 111 Там же. Оп.4. 1888 г. Д. 12. 112 Там же. Оп. 3. 1886 г. Д. 21. Л. 20 об. 113 Там же. Л. 22 об. 114 Там же. Л. 2. 115 Там же. Оп. 4. 1888 г. Д. 2. Л. 19 и об. 116 Арешян С.Г. Армянская печать… С. 208. 117 РГИА. Ф. 776. Оп. 4. 1868 г. Д. 203. Л. 7. 118 ПФА РАН. Ф. 800. Оп. 4. Ед.хр. Г-277б. Л. 66 об. 119 Голубева О.Д. Н.Я. Марр и публичная библиотека. Тбилиси, 1986. С. 32. 120 ПФА РАН. Ф. 800. Оп. 5: Санкт-Петербургские ведомости. 1909, № 228. См.
Приложение 9. 121 Там же. Оп. 3. Ед.хр. В-1365. Л. 2. 122 Там же. Ед.хр. В-286. Л. 3. 123 Там же. Ед.хр. В-1365. Л. 12. 124 Там же. Ед.хр. В-286. Л. 4. 125 Там же. Л. 1 и об. 126 Там же. Оп. 2. Ед.хр. Б-4а. Л. 13. 127 Там же. Оп. 4. Ед.хр. Г-23. Л. 3. 128 Там же. Л. 1. 129 Там же. Л. 2. 130 Там же. Оп. 2. Ед.хр. Б-4б. 131 Там же. Оп. 4. Ед.хр. Г-277б. Л. 72. 132 МЛИ РА. Фонд Т. Азатяна. XII отд. Д. 1188. 133 ПФА РАН. Ф. 800. Оп. 1. Ед.хр. 1991. Л. 15. 134 Там же. Ед.хр. 2145. Л. 1. 135 РГИА. Ф. 777. Оп. 4. 1891 г. Д. 18. Л. 11. 136 Там же. Оп. 5. 1897 г. Д. 26. Л. 9, 10.
137 ПФА РАН. Ф. 800. Оп. 4. 1895–1916 гг. Ед.хр. Г-23. 138 Там же. Оп. 2. 1897 г. Ед.хр. Б-7а. Л. 12. 139 РГИА. Ф. 777. Оп. 4. 1889 г. Д. 19. Л. 10. – Об отрицательных сторонах
цензурования Н.Я. Марра более подробно см.: Арешян С.Г. Армянская печать… 140 Голубева О.Д. Н.Я. Марр. СПб., 2002. С. 5–6. 141 ИИМК. Рукописный архив. Ф. 1. 1918 г. Д. 8. Л. 19–20. 142 Венгеров С.А. Источники словаря русских писателей. СПб. (Пг.), 1900–1917;
Библиография русской периодической печати, 1703-1900 / Сост. и изд. Н.М. Лисовский.Пг., 1915.
143 В дело В.С. Драгомирецкого, как нам казалось первоначально, случайно попалприказ 1907 г. по Министерству внутренних дел об увольнении в отпуск некоегоколлежского советника Драгомирецкого, старшего члена Варшавского комитета по делампечати (РГИА. Ф. 776. Оп. 21, ч. 1. 1897 г. Д. 184. Л.17). Имя или инициалы в приказене указаны. В начале ХХ в. от цензурующих потребовали представить список выходивших вСанкт-Петербурге изданий, в том числе и иноэтнических. В «Алфавите периодическихизданий, издающихся в г. Петрограде», исправленном в 1915 г., мы встречаем имяДрагомирецкого как просматривающего польские издания «Dsiennik Petrogradski» и «SprowaPolska» (РГИА. Ф. 777. Оп. 22. 1915 г. Д. 67). Казалось бы, сомнениям уже не остаетсяместа. Но дальнейшее изучение вопроса обнаружило, что в этот же период некий военныйцензор Владимир Степанович Драгомирецкий, скорее всего брат Василия Степановича,наблюдал за польскими изданиями. Наши сомнения подтвердились: приказ о старшем членеВаршавского комитета действительно ошибочно оказался в деле рассматривающего армянскиесочинения.
144 Судебная хроника // Сын Отечества. 1897, 26 сент. С. 3. 145 Там же. 1897. 30 сент. С. 1. 146 Там же. 19 окт. С.2. 147 РГИА. Ф. 777. Оп. 5. 1897 г. Д. 26. Л. 102 и об., 143–145. 148 Там же. 1902 г. Д. 184. Л. 4. 149 Там же. 1897 г. Д. 26. Л. 35. 150 Там же. Ф. 776. Оп. 12. 1883 г. Д. 78. Л. 52–55. 151 Из воспоминаний писателя П. Прошяна, выпускника школы Нерсисян в Тифлисе:
произведения Алишана «для нас были то же, что для слепого ашуга свои же песни: развемогли они забыться?» // Аракс. 1893. Кн. 2. С. 33–51.
152 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1883 г. Д. 78. Л. 52–52 об. 153 Там же. Л. 52 об.–53. 154 Там же. Л. 60–62. 155 Там же. Л. 74 об. 156 Там же. 157 Там же. Л. 75–86. 158 Там же. Ф. 777. Оп. 7. 1906 г. Д. 961. 159 См. Приложение 10. 160 РГИА. Ф. 777. Оп. 7. 1906 г. Д. 961. Л. 6. 161 См. Приложения 11 и 12. 162 РГИА. Ф. 777. Оп. 2. 1859 г. Д. 132. Л. 1. 163 Там же. Ф. 772. Оп. 1, ч.2. 1859 г. Д. 5059. Л. 7. 164 Там же. Л. 13. 165 Там же. Ф. 777. Оп. 2. 1859 г. Д. 132. Л. 3. 166 Действительный студент – звание, которое давалось студентам, отличившимся во
время обучения. 167 Полигистор – многознающий (Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А.
Ефрон…); ученый-энциклопедист (Современный словарь иностранных слов. СПб., 1994).
168 В цензурных документах чередуется тип этого издания «журнал–газета». Выходила всвет еженедельная газета. Понятие «журнал» мы оставляем только в цитатах.
169 РГИА. Ф. 777. Оп. 2. 1861 г. Д. 90. Л. 1. 170 Там же. Ф. 772. Оп. 1, ч. 2. 1861 г. Д. 5788. Л. 4. 171 Там же. Ф. 777. Оп. 2. 1861 г. Д. 90. 172 Там же. Ф. 772. Оп.1, ч.2. 1861 г. Л. 3. 173 Там же. Ф. 777. Оп. 1. 1820 г. Д. 306. Л. 2об.-3. 174 Там же. Ф. 773. Оп. 1. 1862 г. Д. 302. Л. 7. 175 Кроме двух ученых степеней – магистра (первая ученая степень) и доктора наук
(высшая ученая степень), в России с 1804 по 1884 г. существовала и степень кандидатанаук, которая присуждалась лицам, преуспевшим в овладении университетским курсом.
176 РГИА. Ф. 777. Оп. 2. 1861 г. Д. 90. Л. 7. 177 Там же. Л. 9. 178 Там же. Ф. 821. Оп. 7. 1863 г. Д. 71. Л. 2–3. 179 Там же. Ф. 777. Оп. 2. 1863 г. Д. 43. Л. 10. 180 Несколько слов // Хюсис. 1863 г. № 2. 181 См., напр.: Джабар М.А. Социальные задачи городов. Тифлис, 1910; Котович Ал.Н.
Духовная цензура в России (1799–1855 гг.). СПб., 1909. С. 197; Рез-кий Е.О. Свободапечати. М., 1917. С. 12.
182 Несколько слов // Хюсис. 1863 г. № 2. 183 Ответ // Хюсис. 1863 г. № 7. 184 Там же. 185 РГИА. Ф. 777. Оп. 2. 1863 г. Д. 43. Л. 12. 186 Там же. Л. 13. 187 Там же. Л. 14. 188 Там же. Л. 16. 189 Сагиян М. Рафаель Патканян. Ереван, 1980. С. 208–241. 190 Аро Н. (Тер-Арутюнян Н.). Армянская пресса в России... С. 58–59. 191 РГИА. Ф. 776. Оп. 8. 1890 г. Д. 617. Л. 2. 192 Там же. Л. 3. 193 Там же. 1905 г. Д. 1948. Л. 2. 194 Там же. 1900 г. Д. 1401. 195 Там же. 196 Там же. 1902 г. Д. 1541. Л. 7об. 197 Там же. 1905 г. Д. 1948. Л. 11. 198 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1883 г. Д. 77; 1897 г. Д. 64; Оп. 14. 1902г. Д. 187. 199 Этот журнал нуждается в отдельном изучении. Здесь же мы сосредоточили наше
внимание на конфликтных ситуациях, возникших между Цензурным комитетом и издателем. 200 РГИА. Ф. 776. Оп. 21, ч. 1. 1897 г. Д. 187. Л. 1. 201 Там же. Л. 4–4 об. 202 Там же. Л. 12. 203 Там же. Л. 16–17. 204 Там же. Л. 17 об. 205 Аракс. 1897 (1894–1895). Кн. 2. 206 РГИА. Ф. 776. Оп. 8. 1905 г. Д. 2149. 207 Там же. Оп. 12. 1883 г. Д. 76а. Л. 10. 208 Там же. Ф. 821. Оп. 7. 1886 г. Д. 191. Л. 22 об. 209 МЛИ РА. Фонд Ю. Веселовского. Д. 450. Армянские педагогические журналы. Л.3. 210 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1883 г. Д. 76а. Л. 1.
211 Левонян Г.Дж. Армянская периодическая печать: Исторический обзор с начала до нашихдней (1794–1894). Александрополь, 1895. С. 466.
212 Ответы редакции // Манкаваржаноц. 1884. № 2. С. 128. 213 Аро Н. (Тер-Арутюнян Н.). Армянская пресса в России ... С. 63. 214 Ответы редакции // Манкаваржаноц. 1884. № 2. 215 Банбер граканутян ев арвести. 1904. Кн. 2. С. VII. 216 В истории армянской журналистики, в современных библиографиях началом выхода
этого журнала указывается 1906 год. Архивные документы РГИА (Ф. 777. Оп. 7. 1906 г.Д. 961) указывают, что свидетельство на издание «Сафрич» выдано градоначальником такжев феврале 1906 г. Но в этом же деле свидетельствуется, что первый номер журнала могвыйти в конце 1905 г. без правительственного разрешения в связи с отменой цензуры: «…Указанный “нумер первый” журнала “Сафрич” вышел в свет до 1-го января 1906 г. и не былтогда запрещен…» – сообщает цензурующий. Далее в его отчете за 1907 г. читаем, что «в1907 г. в Петербурге появилось два-три нумера ежемесячного сатирического журнала:“Саприч (Цирюльник)”. Издание это, появившееся в конце 1905 г., должно было выходитьежемесячно (12 нумеров в год), между тем до сих пор появилось всего 10 нумеров,вышедших в период времени с декабря 1905 по декабрь 1907 г. Выпуск нумеров и представ-ление их в Комитет крайне неаккуратен. Издание это можно причислить к социал-демократическому направлению». В № 7 журнала редакция сообщает о приостановленииподписки на 1907 г. и обещает, что «все подписчики будут считаться с марта месяца 1906г. до апреля 1907 г., когда будут выпущены все 12 номеров “Сафрич”0». Известны 10выпусков этого журнала. Последние два выходили двойной нумерацией: 9–10, 11–12.Значит, редакция выполнила свое обязательство перед подписчиками. Это обстоятельствонаводит нас на мысль, что цензурующий, чтобы оправдаться перед начальством за своеупущение, мог указать неверный год выхода журнала в свет.
217 Сафрич. 1906. № 5. С. 11. 218 РГИА. Ф. 777. Оп. 7. 1906 г. Д. 961. Л. 1. 219 Сафрич. 1906. № 1. 220 Там же. С. 5.
221 Там же. № 2.