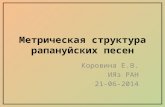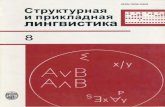Переводы «Одиссеи» А. Попом и В. Жуковским: стилистико-смысловая трансформация эпического текста как
Трудный Кантемир. (Стилистическая структура и критика...
-
Upload
pushkinskijdom -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Трудный Кантемир. (Стилистическая структура и критика...
С. И. Н И К О Л А Е В
ТРУДНЫЙ КАНТЕМИР (Стилистическая структура и критика текста)
В 1748 г. А. П. Сумароков заметил в примечании ко второй эпистоле («О стихотворстве»), что «разумные мысли» Кантемира «повсюду нечистым, холодным и принужденным складом гораздо затмеваются». ' Этот приговор был вынесен спустя три года после смерти сатирика и за 15 лет до издания его сатир. Несмотря на всю суровость слов Сумарокова, его мнение в значительной степени справедливо. Более того, сам Кантемир, скорее всего, согласился бы с этими словами (но не оценкой!), поскольку «принужденный склад» создавался им совершенно осознанно и последовательно. Видимая простота стиля сатир Кантемира — это элитарная простота, которой нельзя достичь иначе, как штудируя римских классиков. Отсюда выпады Кантемира против тех, кто «легко, на одной стоя ноге, много их (стихов. — С. Н.) намарать может» (425), а также неоднократные признания, что сам он пишет «с трудом» (ср. 173—174).2 Но он писал не только «с трудом», но и трудно. В сатирах Кантемира много мест, требующих для понимания особого анализа и которые в ряде случаев проясняет только обращение к рукописи и анализ текстологических решений предшествующих изданий, издатели которых иногда пренебрегали текстологическим правилом lectio diííicilior.
Обратимся сразу к примерам таких темных и сложных мест. Описывая в V сатире Стенона, который «в беседе врет что в ум ни вспало», Сатир говорит:
Слыша его, колесо мельницы шумливу Воду двигать мнит ти ся в звучные обраты (122).
1 Сумароков А. П. Избр. произв. Л., І957. С. 127. 2 Здесь и далее сочинения Кантемира цитируются по изд.: Кантемир А. Собр.
стихотворений. Л., 1956 (далее — изд. 1956). Цифра в скобках указывает страницу. Текст, однако, цитируется с исправлениями по «академическому списку» 1755 г. (см.: ИРЛИ, Р. II, оп. I, № 132), по которому и печатались сочинения Кантемира в XVIII—XX вв.
3 © С. И. Николаев. 1995
XVIII век. Сборник 19
Расставив слова в естественном порядке, мы можем прочесть следующее предложение: «Слыша его, ти (т. е. тебе) мнится (т. е. кажется) — далее идет оборот accusativus cum infinitivo, который переводим придаточным предложением, где подлежащим будет винительный «шумливу воду», а сказуемым инфинитив «двигать»,— что шумливая вода двигает колесо мельницы в звучные обраты (т. е. обороты)». Такой грамматический разбор соответствует прочтению самого Кантемира в примечаниях: «Слыша его, кажется, что вода с шумом бьет в мельничное колесо, которое ворочается, звуча сильно: так громко и беспрестанно говорит» (139). Между тем изд. 1956 исправляет «мнит ти ся» на «мнитися» (инфинитив?), а это чтение лишает все предложение смысла. И. Барков в данном случае только переставил местами две частицы и напечатал «мнит ся ти», что позволяет прочесть фразу.3 Издание П. А. Ефремова также исправляет на «мнитися» и сопровождает примечанием: «Здесь, как и во многих других местах, галлицизм несколько затемняет смысл речи». 4
В той же сатире Сатир упрекает целовальника в том, что
<народ> душе веря твоей, ценой покупает Вина воду (127).
Повторив вышеописанную операцию, получаем следующий текст: «<народ><...>покупает воду ценой (т. е. за цену) вина». Однако изд. 1762, 1867 и 1956 дают чтение «покупает с вином воду». Вероятно, издателей смущало сочетание «вина воду», но при их чтении, вполне с виду осмысленном, повисает в воздухе слово «ценой» — оно не только лишнее, оно ни к чему не относится и ни к чему не присоединяется. Сразу отмечу, что уповать у Кантемира на слова-«за-тычки» (по терминологии В. К. Тредиаковского), грамматические неправильности и солецизмы — дело почти безнадежное. Издательские конъектуры должны иметь веские основания, поскольку Кантемир исключительно педантично относился к грамматике. В его примечаниях часто встречаем пояснения. Например, к стиху «Гордость, леность, богатство — мудрость одолело» (61) — «Мудрость одолело. В сем месте мудрость есть винительного падежа» (67). К стиху «Сосед наш был знатному слуга господину» (128) — «Вместо знатного господина слуга. Обыкновенно во Святом писании дательный падеж вместо родительного употреблять» (142). Или: «И спина гнется ему. Ему вместо его. Часто так и некрасиво дательный вместо винительного употреблять можно» (178) — и целый ряд других пояснений. О словах-«затычках» он резко заметил: «Часто подлым стихотворцам случается те тринадцать слогов дополнять речми, которые к делу никакого сношения не имеют» (177).
3 Имеется в виду издание, подготовленное И. С. Барковым: Сатиры и другие стихотворческие сочинения князя Антиоха Кантемира с историческими примечаниями и кратким описанием его жизни. СПб., 1762 (далее — изд. 1762).
4 Кантемир А. Д. Соч., письма и избр. переводы / Ред. изд. П. А. Ефремова. СПб., 1867. Т. 1. С. 102 (далее —изд. 1867).
4
Вот еще пример поспешной конъектуры. Во II сатире Филарет утверждает, что
Грамота, плеснью и червями Изгрызена, знатных нас детьми быть свидетель — Благородными явит одна добродетель (70).
Прочитаем описанным выше способом первые два стиха, сразу переводя оборот асе. + inf. придаточным предложением: «грамота, плеснью и червями изгрызена, свидетель, что мы суть дети знатных». И это соответствует примечанию Кантемира: «Грамота <...> засвидетельствует, правда, что мы происходим от знатных людей» (79). Однако изд. 1762, 1867 и 1956 печатают не «быть свидетель», как в рукописи, а «есть свидетель», т. е. в их понимании «есть» относится к «свидетель» («грамота <...> есть свидетель»), тогда как в действительности правильное чтение «быть» относится к «нас». При видимой правильности чтения «грамота <...> есть свидетель» вторая половина фразы («знатных нас детьми») синтаксически не соотносится с первой, повисает в воздухе и не дает смысла.
Наконец, последний пример необоснованной конъектуры, чрезвычайно выразительной. Сатир, осуждая пьянство на Николин день, никак не может взять в толк,
Что глупой народ людей угождая страсти. Мнился Бога чтить, вином наполняя брюхо (126).
Изд. 1956 печатает «глупый народ». «Глупый» •— прилагательное мужского рода в именительном падеже, тогда как рукопись дает «глупой» — дательный падеж женского рода, и это определение относится к слову «страсти», что и объясняет Кантемир: «Слова сего стиха в сродном порядке так бы должны лежать: что народ, людей угождая глупой страсти» (141).
Кантемир постоянно объясняет, что он употребляет «несродный» порядок слов, например:
Да всяк открывать свое мнение свободен, Если вредно никому и законов сила Чтительна нужду молчать в том не наложила (163) .
«Сродным порядком так бы речи лежать должны были: да всяк свободен (волен) открывать свое мнение, если никому вредно (если оно никому не вредит) и если чтительная сила законов не наложила в том нужду молчать (если законы не запрещают о таком деле говорить)» (171). В примечании автор трижды в скобках раскрывает смысл сказанного, т. е. не уверен в его правильном понимании, даже когда слова расставлены в «сродном» порядке.
Однак как время того, кто не примечает Причины дел, учинить искусным не знает (157) .
«Сродным порядком слова так бы лежать должны: как время не знает (то есть не может) учинить искусным того, кто не примечает причины дел» (165).
5
И плодоносный Нил, что наводняет Царство, богатством славно, славно делы (201).
«Сродным порядком слова так бы лежать должны: и царство, богатством славное, славное делами, что (вм. которое) плодоносный Нил наводняет, ощущает пользу твоих законов» (207).
Кроме слов «сродным порядком» Кантемир иногда пишет: «Порядочное расположение слов сие быть должно» (231) или «Порядок слов есть следующий» (231), но чаще всего он просто расставляет в примечаниях слова в нужном порядке и поясняет их, например:
речь твою к исправленью нраву Людей поздному предать потомству потщуся (123).
«Стараться буду, чтоб на многие будущие веки и на самые позднейшие речь твоя потомкам нашим служила в исправление их нравов» (139—140).
И таких примеров в стихах Кантемира, не только в сатирах, но и в песнях, и в баснях много. Примечательно, что поэтический синтаксис сатир Кантемира от первоначальной редакции к окончательной не упрощается, что было бы естественно, а усложняется. Приведу несколько примеров. Первоначальная ред.:
для одного в планете пятна ночь не спати (364) —
окончательная ред.: за одним ночь пятном не спать целу (59);
первоначальная ред.: Ведь мы для сообщества в свете сотворенны (364) —
окончательная ред.: Люди мы к сообществу божия тваоь стали (59) —
и комментарий: «Бог нас создал для сообщества» (65); первоначальная ред.:
Осады, окоп, наступ когда поминаю. Чаешь ты, что арапским языком болтаю (373) —
окончательная ред.: Арапского языка — права и законы Мнятся тебе дикие русску уху звоны (75) —
и комментарий: «Самые речи право, закон кажутся тебе речми арапского языка, дикими русскому уху» (86); первоначальная ред.:
Примечать, чтоб искусству не было обиды. Чтоб в граде зелеі кафтан не досаждал глазу (375) —
6
окончательная ред.: Чтоб летам сходен был цвет, чтоб тебе в образу, Нежну зелен в городе не досаждал глазу (72).
Вторую строку в последнем примере читаем так: «Чтоб зелен (т. е. цвет) в городе не досаждал нежну глазу». Изд. 1956 инверсии не принимает и печатает «нежну зелень», не учитывая, что при таком чтении, с виду логичном, предложение рассыпается.
Инверсии и гипербаты Кантемира, а также его беспрецедентные межстиховые переносы постоянно готовят читателю такие семантические ловушки. Кроме «нежной зелени» это и упоминавшиеся «вина воду» (т. е. «вода вина»?), «глупой народ» и «любитель прилежный небес» в стихах:
любитель прилежный небес числить всякого удобно светила путь и беглость (159),
т. е. «прилежный любитель удобно числить путь и беглость всякого светила небес» (ср. в примечании «светила небесные», 160). Еще пример:
Хвалы нужда из его уст твои потянет (160).
«Хвалы нужда» тоже семантическая ловушка, смысл стиха таков: «Нужда потянет из его уст твои хвалы», что соответствует примечанию Кантемира: «Станет тебя хвалить не добровольно, но по нужде» (167).
Кантемир вообще исключительно педантичен в своих примечаниях, это, скорее, комментарии к изданию римского классика, часто начинающиеся словами «сиречь» или «то есть». Он может давать даже варианты прочтения текста, например: «Не претит. Вместо не запрещает, не мешает» (78); «Одолел ли кто враги. Получил ли кто победы над неприятельми отечества; усмирил ли кто их своими трудами военными» (105); «Где счастье людей растет на слабой соломе. Где людей счастье столь хлипко, как солома, или счастье людей основано на соломе, то есть основании, чрезмерно хлипком» (143) и др.
Эти и приведенные ранее примечания демонстрируют еще одну особенность стиля Кантемира: комментарий обычно больше по объему комментируемого места — автор добавляет пропущенные слова, служебные части речи и т. д., т. е. в поэтическом тексте он следует одной из высших добродетелей стиля — «краткости» (brevitas), ценимой как римскими классиками, так и гуманистами. В этой связи отмечу еще один латинизм Кантемира — употребление одинарного отрицания: «один другого добру никогда завидит» (398), «никую надежду себе ждет» (399), «и никого знают» (405), «вредно никому» (163). О том, что это примета именно стихотворного стиля, свидетельствует употребление в примечании русского двойного отрицания: «никому вредно (если оно никому не вредит)» (171).
7
Если предварительно суммировать наблюдения над поэтическим синтаксисом Кантемира, а именно над теми его чертами, которым он сам в комментариях придавал значение, то вывод можно сформулировать примерно следующий. Кантемир создает в сатирах принципиально новый поэтический синтаксис, ориентированный на классическую поэзию и использующий ее средства, благо именно славянские языки позволяют это осуществить. Имитируя латинский стих, Кантемир с небывалой в предшествующей истории русского стиха интенсивностью использует инверсии,5 переносы и другие приемы (оборот асе. + inf., одно отрицание или нечастые ранее риторические фигуры, как хиазм и гипербат), сознательно усложняя от редакции к редакции свой стиль. Он не только пишет «с трудом», но и трудно — чтение его поэзии это труд, требующий интеллектуальных усилий.
Прекрасно осознавая свое новаторство, Кантемир все же оставался реалистом: таким стилем написан не весь текст сплошь, это тенденция, явно ощутимая и подчеркиваемая в примечаниях. В примечаниях же она и объясняется: чтобы новация была усвоена, она должна быть понятна (ср.: «Хвально в стихотворении употреблять необыкновенные образы речения и новизну так в выдумке, как и в речении искать; но новость та не такова должна быть, чтоб читателю была невразумительна» — 177). И вообще, любая новация в своем конкретном воплощении всегда результат не только конфликта, но и компромисса с существующей традицией. В этом же направлении в это же время экспериментировал В. К. Тредиаковский, который учился у тех же учителей в Славяно-греко-латинской академии. Но он экспериментировал безоглядно и бескомпромиссно. В результате его ранние стихи, особенно в переводе «Аргениды»,6 трудны для восприятия. Меру стиля он усвоил позднее.
Несмотря на приводившиеся, а также многие другие примеры сложного поэтического синтаксиса Кантемира, требующие грамматического разбора для полного их понимания, неоспоримым является и то, что читатель, хоть сколько-то начитанный в литературе XVIII в., понимает сатиры Кантемира без усилий. Они не производят впечатления ученой поэзии (хотя, на мой взгляд, именно таковой являются). Каковы причины такого восприятия? Одна из них чисто технического свойства: по типографским причинам и вопреки пожеланиям Кантемира примечания никогда не читаются вместе с текстом сатир. Между тем примечания, напечатанные сразу под комментируемым
5 На свободной порядок слов у Кантемира, заимствованный из латинской поэзии, обратил внимание Д. И. Чижевский (см.: Čizevskij D. History of russian literature: From the eleventh century to the end of the Baroque. The Hague, 1960. P. 395). Другую трактовку синтаксиса Кантемира см. в кн.: Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958. С. 289—294. Следует указать, что одинарное отрицание фактически является церковнославянизмом, отмеченным как верная форма в грамматике Мелетия Смотрицкого, — см.: Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI—XVII вв.). München, 1987. С. 212—213.
* См.: Николаев С. И. Ранний Тредиаковский: (Первый перевод «Аргениды» Д. Барклая) / / Рус. литература. 1987. № 2. С. 95—96.
8
стихом, должны заставить читателя задуматься, и не только над синтаксисом. Но примечания помещались после текста сатир и еще в XIX в. не воспринимались как интегральная часть авторского замысла — их автором считался Барков. Вторая причина — из области поэтической техники. «Перенос позволен, — провозгласил Кантемир. — А весьма он нужен в сатирах, в комедиях, в трагедиях и в баснях, чтоб речь могла приближаться к простому разговору. К тому ж без такого переносу долгое сочинение на рифмах становится уху докучно частым рифм повторением, от которого напоследок происходит не знаю какая неприятная монотония» (414). Обилие межстиховых переносов ускоряет чтение и течение стиха, сложные инверсии и семантические «ловушки» могут не замечаться. Но все же главная роль в «приближении к простому разговору» отведена лексике.
Просторечие ворвалось в сатиру столь стремительно и властно, что до сих пор некоторые слова печатаются с отточиями. О языке сатир написано много и написано справедливо. Мне бы хотелось выделить один аспект. Часто цитируют признание Кантемира, что «автор писал простым и народным почти стилем», забывая продолжение фразы: «...в чем, мне мнится, последовал он стихотворному правилу, которое велит, чтоб сатиры были просты» (268). О каких правилах может идти речь? Никаких русских правил не было и быть не могло. Кантемир, создавая свой язык, исходил из правил классической сатиры. Остановлюсь на одном аспекте языка Кантемира — на пословицах.
Употребление пословиц и поговорок сатириком изучено подробно с точки зрения проблемы «литература и фольклор».7 Это, безусловно, допустимый и необходимый аспект изучения, и оно бы только выиграло, если бы можно было доказать, что Кантемир понимал пословицу как фольклорный жанр. Между тем в конце XVII — первой трети XVIII в. «пословица» означает прежде всего «слово», «высказывание»,8
и собирали их, имея в виду их лингвистическое и фразеологическое значение. Пословица в литературном тексте была прежде всего фактом и признаком разговорного языка, недаром употребление пословиц в текстах той поры сопровождается квалификаторами типа «как говорят». Однако в этих сборниках зафиксированы не только пословицы и поговорки, но и явно книжные выражения, которые просто были на слуху, как библейские крылатые слова, так и цитаты из литературных произведений. '
7 См.: Русская литература и фольклор: (XI—XVIII вв.). Л., 1970. С. I l l —113; Леонов С. А. Пословицы и поговорки в творчестве А. Д. Кантемира / / Литература древней Руси и XVIII в. М., 1970. С. 312—326. Далее ссылки на эту работу даются в тексте сокращенно: Леонов с указанием страницы.
8 См.: Словарь русского языка XI—XVII вв. М.. 1991. Вып. 17. С. 184—185. ' См., в частности: Адрианова-Перетц В. П. Библейские афоризмы и русские пос
ловицы / / ТОДРЛ. Л., 1971. Т. 26. С. 8—12; Малэк Э. Рукописные сборники пословиц и поговорок как материал для изучения репертуара русской литературы переходного периода / / Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria.-Łódż, 1989. T. 25. S. 3—11. Предисловие к сборнику пословиц конца XVII в. перепечатано в кн.: Древнерусская притча. М., 1991. С. 305—307.
9
Другое дело, что для нас эти сборники и отдельные употребления являются фольклористическими фактами, для Кантемира это было живое использование метких слов, т. е. проблемой языка. Кстати сказать, само по себе употребление или неупотребление пословиц ни о чем не говорит. То, что их нет в «Житии» Аввакума или в стихах Ломоносова, ничуть не уменьшает их национального значения в истории русского литературного языка. Кантемир же вполне следует рекомендациям европейских гуманистов, в частности Эразма Роттердамского: пословицы — украшение стиля. Примечательно, что Канхемир в примечаниях объясняет пословицы, что довольно необычно, так как объяснение фразеологии носителю языка излишне. Например: «Вилами по воде писать — русская пословица, значит то же, что напрасно труд свой терять, понеже на воде букв изображение удержаться не может» (170). В другом случае он для русской пословицы подбирает латинскую этимологию: «Ведь и в щах нет смаку без соли. — Без соли. В стихотворстве забавные и острые речи латин соль называются, и для того говорит автор, что смеялся иным для украсы своей сатиры, или прямо сказать: смешками посолил ее, чтоб была вкуснее уму чтущих» (238). |0 Добавлю, что и в пословице «вилами по воде писать» русские суть собственно только вилы, так как латинское выражение in aqua scribere известно издавна и встречается, например, у Катулла. "
Рассмотрение пословиц и поговорок Кантемира необходимо должно учитывать вопросы интернационализации фразеологического фонда. Безусловно, значительная их часть — исконно русские. Но в их число неосновательно зачислены библеизмы и цитаты из римских классиков. Например: «Слово, однажды выпущенное из уст, летит невозвратно» (408). Цитата взята из «Письма <...> о сложении стихов русских». Кантемир источника не указал, но в данном случае он дословно процитировал свой же перевод послания Горация,|2 еще раз это же место он процитировал (в оригинале и в переводе) в примечаниях к третьей сатире (см. 103). Очевидно, что сопоставление этой фразы с пословицей «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь» (Леонов, 315) не имеет оснований. Напротив, сопоставление фразы «Слепец, как ведет слепца, в яму упадают» (233) со сборником пословиц конца XVII в. («Слепец слепца ведутся, а оба в яму упадутся» — Леонов, 315) совершенно справедливо. Дело, однако, в том, что это известные евангельские слова (Матфей 15, 14; Лука 6, 39).
В разряд авторских афоризмов, ставших пословицами, С. А. Леонов относит фразу «Виноград насадив, терние ращают» (131; Леонов, 318). Кантемир же поясняет это выражение: «Сиречь что за добро зло им воздается. Не помню в коем месте Бог чрез пророка Исайю говорит: "Насадих виноград и возрасте терние"» (143). Не-
ю Ср.: Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов. М., 1988. С. 155—157.
11 См.: Там же. С. 343. 12 См.: Кантемир А. Д. Соч.. письма и избр. переводы. Т. 1. С. 501—502; Баби
чев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов. С. 237, 492.
10
смотря на то что ни в книге пророка Исайи, ни вообще в Библии этих слов нет, сознательная ориентация Кантемира на библейскую фразеологию очевидна.
Стчх • VII сатиры: Относят к сердцу глаза весть уха скорее (161) —
явно восходит к афоризму Сенеки «Люди больше верят глазам, чем ушам». І3 А следующий стих:
Пример наставления всякого сильнее (161) —
Кантемир комментирует: «Свыше всякого совета, свыше всякого наставления пример силен. Ролен, следуя Сенеке, того ж мнения» (168). Сенеку Кантемир не цитирует, но имеет в виду его слова «Долог путь поучений, короток и успешен путь примеров». 14 Также и выражение «Мед держи на языке, а желчь всю прячь в грудях» (ПО) восходит не к русской пословице «На язычке медок, а на сердце ледок» (Леонов, 314), а к словам Плавта «В меду ваш язык, но сердце в желчи». |5 Примечательно, что свой стих Кантемир разъясняет так, как обычно он делает в отношении заимствованных или книжных выражений: «То есть весь гнев, всю злобу в себе таи, а словами льсти» (116).
Из выражений, которые Кантемир, по мнению С. А. Леонова, взял «непосредственно из народной речи» (Леонов, 316), отметим еще два. Для стиха из III сатиры «Кастор любит лошадей, а брат его — рати» (99) Кантемир сам указывает в примечаниях источник у Горация (108). А выражение «с глаз <сойти>» (72) восходит либо к Проперцию, |6 либо к латинской поговорке «Procul ex oculis, procul ex mente».
Первый стих VI сатиры «Тот в сей жизни лишь блажен, кто малым доволен» (147) напрасно сопоставляется с пословицей «Кто малым недоволен, " тот большого не достоин» (Леонов, 316). По смыслу эти выражения далеко не эквивалентны, даже противоположны. В стихе Кантемира отчетливо слышна горацианская тема, уместно привести и слова Сенеки: «Disce parvo esse contentus» («Учись малым быть довольным»). 18
13 См.: Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов. С. 317; Тимошенко И. Е. Литературные источники и прототипы трехсот русских пословиц и поговорок. Киев, 1897. С. 47.
14 См.: Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов. С. 416. 13 См.: Тимошенко И. Е. Литературные источники и прототипы трехсот русских
пословиц. С. 93; Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов. С. 439.
16 См.: Тимошенко И. Е. Литературные источники и прототипы трехсот русских пословиц. С. 113.
17 С. А. Леонов цитирует пословицу не точно: «Кто малым доволен». Ср.: Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII—XX вв. М.; Л., 1961. С. 55.
18 См.: Михельсон М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое: Опыт русской фразеологии. СПб., 1901. Т. 1. С. 77.
11
Завершая III сатиру, Кантемир говорит о стихах: кто же мои (и я не без пятен)
Исправит — тот честен мне будет и приятен (99) —
и комментирует: «И я не без пятен. И я не без погрешег, ' \!08). Книжный характер выражения выдает двойное отрицание, скорее всего, это парафраз вошедшего в пословицу стиха Горация «Vitus nemo sine nascitur». Впрочем, не исключено, что это библеизм (ср.: «Никто же без греха, един токмо Бог»). Для Кантемира возможна и контаминация обоих источников. Для «Песни II. О надежде на Бога» «основание» Кантемир взял «из Евангелия и Горация», заметив: «Чудно, сколь меж собою Спаситель и римский стихотворец согласуются» (204). Цель этого паремиологического экскурса, по необходимости беглого и краткого, — показать, что как просторечие Кантемира осложнено латинизированным синтаксисом, так и исконно русская фразеология инкрустирована классическими цитатами, а какие-то фразеологические единицы созданы явно самим Кантемиром.
Завершая наблюдения над поэтическим стилем Кантемира, приведу выдержку из его «Письма... о сложении стихов русских». Порицая французский язык, он говорит: «Язык французский не имеет стихотворного наречия; те ж речи в стихах и в простосложном сочинении принужден он употреблять <...> Наш язык, напротив, изрядно от славенского занимает отменные слова, чтоб отдалиться в стихотворстве от обыкновенного простого слога и укрепить тем стихи свои; также полную власть имеет в преложении (т. е. инверсии. — С. # . ) , которое не только стих, но и простую речь украшает» (408). Эта формулировка исключительно полно и ясно отражает всю титаническую работу Кантемира над стилем сатир. Впервые в истории русской поэзии он поставил и выполнил задачу по созданию поэтического языка («стихотворного наречия»), причем понимал его функцию вполне в духе лингвистических концепций XX в. По его мысли, поэтический язык должен отличаться от языка литературного («обыкновенного простого слога») как лексически, так и синтаксически. Поразительный поэтический стиль Кантемира — не меньшее по значению создание, чем сам жанр сатиры, причем одно создавалось для другого. Но в отличие от жанра, который сразу вошел в литературу и создал автору славу, стиль сатир в литературе не привился.
Что позволяет прийти к такому выводу? В 1740—1760-х гг. были написаны разными авторами три сатиры в подражание Кантемиру. В сатире «На состояние сего света. К Солнцу» подражание Кантемиру наиболее очевидно, она была включена в корпус его сочинений (см. 181—189). Две другие сатиры, опубликованные В. Н. Перетцом — «Сатира на скупого человека» и «Descriptio Bacchi», также подражают Кантемиру, а в одной есть и прямые из него заимствования. " Однако в так называемой IX сатире нет следов разбиравшегося ра-
19 См.: Перетц В. Н. Неизвестные подражатели кн. А. Д. Кантемира / / ИОРЯС. 1928. Т. 1, № 2. С. 335—357.
12
нее поэтического синтаксиса Кантемира, она написана гладко и усвоила (как и вся дальнейшая русская сатира) лишь просторечие сатирика. Межстиховые переносы ограничены рифмующимся двустишием, и только один раз фраза переходит в следующее двустишие. В тексте не ощущается привычная у Кантемира классическая подкладка, а в примечаниях нет и следа его блестящей эрудиции. В «Сатире на скупого человека» инверсий и переносов нет, нет и неясных синтаксических мест, только в сатире на пьяниц много переносов, но в целом «стихотворного наречия» Кантемира нет и здесь. К тому же у Кантемира «переносимая» часть синтаксической единицы более краткая (обычно не доходит до цезуры) и меньше связана по смыслу с последующим текстом. Именно такой тип переносов был позднее «несносен» и «противен нежному слуху» Тре-диаковского.20 Обе сатиры, кстати, написаны в семинарской среде, где латинские штудии были в программе, но это никак не повлияло на верное воспроизведение стиля Кантемира.
Издания сатир 1762 и 1956 гг. — это прежде всего зафиксированное прочтение и понимание текста. И. Барков, как известно, 2|
исправлял слог и синтаксис по своему вкусу и в соответствии с литературной нормой своего времени, устраняя как отдельные церковнославянизмы, так и некоторые просторечные слова. Изд. 1956 стремилось авторский текст сохранить, но, как было показано ранее, не приняло ряд сложных чтений. Кстати, и это издание поновляло лексику: так, вместо «посмешка» академического списка 1755 г. в изд. 1956 читаем «насмешка», вместо «странноприимство» — «гостеприимство», вместо «похлебник» (т. е. льстец) другое по смыслу слово «нахлебник», вместо «подошево» — «подошва», вместо «чоко-лад» — «шоколад» и др.
Можно назвать две причины невосприятия поэтического стиля Кантемира в XVIII в. ,06 одной было уже сказано в самом начале статьи. Простота стиля его сатир — это видимая простота. В действительности поэтический язык Кантемира элитней. Добиться такой простоты при истинном подражании можно лишь колоссальным трудом и то при наличии образованности, равновеликой той, что была у Кантемира. Его элитарный стиль был реакцией на «неприятную монотонию» старой силлабики, на стихотворную продукцию, например, Иоанна Максимовича, о котором и высказался пренебрежительно, и других поэтов, пишущих, «стоя на одной ноге». И Кантемир был не одинок в своих оценках Несколько ранее Феофан Прокопович писал одному из знакомых, что «в академии стихотвор-ствуют до тошноты». Сам Феофан ушел в поэзию для себя, недаром XVÍII в. не знает Прокоповича-поэта — о его стихах не упоминают ни В. К. Тередиаковский в статье «О древнем, среднем и новом стихотворении российском», ни Н. И Новиков в «Опыте историче-
2 0 См.: Тредиаковский В. К. Соч. и переведы. СПб., 1752. Ч. 1. С. 109; Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958. С. 346.
21 См.: Моисеева Г. Н. Иван Барков и идание сатир Аптиоха Кантемира 1762 г. / / Рус. литература. 1967. № 2. С. 1С2—115.
13
ского словаря о российских писателях». Но как бы Кантемир ни осознавал свое новаторство на фоне этой традиции, и как бы он ни объяснял свой стиль в примечаниях — он не был услышан.
Вторая причина более объективного характера, и здесь он был бессилен. Создавая новый поэтический язык, Кантемир стремился отделить его от «обыкновенного простого слога», т. е. языка литературного. Но все дело в том, что литературного общепринятого языка еще не было,гг а церковнославянский стремительно утрачивал эту функцию, что и ощущал Кантемир. Как раз на первые десятилетия XVIII в. приходятся поиски основы литературного языка, завершившиеся в конце концов в трудах М. В. Ломоносова. Но с точки зрения теории трех стилей, да и на фоне новой русской поэзии в целом язык Кантемира мог, вероятно, производить впечатление если не стилистической какофонии, то неупорядоченности. Реформа русского стиха тоже не способствовала лучшему усвоению особенностей его поэтики. А. С. Пушкин в черновых набросках плана статьи «О ничтожестве литературы русской» справедливо заметил: «Влияние Кантемира уничтожается Ломоносовым».23 Конечно, высочайший авторитет Кантемира-сатирика остался непререкаемым, но новая русская литература усвоила жанр, а поэтический стиль остался свидетельством эстетических исканий Петровской эпохи, порождением которой он и был.
См.: Живов В. М. Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII—начала XIX в. М., 1990. Пушкин А. С. Поли. собр. соч. М.; Л.. 1949. Т. U . C . 495.