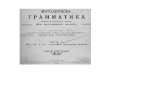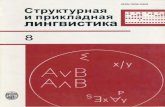ГРАММАТИКА КАК ИЕРАРХИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА...
Transcript of ГРАММАТИКА КАК ИЕРАРХИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА...
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени А. А. ЖДАНОВА
СТРУКТУРНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА
Межвузовский сборник
В ы п у с к 3
Под редакцией А. С. Герда
ЛЕНИНГРАДИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1987
Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета
Ленинградского университета
Статьи сборника «Структурная и прикладная лингвистика» охватывают’ широкий круг проблем современной теоретической и прикладной лигнвйсти- ки. В них рассматриваются актуальные вопросы семантики и синтаксиса- предложения, применения математических методов в языкознании, проблемы лингвистической статистики. Сборник содержит статьи, посвященные разработке лингвистического обеспечения автоматических систем обработки текста.
2-й выпуск сборника «Структурная и прикладная лингивистика» вышел- в 1983 году.
Сборник предназначен для филологов, специалистов по прикладной и- математической лингвистике.
Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я : докт. филол. наук В. В. Богданов;докт. филол. наук. Л. В. Бондарко; докт. филол. наук А. С. Герд (отв. редактор); докт. филол. наук Б. Ю. Городецкий.
Р е ц е н з е н т докт. педагогических наук А. В. Соколов.
ИБ № 2522
Структурная и прикладная лингвистика
Межвузовский сборник
В ы п у с к 3
Редактор Н. А. Никитина Художественный редактор А. Г. Голубев Технический редактор А. В. Борщева
Корректоры В. А. Латыгина, Т. Г. Павлова
Сдано в набор 04.06.86. Подписано в печать 22.12.86. М-26670.Формат 60X90716. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Уел. печ. л. 12,0+0,25 вкладка. Уел. кр.-отт. 12,25. Уч.-изд. л. 13,7.
Тираж 1013 экз. Заказ № 379. Цена 2 р. 10 к.Издательство ЛГУ им. А. А. Жданова. 199034, Ленинград,
Университетская наб., 7/9.Типография Изд-ва ЛГУ им. А. А. Жданова. 199034, Ленинград,
Университетская наб., 7/9.
1503000000—028 С 076(02)—87
Издательство Ленинградского, университета,"1987 г.
Т. И. Зубкова
ГРАММАТИКАКАК ИЕРАРХИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННАЯ
СТРУКТУРА
Подробное лингвистическое описание речевых расстройств, •наблюдаемых при органических поражениях головного мозга (афазии), позволяет показать, что в этих особых условиях функционирования речевых механизмов проявляются некоторые свойства грамматических форм и отношений, только намеченные и не выраженные явно в норме. В настоящей статье с такой точки зрения будут рассмотрены отношения маркированного и немаркированного членов приватных оппозиций в грамматике.
Приступая к логической классификации смыслоразличительных оппозиций, Н. С. Трубецкой замечает, что вводимые понятия имеют решающее значение для любой системы противопоставлений. Далее он еще раз обращает внимание на то, что данные способы рассмотрения и принципы классификации не содержат в себе ничего специфически фонологического и «имеют силу для любой, а не только для фонологической системы оппозиций».1
Н. С. Трубецкой подчеркивал исключительную важность для фонологии привативных оппозиций, т. е. оппозиций, «один член которых характеризуется наличием, а другой — отсутствием признака» (соответственно маркированный и немаркированный члены оппозиции).2 Р. О. Якобсон показал, что приватиз-’ ные оппозиции важны не только для фонологии, но и для морфологии. В грамматике в отличие от фонологии немаркированный член оппозиции обладает способностью имплицитно передавать признак, сигнализируемый маркированным членом:«...немаркированный член противопоставления не выражаетданного признака, но и не исключает его».3 А. В. Бондаркообращает внимание на различие в понимании привативныхоппозиций Н. С. Трубецким и Р. О. Якобсоном: «.. .принципи-
1 Т р у б е ц к о й Н. С. Основы фонологии. М., 1960, с. 75, 100.2 Там же, с. 82—83.3 Б о н д а р к о А. В Грамматическая категория и контекст. Л., 1971
с. 86.
48
но новой чертой привативных оппозиций в плане содержания в частности в области семантической морфологии (по сравнению с фонологией), является способность немаркированного члена оппозиции имплицитно передавать семантику маркированного члена»; можно говорить о включении «маркированного чЛена оппозиции в семантику немаркированного» (называемомимпликацией).4
Указанное свойство немаркированного члена привативных оппозиций в грамматике четко прослеживается при рассмотрении афазических нарушений речи, а именно при лингвистическом исследовании эфферентной моторной афазии. Для больных с афазией этого вида характерен так называемый телеграфный стиль речи, представляющий собой вторичный симптом, свойственный более поздним стадиям обратного развития данного афазического синдрома. Аграмматизм типа «телеграфного стиля» неоднократно описывался: больные употребляют в основном имена существительные, пропускают глаголы и в еще большей степени прилагательные, высказывания синтаксически не оформлены, отсутствуют служебные слова, отдается предпочтение «нулевым» формам существительных и глаголов, т. е. именительному падежу и инфинитиву.5 Аграмматизм при эфферентной моторной афазии вызван нарушением этапа грамматического конструирования в процессе производства речи.6 В качестве примера можно привести отрывок из записанной нами речи больного Щ., он так описывае-т картинку, изображающую урок в школе (ученики сидят за партами, учительница стоит, одна ученица пишет мелом на доске цифры): «Раз, два, три, четыре, четыре девочка... учительница... пла-... нет... парта... стол... стул... книга... лежит... доска... девочка писать... три... вот... мел... девочка... платье... передник... косы».
Детальное описание речи больных с такого рода нарушениями грамматики позволяет обнаружить, что внутри каждой части речи есть более и менее стойкие формы и что сохранившиеся лучше других формы не просто чаще встречаются, но и функционируют иначе, например приобретают новую функцию заменителей менее стойких форм. Если имя существительное называют основной частью речи при аграмматизме, то это не означает, что в речи больных одинаково хорошо представлены Все формы имени существительного. При грубых нарушениях грамматики существительные в косвенных падежах множественного числа вызывают не меньшие затруднения, чем служебные части речи или прилагательные. А форма имен, падежа ед. пела не просто употребляется чаще, но и чаще всего встреча-
_051 в случаях замен одних падежных форм другими, в то4 Там же, с. 87.
м ,„ ^ .х Ут и н а Т. В. Нейролингвистический анализ динамической афазии.1975, с. 29 -3 0 , 85-86 .
Там же, с. 45—49, 90—91.
4 З а 1 <. № 379
время как сама эта падежная форма другими практике] еки не заменяется. Рассмотрение речи больных позволяет противопоставить формы внутри грамматических категория части речи и синтаксические отношения по признаку широты -4 узости, где иод широтой подразумевается способность функцио] нировагь в качестве заменителя, своего рода отношение вклю] чения, при котором более широкое, т. е. включающее, содержит* в неявном виде семантику более узкого, или включаемого] Лингвистически противопоставление по широте—узости интер] претируется как противопоставление беспризнакового, немарки] рованного члена оппозиции маркированному относительно не] которого признака члену. Сравнение с данными по частоте упо] требления в норме показывает, что широкие, или немаркиро] ванные, формы — это, как правило, употребительные формы] а узкие, или маркированные, формы малоупотребительный Больные с афазией вообще предпочитают то, что чаще употребляется в норме: например, для всех больных, в том числе и для больных с аграмматизмом, характерно стремление ограничиться небольшим кругом наиболее употребительных слов.
В исследованном нами материале (около 14500 словоупо: треблений) встречались искаженные, часто до неузнаваемости, слова, сохранившие тем не менее правильную грамматическую форму. В ряде случаев больные сами создавали новые слова в соответствии с правилами русского словообразования, напри! мер при выполнении упражнений на склонение, спряжение или образование степеней сравнения. Как правило, такие «свои^ слова больных облекались в широкие формы, прежде всего з форму именительного падежа единственного числа имени су] ществительного, а также именительного множественного, винительного и родительного единственного. Например, бумба, кофейка, коняк, лошамяк, лошадяк, лошак, лошакй, лоши; плё- мик (вместо косвенных падежей от существительного племя): кушка, кушку (вместо кушает, кушают)-, проснутка, проснуска (вместо проснулась)-, малик, малика, средник, горячик (при образовании степеней сравнения соответствующих прилагателф ных). Нужно отметить, что только формы имени существителщ ного употреблялись для замены других частей речи: существительные, в том числе созданные самими больными, могли зама нять однокоренные и созвучные глагольные формы, прилагав тельные и причастия.
Именительный падеж занимает особое место в падежной системе русского языка. Н. В. Уфимцева, поставившая перед собой задачу рассмотреть иерархию падежной системы с точки зрения ее отражения в сознании носителей языка, приходит к выводу, что именительный падеж противопоставлен всей!
7 З у б к о в а Т. И. Речевые и языковые аспекты аграмматизма (эфферентная моторная афазия): Автореф. канд. дис. Л., 1980, с. 3, 7, 10, 19—20.
50
остальным падежам как основная, исходная форма. «Именительный падеж по данным усвоения языка, нормы и патологии является доминирующей падежной формой: с него начинается усвоение падежей, он наиболее устойчив к различным искажениям, он выступает заменой любого косвенного падежа, а при распаде падежной парадигмы... является единственной употребляемой формой существительного».8 Н. В. Уфимцева полагает, что существительные хранятся в памяти в именительном падеже и что особенности поведения разных падежей в экспериментальных условиях объясняются различием статуса каждого из них в падежной парадигме. Характер морфологической маркированности того или иного падежа связан с его статистико-вероятностными особенностями. Падежи с наибольшей частотой встречаемости (именительный, винительный, родительный) «достаточно определены синтаксическим контекстом и не нуждаются в непересекающейся внешней маркированности» в отличие от менее частых падежей, которые «в такой маркированности нуждаются, поскольку недостаточно определяются синтаксическим контекстом».9
Итак, при нарушениях грамматики обнаруживается неравноправие грамматических форм, и это неравноправие проявляется не только в частоте употребления, но и в характере функционирования: при заменах одних форм другими, в случаях словотворчества больных. Как правило, более стойкие, названные широкими формы — это немаркированные, а менее стойкие, или узкие, формы — маркированные члены тех или иных морфологических или синтаксических противопоставлений. Действительно, именительный падеж склоняемых частей речи имеет тенденцию заменять косвенные падежи; если выражена категория числа, больные отдают предпочтение единственному числу. Инфинитив противопоставлен личным глагольным формам как основная, самая широкая форма, а среди личных форм глагола первое место безусловно принадлежит самой беспризнаковой форме — 3-му лицу единственного числа настоящего времени. Личные формы действительного залога употребляются намного чаще форм страдательного залога и заменяют их. То же самое можно сказать и о невозвратных глаголах по отношению к возвратным, о глаголах несовершенного вида относительно глаголов совершенного вида, об утвердительной форме по сравнению с отрицательной. Личные формы противопоставлены причастиям и деепричастиям, с употреблением которых больные практически не в состоянии справиться. При изменениях по степеням сравнения положительная степень для них легче сравнительной, а сравнительная легче превосходной. Из грамматических
8 У ф и м ц е в а Н. В. Лингвистический и психолингвистический анализ структуры падежной системы (на материале русского языка): Автореф. канд. дис. М„ 1976, с. 19.
9 Там же, с. 20.
4 51
категорий рода предпочтение отдается форме, мужского рода Иначе говоря, в особых условиях, таких как нарушения речи при афазии, можно говорить не только о свойстве немаркированного члена оппозиции имплицитно передавать семантику маркированного члена, но и его способности явным и недвуе] мысленным образом употребляться вместо маркированного чла на, а также о бесспорном предпочтении немаркированных форм маркированным.
При рассмотрении речи больных оказывается возможным противопоставить указанным образом не только формы внутри грамматических категорий, но и части речи и синтаксические отношения. Основные части речи в грамматике больных — этб имя существительное и глагол, а имя прилагательное, имя чис| лительное, наречие представлены хуже и в этом отношении ближе к служебным частям речи, которые, как правило, опу. скаются. Основное синтаксическое отношение — это предикативная связь; затем можно поставить комплетивную связь (дополнения и обстоятельства) и лишь после них — атрибутивную. Труднее всего больным построить сложные синтаксические еди( ницы, включающие более одной предикации, а именно сложноподчиненные предложения и предложения с причастными и деепричастными оборотами.
Описание последовательности языковых приобретений ре< бенка поучительно в том смысле, что наглядно демонстрирует] какие формы в речи детей появляются раньше, а какие позже] Исследования А. Н. Гвоздева, подробно описывающие такую последовательность для русского языка,10 так же как и наши собственные наблюдения, убеждают в том, что первые грамматические формы и отношения в речи детей — это формы и отношения, названные широкими в речи больных, т. е. беспризна-* ковые, немаркированные. Л. В. Сахарный пишет, что изучение процессов формирования языковой системы у детей «позволяет лучше уяснить и то, что отдельные части механизма языка относительно самостоятельны, так как складываются относи-; тельно независимо друг от друга, и то, что элементы языка раз| деляются на „центральные” и „периферийные” , причем „центральные” элементы, как правило, формируются раньше, а „периферийные” — позднее».* 11 В речи ребенка после двух лет увеличивается количество слов, появляются падежи и времена, пред-̂ ложения становятся сложнее, т. е. «охватывается все большая „периферия” грамматической системы языка. Впрочем, многие и до 10-го класса не могут справиться с причастиями, а деепричастия порой и для взрослых камень преткновения».12 Степень важности «слов, сочетаний слов, грамматических явлений и т. д. оказывается различной не только для отдельного чело-1
10 См.: Г в о з д е в А. Н. Вопросы изучения детской речи. М., 1961.11 С а х а р н ы й Л. В. К тайнам мысли и слова. М., 1983, с. 61.12 Там же, с. 60.
52
века, но и для общества в целом: что-то более важно (и потому, как правило, употребляется чаще), что-то относительно менее важно (и потому, как правило, употребляется реже)». В самом языке есть «центр» и «периферия».13
Это неравноправие широких и узких, или немаркированных и маркированных, или центральных и периферийных, форм прослеживается не только в особых условиях, таких как нарушения речи при афазии или детская речь. Исследования разговорной речи показали, что в ней отсутствуют узкоспециализированные, или маркированные, единицы и используются единицы широкой дистрибуции, т. е. немаркированные единицы кодифицированной системы. Единицы, совпадающие по форме с маркированными, употребляются в разговорной речи в другом качестве.14 Например, в системе разговорной речи отсутствуют причастия и деепричастия как маркированные члены оппозиции основная — вторичная предикация, а имеется лишь противопоставление инфинитив — личные формы глагола. «Глагольная парадигма оказывается аналогичной падежной парадигме имени существительного. Соответствующие ряды возглавляют инфинитив и именительный падеж».15 Авторы «Русской разговорной речи» 1983 г. употребляют термин «широта функций немаркированных членов морфологических парадигм» и отмечают, что в разговорной речи «среди словоформ имени и глагола высокой употребительностью обладают немаркированные члены морфологических парадигм — именительный падеж существительного и инфинитив».16
Как писал Ф. де Соссюр, вне процесса речи слова ассоциируются в памяти, образуя группы, внутри которых существуют весьма разнообразные отношения; ум создает «столько ассоциативных рядов, сколько есть различных отношений», причем «любой член группы можно рассматривать как своего рода центр созвездия, как точку, где сходятся другие, координируемые с ним члены группы».17 Выделяются два свойства ассоциативного ряда — неопределенность порядка и безграничность количества, из которых всегда налицо только первое, а второе может отсутствовать, например в таком характерном для ассоциативного ряда типе, как парадигма словоизменения. Если число падежей строго определено, то «порядок их следования не фиксирован и та или иная группировка их зависит исключительно от произвола автора грамматики; в сознании говорящих
13 Там же, с. 36—37.Русская разговорная речь / Под ред. Е. А. Земской. М., 1973, с. 214—
215.■5 Там же, с. 161.13 Русская разговорная речь: фонетика, морфология, лексика, жест / Под
ред. Е. А. Земской. М., 1983, с. 98.17 С о с с ю р Ф. де. Курс общей лингвистики. — В кн.: Соссюр Ф. де.
Труды по языкознанию. М., 1977, с. 155, 158.
53-
именительный падеж — вовсе не первый падеж склонения; чле|ны парадигмы могут возникать в том или ином порядке чисто!случайно».18
Сказанное выше о характере отношений маркированных и немаркированных членов грамматических противопоставлений позволяет предположить, что члены ассоциативного ряда могут]быть равноправны, а порядок их не закреплен только в некойторой отвлеченной системе. Парадигматические, или ассоциа-'тивные, ряды, хранящиеся в мозгу реального носителя языка, должны быть организованы, а порядок их следования фиксирован. Представляется, что это должна быть иерархическая организация: от широких, немаркированных, центральных члеЗнов к узким, маркированным, периферийным, причем первые как бы подразумевают, включают в себя вторые. Можно утверждать, что «записанная» в мозгу носителя языка грамматика представляет собой сложно организованную структуру, состоящую из неравноправных членов, где, например, именитель! ному падежу единственного числа и дательному множественного, 3-му лицу единственного и 2-му лицу множественного числа глагола, существительному и деепричастию отводятся далеко не равноценные места. При аграмматизме, когда в про|цессе порождения речи нарушен этап грамматического конструирования высказывания, нарушаются и механизмы выбора нужного члена из сложно организованного парадигматического ряда, в результате чего в речи больных преобладают формы — представители парадигмы.
18 Там же, с. 159.
54
С0ЫТЕЫТ5I
Во^Лапоо V. V., В оп Лаг ко /,. V., Ви1огоо V. О., СегЛ А. 8. АррНейНп^шзИсз апй 1ап§иа§е йгеогу (Ьешпдг. 1 М у . ) ...................................3
Во§Лапоо V. V. Оп ГЬгее азреск о{ зепГепсе ог^ашхаНоп аз а з^поЬ]ес! (Ьешп^г. Ш 1 у . ) ............................................................< . ; 16
КооаИк Уи. N.. ///от Уи. V'. Оп соехГепзкепезз, е^и^Vакпсе о! тса- шп(* апс! зупопушу (Ма&пИо^огзк ро1у1есЬпка1 тзШиГе) . . 2 5
Бькагеоа 8. 8. ЗетапНсз о! апарЬоге (31тГегоро1 Шгу.) . . 29РШа1оо 8. Уа. А тос!е1 о! а зИиаНоп о/ йепоГаНуе поип кепИП-
саНоп (Ьешп^г. Е1шу. ) ..........................................................« л 38ОппЬаит О. N. 5оте уапапГз о! йепоГаНуе поип кепНПсаИоп т
Риззкп ГехГз ( О о з з п а Ь ) .............................................................................. 442иЬкооа Т. I. О гаттаг аз ап ЫегагсЫсаИу ог^атгей зкисГиге
(Ьешп^г. 1_1шу. ) ................................................................. . ; I 48СогоЛе(зку В. Уи. Тегт апй Из НпдшзИс ргорегНез (Мозк. 1)ту.) 54
IIМаг1упепко С. Уа., Скагзкауа Т. К. То ГЬе ргоЫет о! Наиззпезз
апй поп-каиззпезз о{ ПпдиозГаНзНс сКз1пЬиИоп (Ьеитдг. 11шу.) . 63Т иг уцта В. А. 5уз1ет арргоаск 1о ГЬе тойеШпд о! 1огта1 ргорег
Нез о! кпциа^е (Ьептдг. Ыауа1 соттипкаНопз зсЬоо1) . . 77Магизепко М. А. ЗексНоп о! тГогтаНуе рагатеГегз т ГЬе ргоЫетз
о! з^уНзИс йкдпозНсз (Ьешп^г. Т 1 ш у .) ..................................................... 84Мапазуап N. 8. ЕуакаНоп о! рагатеГегз о! НпдшзИс йкГпЬиНопз
о! а сегГат с1азз (Уегеуап ро1уГесЬшса1 т з Н Г и Г е ) ................................... 94МаШккооаку В. V. Оп гергезепГаНоп ш кп^иаде о! ГЬе оопсерГ о!
"гоипйпезз” о! а пишЬег (оп ГЬе таГепа1 о! Еп^НзЬ питегак) (1пзИ- 1и1е о! НпдрлзНсз о! {Не Асай. о! 5ск о! ГЬе 1185К) . . . . 97
УазИ/еоа В. К. Ргс^иепсу уосаЬи1агу о{ Гегтто1о8ка1 хуогй-^гоирз т ГЬе зиЫапргар;е о! ог§апк зеткопйисГогз (Ьуоу ро1уГес.Ьпка1т з Ш и Г е ) ................................................................................................. I 104
Аоеппа 8. А., СегЛ А. 8., ОетШоо й. С., Ророо М. В. ЗГаНзНс йаГа оп поип зиГПхез т 01Й 51ауошс тапизспрГз (Ьетп^г. 1_!шу.) . 109
Ко1езоо V. V. ЗГаНзНс йкГпЪиНоп о! уегЬ 1огтз т 01й Киззкп тапизспрГз о! ГЬе XI—XIV сепГипез (Иепт^г. Ишу.) . . . 1 1 5
Виякооа М. Р. ЗГаНзНс сЬагасГепзНсз о/ агНск Гогтз т ГЬе Ви1-§апап о! 1Ье XVIII сеп!игу (Ьепт@;г. Е 1 ш у . ) .....................................131
КоИипооа Уе. А. ЗГаНзНс апа1уз13 о! ргопоиН йесНпаНоп т оПсЫ рарегз о! ГЬе XIV—XVII сепГипез т №гЬпу Моуд;огой (Оогку ГМу.) 138
IIIКсуак Т. В. МоНуаНоп аз ап оЬ]есНуе сгИепоп 1ог 1Ье ипШсаЕоп
о! кгш/пок^у (СЬегпоу/зу Е!п1у. ) ..........................................................144Хаккагоо V. Р. ЫпдшзИс Ьаск^гоипй Гог ро1у1ЬешаЕс йоситепГагу
ге1г!еуа1 (Ьеп1пдг. СепГге о! Зск-Теск 1 п Г . ) .........................................149Ве1уаеоа /.. N.. Ма1оппа /.. V., РМгоовку В. С., Уа1зепко Т. V.
Екшаркз о! шагЫпе ГгапзкЕоп оГ пош1па1 Гегш1по1о21са1 \Уогйдгоирз (Ьеп1П^г. Рей. 1пзГИи1е, Ееп1пдг. 1пзШи1е о! Ау^а 1пз1гитеп1так1П§;.6а§:е51ап Е1п!у.) . . . . . . . . . . . 154
01кирзкск\кооа М. I. Тке ргоЫет о! ипИоггпНу 1п Иге Газк оГ гпап-шасНте Йгакдие (Ьетп^г. Т 1 п 1 у . ) ...........................................................165
Тйчспко Е. V. РергозепЫюп о! па!ига1 кпдиа^е ^гатшаИса! ГеаНь гез |'п ап отГоппаНоп ге!г|еуа1 1ап^иаке (Ьеп1прг. 11шу.) . . . 1 7 3
Вегкоо V. Р. И. V. ЗкскегЬа апй ргоЫетз оГ ЬШпдиа1 кх1сод;гар11у(Ьепт^г. 1ЙП1У . ) .....................................1 а . . . . 180
Ког1оо Уи V. РгоЫетз оГ сотргеззкп оГ 1егтшо1оё;1са1 д1о5за- ггез (Ьетп^г. 11шу. ) ....................................................................................187
с о д е р ж а н и е
IБогданов В. В., Бондарко Л. В., Буторов В. Д., Герд А. С. При
кладная лингвистика и теория языка (Ленингр. ун-т) . . . . 3Богданов В. В. О трех аспектах организации предложения как
знакового объекта (Ленингр. у н - т ) ............................................................. 16Ковалик Ю. Н., Ильин Ю. В. О коэкстенсивности, смысловом тож
дестве и синонимии (Магнитогорск, политехи, ин-т) . . . . 25Дикарева С. С. Семантика анафоры (Симферопольский ун-т) . 29Фитиалов С. Я. Модель ситуации денотативного отождествления
существительных (Ленингр. ун-т) . . . . . . . . 33Гринбаум О. Н. Способы денотативного отождествления существи
тельных в русских текстах (ВЦ Госснаба С С С Р ) ...................................44Зубкова Т. И. Грамматика как иерархически организованная струк
тура (Ленингр. ун-т) .................................................................................. 48Городецкий Б. Ю. Термин и его лингвистические свойства (Моек, ун-т) 54
IIМартыненко Г. Я-, Чарская Т. К. К вопросу о гауссовости и не-
тауссовости лингвостатистических распределений (Ленингр. ун-т, Саранский у н - т ) .............................................. ....................................63
Турыгина Л. А. Системный подход к моделированию формальных свойств языка (Ленингр. высшее военное училище связи) . . . 77
Марусенко М. А. Отбор информативных параметров в задачах стилистической диагностики (Ленингр. у н - т ) .................................................... 84
Манасян Н. С. Об оценке параметров лингвистических распределений определенного класса (Ереванск. политехи, ин-т) . . . 94
Малаховский Л. В. Об отражении в языке понятия «круглости» числа (на материале английских числительных) (Ин-т языкознанияАН С С С Р ) .............................................................................................................97
Васильева Л. Р. Частотный словарь терминологических словосочетаний английского подъязыка органических полупроводников (Львовский политехи, и н - т ) ........................................................................................... 104
Аверина С. А., Герд А. С., Демидов Д. Г., Попов М. Б. Статистика суффиксов имен существительных в памятниках древнеславянскойписьменности (Ленингр. у н - т ) ...........................................................................109
Колесов В. В. Статистическое распределение глагольных форм в древнерусских источниках XI—XIV вв. (Ленингр. ун-т) . . . 1 1 5
Рускова М. П. Статистическая характеристика членных форм вболгарском языке XVIII в. (Ленингр. у н - т ) ................................................. 131
Колтунова Е. А. Статистический анализ местоименного склонения в деловой нижегородской письменности XIV—XVII вв. (Горьковск. ун-т) 138
IIIКияк Т. Р. Мотивированность как объективный критерий унифи
кации терминологии (Черновицк. ун-т) . . . . . . . 1 4 4Захаров В. П. Лингвистическое обеспечение политем этического
документального поиска (Ленингр. Ц Н Т И ) ........................................... 149Беляева Л. НМатерина Л. В., Пиотровский Р. Г., Ященко Т. В.
Принципы машинного перевода именных терминологических словосочетаний (ЛГПИ им. А. И. Герцена, Ленингр. ин-т авиац. приборостроения, Дагестанск. ун-т) . . . . . . . . . . 154
Откупщикова М. И. Проблема однородности в задаче общения пользователя с ЭВМ (Ленингр. ун-т) . . . . . . . 1 6 5
Тисенко Э. В. Представление знаний о грамматических признаках единиц естественного языка на информационно-поисковом языке (Ленингр. у н - т ) ................................................................................................... 173
Берков В. П. Л. В. Щерба и вопросы двуязычной лексикографии (Ленингр. ун-т) : . 180
Козлов Ю. В. Вопросы компрессии терминологических словников (Ленингр. у н - т ) ....................................................................... , . : 187192