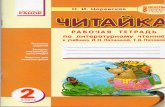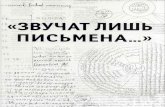Статьи Азбуковника 1596 г. в синтагматическом аспекте (в...
Transcript of Статьи Азбуковника 1596 г. в синтагматическом аспекте (в...
Министерство образования и науки Российской ФедерацииФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования"Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых"
ЯЗЫКОВЫЕ КАТЕГОРИИ И ЕДИНИЦЫ:СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Материалы десятой международной конференции,посвященной 60летию кафедры русского языка
(Владимир, 2426 сентября 2013 года)
Владимир
2013
УДК 81ББК 81.411.22 + 81.411.23
Печается по решениюредакционноиздательского совета ВлГУ
Рецензенты:dr. hab. Дорота Шумска
(Институт восточнославянской филологии, Ягеллонский университет,г. Краков, Польша)
др филол. наук проф. В.И. Карасик(Волгоградский государственный социальнопедагогический университет,
г. Волгоград, Россия)
Языковые категории и единицы: синтагматический аспект. Материалыдесятой международной конференции (Владимир, 2426 сентября 2013 года), посвященной 60летию кафедры русского языка. – Владимир: ТранзитИКС, 2013. – 694 с.
ISBN 9785831107746
Организация и проведение конференции поддержаныгрантом РФФИ 13-06-06096Г
В докладах участников десятой международной конференции обсуждаются вопросы функционирования и взаимодействия языковых категорий и единиц на основеих синтагматических свойств в рамках принятого в лингвистике антропоцентрического взгляда на язык.
Материалы конференции дают представление о современном состоянии исследований в сфере рассматриваемого комплекса языковых проблем и предназначаются для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентовфилологических факультетов.
Редакционная коллегия:Е.А. Абрамова, М.В. Артамонова, К.М. Богрова, Е.Н. Варюшенкова, М.А. Иванова,М.Вас. Пименова (отв. редактор), Н.А. Сафронова, Г.И. Столбунова, В.И. Фурашов.
ISBN 9785831107746
© Коллектив авторов, 2013© ВлГУ, ФФ, кафедра русского языка, 2013
© Издательство "ТранзитИКС", оформление, 2013
К.И. КОВАЛЕНКО (Санкт-Петербург, Россия)
СТАТЬИ АЗБУКОВНИКА 1596 Г. В СИНТАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ(в сопоставлении с текстом Четвероевангелия)*
Аннотация. В статье рассматриваются материалы Азбуковника 1596 г. , источником
для которых послужил текст Четвероевангелия. В большинстве статей Азбуковника слово
представлено без изменений — в той грамматической форме, в какой оно присутствует в
евангельском тексте. В отдельных случаях форма слова изменена. Предполагается выявить,
в каких случаях составитель изменял грамматическую форму, а также какими принципами
он руководствовался при выборе слова из нескольких контекстов.
Summary. The article deals with lexicographical materials in the Azbukovnik of1596, which
were taken from the Gospel. In the majority of the entries, headwords have the same grammatical
form as in the Gospel’s original text. Sometimes headwords are modified. It is proposed to reveal
when the compiler transformed the grammatical form and what principles he followed choosing a
word from several contexts.
Одной из первых книг, переведенных на старославянский язык, какизвестно, было Четвероевангелие. В дальнейшем первоначальныйперевод, выполненный Кириллом и Мефодием, не раз претерпевал изменения. Различают восемь основных редакций евангельского текста,которые отличаются друг от друга преимущественно на лексическомуровне [4: 817]. Лексические замены и переводы иноязычных слов, атакже объяснения инокультурных реалий, присутствующие в виде глоссна полях древнерусских произведений, в виде интерполяций в текстеили отдельных глоссариев, постепенно сформировали особый жанрдревнерусской литературы — азбуковники. Кроме собственно иноязычного слова (словосочетания) и толкования в статью азбуковника могловключаться указание на языкисточник и на литературный источник,откуда толкуемая единица, возможно, вместе с толкованием, была заимствована составителем азбуковника, а также ссылка на сходное словоили понятие в другой части азбуковника.
К середине XVI в. — времени сложения азбуковников — принципыпредставления лексического материала находились еще в стадии своегоформирования. Постепенно вырабатывается принцип алфавитногопредставления материала — и этим азбуковники отличаются от предшествующих словарных сводов. Однако в оформлении заголовочной частине всегда можно выделить какието универсальные принципы. В качестве толкуемой единицы могло выступать слово, словосочетание илицелая фраза. При этом в некоторых случаях она присутствует в тойформе, в какой встречается в тексте, а иногда изменена составителемазбуковника или автором источника, который был использован в азбуковнике.
В данный работе мы рассмотрим статьи одного из азбуковников сточки зрения представления в нем лексических материалов, заимство
208
ванных из текста Евангелий. Азбуковник, созданный в Новгородском монастыре Антония Римлянина клириком Димитрием и сохранившийся донаших дней в списке начала XVII в. (РНБ, собр. Погодина, 1642), содержит 159 статей, имеющих ссылку на четий тип Евангелия с указанием зачала. Наличие критического издания Евангелия от Матфея иИоанна [4, 5], а также широкое использование евангельских текстов всловарях старославянского и древнерусского языка позволило практически во всех случаях найти толкуемое слово, определить его грамматическую форму в контексте и сопоставить с формой, приведенной вАзбуковнике.
Итак, в 105 статьях из 159 (в 66% всех статей из Четвероевангелия)заголовочное слово или словосочетание было внесено в текст Азбуковника без изменений. Среди них встречаются слова различных частейречи:
— существительные: Вертеп, пещера (л. 28 об.), Їгемону, воеводе(л. 65), О᾽ матизме, о хитонƀ гни (л. 107 об.);
— прилагательные: Вѧщши, болшїи (л. 35), Оу᾿нƀе, лучши. или лег-чае ѿ немощи (л. 148 об.), Оу᾿смƀнъ, ко/жанъ (л. 150);
— глаголы: Бдите, воздер/житес ѿ многосонїѧ (л. 25), Варѧют,первƀе постизают (л. 27 об.), Пискахо/мъ, свирѧхомъ (л. 120);
— наречия: Абїе, тот час нимало помедлѧ (л. 15 об.), И᾽скони, / вначалƀ (л. 70), Туне, / даром (л. 146 об.);
— союзы: Же, /понеже (л. 59);— междометия: Аминь, еи. или / буди тако. или буди гланое (л. 11),
Ο᾽санна, (т) спси нывышнїи, или w” гиспа/си же (л. 106 об.).Также в качестве заголовка статьи Азбуковника может выступать
словосочетание или даже предложение: Кранїево мƀсто, мчнїѧ мƀсто(л. 72 об.), Лима савахѳанї, въскую мѧ еси оставил (л. 91), Приставникъдому /дворецкои (л. 121).
Несмотря на разнообразие форм, которые могут являться заголовочной частью статьи Азбуковника, лишь в 30 случаях мы можем сказать, что заголовочное слово или словосочетание не соответствуетсовременному пониманию того, как должно быть представлено словоили словосочетание в словаре. Этот интересный факт может быть объяснен следующим образом:
1) наречия, союзы и частицы не изменяются и, следовательно, всегда предстают в своей начальной форме;
2) часть слов употреблена в тексте в им. пад. ед. числа, в частности, многие иноязычные слова в евангельском тексте вводятся фразамитипа еже глаголетъсѧ, еже есть, еже есть нарицаемое, после которыхстоит форма существительного в им. пад. ед. числа, т.е. начальная форма слова;
09
3) у существительных мужского рода форма вин. пад. ед. числасовпадает с формой им. пад. ед. числа (бичь, вертепъ, преторъ), а также форма род. пад. мн. числа совпадает с формой им. пад. ед. числа(кринъ, мнасъ, оудъ);
4) во многих списках Четвероевангелия отражена утрата звательнойформы и совпадение ее с им. пад. (Вифсаида, Капернаоумъ).
Сопоставление заголовочной части статьи Азбуковника с текстомЧетвероевангелия показало, что в тех случаях, когда в статье указаносразу несколько источников, в Азбуковник попадает вариант, максимально близкий к современному пониманию начальной формы слова.Так, например, в статье Спира, весь сонмъ (л. 136) указано два источника: зачало 58 Евангелия от Иоанна и зачало 50 Деяний апостольских. Вэтих двух отрывках слово спира употребляется три раза: ỉоуда же прïемьспиру (Ин 18:3) [1: 354], спира же и тысѧщникъ. . . свѧзашѧ его (Ин 18:12)[1: 357] и прƀдааху павла же и ины'' нƀкыѧ ѫжникы съ/тнику и именемъỉоулïоу. спиры севастïискыѧ (Деян 27:1) [2: 101] — в форме им. пад. ед.числа, начальной форме мы и находим это слово в Азбуковнике. Аналогичный выбор начальной формы из нескольких возможных мы можемнаблюдать еще в шести статьях Азбуковника. В тех же случаях, когда вАзбуковнике приведена в качестве заголовочной предложнопадежнаяили иная форма, не соответствующая начальной, отсутсутствует и ссылка на контексты употребления того или иного слова в начальной форме.
Стремление автора глоссы или составителя азбуковника сохранитьизначальный облик слова не случайно. Определение начальной формызаимствованных слов требовало широких лингвистических знаний, и результат не всегда оказывался верным. Так, в статье Карвана, даръобƀщаныи бгу воздати (л. 76 об.) приводятся ссылки на два отрывка изЕвангелия, в которых употреблено фонетически сходные слова: арамейское корванъ ‘дар’ [7: 291] и каръвана ‘сокровищница’, от греч.κορβανᾶς [7: 282]. В статье азбуковника эти слова не разделяются, ииноязычному вкраплению из арамейского языка приписано значениегреческого слова.
В 54 статьях (34% всех статей из Четвероевангелия) можно наблюдать изменение формы заголовочного слова по сравнению с его упореблением в тексте Четвероевангелия. Эти изменения выражаются вследующем:
1) предложнопадежные формы прилагательных ед. числа изменены в им. ед.ч.: Епендит, запона ιа῎же рыболов/цы имут (л. 51 об.), ср. втексте: епендитомъ прƀпоƀсасѧ (Ин 21:7) [4: 95]; Лоно, нƀдра, или пазу-ха (л. 91 об.), ср.: сыи въ лонƀ очi (Ин 1:18) [4: 4]; при этом у прилагательных не именяется род: Горушично / горчично (л. 40), ср.: подобно ес
црствïе нбсное. / зръну гороушичноу (Мф 13:31) [1: 55];
210
2) относительные и притяжательные прилагательные изменяются воднокоренные существительные: Киринїѧ, град во wстровѣ кипръ/ском
(л. 79 об.), ср.: обрƀтошѧ члка киренеиска (Мф 27:32) [1: 108]; Е᾽хидна,змїѧ... (л. 55), ср.: (по)рожденïа ехïднова — дважды (Мф 3:7, 12:34) [1:19, 51].
В некоторых случаях приведение к им. пад. не соответствует тому,как эта форма понимается в настоящее время, в частности, змирно, ко-ша, нардо, сикеро, которые трактуются в Азбуковнике как начальныеформы, в современных словарях приводятся как змvрна, кошь, нардъ,сикера или сикеръ [7: 238, 292, 352, 602]. А отдельные слова вызываюттрудности при лексикографировании до сих пор: греч. νάρδου πιστικῆς,переведенное в большинстве текстов Евангелия от Иоанна как нардапистикиѩ [4: 56], в современных словарях представлено в разном орфографическом оформлении: как нардо пистикии [6: 206], нардопи-стикии [6: 206] и нардопистикíѧ [3: 333].
На данный момент трудно сказать, изменял ли форму заголовочного слова составитель азбуковника или же слово с переводом или толкованием было заимствовано уже в измененном виде. Клексикографическим компиляциям, возникшим до Азбуковника 1596 г.,восходят единичные статьи. Так, можно однозначно утверждать, что статья Кустодїѧ, стражїе (л. 86) заиствована из ономастикона МаксимаГрека [8: 342], заимствование еще нескольких статей остается под вопросом. Однако независимо от источников статей Азбуковника мы можем проследить некоторые тенденции к сложению так называемой«словарной формы слова», которая выражалась в следующем:
1) существительные приводятся преимущественно в форме им. падежа ед. или мн. числа;
2) относительные и притяжательные прилагательные изменяются всуществительные им. ед., от которых они образованы.
Глаголы приводятся в точности в той форме, в какой они встречаются в тексте. Также не изменяются качественные прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
ЛИТЕРАТУРА1 . Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе. Т. 7: Господа нашего Иисуса ХристаСв. Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. М., 1 992. 399 с.2. Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе. Т. 8: Деяния св. Апостолов; Посланиясв. Апостолов Иакова, Петра, Иоанна, Иуды; Послания св. Ап. Павла; Апокалипсис. М.,1 992. 511 с. [доступна на официальном сайте Троице-Сергиевой Лавры http://www.stsl.ru] .3 . Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2004 (репринт-ное издание 1900 г.). 11 20 с.4. Евангелие от Иоанна в славянской традиции / А.А. Алексеев, А.А. Пичхадзе и др. СПб.,1 998. 234 с.5. Евангелие от Матфея в славянской традиции / А.А. Алексеев, Е.Л. Алексеева и др. СПб.,2005. 1 81 с.
211
6. Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 1 0. М.: Наука, 1 983. Вып. 10. 327 с.7. Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков) / Э. Благова, Р.М. Цейтлин, С. Геро-дес и др. М.: Русский язык, 1994. 842 с.8. «Толкованiе именамъ по алфавиту» Максима Грека (две авторские редакции) // КовтунЛ.С. Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII вв. Л.: Наука, 1 975. С. 31 3-349.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта No. 133401214 "Азбуковники как лексикографическийжанр Московской Руси: традиции и инновации".
А.А. КОЗАКОВА (Ростов-на-Дону, Россия)
СЕМАНТИЧЕСКИЙ СИНКРЕТИЗМ ПОНЯТИЯ «ПЕЧАЛЬ»В ПОЭЗИИ М. ЦВЕТАЕВОЙ
Аннотация. В статье рассматриваются механизмы развития переносных значений
существительного «печаль» в поэтических текстах М. Цветаевой 1917 – 1921 гг.
Summary. The article deals with mechanisms of development of figurative meanings of the
word PECHAL ‘sadness’ in poetical texts ofM. Tsvetaeva in 1917 – 1921.
Синкретизм, проявляющийся на всех языковых уровнях: фонетическом, лексическом, грамматическом, является одной из ведущих чертидиостиля М. Цветаевой [подробно см.1]. Употребление лексем с корнемпечал’ в поэтических текстах М. Цветаевой зависит от этапа развития еёидиолекта: в разные периоды меняется семантическое наполнение данного слова и его контекстное окружение [2]. Ярче всего семантическаяёмкость корня печал ’ проявилась на III этапе развития поэтическогоидиолекта М. Цветаевой (1917 – 1921 гг.), когда, по словам О.Г. Ревзиной, в текстах поэта наблюдается многообразие художественного времени и художественного пространства [4].
В поэтических текстах 1917–1921 гг. значение сущ. печаль подвергается переосмыслению. В одном случае это конкретизация на основеметонимии «печальные глаза – печали – глаза» (опредмечивание происходит отчасти благодаря употреблению абстрактного существительногопечаль во мн.ч.):
Двух печалей первенцы:
– Вернись! – Вернись! –
Две слезы-соперницы
В одну слились [III, 249, ЦарьДевица].
В других контекстах происходит расширение значения по двумнаправлениям. Первое демонстрирует следующий сдвиг значения: ‘печаль’ – ‘любовь с привкусом печали’ (либо лишённая взаимности, либообречённая на разлуку, т.е. та, которая печёт; заметим, что в данныхконтекстах имеется в виду любовь как физическое влечение):
212