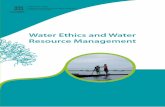Shustova Yu. Dokumenty Lvovskogo stavropigiyskogo bratstva
Transcript of Shustova Yu. Dokumenty Lvovskogo stavropigiyskogo bratstva
РУКОПИСНЫЕ ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ РУСИ2009
ДокументыЛьвовского успенского
ставропигийскогобратства
Ю. Э. Шустова
источниковедческое исследование
(1586—1788)
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУКИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
ЦЕНТР «ПАЛЕОГРАФИЯ, КОДИКОЛОГИЯ, ДИПЛОМАТИКА»
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Электронная версия данного издания является собственностью издательства,и ее распространение без согласия издательства запрещается.
63.3(2)46 97
( )
07-01-16216
:
. . , . . , . . ,
. . , . . , . .
:
. . , . . , . , . . ,
. . , . . , .- . . , . .
. : . . ., . . .
. .
(1586—1788): . — .:
, 2009. — 648 ., . — ( . ; . 8). ( .)
97
ISBN 978-5-9551-0334-1
—
, (1586—1788) , -
, .
, . - ,
XVI—XVIII ., -, . - , -
. ,
, , , - .
63.3
,
© . . , 2009 © « . ».
, 2009 ISBN 978-5-9551-0334-1 © , - -
, 2009
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ............................................................................................................................................ 7
Глава 1. Историография истории Львовского Успенского братства ........................... 25
Глава 2. Львовское Успенское Ставропигийское братство в контексте истории корпоративных объединений городского населения средневекового города ......................................................................................................... 77
§ 1. Происхождение Львовского братства .................................................................. 77§ 2. Организационная структура .................................................................................. 96§ 3. Социальный, количественный и национальный состав братства .............. 118§ 4. Общественно-политическая деятельность ....................................................... 120§ 5. Благотворительная деятельность ........................................................................ 148§ 6. Просветительская деятельность .......................................................................... 159
а ) Ш к о л а ................................................................................................................. 159б ) Ти п о г р а ф и я ................................................................................................... 194
Глава 3. Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства: структура источниковой базы и информативные возможности документов ............................................................................................................................ 217
РаздеЛ 1. Источники, отражающие функционирование Львовского братства как городской корпорации конца XVI—XVIII вв. ....................................... 220
§ 1. Уставные документы Львовского братства ....................................................... 220§ 2. Списки членов братства ......................................................................................... 236§ 3. Протоколы заседаний ............................................................................................. 246§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов ..................................................... 265§ 5. Контракты ................................................................................................................. 297§ 6. Финансово-отчетные документы ........................................................................ 315
РаздеЛ 2. Источники, отражающие отношения Львовского братства с государственными, городскими и церковными властями ...................................... 404
§ 1. Привилеи ................................................................................................................... 404§ 2. Материалы судебных процессов .......................................................................... 413§ 3. Инструкции ............................................................................................................... 425§ 4. Исходящая и входящая корреспонденция ........................................................ 432§ 5. Статейные списки русских резидентов в Польше ........................................... 438
6 Содержание
РаздеЛ 3. Источники, отражающие деятельность Львовского братства в сфере культуры .................................................................................................................. 453
§ 1. Литературно-публицистические и полемические произведения ............... 453§ 2. Предисловия, послесловия, посвящения книг, изданных в типографии Львовского братства ........................................................................... 481§ 3. Инвентари, описи и реестры................................................................................ 494
а ) а р х и в .................................................................................................................. 495б ) Б и б л и о т е к а .................................................................................................... 511
заключение ................................................................................................................................... 577
Список использованных источников и литературы .......................................................... 583
Издания типографии Львовского братства .......................................................................... 621
Именной указатель ..................................................................................................................... 629
Список сокращений ................................................................................................................... 631
ВВЕДЕНИЕ
Современное гуманитарное знание концентрирует свое внимание на че-ловеке и видит главную задачу в том, чтобы достичь понимания мира
через понимание человека. В центре внимания современной гуманитаристики стоят проблемы формирования информационных систем, типов документи-рования гуманитарной информации, ее структурных особенностей и интер-претации. В рамках современного видения общекультурной ситуации в цен-тре внимания оказывается проблема методологии исторического знания, сама возможность познания прошлого и реализации путей постижения современ-ным исследователем социокультурного пространства прошлого.
Отечественная историческая наука ищет новые пути познания прошлого, особое внимание уделяя изучению общественного, религиозного, националь-ного сознания, ментальности как важнейших составляющих в рамках каждой исторической культуры. Историческое познание, таким образом, является ди-алогом культур, в котором участвуют два собеседника: культура прошлого, яв-ляющаяся предметом изучения, и культура современная, к которой принадле-жит историк. Поднимаемые историком проблемы являются в конечном итоге актуальными проблемами той культуры, к которой он принадлежит. Но диа-лог этот осуществляется не напрямую, а посредством исторических источни-ков. В связи с этим современное источниковедение ставит задачи изучения ис-точников определенной культуры не в статичных формах, замкнутых «в себе», а рассматривает каждый исторический источник как точку касания и взаимо-вопрошания с иной культурой. Исторические источники являются «предста-вителями» другой культуры, другой эпохи, а историк выступает в роли вопро-шающего, и именно от него зависит характер вопросов, задаваемых источни-кам, способы получения необходимой информации. Произведения, созданные людьми определенной эпохи, культуры, среды, в момент их создания и после-дующего функционирования соотнесены между собой, каждое из них может быть интерпретировано лишь с учетом этих системных связей. Реконструкция культур прошлого как собеседников современной культуры позволяет по-новому осмыслить исторические цивилизации как созвучные современности, решать проблемы их сосуществования, реконструировать духовный универ-сум людей иных эпох и культур, а в их рамках феномены религиозного, обще-ственного, национального сознания.
Моим родителям и брату Всеволоду Левицким
8 Введение
Большой интерес для современной исторической науки представляют про-блемы взаимодействий различных социальных групп и институтов в обще-стве, поскольку за ними можно разглядеть реальные общественные потреб-ности времени и изменения социальных отношений, которые эти институты отражают. Изучение типологии взаимодействия и сосуществования социаль-ных организаций и структур в рамках определенной культуры позволяет вы-строить модель того или иного социокультурного типа, соотнесение с кото-рым объясняет поведение индивида как представителя определенной группы, социальной среды, ментальности, эпохи.
Особый интерес для изучения моделей социального развития, стереотипов сознания и поведения индивида в определенной культурной среде представ-ляют социокультурные институты, которые оказали значительное влияние на формирование и развитие основных культурно-исторических идей опреде-ленной культурной традиции. Возросший интерес к социальным феноменам побуждает историков все более обращаться к изучению сфер коллективного самосознания, перенести свое внимание с исторических событий на структу-ры общества. Попытки осознания взаимоотношений человека как личности и общества требуют понимания самого общества как социума, которое пред-ставляет собой особый вид отношений между людьми — частными, индиви-дуальными, но в то же время и социальными, не могущими существовать вне общественных связей. Общественные отношения между людьми выходят за границы возможной сферы личных контактов, надличностные отношения поддерживаются с помощью специальных механизмов — социальных инсти-тутов, без которых общество не могло бы существовать.
Данное исследование посвящено изучению уникального корпуса источ-ников Львовского Успенского Ставропигийского братства. Обращение к этой теме обусловлено рядом факторов. Во-первых, современная гуманитарная на-ука по-новому переосмысливает основные периоды истории Украины как в контексте общеевропейского исторического процесса, так и в контексте раз-вития и становления национального самосознания и самоутверждения укра-инской нации. Начиная со времен средневековья Украина представляла собой не традиционное закрытое общество, а цивилизацию, где происходили по-стоянное сталкивание, диалог, взаимопроникновение и взаимодействие не-скольких разных по своему типу культур.
Во-вторых, становление феномена украинского социокультурного типа как диалогически формирующегося самосознания и самоосознания нации на сты-ке разных культурно-исторических типов привело к особенностям украинско-го национального Возрождения XVI—XVII вв., центром которого стал город Львов. Эпоха европейского Возрождения с его гуманистическими идеалами и устремлениями яркое воплощение получила во Львове, городе, заметно отли-чавшемся своей политической, экономической и культурной активностью от всех других украинских городов того времени.
9Введение
В-третьих, в условиях активизации социальных, национальных и религиоз-ных противоречий на историческую авансцену выходит городское население, которое вызвало организационное оформление и функционирование много-численных братств — уникальных общественных организаций украинских мещан, по своей роли в истории народа и влиянию на формирование нацио-нального самосознания не имеющих аналогов среди европейских братских ор-ганизаций.
В-четвертых, весьма прискорбным для историков является тот факт, что источники о деятельности украинских братств в силу разных причин практи-чески не сохранились, сведения о многих из них чрезвычайно скудны, и лишь архивы некоторых организаций сохранились фрагментарно. В этом контек-сте особо ценным является то, что до наших дней сохранился почти полно-стью архив Львовского Успенского Ставропигийского братства. Имеющийся в распоряжении историков единственный в своем роде архив общественной организации во многом позволяет реконструировать историю всего брат-ского движения Украины, у истоков которого стояли львовские горожане с «Руськой улицы».
Львовское братство являлось образцом для создания новых аналогичных организаций, но отличалось существенно большими масштабами и сфера-ми деятельности, являлось наиболее крупным и влиятельным среди братств Украины, сыграло ведущую роль в украинском Возрождении конца XVI — на-чала XVII вв., оставило заметный след в истории Украины XVII—XVIII вв., внесло значительный вклад в развитие образования, книгопечатания, лите-ратуры и искусства. Львовскую Ставропигию (Успенское братство и его пре-емника Ставропигийский Институт) можно рассматривать как уникальный исторический феномен длительно существовавшего сообщества, отразивший жизнь и деятельность многих поколений украинских горожан, объединяемых общими интересами и традициями организации, функционировавшей чуть более 350 лет. Поэтому Львовское братство как длительно существовавшее сообщество, создавшее и сохранившее уникальный корпус источников, пред-ставляет большой интерес для изучения как переходной исторической эпохи (смена средневековых категорий мировоззрением Нового времени), так и по-граничности исторических культур и сообществ.
Документы из архива Львовского братства уже давно привлекают внима-ние исследователей разных дисциплин и направлений. Однако эти материа-лы используются еще далеко не в полной мере. Основной причиной этого, на мой взгляд, является неполное представление об информационном богатстве этих документов, весьма разнообразных как по содержанию, так и по видовой структуре. Богатая информационная насыщенность документов нуждается в глубоком источниковедческом анализе, культурологическом синтезе с целью понимания феномена человека во всей многоплановости его существования в определенной культурной среде.
10 Введение
Объектом представляемого исследования является корпус исторических источников, созданных самим братством или отразивших его деятельность. Это — совокупность документов XVI—XVIII вв. архива Львовского братства, а также материалы, касающиеся истории организации, отложившиеся в архи-вах других учреждений, произведения литературно-полемические, созданные членами братства и людьми с ним сотрудничавшими, печатная продукция ти-пографии братства, произведения материальной культуры, созданные стара-ниями братчиков. Все эти источники рассматриваются здесь как целостный объект, как исторический феномен, созданный общественной организацией украинских мещан как единый, внутренне взаимосвязанный комплекс ис-точников, с присущими братству способами и формами функционирования, типологическими и видовыми свойствами отложившихся в архиве докумен-тов. Источниковедческое изучение документов одного из крупнейших и влия-тельных братств Украины — Львовского Успенского — позволяет не только понять специфику украинского братского движения XVI—XVIII вв., включая ведущую роль этих организаций в украинском Возрождении конца XVI — на-чала XVII вв., но и сформулировать критерии оценки источников по истории братств как явления культуры.
Хронологические рамки исследования в основном определяются периодом существования Львовского Успенского братства. Считается, что датой основа-ния братства de jure является утверждение устава организации антиохийским патриархом Иоакимом в 1586 г., а датой его ликвидации — указ императора Австро-Венгерской монархии Иосифа II в 1788 г. Основной комплекс изучен-ных источников относится к периоду 1586—1788 гг. Однако хронологические рамки представленного исследования несколько шире этих границ, так как в нем рассматриваются документы организаций мещан Львова, существовав-ших с 20-х гг. XVI в., то есть до организационного оформления Успенского братства, а также сохранившиеся источники по архивному делу братства, от-носящиеся преимущественно к XVIII—XIX вв.
* * *Интерес к истории украинских братств, их роли в общественно-поли-
тической, духовной, национально-культурной жизни Украины возник доста-точно давно. Историография вопроса довольно обширна. Украинские и рус-ские истори ки более чем за 150 лет изучения этого феномена ввели в научный оборот и опубликовали большой комплекс источников по истории братского движения Украины, было сделано много для изучения проблем их происхо-ждения, социального состава, общественной, культурно-просветительской и издательской деятельности. В центре научных изысканий братского движения было Львовское Успенское Ставропигийское братство, во-первых, потому что оно рассматривалось как основная сила всего религиозно-культурного дви-жения Украины, во-вторых, только архив Львовской Ставропигии сохранил
11Введение
огромнейший пласт документов, позволяющий комплексно изучать историю украинских братств конца XVI—XVIII вв. Однако собственно проблемы ис-точниковедения истории украинских братств и Львовского Ставропигийского в том числе, остаются пока мало изученными.
По-новому осмыслить историю братского движения Украины, выработать новые историографические и историософские концепции этого социально-культурного феномена можно только на основании всеобъемлющего анализа источниковой базы по истории братств, разработки метода источниковедче-ского анализа всего корпуса источников. Источниковедческое исследование всего корпуса сохранившихся источников Львовского братства, осознание его как феномена культуры позволяет разрабатывать новые подходы изучения не только братского движения Украины, но и иных социокультурных обществен-ных институтов и структур.
Несмотря на давний интерес ученых к истории украинских братств, серьез-ных источниковедческих работ по этой проблематике пока нет. Начальный этап критического анализа документов из архива Львовского братства отно-сится ко второй трети XIX — началу XX вв. Первые опыты систематизации, изучения, публикации и анализа источников предприняли историки и члены Львовского Ставропигийского института. Значительный вклад в разработ-ку приемов научной критики источников внес Д. И. Зубрицкий1. Он впер-вые привлек внимание историков к богатому документальному наследию Львовского Ставропигиона, опубликовав документы из архива Львовского братства2.
Анализ информационного потенциала источников разных видов из архива Львовского братства впервые предпринял историк и руководитель Ставро-пигийского института И. И. Шараневич3. Не пытаясь представить всю видо-вую структуру сохранившихся в архиве братства источников, он не только раскрыл информационное богатство актового материала, но и показал инфор-мативные возможности делопроизводственных документов братства (про-
1 Die griechisch-katholische Stauropigiankirche in Lemberg und das mit ihr vereinigte Insti-tut // Neuestes Archiv für Geschichte Staatenkunde und Literatur. Lemberg, 1830. Nb. 77; Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. Lwów, 1836; Зубрицкий Д. О славяно-русских типографиях в Галиции и Лодомирии // ЖМНП. 1838. Ч. 19. № 9. С. 560—585; Он же. Летопись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1849. № 5—6. Ч. 62. Отд. 2; 1850. № 5. Ч. 66. Отд. 2; № 6. Ч. 67. Отд. 2.
2 Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографи-ческою комиссиею. СПб., 1848. Т. 3; СПб., 1851. Т. 4; Памятники, изданные Временной ко-миссией для разбора древних актов. Киев, 1852. Т. 3.
3 Шараневич И. И. Важнейший из давних тестаментарных легаций (фондацийных за-писов последной воле) Ставропигийского Института // Временник Ставропигийского Института. Львов, 1875. С. 146—148; Юбилейное издание в память 300-летнего основания Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1886. Т. 1. С. V—XX.
12 Введение
токолов заседаний, финансовых документов, списков членов организации)1. Историк ввёл в научный оборот не только письменное наследие львовских братчиков, но и впервые поставил вопрос о вещественных источниках, соз-данных в результате деятельности организации. В частности, он проанали-зировал особенности архитектурного ансамбля братской Успенской церкви и показал его значимость в истории Львовской Ставропигии2, отметил зна-чение других вещественных источников3. Его опыты можно характеризовать как работы по источниковедческой эвристике, поскольку они показывали ко-лоссальный информационный потенциал источников разных типов и видов.
Значительно расширил представления о видовой структуре документов Львовского братства киевский историк А. С. Крыловский. Он ввел в научный оборот и опубликовал значительное число документов из архива Львовского братства4 (это акты, протоколы заседания братства, различные хозяйственные и делопроизводственные документы, инвентари и реестры); предпринял по-пытку дать видовую структуру источникам по истории Львовского братства; применил методы сравнительного анализа для характеристики отдельных ис-точников5. В своем исследовании историк дал краткую видовую характеристи-ку источников по истории братства, впервые применил метод источниковед-
1 Шараневич И. И. Першии члены Ставропигийского братства и деятельность их от року 1586 до 1609 // ВСИ. 1875. С. 139—145; ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 170. Архив И. Шараневича. Ед. хр. 14 / п. 1; Шараневич И. И. Николай Кра-совский (Миколай Красувський) от года 1686 до года 1692 писарь управления, а от г. 1692 до г. 1697 — старейшина Ставропигийского братства во Львове. Исторический очерк с при-бавкою современных записок из сессийных книг и регестов Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1895; Он же. Юрий Ельяшевич (Георгий Ильяшевич) от 1720 г. член и в 1722—1735 годах один из сениоров Ставропигийского братства во Львове. Исторический очерк с прибавкою списка современных счетоводных книг и сессийных протоколов Львов-ского Ставропигийского братства. Львов, 1895.
2 Шараневич И. И. Ставропигийская церковь во Львове // ВСИ. Львов, 1875. С. 134—139; Он же. Исторический очерк о Ставропигийской церкви Успения Пресвятой Богородицы во Львове // Юбилейное издание в память 300-летняго основания Львовского Ставропигий-ского братства. Львов, 1886. С. 1—20. Он же. Укрухи из надгробных плит в Ставропигий-ской церкви Успения Пресвятой Богородицы во Львове // ВСИ. 1890. С. 178—190.
3 Каталог археологическо-библиографической выставки Ставропигийского Институ-та во Львове, открытой дня 10 октября 1888, а имеющей быти закрытою дня 12 януария 1889 по н. ст., продолжается до дня 28 февруария 1889, по указаниям знатоков составил д-р Исидор Шараневич. Львов, 1888; Отчет из Археологическо-библиографической выставки в Ставропигийском Институте, открытой 28 сент. (10 окт.) 1888 г., закрытой 16 (28) февр. 1889 г., и опись фотографически снятых предметов из той же выставки. Составил д-р Иси-дор Шараневич. Львов, 1889.
4 АЮЗР. Киев, 1904. Ч. 1. Т. 10—12; Крыловский А. С. Львовское Ставропигийское брат-ство: Опыт церковно-исторического исследования. Киев, 1904. Приложения.
5 Архив Юго-Западной России. Киев, 1904. Ч. 1 Т. 10—12. Крыловский А.С. Львовское Ставропигийское братство. Киев, 1904.
13Введение
ческого анализа к отдельным видам источников. Он использовал метод ком-паративного источниковедческого исследования: проводил сравнительную характеристику устава Львовского братства с уставами других украинских и белорусских братств.
В контексте истории украинской литературы рассматривал ряд философско-полемических произведений членов братства и людей, в той или иной степени воплощавших в жизнь идеалы братского движения, М. С. Грушевский1. Он ана-лизировал полемику Юрия Рогатинца, старейшины и одного из основателей Львовского братства, с Иваном Вишенским, Эпистолию 1609 г., работы братьев Зизаниев как важнейшие источники в истории философской мысли и истории культуры. Он подчеркивал значимость поэтических произведений, опублико-ванных в книгах, изданных в типографии Ставропигийского братства.
Системно вопросы источниковедения истории Украины XVI—XVII вв. на-чал разрабатывать Н. П. Ковальский. В своих работах он дал характеристи-ку источниковой базы истории Украины XVI—XVII вв., определил основные группы и виды источников, хранящихся в архивах разных стран2. Ученый впервые представил видовую структуру сохранившегося корпуса источни-ков Львовского и других братств Украины3, но исчерпывающей эту структуру назвать нельзя, так как в ней не учтены многие виды источников, некоторые виды не вполне четко сформулированы и определены.
Наиболее полный анализ корпуса источников по истории братств Украины представлен в работах Я. Д. Исаевича4, в которых предприняты попытки раз-работки методов источниковедческого анализа, определения структуры все-
1 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5: Культурні і літературні течії на Україні в XV—XVI вв. і перше відродження (1580—1610 рр.). Кн. 1—2; Київ, 1995. Т. 6: [Літературний і культурно-національний рух першої половини XVII ст.].
2 Ковальский Н. П. Источниковедение социально-экономической истории Украины (XVI — пер. пол. XVII вв.): Акты о городах. Днепропетровск, 1983; Он же. Источники по истории Украины XVI — пер. пол. XVII вв. в Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА. Днепропетровск, 1979; Он же. Источники по социально-экономической истории Украины (XVI — первая пол. XVII века): Структура источниковой базы. Днепропетровск, 1982.
3 Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины (XVI — первая половина XVII ве ка). Днепропетровск, 1977—1979. Ч. 1—5. Ковальский Н. П., Мыцык Ю. А. Анализ архивных источников по истории Украины XVI—XVII вв. Днепропетровск, 1984.
4 Ісаевич Я. Д. Найдавніші документи про діяльність братств на Україні // Історичні джерела та їх використання. Київ, 1966. Вип. 2. С. 13—22; Он же. Джерела про суспільно-політичну діяльність братств України XVI—XVIII ст. // Історичні джерела та їх викори-стання. Київ, 1969. Вип. 4. С. 37—47; Он же. Джерельні матеріали з історії українського мистецтва XVI—XVIII ст. в архіві Львівського братства // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Друга секція: Спеціальні історичні дисципліни. Київ, 1968. С. 99—101; Он же. Документи з історії бо-ротьби міських братств проти національно-релігійного гніту в першій половині XVII ст. // Середні віки на Україні. Київ, 1971. Вип. 1. С. 208—313.
14 Введение
го комплекса источников, установления информационных возможностей от-дельных видов источников из архива Львовского братства1. Эти работы мож-но рассматривать в качетсве первоначального этапа в процессе осмысления источников по истории братств как феномена познания сообщества людей в самые разные ключевые моменты самовыражения лиц определенной корпо-рации.
Однако, несмотря на значимость как самих документов по истории Львов-ского братства, так и архива организации как особого историко-культурного феномена, до сих пор не существует комплексного исследования всего корпу-са сохранившихся в результате деятельности Львовского братства источников разных типов и видов, раскрывающего их богатейший информационный по-тенциал. Настоящую работу автор рассматривает как первую попытку все-стороннего источниковедческого анализа комплекса источников Львовского Успенского братства в условиях поиска новых подходов и методов изучения прошлого современной исторической наукой.
Изучение источников по истории Львовского братства как феномена куль-туры позволит по-новому выявить общую документальную основу, которая формирует информационную структуру исследования социальных групп, вза-имосвязей личности и общества, функционирования особых конфессиональ-ных, этнических или социокультурных организаций в реальности их исто-рического времени. Изучение информационных возможностей источников устойчивой социокультурной общности позволит использовать их целостно для изучения культуры той эпохи, сравнительного изучения нескольких раз-ных, взаимодействующих типов культур, комплексного подхода к изучению человека.
Исходя из этого, основная цель предлагаемого исследования состоит в определении и изучении корпуса документов Львовского братства конца XVI—XVIII вв. как социально-культурного феномена, установлении инфор-мативных возможностей источников, систематизации и разработке методов источниковедческого анализа каждого вида выявленных источников. Своими задачами автор работы считает: на примере изучения и освещения истории Львовского братства проследить, как влияло изменение задач, функций, соци-ального состава и сфер деятельности организации на характер и тип создавае-мых документов, отражающих работу братства на разных исторических эта-пах; рассмотреть работу школы и типографии братства как особых структур-ных подразделений, имеющих самостоятельное культурологическое значение, и выявить корпус источников, связанных с их деятельностью; показать значе-ние архива Львовского братства как культурного феномена, изучить историю его создания, комплектования и использования; представить эвристические
1 Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії Української культури доби феодалізму XVI—XVIII ст. Київ, 1972.
15Введение
данные, полученные в результате выявления сохранившегося корпуса источ-ников в разных архивохранилищах, которые могут максимально дополнить и расширить информационное поле, представленное непосредственно архивом Львовского братства; определить видовую структуру корпуса выявленных ис-точников, осуществить источниковедческое исследование и разработать ме-тодику изучения каждого вида источников по истории Львовского братства; показать значение документов Львовского Ставропигийского братства для изучения конкретно-исторических проблем, а также возможности их исполь-зования самыми разными гуманитарными науками и в междисциплинарных подходах исследования общества.
Научная новизна монографии состоит в том, что в нем впервые всесторон-не анализируется комплекс документов сохранившегося архива Львовского Успенского братства и источники по истории организации, отложившиеся в фондах разных учреждений Речи Посполитой и России, в переписке и лич-ных материалах деятелей XVI—XIX вв. и историографических памятниках. Комплексное изучение источников Львовского братства позволило по-новому осветить некоторые проблемы его истории и братского движения Украины в целом. Проведенное исследование вводит в научный оборот многообраз-ный по видам и богатый по содержанию комплекс документов Львовского Успенского братства конца XVI—XVIII вв. Предложенная методика их иссле-дования, базирующаяся на принципе «диалога культур», может применяться при изучении аналогичных исторических источников этого периода и дру-гих общественных организаций, оставивших после себя сходный состав до-кументов. Такой подход к изучению источников позволит глубже проникнуть в проблемы изменения общественного сознания, даст возможность на чет-кой документальной основе изучить институты, которые формировали осо-бые формы духовной культуры. Предлагаемый материал позволит по-новому переосмыслить исторические события XVI—XVIII вв. в контексте сосуще-ствования разных культур, ментальностей, их конфликтов, взаимопроникно-вений и взаимовлияний. Анализ источников по истории Львовского братства как документов полидисциплинарного характера позволит привлечь к ним внимание не только историков, но и специалистов самых разных гуманитар-ных наук.
* * *Основу источниковой базы монографии составляет архив Львовского брат-
ства, который рассматривается как уникальный исторический феномен, как целостный, внутренне взаимосвязанный объект, в котором отражены особен-ности функционирования сообщества большой исторической длительности. Основная часть исторического архива Львовского братства хранится сейчас в Центральном государственном историческом архиве Украины во Львове в со-ставе фонда «Ставропигийский институт», который содержит около 1700 еди-
16 Введение
ниц хранения1. Некоторые документы из архива Львовского братства в XIX в. попали в разные коллекции Киева, Петербурга, Москвы; часть документов пе-решла во львовские библиотеки Оссолинских и Баворовских2 и в музейные коллекции3. В архиве организации с конца XVI в. откладывались различные группы документов в соответствии с нормами делопроизводства братства. Это — уставные грамоты, входящие документы (привилеи, грамоты, письма), выписки из актовых книг, черновики и копии исходящей документации, прото-колы заседаний братства и различные документы о финансово-хозяйственной и экономической деятельности. Эти материалы весьма разнородны по проис-хождению и характеру, созданы в разные время, написаны на многих языках и, безусловно, нуждаются в многоплановом источниковедческом исследовании. В монографии также рассматриваются реестры, инвентари, каталоги и описи архивных документов братства конца XVI—XIX вв.
Особую группу источников составляют материалы по истории братства, отложившиеся в архивах разных учреждений. Это прежде всего материа-лы Магистрата города Львова, Львовского городского суда4; документы из архивов церковных учреждений5; внешнеполитических учреждений раз-личных стран, с которыми братство имело связи (материалы о Львовском братстве Посольского и других приказов России)6; материалы церковных, политических, общественных деятелей, содержащие сведения о деятельно-сти братства7.
В качестве особых объектов исследования выбраны программно-поле-мические, литературно-публицистические произведения конца XVI—XVII вв. деятелей братского движения, без глубокого анализа которых невозмож-но понять идейно-философскую основу украинского Возрождения, драма-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129 «Ставропигийский Институт». Оп. 1.2 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 «Оссолинских»; Ф. Баво-
ровских. Ед. хр. 1136 «Теки Зубрицкого».3 Львовский исторический музей. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135:
«Альбом Ставропигийского братства».4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 9 «Львовский гродский суд, г. Львов, Львовской земли
Руского воеводства»; Ф. 52 «Магистрат города Львова».5 Описание документов архива западно-русских униатских митрополитов. 1470—1700.
СПб., 1897. Т. 1; ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Собрание Васили-анских монастырей.
6 РГАДА. Ф. 79 «Сношения России с Польшей». Оп. 1; Ф. 52 «Сношения России с Греци-ей». Оп. 1; Ф. 124 «Малороссийские дела». Оп. 3; Ф. 12 «Разряд XII».
7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 132 «Письма государственных, общественных и церков-ных деятелей Украины, Польши и других стран (коллекция)»; Ф. 309 «Научное товарище-ство им. Т. Г. Шевченко»; ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Собрание А. С. Петрушевича, Собрание Научного товарищества им. Т. Г. Шевченко; ГИМ ОПИ. Ф. 45 «Н. Н. Бантыш-Каменский», Ф. 450 «Е. В. Барсов».
17Введение
тизм религиозных отношений, направлений культурного развития Украины. Изучение идеологии братского движения имеет большое значение для пони-мания коллективной психологии украинских горожан XVI—XVII вв. На при-мере Львовского братства можно проследить не только становление мировоз-зрения братского движения в конце XVI — начале XVII вв., но и его воплоще-ние и применение украинскими братствами в течение XVII—XVIII вв., измене-ние миропонимания во второй половине XVII—XVIII вв.
Как самостоятельная группа источников рассматриваются книги, изданные в типографии Львовского братства. Братство приложило много усилий, что-бы выкупить типографию Ивана Федорова после смерти печатника. В восста-новленной и переоснащенной типографии братство издавало книги с 1591 г. вплоть до ликвидации братства в 1788 г. В 1789—1939 гг. типогра фия при-надлежала преемнику братства Ставропигийскому Институту и прекратила свое существование в 1942 г. Многие издания братской типографии являются уникальными памятниками культуры. Печатная продукция Львовского брат-ства является особым видом источников, комплексный источниковедческий анализ которых позволяет наиболее полно показать их информационное бо-гатство. Особого внимания заслуживают предисловия и послесловия к из-даниям братства. На примере книгоиздательской деятельности Львовского братства можно проследить чрезвычайно важные аспекты для понимания из-менения психологии и личной культуры человека городской среды и человека «из народа» в более широком смысле. Формируя книжный рынок, типогра-фия Львовского братства существенно влияла не только на членов братства и людей с ним сотрудничавших, но главным образом оказывала влияние на культуру, мировидение всего украинского населения в Речи Посполитой, где распространялись издания братской типографии; способствовала языковой и национальной самоидентификации украинского народа, приобщавшегося к высокой книжной культуре на родном языке и в родной культурной тради-ции; оказала влияние на становление и развитие книгоиздания в других пра-вославных странах (России и Молдавии).
Значительная часть документов из архива Львовского братства опубликова-на. Библиография изданий, в которых изданы документы из братского архива, довольно большая. Публикации документов относятся в основном ко второй половине XIX — началу XX вв. Во многих изданиях документы часто дубли-руются, особенно установочные грамоты и документы XVI — начала XVII вв. Качество публикаций различно и, к сожалению, не всегда удовлетворительно, особенно это относится к приемам и методам передачи текстов, особенностям их транскрибирования. Невольные ошибки, допущенные издателями, в сово-купности с умышленным искажением передаваемых текстов (это относится в основном к российским изданиям, выходившим в условиях жесткой цензуры и гонений на украинский язык в России, начавшихся в 60-х гг. XIX в.) искажают не только язык источников, но часто и их смысл. Поэтому при источниковед-
18 Введение
ческом анализе необходимо обращение к оригиналам документов с целью из-бежания неточностей и искажений.
Все имеющиеся публикации источников по истории Львовского братства можно систематизировать по типам изданий:
публикации документов в многотомных изданиях археографических •комиссий России;издания документов братства Ставропигийским Институтом;•публикации документов в приложениях к историческим исследовани-•ям и монографиям;публикации документов в периодических изданиях;•тематические сборники документов, куда вошли материалы о Львовском •братстве.
В качетсве первых публикаций документов по истории Львовского брат-ства можно рассматривать отпечатанные в братской типографии грамоты вос-точных пат риархов, киевских митрополитов, воззваний самого братства кон-ца XVI—XVII вв., но эти издания документов преследовали конкретные цели, обуслов ленные нуждами братства. Первым научным изданием документов Львов ского братства являются опубликованные в Петербурге в рамках много-томного издания Археографической комиссии материалы из архива Львовского братства и архива бывших греко-униатских митрополитов при Святейшем Синоде, помещенные в двух томах «Актов, относящихся к истории Западной России»1. Всего здесь было опубликовано 35 документов о Львовском братстве, учителе братской школы Стефане Зизании, а также впервые увидел свет вы-дающийся памятник полемической литературы начала XVII в. «Пересторога»2, найденный Д. И. Зубрицким в библиотеке Львовского братства. Некоторые из этих документов не сохранились до наших дней. Вскоре Петер бур гская Археографическая комиссия издает еще одну многотомную серию: «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России», где в двух томах было опубликовано 28 документов из архива Львовского братства, присланных в Петербург Д. И. Зубрицким3, и «Порядок школьный»4 или устав Львовской братской школы, предоставленный Я. Ф. Головацким.
Документы о Львовском братстве вошли в состав в 3-го тома «Памят ников, изданных Киевской комиссией для разбора древних актов», где было опу-
1 Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографи-ческою комиссиею (далее — АОИЗР). СПб., 1848. Т. 3: (1544—1587 гг.). С. 301—302, 317; СПб., Т. 4: (1588—1632 гг.). С. 5—509.
2 АОИЗР. Т. 4. С. 203—236.3 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Архе-
ографическою комиссиею (далее — АОИЮЗР). СПб., 1863. Т. 1: (1361—1598 гг.). С. 268—277; СПб., 1865. Т. 2: (1599—1636). С. 29—30, 202—203.
4 АОИЮЗР. Т. 2. С. 181—184.
19Введение
бликовано 14 документов из архива Львовского братства, предоставленных Д. И. Зубрицким1. В 1898 г. вышло второе издание «Памятников...», существен-но дополненное: была расширена тематика публикуемых документов2 и взяты документы из Московского архива Министерства иностранных дел и из архи-ва Святейшего Синода3.
Лучшими публикациями документов Львовского братства в XIX в. явля-ются издания Ставропигийского Института. Большой интерес представляет 1-й том «Юбилейного издания в память 300-летнего основания Львовского братства»4, в который было включено 118 документов из архива Львовского братства за конец XVI—XVII вв. Здесь впервые были опубликованы исходя-щие письма, сохранившиеся в составе книги копий посылаемой корреспон-денции братства. Впервые в этом издании воспроизведены печати, сохранив-шиеся в архиве (помещено 23 печати). Подготовил публикацию документов И. И. Шараневич. Во втором томе «Юбилейного издания», подготовленного И. Кристиняцким, «Diplomata Statutaria a Patriarchis Orientalibus confraternitati Stauropigianae Leopoliensi... gata»,5 помещены уставные грамоты восточных патриархов Львовскому братству за 1586—1592 гг. и уставные документы Львовской братской школы, причем публикация документов осуществлена на языке оригинала с помещением переводов на украинский язык, осуществлен-ных братчиками в конце XVI в. В 3-й том «Юбилейного издания» — «Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis», подготовленный В. Мильковичем6, вошли документы из архива братства, относящиеся не только к многосторон-ней деятельности братства, но и документы по истории православной церк-ви в Польше и материалы об отношении польских властей разных уровней к украинскому народу. Публикация охватывает период начала XVI — середины XVII вв., в издании, помимо основного текста документа, помещены адреса, аннотации и другие пометы на документах, редакции документа, переводы, составленные самими братчиками, что позволяет значительно расширить ис-пользование этих источников и создает целостное впечатление о документе. «Monumenta Confraternitatis...» предполагалось выпустить в двух томах, и во 2-м томе поместить документы середины XVII — начала XVIII вв., но эта ра-бота осталась незавершенной, равно как и 4-й том, где Шараневич собирался
1 Памятники, издаваемые Временною комиссией для разбора древних актов (далее — ПКК). Киев, 1852. Т. 3.
2 ПКК. Киев, 1898. Т. 3. С. 11—12, 33—36, 39—54. 3 Там же. С. 33—36, 65—66.4 Юбилейное издание в память 300-летнего основания Львовского Ставропигийского
братства (далее — ЮИЛСБ). Львов, 1886. Т. 1.5 Diplomata Statutaria a Patriarchis Orientalibus Confraternitati Stauropigianae Leopoliensi a.
1586—1592 data, cum aliis litteris coaevis et appendice. Leopoli, 1895. T. 2.6 Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis. Leopolis, 1895. T. 1.
20 Введение
опубликовать делопроизводственные и финансово-хозяйственные документы братства. К своему 350-летнему юбилею Ставропигийский Институт подгото-вил еще один сборник документов, в котором были помещены основные доку-менты по истории братства XVIII в., в основном опубликованные ранее1.
Список фундаментальных публикаций источников по истории Львовского братства дополняют изданные в 1868 г. А. С. Петрушевичем «Акты, относящие-ся к истории Южнозападной Руси»2. Как и в предыдущих публикациях, основ-ное внимание издатель уделил грамотам церковных иерархов братству, но в то же время этот сборник документов интересен тем, что в нем впервые были опубликованы документы церковных братств, существовавших в предместьях Львова в середине XVI в. еще до организационного оформления Успенского братства, жалованные грамоты Львовского братства, первый сохранившийся реестр архивных документов братства, завещания братству крупных денеж-ных сумм. Недостатком этого сборника, как и ряда других публикаций того времени, является неточное прочтение отдельных слов и выражений при пере-даче текстов документов.
Большое число документов о Львовском братстве опубликовал С. Т. Голубев в приложениях к монографии «Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники»3. В 1-м томе помещено 24 документа о Львовском братстве за пе-риод 1591—1629 гг., оригиналы которых хранились в архиве Ставропигийского института, за исключением письма киевского митрополита Иова Борецкого братству, хранившегося в Императорской Публичной библиотеке в Петербурге. Голубев впервые опубликовал ряд документов о школе Львовского братства, реестр книг библиотеки братства 1601 г. Во 2-м томе опубликовано 12 доку-ментов за 1633—1647 гг., среди которых документы о деятельности братской типографии, об учреждении в 1645 г. младшего Онуфриевского братства и др. Документы снабжены подробными примечаниями, в которых цитируются про-токолы заседаний братства и другие документы, не вошедшие в публикацию. Несколько документов из архива Львовского братства Голубев опубликовал в «Материалах для истории Западно-Русской церкви», вышедших как введение к монографии о Петре Могиле4. Большинство опубликованных Голубевым до-кументов в дальнейшем не переиздавались.
1 Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона: Материалы, от-носящиеся к истории Львовского Ставропигиона в 1700—1767 гг. / А. Копыстянский. Львов, 1936. Ч. 1; Копыстянский А. Дополнение к материалам, относящимся к истории Львовского Ставропигиона в XVIII ст. // Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставро-пигиона. Ч. 2 // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 145—163.
2 Акты, относящиеся к истории Южнозападной Руси. Львов, 1868.3 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883—1898.
Т. 1—2. Примечания.4 Голубев С. Т. Материалы для истории Западно-Русской церкви. Киев, 1891.
21Введение
Ряд документов о Львовском братстве издал Я. Ф. Головацкий в прило-жениях к своим работам1. Отдельно он издал «Порядок школьный» — устав братской школы2. Это издание содержит его текстологический анализ и срав-нение устава школы Львовского братства и устава школы Луцкого братства, на основании которого филолог делает вывод, что устав Луцкой школы являет-ся копией с устава Львовской школы, в котором пропущены некоторые слова, требования и сокращено количество преподаваемых предметов. Такой срав-нительный текстологический анализ Львовского братства с аналогичными со-хранившимися документами других братств был проведен Я. Ф. Головацким впервые.
Несколько документов, относящихся также к начальному периоду истории братства, опубликовал Ф. Срибный3.
Особая роль в публикации документов Львовского братства принадлежит А. С. Крыловскому, который издал документы по истории братства в трех то-мах «Архива Юго-Западной России»4 и в приложениях к своей монографии о Львовском братстве5. В 10-й том «Архива...», который имеет подзаголовок «Акты, относящиеся к истории Галицко-русской церкви (1423—1714)», Крыловский включил 114 документов о Львовском братстве, большая часть которых была взята из архива Ставропигийского Института, а также документы из львов-ских Бернардинского и Магистратского архивов, библиотеки Оссолинских и из Санкт-Петербургского архива западно-униатских митрополитов. Это в основ-ном — грамоты и привилеи Львовскому братству, письма разных лиц и органи-заций братству, извлечения из гродских книг о религиозно-церковной деятель-ности братства, о львовских епископах и взаимоотношениях Львовского еписко-пата и братства в конце XVI — начале XVIII вв. Последующие два тома «Архива Юго-Западной России» полностью посвящены Львовскому братству и имеют общее заглавие «Акты, относящиеся к истории Львовского Ставропигиального братства». Одиннадцатый том включает «Протоколы и другие деловые бумаги Львовского Ставропигиального братства (1599—1702)», и содержит протоко-лы заседаний братства за 1599—1650 гг., финансовые документы и приходно-расходные книги разного назначения; 12-й том «Протоколы, деловые бумаги и
1 Головацкий Я. Ф. Начало и действование Львовского Ставропигийского братства по историко-литературному отношению. Львов, 1860. С. 40—43; Он же. Юбилейное издание в память 300-летнего основания Львовского Ставропигийского братства. Вильна, 1887. С. 5—6.
2 Головацкий Я. Ф. Порядок школьный или устав Ставропигийской греко-русской шко-лы во Львове 1586 года. Львов, 1863.
3 Срібний Ф. Два епізоди з історії боротьби Гедеона Балабана з Львівським братством // ЗНТШ. Львів, 1914. Т. 117, 118. С. 207—214.
4 Архив Юго-Западной России (далее — АЮЗР). Киев, 1904. Ч. 1. Т. 10—12.5 Крыловский А. С. Львовское Ставропигийское братство: Опыт церковно-исторического
исследования. Киев, 1904.
22 Введение
переписка Львовского Ставропигиального брат ства (1586—1881 гг.)» включает протоколы заседаний за 1686—1725 гг., инвентари и реестры имущества брат-ства и братской Успенской церкви, протоколы заседаний и приходно-расходные книги Онуфриевского младшего братства, находившегося под покровитель-ством старшего Успенского братства, материалы о типографии, Помянник Львовского Ставропигийского братства, а также грамоты, входящую и исхо-дящую корреспонденцию за 1590—1713 гг. Все эти источники, в большинстве уникальные в своем роде, были опубликованы впервые и значительно расши-рили видовую структуру источников по истории Львовского братства, исто-рии церкви и политических, национальных и культурных отношений того вре-мени. Сам факт издания А. С. Крыловским этих источников явился большим вкладом в историческую науку. Это до сих пор единственная публикация де-лопроизводственных материалов Львовского братства. Но Крыловский не по-пытался систематизировать эти весьма сложные как для изучения, так и для использования источники, особенно это касается протоколов и финансово-хозяйственных документов, где записи велись часто непоследовательно, были хаотично подшиты и переплетены. Несмотря на ряд археографических недо-статков, можно сказать, что в «Архиве Юго-Западной России» был впервые опубликован корпус, представляющий практически все основные виды источ-ников, сохранившихся в результате деятельности братства.
Источники по истории Львовского братства издавались в некоторых пе-риодических изданиях. Особого внимания заслуживает «Временник Ставро-пигийского Института», начавший выходить с 1864 года. Одной из целей этого ежегодного издания Ставропигийского Института была публикация докумен-тов по истории своей организации, церкви, народа. В предисловии к первому выпуску «Временника» сообщается, что архив Ставропигийского Института содержит «дорогоценныи материялы до отечественной истории, обнародов-ление которых становити будет изобильныи пособия к изучению многих со-бытий и к дальшим историческим исследованиям»1. Как правило, подборки документов в ежегоднике были тематическими («Корреспонденция межи Климентом папою VIII и князем Константином Острожским»2, «Патриар-шия грамоты, изданы в пользу Львовского Ставропигийского братства при храме Успения пресвятой Богородицы»3, «Акты, относящиеся к возобновле-нию во Львове сгоревшей Ставропигиальной Успенской церкви, с больницею, странноприимным домом, школою и типографиею»)4, реже публиковались отдельные документы («Хронологическая роспись вписных братий прежде братства Львовского Успения пресвятыя Богородицы, ныне же Института
1 Временник Ставропигийского Института (далее — ВСИ). 1864. С. IV.2 Там же. 1865. С. 83—87.3 Там же. 1869. С. 113—140.4 Там же. 1874. С. 113—139.
23Введение
Ставропигийского»1). Как правило, все документы сопровождались коммен-тариями и историческими справками. Часто публикации документов готови-ли крупные ученые историки и филологи: А. С. Петрушевич, Я. Ф. Головацкий, И. И. Шараневич и др.
В советское время документы о Львовском братстве публиковались, как правило, в различных тематических сборниках, среди которых следует от-метить такие как «Социальная борьба в городе Львове в XVI—XVIII вв.»2, «Исторические связи народов СССР и Румынии в XV — начале XVIII в.»3, «История Львова в документах и материалах»4 и др. Выборочность источников для таких сборников, их идеологическая направленность, частая публикация отрывков документов существенно снижают возможность полноценного ис-пользования опубликованных материалов. В этом ряду необходимо выделить два сборника, которые отличаются высоким качеством подбора публикуемых документов и которые позволяют глубже понять социально-культурные про-цессы, проходившие на Украине в конце XVI—XVII вв. Это сборник докумен-тов, «Первопечатник Иван Федоров и его последователи на Украине»5, по-священный книгоиздательской деятельности и культурно-просветительской деятельности украинских братств6. Большой интерес представляют недавно опубликованные актовые материалы о руководителях и членах Львовского братства — братьях Юрии и Иване Рогатинцах и Иване Красовском7. Это — первые публикации источников такого вида, позволяющие всесторонне узнать о жизни членов организации. Привилеи и прочие правовые документы, регла-ментирующие деятельность братства, были переизданы в 2000 г. с учетом со-временных археографических и научных требований в сборнике документов «Привилеи национальных общин города Львова XІV—ХVІІI вв.»8.
Сохранившийся комплекс источников по истории Львовского братства вы-зывал большой интерес у историков, в результате чего документы по истории братства активно публиковали, особенно во второй половине XIX — начале
1 ВСИ. 1864. С. 81—94.2 Соціальна боротьба в місті Львові в XVI—XVIII ст.: Збірник документів. Львів, 1961.3 Исторические связи народов СССР и Румынии в XV — начале XVIII в.: Документы и
материалы. М., 1965. Т. 1.4 Історія Львова в документах і матеріалах: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1986.5 Першодрукар Іва Федоров та його послідовники на Україні (XVI — перша половина
XVII ст.): Збірник документів. Київ, 1975.6 Пам’ятки братських шкіл на Україні. Київ, 1988.7 Капраль М. Брати Рогатинці — старійшини Львівського Успенського братства //
Україна в минулому. Київ; Львів, 1992. Вип. 2. С. 50—60; Капраль М. Актові матеріали до біографії Івана Красовського // Україна в минулому. Київ; Львів, 1993. Вип. 4. С. 90—131.
8 Привілеї національних громад міста Львова XІV—ХVІІI ст.: Збірник документів / Упо-ряд. М. Капраль. Львів, 2000 (Львівські історичні пам’ятки. Т. 2).
24 Введение
XX вв. Оригиналы некоторых документов не сохранились до наших дней и из-вестны только по этим публикациям. Изучение истории публикаций докумен-тов Львовского братства позволяет проследить, как менялся интерес в науке и обществе к истории братства, его документам. В этой связи особый интерес представляют архивные материалы, касающиеся подготовки документов брат-ства к публикации, сохранившиеся в архиве Ставропигийского Института. Работа по выявлению документов Львовского братства в фондах различных учреждений Львова и в архивах других городов и стран, с которыми братство поддерживало отношения, только начинается и, несомненно, должна быть продолжена.
Особая категория источников — исторические материалы: оценки дея-тельности и исторической роли Львовского братства в трудах историков, начиная с хроник XVIII в. Ю.-Б. Зиморовича и Б. Кровницкого. В моно-графии использовано не только опубликованное, но и рукописное насле-дие ученых Д. И. Зубрицкого, Н. Н. Бантыш-Каменского, А. С. Петрушевича, М. С. Грушевского и других, позволяющее проследить изменение интереса к братству историков разных школ и направлений.
ГлаВа 1
ИсторИоГрафИя ИсторИИ льВоВскоГо УспЕНскоГо братстВа
Проблемы истории Львовского Успенского братства рассматривались и освещались в научной литературе начиная с первой половины XIX в.
Но особенности историографии вопроса состоят не столько в наличии почти двухвековой традиции изучения Львовского братства многими исследователя-ми, сколько в разнообразии подходов и интерпретаций его деятельности раз-личными историческими школами, которые отличались разными методологи-ческими и религиозно-конфессиональными подходами.
Несмотря на довольно обширную историографию проблемы до сих пор нет обстоятельного и комплексного историографического обзора и анализа всей многочисленной литературы по истории Львовского Успенского братства и украинского братского движения в целом. Исключением является недавно опубликованный краткий обзор историографии Львовского братства, в кото-ром рассмотрены основные концепции и подходы исследователей1. Основной особенностью украинской историографии братств до середины XX в. можно назвать то, что она развивалась параллельно в нескольких странах, в состав которых входили украинские земли (Австро-Венгрия, Россия, Польша), что накладывало отпечаток не только на характер исследований, но и на наличие используемых источников.
Начало XVII — конец XVIII вв. К начальному периоду историографии Львов ского братства можно отнести различные исторические записки, сведе-ния о происхождении и юридических правах организации, составленные са-мими членами братства. Особый интерес среди такого рода произведений, со-хранившихся в архиве, представляет предисловие к книге «Plantatio porządku
1 Капраль М. Історіографія Львівського Успенського братства // Україна в минулому. Київ; Львів, 1992. Вип. 1. С. 54—71.
26 Глава первая
y elektiey Prawosławnego bractwa Lwowskiego Stawropigion cerkwie sławnego Uspenia Przenaswiętszej Panny Mariey» («Пересмотр порядка и выборные со-брания православного братства церкви Пречистого Успения Девы Марии»), или «Плянтацийная книга», 1686 г. — книга для записей протоколов заседа-ний и хозяйственно-финансовых документов1. В предисловии к этой книге автор (вероятно, писарь братства) излагает историю основания организации, говорит о ее целях, задачах и значении. Это одна из первых попыток осмыс-ления начального периода в истории Львовского братства. Особый интерес представляют сообщения о Казацкой войне и ее последствиях для жителей Львова, о «несчастиях, начавшихся для христианского народа в 1648—1672 годах», очевидцем которых был автор этой исторической записки.
К попытке осмысления роли братства в истории христианской церкви и роли членов организации в истории общества можно отнести помянники братства, а среди них самый обстоятельный из дошедших до нас «Анамнисис, альбо припоминаня в молитвах церковных иерейских имен, векуистои памя-ти годных зешлых в вере православной... Преведеное з помничка, писанного около року 1604», который был напечатан в Ставропигийской типографии 28 мая 1695 г2. «Анамнисис» содержит несколько оригинальных исторических очерков и заметок. Как самостоятельное историческое произведение можно рассматривать «Повесть короткую о патриархах», в которой содержатся исто-рические сведения о восточных патриархах, среди которых особое внимание привлекают сообщения о посещении патриархами Польши и города Львова в частности. При перечислении имен исторических деятелей, церковных ие-рархов, членов братства для поминания в церковной службе в «Анамнисисе» содержатся сведения о событиях, связанных с жизнью и деятельностью людей, чьи имена внесены в братский помянник.
К попыткам исторического осмысления значимости своей организации можно отнести и первые публикации документов типографией Львовского братства, относящиеся к концу XVI—XVII вв3. В архиве сохранились списки документов, составленные членами братства по принципу происхождения
1 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 «Оссолинских». Ед. хр. II, 2125. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 164—352.
2 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 77 А. С. Петрушевича. Сла-вянские рукописи. Ед. хр. 116. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 470—508.
3 Грамота константинопольского патриарха Иеремии киевскому митрополиту Михаилу Рогозе. Львов: Типография братства, [XI.1589].
Соборная грамота киевского митрополита Михаила и епископов. Львов: Типография братства, [20.VI.1590].
Грамота Львовского братства о притеснениях украинского населения и о деятельности Львовского Успенского братства. Львов: Типография братства, 1608.
Собор в богоспасаемом граде Вильни бывший. Львов: Типография братства, 1614.Грамота иерусалимского патриарха Нектария. Львов: Типография братства, 1670.
27Историография истории Львовского Успенского братства
источников1. Однако все эти работы не преследовали цель научного истори-ческого исследования, а были вызваны жизненной необходимостью самой организации. Но постоянный интерес к истории своей организации среди членов братства подготовил почву для научного изучения истории и деятель-ности Львовской Ставропигии. Поэтому вполне закономерно, что первые на-учные попытки исследования истории братства в XIX в. принадлежат членам Ставропигийского Института (в 1788 г. после ликвидации братств в Австро-Венгрии Львовское братство было реорганизовано в Ставропигийский Ин-ститут), которые впервые ввели в научный оборот многочисленные докумен-ты архива своей организации и положили начало историческим исследовани-ям Львовского Успенского братства.
К такого рода сочинениям можно отнести «Книгу истории Святоонуф-риевского монастыря», составленную в 1771 г. Бонифатием Кровницким в виде хроники и тогда же переписанную Гавриилом Попелем2. После 1771 г. разными лицами вносились дополнения в хронику вплоть до 1817 г., а в 1866 г. обзор событий из жизни монастыря за более позднее время сделал Модест Моциевский3. История находившегося под опекой Львовского братства Онуфриевского монастыря, Б. Кровницкого представляет интерес как исто-рическое сочинение. Несмотря на ограниченную источниковую базу хрони-ки, основанную на небольшом количестве документов, и вольную интерпре-тацию известий хроники Юзефа-Бартоломея Зиморовича, Кровницкий опи-сывает взаимоотношения братства с Онуфриевским монастырем. Эта тема не получила разработку во всей последующей историографии Львовского братства, несмотря на большое число сохранившихся источников. В хрони-ке Кровницкого изложено содержание отдельных актов, касающихся истории взаимоотношений Львовского братства с монастырем Св. Онуфрия в течение XVII—XVIII вв., причем многие из указанных документов утрачены, поэтому хроника Кровницкого может быть использована в качестве первоисточника. Хроника Кровницкого сохранилась только в рукописи. Это сочинение мож-но считать первым исследованием, положившим начало научного изучения истории Львовского братства.
Вторая четверть XIX — первая треть XX в. Изучение истории Львовского братства членами Ставропигийского Института.
В 1825 г. сеньором Ставропигийского Института Александром Иля шевичем был составлен «Wypis historyczno-chronologiczny» об основании
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129 «Ставропигийский Институт». Оп. 1. Д. 444, 750, 1032; Львовский исторический музей. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства».
2 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Собрание василианских мо-настырей. Ед. хр. 132 (144) «Ksęga historyi monasteru lwowskiego».
3 Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму XVI—XVIII ст. Київ, 1972. С. 49.
28 Глава первая
Ставро пигийского братства1. Эта «Выписка» была вписана в так называемый «Альбом Ставропигийского института» — книгу, в которую с конца XVI в. заносились самые важные документы, регламентирующие деятельность ор-ганизации, имена ее членов. Автор уже в пространном заголовке обращает внимание читателя, что он собрал сведения из разных «источников и доку-ментов». Начинается «Выписка» с краткого обзора событий начиная с 1246 г. При написании этой части Александр Иляшевич пользовался исторически-ми хрониками Яна Длугоша, Мацея Меховского, Яна Квяткевича, Бартоломея Зиморовича. Предваряет историю самого братства рассказ об Успенской церк-ви2. Иляшевич пишет об основании братства в 1586 г., получении и подтверж-дении патриархами и польскими королями важнейших грамот, регламенти-рующих его деятельность, о переходе в 1708 г. под юрисдикцию католиче-ской церкви. Заканчивается хроника сообщением о документах, касающихся преобразования братства в Ставропигийский институт в 1788 г. Летописная форма изложения материала говорит о попытке автора продолжать средне-вековую историческую традицию применительно к истории одной органи-зации. К этой работе обращались многие историки братства в XIX—ХХ вв., однако до недавнего времени она оставалась неопубликованной. Публикацию работы А. Иляшевича на языке оригинала (польском) подготовила в 2002 г. Н. Н. Царёва3.
Большой вклад в изучение истории Львовского братства внес Денис Иванович Зубрицкий (1777—1862), которого можно считать первым профессиональным историком в Галиции. В 1829 г. он стал членом, а в 1830 г. был избран замести-телем архивариуса Ставропигийского Института. До 1847 г. Д. И. Зубрицкий занимал различные выборные должности — префекта (руководителя) типо-графии, провизора (наставника) школы, трижды избирался вице-сеньором, но чаще всего — руководителем архива и библиотеки4. Он впервые разо-брал и систематизировал сохранившийся архив братства. Работа над мате-
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 160—181.
2 Свидетельства А. Иляшевича по истории Успенской церкви во Львове подробно про-анализировал И. И. Шараневич (см.: Шараневич И. И. Исторический очерк о Ставропигий-ской церкви Успения Богородицы // Юбилейное издание в память 300-летнего основания Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1886. С. 3).
3 Царьова Н. М. Олександр Іляшевич та перша розвідка з історії Львівського Успенського ставропігійського братства // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2002. Вип. 37. Част. 2. С. 73—87.
4 Ісаєвич Я. Д. Д. І. Зубрицький і його діяльність в галузі спеціальних історичних дисциплін // Науково-інформаційний бюлетень архівного управління УРСР. Київ, 1963. № 1. С. 48—58. Он же. Зубрицкий Денис Иванович // Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979. С. 161—162; Орлевич I. Денис Зубрицький — автор «Хрониiки мiста Львова» // Зубрицький Д. Хронiка мiста Львова. Львiв, 2002. С. II.
29Историография истории Львовского Успенского братства
риалами чрезвычайно заинтересовала и увлекла Зубрицкого. Ознакомление с очерком Александра Иляшевича, работа в Ставропигийском архиве побу-дили Зубрицкого заняться изучением истории Львовского братства. Первый результат этой работы Зубрицкий опубликовал в 1830 г. на немецком языке1. Изучение материалов было продолжено, и в 1832 г. Зубрицкий завершает рабо-ту над «Хроникой бывшего братства, а теперь Ставропигийского Института» (Kronika). Она была переведена на русский язык и в 1849—1850 гг. опубликова-на в Журнале Министерства народного просвещения2. В 1912 г. вышло второе польское издание этой работы, несколько дополненное А. С. Петрушевичем3. Располагая большим фактическим материалом, Зубрицкий преследовал одно-временно две цели: освещение истории Львовского братства и введение в науч-ный оборот документов из архива Ставропигийского Института. Летописное (погодное) изложение материала позволило ему скрупулезно осветить историю деятельности братства начиная с середины XVI в. и вплоть до преобразования в Ставропигийский Институт. Зубрицкий впервые привлек внимание историков к богатому документальному наследию Львовского Ставропигиона. Впервые была затронута проблема происхождения братства. «Летопись Львовского Ставропигийского братства» положила начало изучению практически всех сфер деятельности братства — религиозной, общественно-политической, национально-культурной, благотворительной; «Летопись...» Д. И. Зубрицкого, с которой начинается систематическое изучение истории Львовского братства, до сих пор остается непревзойденной по богатству фактического материала, относящегося ко всеукраинским историческим процессам XVI—XVIII вв. При этом Зубрицкий был свободен от конфессиональных и политических цензур-ных ограничений, которые довлели над последующими русскими и советски-ми исследователями.
В 1836 г. Зубрицкий начал изучать издательскую деятельность Львовского братства4. Как и предыдущий, этот труд построен по хронологическому прин-ципу. Зубрицкий освещает историю одной из важнейших структур Львовского братства. Впервые был предложен перечень изданных здесь старопечатных книг, который расширялся и дополнялся последующими историками.
Работы Д. И. Зубрицкого привлекли внимание историков к уникальным историческим источникам, которые хранились в Ставропигийском архиве. Ему
1 Die griechisch-katholische Stauropigiankirche in Lemberg und das mit ihr vereinigte Insti-tut // Neuestes Archiv für Geschichte Staatenkunde und Literatur. Lemberg, 1830. Nb. 77.
2 Зубрицкий Д. Летопись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1849. № 5—6. Ч. 62. Отд. 2; 1850. № 5. Ч. 66. Отд. 2; № 6. Ч. 67. Отд. 2.
3 Временник Ставропигийского Института на 1913 год. Львов, 1912. 4 Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. Lwów, 1836.
На русском языке опубликовано в сокращенном варианте: Зубрицкий Д. О славяно-русских типографиях в Галиции и Лодомирии // ЖМНП. 1838. Ч. 19. № 9. С. 560—585.
30 Глава первая
принадлежит и первенство в публикации документов из архива Львовского братства в российских археографических изданиях1. К проблемам, связанным с историей Львовского братства, Зубрицкий неоднократно возвращался в ис-следованиях, посвященных истории родного края2. В них, в частности, с боль-шой тщательностью переданы содержание и тексты многих документов, сегод-ня утраченных.
Весомый вклад в изучение истории Львовского братства внес видный украин ский историк Исидор Иванович Шараневич (1829—1901), долгое вре-мя бывший сеньором Ставропигийского Института и профессором истории Львовского университета. Он положил начало новым направлениям историко-культурной деятельности Ставропигийского Института и исследованиям истории Львовского братства.
В 1886 г. благодаря стараниям и усилиям И. И. Шараневича при Ставро-пигий ском Институте открылся музей, где были собраны археологические находки, предметы церковного искусства, богатейшая коллекция рукописных книг XVI—XVIII вв., портреты членов Львовского братства, монеты, найден-ные в Галиции, письма и грамоты, относящиеся к истории Галицкого края3. И. Шараневич составил первую опись этого собрания4. В 1888 г. под руковод-ством Шараневича Ставропигийский Институт подготовил археологическо-библиографическую выставку, приуроченную к 900-летию крещения Руси, имевшую большой резонанс5.
1 Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографи-ческою комиссиею. СПб., 1848. Т. 3; СПб., 1851. Т. 4; Памятники, изданные Временной ко-миссией для разбора древних актов. Киев, 1852. Т. 3.
2 Zubrycki D. Rys historyi narodu ruskiego. Lwów, 1836; Zubrycki D. Kronika miasta Lwowa. Lwów, 1844; Зубрицкий Д. И. Критико-историческая повесть временных лет Червонной или Галицкой Руси. М., 1845; Зубрицкий Д. Начало унии // ЧОИДР. 1848. № 7. Отд. III. С. 1—36; Неопубликованная рукопись Д. Зубрицкого «Историко-критические очерки о Галицкой Руси. 1492—1596 гг.», датированная 1846 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 450 «Е. В. Барсов». Ед. хр. 820.)
3 Ваврик В. Р. Основные черты литературной деятельности Исидора Ивановича Шара-невича // Ваврик В. Р. И. И. Шараневич: Сборник статей. Львов, 1929. С. 68.
4 Muzeum Instytutu Stauropigijskego we Lwowe // Rocznik kola c.k. konserwatorow starożyt-nych pomników Galicji wschodniej. Lwów, 1892.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 2. Д. 746, 747; Аристов Ф. Ф. И. И. Шара-невич: К 100-ле тию со дня рождения. Львов, 1929. С. 4; Каталог археологическо-библиографической выставки Ставропигийского Института во Львове, открытой дня 10 октября 1888, а имеющей быти закрытою дня 12 януария 1889 по н. ст. продолжа-ется до дня 28 февруария 1889, по указаниям знатоков составил д-р Исидор Шаране-вич. Львов, 1888; Отчет из Археологическо-библиографической выставки в Ставропи-гийском Институте, открытой 28 сент. (10 окт.) 1888 г., закрытой 16 (28) февр. 1889 г., и опись фотографически снятых предметов из той же выставки. Составил д-р Исидор Шараневич. Львов, 1889.
31Историография истории Львовского Успенского братства
Шараневич впервые поднял тему значения братской Успенской церкви в исто рии Ставропигии1. Именно им была предпринята первая попытка пред-ставить Львов ское братство как сообщество конкретных людей. В 1875 г. был опубликован очерк об основателях (фундаторах) братства, с именами кото-рых связан наиболее активный период в истории организации2. Не имеющими аналогов остаются монографии Шараневича о руководителях (старейшинах) Львовского братства Николае Красовском3 и Юрии Иляшевиче4, в чрезвычай-но трудные периоды истории сумевших возродить деятельность Ставропигии. В деятельности Н. Красовского и Ю. Иляшевича Шараневич видит стремле-ние старейшин братства играть заметную роль в событиях всего края, оказы-вать посильное влияние на важнейшие стороны жизни. Галерею исторических портретов Шараневич продолжил яркой и противоречивой фигурой львов-ского епископа Иосифа Шумлянского5, который вел длительную борьбу со Львовским братством, возглавлявшим оппозицию против политики, направ-ленной на ликвидацию православия и введения греко-католического обряда. Над проблемами введения унии и роли униатской церкви в жизни края и месте Львовского братства в этих процессах И. Шараневич размышляет в одной из последних своих работ по истории Львовского братства6.
Интерес и любовь к историческим источникам побудили Шараневича вслед за Д. Зубрицким продолжить публикацию документов Львовского братства7. Были изданы актовые источники и письма. Шараневич собирался подготовить
1 Шараневич И. И. Ставропигийская церковь во Львове // ВСИ. 1875. С. 134—139; Он же. Исторический очерк о Ставропигийской церкви Успения Пресвятой Богородицы во Льво-ве // Юбилейное издание в память 300-летнего основания Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1886. С. 1—20.
2 Шараневич И .И. Першии члены Ставропигийского братства и деятельность их от року 1586 до 1609 // ВСИ. 1875. С. 139—145; ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукопи-сей. Ф. 170. Архив И. Шараневича. Ед. хр. 14/п.1.
3 Шараневич И. И. Николай Красовский (Миколай Красувський) от года 1686 до года 1692 писарь управления, а от 1692 до 1697 — старейшина Ставропигийского братства во Львове. Исторический очерк с прибавкою современных записок из сессийных книг и реге-стов. Львов, 1895.
4 Шараневич И. И. Юрий Ельяшевич (Георгий Ильяшевич), один из сениоров Ставропи-гийского братства в 1722—1735 годах // ВСИ. 1894.
5 Шараневич И. Иосиф Шумлянский, епископ Львовский от 1667 до 1708 г. Львов, 1896.6 Шараневич И. Церковная уния на Руси и влияние ее на смену общественного положе-
ния мирского русского духовенства. Львов, 1897.7 Юбилейное издание в память 300-летнего основания Львовского Ставропигийского
братства. Львов, 1886. С. а — ; Diplomata Statutaria a Patriarchis Orientalibus Confraternitati Stauropigianae Leopoliensi a. 1586—1592 data, cum aliis litteris coaevis et appendice. / Kristiniacki I. Leopoli, 1895. T. 2; Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis: Diplomata et epistolae Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis ab anno 1518 usque ad annum 1600. / Milkowicz W. Leopolis, 1895.
32 Глава первая
еще один том, включающий финансово-хозяйственные документы, реестры, отчеты, протоколы заседаний Львовского братства1, но эта работа осталась не-завершенной.
С 1864 г. Ставропигийский Институт стал издавать ежегодник — «Временник Ставропигийского Института», где регулярно помещались статьи, посвящен-ные истории Успенского братства, и публикации документов.2
В тесном и постоянном сотрудничестве с историками — членами Ставро-пигий ского института — изучали деятельность Львовского братства и дру-гие галицкие ученые. Несколько работ посвятил истории Львовского брат-ства видный ученый, профессор основанной в 1848 г. кафедры украинского языка и литературы Львовского университета, филолог, этнограф и историк Яков Федорович Головацкий (1814—1888). Он выдвинул новую гипотезу проис-хождения церковных братств, рассмотрел деятельность Львовского братства в конце XVI — начале XVII вв. и особое внимание уделил роли братства в разви-
1 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 170. Архив И. Шараневича. Ед. хр. 17 / п. 2; Шараневич И. И. Николай Красовский... С. 10; Ваврик В. Р. Основные черты литературной деятельности Исидора Ивановича Шараневича // Ваврик В. Р. И. И. Шаране-вич: Сборник статей. Львов, 1929. С. 65—66.
2 Свєнціцкий І. «Временник Ставропигийского Института» і його значіння для розвитку історично-філологічних дослідів Галичини // Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 333—339; Головацкий Я. Ф. Хронологическая роспись вписных братий прежде братства Львовского Успения Пресвятыя Богородицы, ныне же Института Ставропигийского // ВСИ. 1864. С. 81—91; Письма князя Константина Острожского / Головацкий Я. Ф. // ВСИ. 1867. С. 66—84; Аскоченский В. Гедеон Болобан, епископ Львовский // ВСИ. 1867; Петрушевич А. С. Хронологическая роспись церковных и мирских русско-словенских книг, напечатанных ки-рилловскими буквами в городе Львове, начиная с 1574 до 1800 года // ВСИ. 1885. С. 113—133; Патриаршия грамоты изданы в пользу Львовского Ставропигийского братства при храме Успения Пресвятыя Богородицы / Петрушевич А. С. // ВСИ. 1869. С. 113—140; [«Из руко-писного сборника, содержащего в себе старинную переписку Ставропигийского братства с разными лицами»] / Петрушевич А. С. // ВСИ. 1871. С. 129—152; Акты, относящиеся к возоб-новлению во Львове сгоревшей Ставропигиальной Успенской церкви, с больницею, стран-ноприимным домом, школою и типографиею / Петрушевич А.С. // ВСИ. 1874. С. 113—128; Акты, относящиеся к истории Южно-Западной Руси // ВСИ. 1878. С. 127—136; Акты, отно-сящиеся к истории Львовского Ставропигиального братства / Петрушевич А. С. // ВСИ. 1880. С. 137—148; Шараневич И. И. Важнейший из давных тестаментарных легаций (фондацийных записов последной воли) Ставропигийского братства // ВСИ. 1875. 146—148; Он же. Прочии братства при церквах (на предместьях) города Львова в XVI и XVII столеттю // ВСИ. 1875. С. 148—160; Он же. Укрухи из надгробных плит в Ставропигийской церкви Успения Пре-святой Богородицы во Львове // ВСИ. 1890. С. 178—190; Ваврик В. Р. Школа и бурса Львов-ского Ставропигиона // ВСИ. 1932. С. 25—54; Бендасюк С. Ю. Общерусский первопечатник Иван Федоров и основанная им Братская ставропигийская печатня во Львове // Временник. Научно-литературные записки львовского ставропигиона на 1935 г. Львов, 1934. С. 3—64; Он же. Культурное подвижничество Львовского Ставропигиона // Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 2 // Временник: Научно-литературные за-писки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 34—38.
33Историография истории Львовского Успенского братства
тии образования, издательской деятельности1. Впервые был предложен фило-логический анализ учебников, издаваемых в типографии Львовского братства и используемых учителями братской школы.
Работа с материалами Ставропигийского архива привлекала внимание львовского историка Антония Степановича Петрушевича (1821—1910). Он осуществил ряд тематических публикаций документов из архива Львовского братства2. Петрушевич работал над «Хроникой Ставропигийского братства», но эта работа осталась незавершенной3. Документы из Ставропигийского архи-ва составили основу источниковой базы при работе историка над его главным историческим сочинением — «Сводной Галицко-Русской летописью»4. В 1888 г. Петрушевич принимал участие в подготовке и проведении Археологическо-библиографической выставки в Ставропигийском Институте5, подготовил один из первых каталогов изданий типографии Львовского братства6.
1 Головацкий Я. Ф. Начало и действование Львовского Ставропигийского братства по историко-литературному отношению. Львов, 1860; Он же. Порядок школьный или устав Ставропигийской греко-русской школы во Львове 1586 года. Львов, 1863; ЛНБ им. В. Сте-фаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 36 Я. Ф. Головацкого. Ед. хр. 653/45. Л. 1—48.
2 Патриаршие грамоты изданы в пользу Львовского Ставропигийского братства при храме Успения Пресвятыя Богородицы // ВСИ. 1869. С. 113—140; Устав братства Свято-Онуфриевского или так званого меньшаго, при монастырской церкви во Львове стоящего под покровительством Львовского Успенского-Ставропигиального братства // ВСИ. 1870. С. 129—148; [«Из рукописного сборника, содержащего в себе старинную переписку Став-ропигийского братства с разными лицами»] // ВСИ. 1871. С. 129—152; Акты, относящиеся к возобновлению во Львове сгоревшей Ставропигиальной Успенской церкви, с больницею, странноприимным домом, школою и типографиею // ВСИ. 1874. С. 113—128; Акты отно-сящиеся к истории Южно-Западной Руси // ВСИ. 1878. С. 127—136; Акты относящиеся к истории Львовского Ставропигиального братства // ВСИ. 1880. С. 137—148; Письма мол-давского господаря Александра к русским гражданам во Львове, занимающимся создани-ем городской Успенской церкви с 1558—1566 года // ВСИ. 1881. С. 149—168; Продолжение писем молдавских господарей, писанных ко Львовскому Ставропигийскому братству при церкви Успения пресвятыя Богородицы, занимающемуся вторично постройкою сей церкви после пожара тойже в 1571 г. // ВСИ. 1882. С. 149—164; [Письма из Молдавии Львовскому Ставропигийскому братству о помощи в восстановлении Успенской церкви] // ВСИ. 1883. С. 147—176; Акты, относящиеся к истории Южно-Западной Руси. Львов, 1868.
3 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 77 А. С. Петрушевича. Ед. хр. 908/93.
4 Петрушевич А. С. Сводная Галицко-Русская летопись с 1600 по 1700 год. Львов, 1874; Он же. Сводная Галицко-Русская летопись с 1700 до конца августа 1772 года. Львов, 1887; Он же. Дополнения к сводной Галицко-русской летописи с 1600 по 1700 год. Львов, 1891.
5 Петрушевич А. С. Каталог церковно-словенских рукописей и старопечатных книг кирилловского письма, находящихся на Археологическо-библиографической выставке в Ставропигийском заведении. Львов, 1888.
6 Петрушевич А. С. О начале книгопечатания на Руси вообще, а в городе Львове в осо-бенности // ВСИ. 1884. С. 113—133; Он же. Хронологическая роспись церковных и мирских
34 Глава первая
Книгоиздательской деятельности Львовского братства и вопросам биб лио-графии изданий братской типографии посвятил ряд работ Илларион Семенович Свенцицкий (1876—1956), видный украинский ученый, историк и искусство-вед1. Он рассматривал многие аспекты, связанные с работой братской типогра-фии: условия договоров братства с печатниками об издании книг, положение типографской «челяди», книготорговля, отмечал большой вклад Львовского братства в развитие книгопечатания на Украине2.
Работы галицких историков, главным образом членов Ставропигийского Института, и таких ученых, как Я. Ф. Головацкий и А. С. Петрушевич, сыгра-ли выдающуюся роль в историографии Львовского братства, очертили круг основных проблем исследования деятельности Ставропигии, включили в себя значительную часть ее документального наследия, что вызвало большой интерес историков ко всему братскому движению Украины и Белоруссии, открыло новые возможности для исследования истории Украины XVI—XVIII вв.
В новом ракурсе нашли отражение вопросы истории братств среди львов-ских ученых, объединенных Научным товариществом им. Т. Г. Шевченко (НТШ). В конце XIX в. Львов становится центром украинской национально-культурной жизни, где объединяются лучшие силы науки Галиции и России. Перемещение центра национально-культурной работы из России в Австро-Венгрию было обусловлено тем, что во второй половине XIX в. в России были созданы крайне неблагоприятные условия для развития украинской науки и культуры. Постоянные связи деятелей украинской культуры России (П. А. Кулиша, М. П. Драгоманова, В. Б. Антоновича) с интеллигенцией Гали-ции создали почву для создания во Львове центра украинской науки. В 1892 г. во Львове было образовано Научное товарищество им. Т. Г. Шевченко, зада-чей которого было создавать и развивать науку на украинском языке, сохра-нять и собирать памятники старины и предметы научной «Украины-Руси»3. В 1897 г. НТШ возглавил выдающийся украинский историк М. С. Грушевский, который считал науку составляющей частью украинской национальной и всемирной культуры. Благодаря усилиям Грушевского НТШ стала первой на-циональной (неофициальной) академией наук, главным центром украинской исторической науки. Ведя преподавательскую работу во Львовском универси-
русско-словенских книг, напечатанных кирилловскими буквами в городе Львове, начиная с 1574 до 1800 года // ВСИ. 1885. С. 113—133.
1 Свенцицкий И. С. Опись музея братства. Львов, 1905; Он же. Библиотеки и музеи г. Львова. СПб., 1907; Он же. Опись музея Ставропигийского Института во Львове. Львов, 1908; Свєнціцкий І. С. У справі музейних збірок Ставропігії і Народного Дому. Львів, 1929.
2 Свєнціцький І. С. Початки книгопечатання на землях України. Жовква, 1924. С. 57—65.3 Винар Л. Праця Михайла Грушевського в НТШ до 1897 року // Винар Л. Михайло Гру-
шевський історик і будівничий нації: Статті і матеріали. Київ; Нью-Йорк; Торонто, 1995. С. 168.
35Историография истории Львовского Успенского братства
тете, Грушевский воспитал целую школу историков, которые своими работами, публиковавшимися в изданиях НТШ, детально разрабатывали целый ряд важ-нейших моментов истории Украины.
Михаил Сергеевич Грушевский (1866—1934), полемизируя с традиционной историографией, выдвигал новые взгляды на историю Украины и историю украинских братств в том числе. В своем фундаментальном труде «История Украины-Руси» Грушевский отмечал, что Львовское братство впервые ставит вопрос о праве критики и контроля в церковных делах и, получив юридиче-скую поддержку патриарха, берется за функции духовной цензуры. Таким образом, считает Грушевский, создается союз между патриархом и братским движением, который, с одной стороны, стремится возродить контроль патри-архата над украинским духовенством, а с другой — развивает сильную цензуру духовной жизни, направляет усилия на улучшение образования и нравствен-ности. Установление контроля мирян над церковным клиром и епископатом Грушевский считал революционным шагом, который вызвал сильное недо-вольство епископата и подтолкнул его к унии с римской церковью1. (Такого же мнения придерживался и О. И. Левицкий2). Отмечая один из основных постулатов западноевропейского реформационного процесса в деятельности украинских братств и Львовского главным образом, Грушевский не называ-ет братское движение реформационным, а, напротив, считает его проявлени-ем консервативности и церковности. Грушевский рассматривает братства как церковные организации, считая, что сила и энергия братских организаций была введена в узкие рамки религиозной полемики, охраны прав и традиций веры, и после того, как права православной веры были защищены, значение братств падает3.
Взгляды Грушевского на братское движение претерпели некоторые измене-ния. В последующих трудах он развивает мысль о братствах как культурно-на циональных центрах Украины в конце XVI — начале XVII вв., конечная цель которых — обеспечение национальных интересов своей народности. Братское движение, с одной стороны, носило характер национальной оборо-ны от польско-католических посягательств, а с другой — имело тенденцию создания правящего украинского центра4. Львовское братство Грушевский оценивал как центральный контрольный орган церкви и общества в делах ре-
1 Грушевський М. С. Історія України—Руси. Київ ; Львів, 1905. Т. 5: Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV—XVII вв. С. 505—507.
2 Левицкий О. Социнианство в Польше и Юго-Западной Руси // Киевская старина. 1882. Т. 2. С. 25—27, 193—224.
3 Грушевський М. С. Історія України—Руси. Київ; Львів, 1907. Т. 6: Жите економічне, культурне, націо нальне XVI—XVII віків. С. 538.
4 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 2: Перше відро-дження (1580—1610 рр.). С. 35.
36 Глава первая
лигии и нравственности, глубоко национальный в своей основе, именно оно стало «национальным трибуналом, своего рода национальным украинским правительством»1.
К вопросу о развитии реформационных идей на Украине и в среде братств в частности Грушевский обращается в фундаментальном труде «История украин ской литературы» и очерке «Из истории религиозной мыс-ли на Украине»2. Рас сматривая национально-культурное движение конца XVI — начала XVII вв. и назвав его первым национальным возрождением, Грушевский отмечает влияние на него одновременно двух противополож-ных течений: мистико-аскетического и рационалистического, которые раз-рушали старые традиции и готовили почву для влияний немецкой реформа-ции. Историк подчеркивал, что без понимания разнородных сложно пере-плетенных течений нельзя осознать, как преломлялись в украинской призме реформационные влияния и как они вместо реформации дали в конечном счете только церковную православную реакцию, схоластику и иерархизм3. Грушевский показал, что под влиянием реформационных течений Западной Европы и под польско-литовским давлением на православную веру и укра-инскую нацию в разных социальных слоях начинается самоорганизация обороны. Львовское братство сыграло первостепенную роль в организации националь ного (культурного, социального и политического) движения, ко-торое проявилось в протекторате над церковью, школой, книжностью, в воз-растании гражданской инициативы и национального сознания, в становле-нии понятия «Русь» не только как национальной или религиозной стихии, но и общественной — «Речь Посполитая Народа Руського» в противовес «Речи Посполитой Польской». Львовское братство, как подчеркивает Грушевский в последнем томе «Истории украинской литературы», который был только недавно опубликован, действительно возродило украинское общество, при-дало ему активность, самоуверенность, решимость и безоглядность, которые жили в нем долго после того, как утратило свою роль и значение Львовское братство4. Упадок братств Грушевский объясняет экономическим упадком городов и мещанства в XVII в., с одной стороны, а с другой — нерешимостью братств, которые, возглавив возрождение, не перешли на революционную дорогу «без-епископальной и бес-патрональной пресвитерианской церк-
1 Грушевський М. С. Культурно-національний рух на Україні в XVI—XVII віці. Київ; Львів, 1912. С. 110—112.
2 Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Українї // Грушевський М. С. Духовна Україна: Збірка творів. Київ, 1994.
3 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн.1: Культурні і літературні течії на Україні в XV—XVI вв. і перше відродження (1580—1610 рр.). С. 7.
4 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 6: [Літературний і культурно-національний рух першої половини XVII ст.]. С. 9—10.
37Историография истории Львовского Успенского братства
ви». Но, несмотря на спад активности братств, все национальное движение XVII в. прошло под знаком Реформации, подготовленной сектантскими дви-жениями предыдущих веков и трансформированной львовскими мещанами во второй половине XVI в.
Разрабатывать вопросы истории Львовского братства продолжали учени-ки М. С. Грушевского. Ряд исследований посвятил проблемам истории брат-ства выдающийся украинский историк Иван Петрович Крипьякевич (1886—1967). В работе о положении украинцев во Львове в первой половине XVI в. он предпринял попытку документально доказать существование Львовского Успенского братства до его юридического оформления в 1586 г. Истоки укра-инских братств И. П. Крипьякевич, как и С. М. Соловьев, видел в древнерус-ских братчинах, которые реорганизовались под влиянием немецкого цехо-вого устройства. Цехи и породненные с ними братства сосредоточили в сво-их руках все сферы культуры: ремесло, торговлю, искусство, религиозную жизнь1. Историю Львовского братства, считал Крипьякевич, следует вести с конца XV в., именно тогда начался этап поступательного движения, который вылился на рубеже XVI—XVII в. в национальное возрождение, возглавляе-мое львовскими братчиками с характерными чертами людей Возрождения и Реформации2. В последующих работах Крипьякевич рассматривал проблемы, связанные с историей братской школы3, библиотеки4 и типографии5.
В новом ракурсе взглянул на историю Львовского братства еще один пред-ставитель львовской историографической школы Грушевского Федор Сриб ный (1881—1950). К проблемам о роли Львовского братства в истории он обращал-ся в своем критическом анализе монографии А. С. Крыловского о Львовском братстве. Срибный вступает в полемику с Крыловским и другими предста-вителями православной историографии, которые видели в братствах только оплот православия в борьбе против унии и католицизма. Он считал, что пере-довое значение братств в истории Украины и Львовского в особенности со-стоит в общественно-политической направленности организации, которая от-стаивала экономические, культурные и гражданские права украинского насе-ления городов. Борьбу за православие Срибный рассматривал в рамках общей
1 Крип'якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали. Львів, 1994. С. 20, 68.
2 Там же. С. 96.3 Крип'якевич І. П. Львівська братська школа XVI—XVII в. // Українська школа. 1926.
№ 17—18; Крип'якевич І. П. Дещо зі звичаїв у львівській школі та бурсі // Життя і знання. 1934. № 6.
4 Крип'якевич І. П. Каталог бібліотеки Львівської Ставропігії з 1619 р. // Українська кни-га. 1937. № 7—8.
5 Крип'якевич І. П. До історії львівського книгарства в XVIII ст. // Українська книга. 1938. № 2; Крип'якевич І. П. До історії львівської гравюри в XVII в. // Бібліологічні вісті. 1927. № 1.
38 Глава первая
борьбы за гражданские права украинцев, при этом церковные дела братства оценивал как реформационные1. Продолжая монографические исследования Шараневича о руководителях братства, Срибный задается целью рассказать не об организации, а о людях, ее создававших. На основании ранее опубликован-ных источников из архива братства и не используемых ранее при изучении Львовского братства материалов Львовского Магистрата Срибный предпри-нимает попытку увидеть в Львовском братстве прежде всего людей, а не без-ликую организацию. Срибный изучает социальный и количественный состав братства, акцентирует внимание на роде деятельности львовских братчиков, их участии в ремесленных цехах, занятии торговлей, имущественном поло-жении, он впервые анализирует национальный состав братства и показыва-ет роль греков в истории организации2. Работа Срибного до сих пор является единственным в своем роде исследованием, посвященным непосредственно членам Львовского братства в конце XVI — середине XVII вв., самым разным аспектам их жизни. Она была продолжена В. Р. Вавриком, который впервые по-пытался составить полный аннотированный реестр членов Львовского брат-ства и Ставропигийского Института3.
Важным этапом в изучении издательской деятельности Львовского братства стала работа Ивана Ивановича Огиенко (митрополит Илларион, (1882—1972)), в которой в рамках истории украинского издательского дела историк подчеркивает преемственность украинского книгоиздания, ведуще-го свою историю от первого издания 1491 г. в Кракове. Львовской братской типографии довелось, подчеркивает Огиен ко, стать первой постоянной укра-инской типографией, но история этой типографии — это грустное описание вековой героической борьбы львовского мещанства с латинским прессингом4. К истории Львовского братства он обращался в 1937 г. в очерке «Украинские церковные братства, их деятельность и значение», в котором акцентирует религиозно-обрядовую сторону деятельности братств и отмечает их огром-ную роль в развитии украинской культуры. Особо И. Огиенко отмечал роль братств в национальном и культурном движении украинского народа в конце XVI—XVIII вв., подчеркивая, что после Брестской унии 1596 г. роль братств лишь возрастала и начала ослабевать постепенно только с середины XVII в.
1 Срібний Ф. Рецензія на книгу: Крыловский А. Львовское Ставропигиальное братство. Киев, 1904 // ЗНТШ. 1907. Т. 75. Кн. 1 С. 176—190.
2 Срібний Ф. Студії над організацією Львівської Ставропігії від кінця XVI до половини XVII ст. // ЗНТШ. Львів, 1911. Т. 106. С. 25—40; 1912. Т. 108. С. 5—38; Т. 111. С. 5—24. Т. 112. С. 59—73; 1913. Т. 114. С. 25—56; 1913. Т. 115. С. 29—76.
3 Ваврик В. Р. Члены Ставропигиона за 350 лет (1586—1936) // Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 2 // Временник: Научно-литературные за-писки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 62—143.
4 Огієнко І. Історія українського друкарства: Історично-бібліографічний огляд україн-ського друкарства XV—XVIII вв. Львів, 1925.
39Историография истории Львовского Успенского братства
В частности, историк отмечал роль братств в благотворительной деятельно-сти, моральном и церковно-религиозном воспитании, в развитии украинской проповеднической деятельности1.
В филологической секции Научного товарищества им. Т. Г. Шевченко было положено начало изучения украинской литературы XVI—XVIII вв. Большое внимание исследователей привлекали памятники полемической литературы, созданные деятелями братского движения. Высоко оценил литературное на-следие братств Иван Яковлевич Франко (1856—1916). Он положил начало из-учению анонимного произведения начала XVII в. «Пересторога»2. Франко не только дает характеристику «Перестороге» с литературоведческих позиций, но и анализирует историческую часть произведения и пытается установить автор-ство этого памятника. Называя автором одного из руководителей Львовского братства — Юрия Рогатинца, Франко развязал долгую дискуссию в литературе об авторстве некоторых полемических произведений, которая продолжается до сих пор. Он опубликовал важные документы, связанные с деятельностью типографии братства3.
Исследованием «Перестороги» в это же время занимался Кирилл Иоси фович Студинский (1868—1941) 4. Он положил начало изучению первой грамматики украинского языка, составленной учителями и учениками братской школы и изданной в типографии Львовского братства5.
Изучал литературное наследие Львовского братства видный исто-рик литературы Михаил Степанович Возняк (1881—1954). Он рассматри-вал произведения братчиков в контексте общественно-политической и религиозно-философской мысли 6. В 1921 г. был опубликован фундаменталь-ный труд «История украинской литературы», в котором Возняк продолжал разраба тывать проблемы духовного наследия украинского народа, исто-рию книжности и литературного наследия с древнейших времен, впервые получившие освещение в труде галицкого историка литературы Омельяна
1 Огієнко І. Українські церковні братства, їх діяльність та значення // Огієнко І. Українська Церква: Нариси з історії Української Православної Церкви. Київ, 1993. Т. 1. С. 123—133.
2 Franco I. Characterystyka literatury ruskej XVI—XVIII wieku // Kwartalnic Historychny. Lwów, 1892. Wyp. 6. S. 693—727; Franko I. Z dziejow synodu brzeskiego 1598 r. // Kwartalnik Historychny. Lwów, 1895.
3 Франко І. Я. Чотири пастирські листи єпископів Афанасія і Льва Шептицьких (1745—1759) // ЗНТШ. 1902. Т. 5. С. 1—7.
4 Студинський К. Й. «Пересторога» — руський пам'ятник поч. XVII в. Історично-літературна студія. Львів, 1895.
5 Студинський К. Й. «Адельфотес» — граматика, видана в Львові в р. 1591 // ЗНТШ. 1895. Т. 7. С. 1—42.
6 Возняк М. С. Причинки до студій над питаннями Лаврентія Зизанія // ЗНТШ. 1908. Т. 88; Он же. Школа Успенського братства у Львові. Львів, 1936; Он же. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. Львів, 1954.
40 Глава первая
Михайловича Огоновского (1833—1894)1. Он отметил связь братского движе-ния с внедрением новых идей и норм в литературно-духовной жизни укра-инского народа. Возняк, развивая эту мысль Огоновского, отмечает при этом большую заслугу братств в развитии национального самосознания украин-ского народа в конце XVI — начале XVII вв., их вклад в организацию нацио-нальной обороны. Возняк подчеркивает, что братства под влиянием борьбы между протестантизмом и католицизмом в Польше в XVI в. приобрели рели-гиозный характер, но стали на страже национальных потребностей и инте-ресов, организуя школы и типографии и создавая национально-культурные центры в городах, самый крупный из которых был организован во Львове стараниями Ставропигийского братства2.
В 1921 г. под редакцией Кирилла Студинского вышел «Сборник Львовской Ставропигии», где были собраны исследования многих историков, относящи-еся к истории Львовского братства и Ставропигийского Института. В сбор-нике получили освещение вопросы деятельности братства, которые не под-нимались ранее в историографии. М. Голубец в рамках изучения львовского живописного искусства XVI—XVII вв. рассказывает об украинских художни-ках, которые были членами Львовского братства. В этой работе впервые на документальной основе было доказано широкое развитие украинского ис-кусства в XVI—XVII вв.3 Вопросам содержания Успенской церкви братством, усилиям братчиков, направленным на ее реставрацию и украшение, посвяще-но исследование А. Барвинского4. Разные аспекты истории Львовского брат-ства и братчиков рассмотрены в работах А. Андроховича5, И. Свенцицкого6, В. Карповича7 и др.
Характерными чертами Львовской историографической школы этого пе-риода являлось расширение круга источников и проблем истории Львовского братства и глубокое переосмысление его роли в общественной и национально-культурной жизни Западной Украины.
1 Огоновский О. История литературы руской. Львов, 1887.2 Возняк М. С. Історія української літератури. Львів, 1921. Т. 2.3 Голубець М. Українське малярство XVI—XVII ст. під покровом Ставропігії // Збірник
Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 247—324.4 Барвінський О. Ставропігійська церква Успіня Пр. Богородиці у Львові і заходи коло її
обнови і прикраси // Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 1—54.5 Андрохович А. Отець Іван Горбачевський, примірний парох Ставропігійського брат-
ства (1743—1806) // Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 55—98.6 Свєнціцкий І. Дещо про печатню Успенського братства у Львові та її видання // Збірник
Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 325—332; Свєнціцкий І. «Временник Ставропи-гийского Института» і його значіння для розвитку історично-філологічних дослідів Гали-чини // Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 333—339.
7 Карпович В. Дзвони церкви Успенія Пр. Д. Богородиці // Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 160—184.
41Историография истории Львовского Успенского братства
Середина XIX — начало XX вв. Российская историография. Украинское нацио нально-культурное возрождение в России XIX в. вызвало большой ин-терес к истории Украины: был собран и опубликован значительный материал, оформились концепции разных исторических школ.
Первые попытки понять природу и сущность братств как исторического явления принадлежат Николаю Ивановичу Костомарову (1817—1885). Его ма-гистерская диссертация была посвящена борьбе украинского народа против введения церковной унии 1596 г. В этой работе он предложил новый взгляд на унию православной и католической церквей, охарактеризовал ее как по-литическую, ставшую орудием скорее национальных, чем религиозных це-лей, когда ведущую роль играли народные движения во главе с братствами. Диссертация «О причинах и характере унии в Западной России» (1842) вы-звала резкую критику духовенства и цензуры, и отпечатанные экземпляры работы предписывалось уничтожить1; работа была опубликована спустя мно-го лет под новым заглавием2. Н. И. Костомаров считал, что историк, кото-рый изучает народные движения, должен рассматривать динамику «народной деятельности во всех сферах, в которых является жизненный процесс чело-веческих обществ»3. Поэтому братства он характеризовал как одну из важ-нейших народных сил пробуждения жизни Украины. Возникновение этих организаций он относил к концу XVI в., причем их организационное оформ-ление было результатом заимствования и подражания западноевропейским братствам, особенно иезуитским. Среди целей и задач братств историк отме-чал главным образом благотворительные функции, но при этом оценивал их как влиятельнейшие силы в процессе формирования национального самосо-знания на Украине. Право ставропигии и контроля братства над епископом Костомаров рассматривал как стремление константинопольского патриарха установить контроль в отдаленной митрополии над местной церковной ие-рархией, братствам же, в свою очередь, такое покровительство патриарха от-крывало широкие возможности для реализации своих конкретных задач4. Он оценивал братства как главное орудие религиозного возрождения и считал, что они олицетворяли идею свободы и вернули религиозную жизнь Украины к чистому, апостольскому христианству. Такую же оценку дает Костомаров и в поздних своих сочинениях5.
1 Костомаров Н. И. Автобиография. Киев, 1992. С. 111—113.2 Костомаров Н. И. Южная Русь в конце XVI в. // Собр. соч. СПб., 1903. Т. 3. С. 619—698.3 Костомаров Н. И. Об отношении русской истории к географии и этнографии // Собр.
соч. СПб., 1903. Т. 3. С. 719. 4 Там же. С. 627—628.5 Костомаров Н. И. Князь Константин Константинович Острожский // Костома
ров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 1874. Вып. 3. С. 535—561.
42 Глава первая
Высоко оценил роль братств в истории Украины Пантелеймон Александрович Кулиш (1819—1897). Впервые в историографии он отмечает большие заслуги мещан, объединенных в братства, в деле сохранения веры и нацио-нальности в условиях латино-польского давления. Кулиш вступает в поле-мику с Костомаровым по вопросу происхождения организаций, полагая, что братства возникли не в конце XVI в., а в XV в. и сочетали в себе функции цер-ковных патронов и имели много общего с цеховым устройством городов. На организацию братского суда и разработку уставов организаций существенное влияние, по мнению Кулиша, оказало Магдебургское право, которым поль-зовались многие украинские города в составе Речи Посполитой1. Отмечая общие черты украинских братств с некоторыми западноевропейскими брат-ствами, цеховыми организациями и правом церковного патроната, Кулиш впервые в историографии подчеркнул своеобразие и самобытность органи-заций украинских мещан. В деятельности городских братств он видел общее творческое начало национально-культурного возрождения конца XVI — на-чала XVII вв. Он впервые отметил влияние западно-религиозных учений на формирование и развитие братств Украины. Их борьбу за укрепление право-славной веры в конце XVI в. Кулиш сравнивал с первыми проповедниками и мучениками христианства2, а источником реформаторских устремлений считал протестантскую идеологию с ее стремлением к свободе мышления и разумным реформированием церковного устройства3. Кулиш впервые в историографии указал на связь миропонимания братств с западноевропей-ской Реформацией, называя эти корпорации «седалищами» воззрений, под знаком которых прошел XVI век в Западной Европе — идей реформацион-ных и вольнодумных. Он считал братства самыми благоприятными органи-зациями к восприятию и усвоению реформационно-протестантских идей, что дало им возможность развивать и поддерживать многие передовые идеи, рожденные Реформацией: свободу личности, печатного слова и народных собраний4.
Представители исторической школы Киевского университета В. Б. Ан то -нович, О. И. Левицкий, М. П. Драгоманов рассматривали братства исключи-тельно как религиозные организации, отмечая их вклад в сохранение чистоты православного вероисповедания, высоко оценивали их «нравственную оппо-зицию» униатству и католицизму.
1 Кулиш П. А. История воссоединения Руси. СПб., 1874. Т. 1: От начала колонизации опустошенной татарским погромом Киево-Галицкой Руси до начала столетней козацко-шляхетской войны. С. 230—231.
2 Там же. С. 240—242.3 Кулиш П. А. История воссоединения Руси. М., 1877. Т. 3: Религиозное, социальное и
национальное движение в эпоху Иова Борецкого. С. 105—106.4 Там же. С. 105.
43Историография истории Львовского Успенского братства
Владимир Бонифатиевич Антонович (1834—1909) рассматривал братства исключительно как оппозицию унии и оценивал их только как религиозные организации, целью которых было «попечение о благочестии и о сохранении во всей чистоте христианской нравственности»1. При этом он отмечал, что силу братствам как церковным организациям давали ставропигиальные грамоты, хотя правом патриаршей ставропигии пользовалось только одно Львовское Успенское братство. Антонович впервые высказал предположение, что брат-ства и казачество представляли единую силу в борьбе с унией, причем казаче-ство представляло для защиты православия военную силу, без которой «чисто нравственная оппозиция братств, подвергаясь страшным преследованиям и теснимая грубой силой, могла исчерпать свои средства и погибнуть в неравной борьбе»2.
Орест Иванович Левицкий (1849—1922), как и другие историки православ-ной ориентации, видел основную задачу братств в обновлении церковной жизни, подчеркивал, что это была новая церковно-общественная сила, кото-рая была способна изнутри возродить церковь и оказывать влияние на «улуч-шение церковной иерархии». Историк отмечал, что эти организации стали источником возрождения украинской православной церкви в XVII в. Как и Кулиш, Левицкий сравнивал украинские братства конца XVI в. с братскими союзами первых веков христианства и считал, что в основе братских органи-заций лежит главный принцип православия — соборность. Он высказал те-зис о двойной роли братств в истории: во-первых, как организаций, наиболее полно воплотивших в своей деятельности идеи протестантизма3, во-вторых, как корпораций, ставших одной из главных причин возникновения церковной унии 1596 г.4 Такая узко-односторонняя трактовка значимости братств в исто-рии Украины и причин возникновения унии не получила дальнейшего распро-странения среди исследователей, тогда как взгляд на братства как на носителей идей украинской Реформации разрабатывался в дальнейшем историками раз-ных школ и направлений.
1 АЮЗР. Киев, 1871. Ч. 1. Т. 4; Отдельный оттиск: Антонович В. Б. Об унии и состоянии православной церкви с половины XVII до конца XVIII ст. Киев, 1871; Украинский перевод: Антонович В. Нарис становища православної церкви на Україні від половини XVII до кінця XVIII ст. // Розвідки про церковні відносини на Україні-Руси XVI—XVIII вв. Львів, 1900. С. 81—146.
2 Антонович В. Б. Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с по-ловины XVII до конца XVIII столетия // Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ, 1995. С. 474.
3 Левицкий О. Социнианство в Польше и Юго-Западной Руси // Киевская старина. 1882. Т. 2. С. 25—27, 193—224, 401—432.
4 АЮЗР. Киев, 1883. Ч. 1. Т. 6; Украинский перевод: Левицький О. Внутрішній стан західно-руської церкви в Польсько-Литовській державі в кінці XVI ст. та Унія // Розвідки про церковні відносини на Україні-Руси XVI—XVIII вв. Львів, 1900. С. 1—80.
44 Глава первая
Концептуальное обоснование братского движения на Украине выдвинул Михаил Петрович Драгоманов (1841—1895), который предложил историо-софский анализ украинской истории и братского движения в частности. Деятельность братств М. П. Драгоманов рассматривал в контексте европей-ских религиозных движений XVI в., считая главной чертой братств стремле-ние к реформе церкви по протестантскому образцу. Влияние Реформации он оценивал как проявление связей украинской культуры с общеевропейски-ми процессами1. Но вместе с тем он отмечал своеобразие украинского ре-формационного движения, имевшего национальную историческую основу, в котором именно братства были «началом своего рода реформации»2, оце-нивал братства как специфическое украинское реформационное явление3. Драгоманов особо подчеркивал вклад братств в становление печатного дела на Украине, отмечая, что в их типографиях издавались не только церковно-служебные книги, но и учебники, полемические трактаты, художественная литература, и подчеркивал, что особую роль в этом сыграло соединение раз-вития типографского дела с «естественной союзницей — школой»4. Однако братства, по его мнению, явились и причиной незавершенности реформаци-онных процессов на Украине5.
Большая заслуга М. П. Драгоманова и О. И. Левицкого в том, что они нача-ли разрабатывать идею о влиянии западноевропейской Реформации на брат-ское движение Украины, об общих и специфических чертах «реформатских» идей, получивших распространение на Украине в XVI—XVII вв.
Представители историкобогословской школы Киевской духовной академии (КДА) И. И. Малышевский, С. Т. Голубев, А. С. Крыловский и др. оце-нивали брат ства с позиций ортодоксального православия. Ученые основы-вались на архивных материалах, но далеко не исчерпывали всех имеющихся источников, тенденциозно оценивали борьбу братств против церковной ие-рархии и догматов.
Главенствующую роль в активизации братского движения историки КДА отводили восточным патриархам, приезжавшим на Украину за сбором пожерт-вований. Об учреждении Львовского братства антиохийским патриархом и о
1 Драгоманов М. Попередне слово // Громада: Українська збірка, упорядкована М. Дра-гомановим. Женева, 1878. С. 25—26.
2 К. В. [Драгоманов М .П.] По поводу юбилея первого русского первопечатника Ивана Федорова // Вестник Европы. 1884. № 3. С. 413.
3 Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу // Драгоманов М. П. Вибране: ... мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні. Київ, 1991. С. 484.
4 К. В. [Драгоманов М. П.] По поводу юбилея первого русского первопечатника Ивана Федорова // Вестник Европы. 1884. № 3. С. 417.
5 Драгоманов М. П. «Передне слово» [До «Громади» 1878 р.] // Драгоманов М. П. Вибране: ... мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні. Київ, 1991. С. 287—288.
45Историография истории Львовского Успенского братства
связях львовян с Византией в 1597—1601 гг. писал Ф. А. Терновский1. Вопросы влияния александрийского патриарха Мелетия на церковную жизнь Украины в конце XVI в. и на развитие братств рассматривал И. И. Малышевский2. В ис-следовании, посвященном борьбе с церковной унией 1596 г., Малышевский рассматривал братства во главе со Львовским Успенским братством исклю-чительно как оплот православия в борьбе с унией, при этом считая, что дей-ствовали братства, «опираясь на власть патриарха, на союз веры в епископов»3. Такое утверждение было направлено на согласование деятельности братств с каноническими православными нормами подчинения мирян духовенству и почтения к иерархам, даже вопреки фактам острой полемики Львовского брат-ства с епископом и учреждения им права контроля и выбора священников в братскую церковь. В ракурсе значительного влияния восточной церковной ие-рархии оценивал работу первого ректора Львовской братской школы архиепи-скопа элассонского Арсения А. Дмитриевский4. Несмотря на свою тенденциоз-ность, эта работа явилась продолжением исследований деятельности братства в сфере образования, начатых Я. Ф. Головацким. Историки Киевской духовной академии разрабатывали вопросы, связанные и с греко-католическим перио-дом истории Львовского братства5.
Степан Тимофеевич Голубев (1848—1934) в фундаментальном исследо-вании о Киев ском митрополите Петре Могиле высоко оценил роль укра-инских братств в деле сохранения православия и восстановления Киевской православной митрополии в 1620 г.6 Голубев отмечал, что украинские брат-ства оказали огромные услуги православной церкви, так как вокруг них группировались лучшие силы православного общества и они принимали «всевозможные меры, чтобы отстоять православную веру и русскую народ-ность». Однако Голубев с осуждением относился к участию братств и осо-
1 Терновский Ф. А. Изучение византийской истории и ее тенденциозное приложение в древней Руси. Киев, 1875. Вып. 1; 1876. Вып. 2.
2 Малышевский И. И. Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие в делах русской церкви. Киев, 1872. Т. 1—2.
3 Малышевский И. И. Западная Русь в борьбе за веру и народность. СПб., 1879. Ч. 2. С. 32—33.
4 Дмитриевский А. Архиепископ елассонский Арсений и его вновь открытые истори-ческие мемуары // ТКДА. 1898. Т. 1. Январь; Он же. Архиепископ елассонский Арсений и мемуары его из русской истории. Киев, 1899.
5 Амвросий. Взгляд православного на Замостьский собор в 1720 г. // ТКДА. 1862. II.; Петров Н. И. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // ТКДА. 1870—1871; Петров Н. И. Львовский епископ Гедеон Балобан и его деятельность в пользу православия и русской народности в Галиции и юго-западном крае России // Памятники русской стари-ны в западных губерниях / Изд. П. Н. Батюшков. СПб., 1885. Т. 8. С. 261—308.
6 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883—1898. Т. 1—2.
46 Глава первая
бенно Львовского Успенского братства в делах церкви, которое он расцени-вал как «переходящее дозволенные границы и простиравшееся иногда до подчинения духовных лиц власти лиц светских»1. Хотя именно благодаря тому, что Львовское братство, провозглашая, что «не попы нас спасут, или владыки, или митрополиты, но веры таинство нашея православныя с хране-нием заповедей Божиих — тое нас спасти мает»2 смогло внести значитель-ный вклад в дело сохранения и своей веры, и своего народа, и приумножить культурные богатства. Исследования Голубева основаны на архивных мате-риалах, он ввел в научный оборот целый комплекс документов, касающихся истории Львовского братства в частности3. Автор высоко оценивал вклад братства в образования на Украине4 и в становление и распространение книгоиздания5.
Проблемам возникновения и правового статуса украинских братств, их роли в истории православной церкви была посвящена работа профессора Киевской духовной академии В. З. Завитневича6.
Монография Амвросия Семеновича Крыловского (1853—?) «Львовское Став ро пигиальное братство»7 — фундаментальная работа, посвященная истории Львов ского Успенского братства. Крыловский высоко оценивал роль братства в истории православной церкви, организацию он называл одним из светил первой величины, а братскую школу — светочем для всей Украины и других единоверных стран8. Крыловский рассматривал братства исключительно как церковные организации и определял их главную задачу, как «деятельность на пользу православия и русской народности». Отмечая огромную роль братств в организации благотворительных дел (больницы, приюты, странноприимные дома), Крыловский подчеркивал, что первосте-пенная задача братств — религиозно-просветительская деятельность. На решение этой задачи была направлена работа братских школ и типографий.
1 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883—1898. Т. 2. С. 467—468.
2 Акты ОИЮЗР. Т. 2. С. 210.3 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила... Приложения; Он же. Материалы
для истории Западно-Русской церкви. Киев, 1891.4 Голубев С. Т. История Киевской духовной Академии. Киев, 1886.5 Голубев С. Т. Библиографические замечания о некоторых старопечатных церковносла-
вянских книгах, преимущественно конца XVI и XVII столетий // ТКДА. 1876. Т. 1. Февраль.6 Завитневич В. З. Высшее начало, положенное в основу западнорусских братств, и при-
чины стремления последних к ставропигиальности // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. 1902. Т. 16. № 4. Отд. 1. С. 24—28.
7 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство: Опыт церковно-историче-ского исследования. Киев, 1904; АЮЗР. Ч. 1. Т. 10—12. Предисловие.
8 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство: Речь перед защитой диссер-тации. Киев, 1904. С. 7.
47Историография истории Львовского Успенского братства
Роль и значение полемических произведений Крыловский также оценивает с позиций ортодоксального православия: они создавались исключительно с целью отпора «врагам православия», которые «для утверждения унии и ла-тинства не ограничивались мерами репрессивными, но употребляли меры и цивилизаторские: убеждения, рассуждения в пользу унии в форме пропове-дей, посланий и целых сочинений»1.
Крыловский впервые попытался дать периодизацию истории Львовского братства. Он считал, что до 80-х гг. XVI в. оно имело исключительно благо-творительный характер. «Активизацию» деятельности братства в конце XVI — начале XVII вв. Крыловский связывал с «борьбой с иноверием» и «за права православной церкви», а спад деятельности братства — с восстановлением прав Западно-Русской церкви в 1632—1633 гг. и со вступлением на Киевскую митрополию Петра Могилы, с именем которого связано укрепление церковной власти, а также с проникновением в украинские земли порядков Московской Руси, гонениями на православных со стороны поляков, неурядицами в среде самого братства. Крыловский подробно останавливается на таких основных сферах деятельности братства, как борьба против католицизма и унии, взаи-моотношения со львовскими епископами, организация школы, функциониро-вание типографии. Историк впервые в историографии особое внимание уделя-ет благотворительной деятельности братчиков, а также на основании опубли-кованных им документов показывает организационную структуру Львовской Ставропигии. Крыловский заканчивает свое исследование 1708 годом, когда братство приняло унию, а поскольку последующая история братства не была направлена «на защиту православной веры», то и не стала объектом исследова-ния. Такая позиция была характерна для всех православных историков XIX в. В традициях православной школы историографии Крыловский с осуждени-ем относился к действиям братства, которые не отвечали церковным канонам православной церкви.
Отличительной чертой работы Крыловского является критический под-ход к анализу используемых источников. В своем исследовании историк дает краткую видовую характеристику источников по истории братства, впервые применяет метод источниковедческого анализа к отдельным видам источни-ков, проводит сравнительную характеристику устава Львовского братства с уставами других братств. Заслуга Крыловского состоит в том, что он опу-бликовал большой комплекс документов по истории Львовского братства2, расширил тематику и характер публикуемых документов из его архива, ввел в научный оборот значительное число актовых источников, протоколы за-седаний, хозяйственно-финансовую документацию братства, инвентари и
1 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство: Опыт церковно-историче-ского исследования. Киев, 1904. С. 3.
2 АЮЗР. Киев, 1904. Ч. 1. Т. 10—12; Крыловский А. С. Львовское Ставропигальное брат-ство... Приложения.
48 Глава первая
другие виды источников, ранее не публиковавшиеся1. Это — единственная до сих пор публикация таких материалов. Монография Крыловского и сегод-ня не утратила своей научной значимости и является одним из самых мас-штабных по широте охвата материала исследований по истории Львовского братства.
Проблемы истории украинских братств привлекали внимание русских цер ковных историков. История Киевской митрополии, религиозной борьбы XVI—XVII вв. и связанного с ней культурно-национального движения вызы-вали особый интерес у православных историков России, которых интересо-вали исторические отношения между православием, католицизмом и проте-стантизмом, особенности их взаимосуществования, которые они оценивали с позиций официального православия. Многие оценки как украинского брат-ского движения в целом, так и Львовского братства в частности представляют несомненный интерес в рамках историографии братств, а отдельные работы не потеряли своей актуальности и до сих пор.
Впервые вопрос об украинских братствах в исследованиях по истории рус-ской православной церкви был затронут в работе архиепископа Филарета (Гуми левского Дмитрия Григорьевича, 1805—1866)2, который предпринял по-пытку осветить историю русской церкви в разных регионах. Рассматривая историю Киевской митрополии, Филарет Гумилевский отмечал особую роль братств в период заключения церковной унии и оказания ей противодей-ствия. Историк считал, что «кровавая» политика Польши по отношению к православным способствовала активизации братского движения, росту чис-ла братств, их количественного соcтава, и преобразованию характера этих организаций из благотворительных в церковные, главной задачей которых была защита православной веры. Наиболее способствовали достижению этой цели, по мнению архиепископа Филарета, братские школы и типогра-фии. Историк особо выделял школу Львовского братства, в которой учились многие выдающиеся церковные и культурные деятели, которые «занимались нуждами православной церкви». Филарет Гумилевский впервые в историо-графии отметил большую роль братств в исправлении церковно-служебных книг, издаваемых в типографиях братств, особо выделяя Львовское, кото-рое тщательно сверяло тексты с известными славянскими списками и гре-ческими оригиналами, исправляя ошибки и разночтения в текстах3. Однако в труде Филарета (Гумилевского) содержится много фактических ошибок и неточностей, что объясняется чрезвычайно скудным кругом источников по истории братств, известных во время написания работы: материалы архива
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11—12.2 Филарет (Гумилевский). История Русской церкви. Рига, 1847. Т. 4: Период патриарше-
ства. 1588—1720.3 Там же. С. 96—105.
49Историография истории Львовского Успенского братства
Львовского братства еще не были известны в России, где были опубликованы только некоторые работы Д. И. Зубрицкого, в которых затрагивалась тема братств.
Первой монографией, посвященной украинским братствам в русской исто-риографии, является исследование Иоанна Ефимовича Флерова (1827—1879) ,опубликованное спустя несколько лет после выхода в свет русского пере-вода первой работы о Львовском братстве Д. И. Зубрицкого. Монография И. Флерова1 существенно отличалась от «Летописи Ставропигиального брат-ства» Зубрицкого. Он впервые предложил структурно-функциональный под-ход к изложению материала, который затем утвердился в историографии брат-ского движения. В основу анализа функциональной деятельности братств были положены документы Львовского братства. Флеров впервые детально рассматривает организационные формы братства, анализирует устав орга-низации, проведение собраний, братского суда. Львовское братство, по мне-нию Флерова, носило церковный характер, поддержание религиозности среди мирян должны были обеспечивать такие основные сферы деятельности брат-чиков, как благотворительность, организация школьного образования и кни-гоиздание. Флеров особо подчеркивает вклад братчиков в дело исправления церковных книг, которые к XVI в. из-за неточных переводов и неоднократного переписывания существенно искажали смысл текстов. Работа Флерова стала важной вехой в русской историографии, так как положила начало всесторон-нему исследованию как роли украинских братств во многих жизненно важ-ных сферах исторического процесса в Украине, так и их влиянию на развитие общественного сознания в России.
Истории религиозных отношений и связанного с ними культурно-нацио-нального движения посвящены работы профессора Петербургской духовной академии (ПДА) Михаила Осиповича Кояловича (1828—1891), работа которо-го «Литовская церковная уния» (1859—1861 гг.) положила начало целому ряду исследований об унии русских и украинских историков, написанных с пози-ций официального православия, с крайне отрицательной оценкой церков-ной унии 1596 г.2 При рассмотрении причин заключения греко-католической унии в конце XVI в. неизбежно вставал вопрос о роли братств как в процес-се подготовки к унии, так и в период после ее провозглашения. Как и боль-шинство церковных историков, Коялович главенствующую роль в создании братств отводил антиохийскому и константинопольскому патриархам, ко-торые «дали силу новому движению», поняв «благодетельность братств» и дав им «прочное обеспечение». Однако Коялович, в отличие от большинства представителей церковной исторической школы, не считал церковную дея-
1 Флеров И. О православных церковных братствах, противоборствовавших унии в Юго-Западной России в XVI, XVII и XVIII столетиях. СПб., 1857.
2 Коялович М. О. Литовская церковная уния. СПб., 1859—1861. Т. 1—2.
50 Глава первая
тельность братств, взявших на себя некоторые функции церковной иерар-хии, противоречием «давним обычаям Западно-Русской Церкви», в которой участие мирян в церковной жизни всегда отличалось особой активностью1. Впервые в историографии Коялович отметил, что силу братств как органи-заций составляют не религиозные начала в их деятельности, а гражданское устройство этих объединений, которые соединили права и свободы, предо-ставленные среднему сословию в городах Магдебургским правом. Братства перенесли принципы самостоятельного участия и управления среднего со-словия совместно с высшим на религиозные дела, что и послужило залогом силы братств как организаций, вызывая симпатию к ним не только высших (шляхты) и низших (крестьянства) слоев православного украинского народа, но и многих поляков-католиков и протестантов. Историк подчеркивал, что братства хорошо усвоили польские конституционные начала, но начала эти были проникнуты «жизнью чисто национальной»2.
М. О. Коялович посвятил истории украинских братств специальное ис-следование3 и подготовил публикацию документов о гонениях на правосла-вие в Польше в конце XVI — первой половине XVII вв.4 Исследуя причины введения церковной унии на Украине, он считал, что братства, обострившие конфликт между мирянами и церковной иерархией, создали благоприятные условия для введения унии, поэтому в целом деятельность братств оценивал отрицательно.
Начальному периоду деятельности братства был посвящен очерк И. Вино-градова, в котором главным образом рассматривалась его роль в защите пра-вославия в предунийный период5.
Митрополит Макарий (Булгаков Михаил Петрович, 1816—1882) также рас-сматривал братства в связи с введением церковной унии6 и видел в них исклю-чительно церковные организации. Макарий Булгаков считал, что свою исто-рию братства ведут от древних церковноприходских общин, в обязанность ко-торых входили забота о приходском храме, организация и проведение храмо-вого праздника и некоторые благотворительные функции. Борьба православия с католицизмом и протестантизмом в конце XVI в. способствовала тому, что
1 Коялович М. О. Литовская церковная уния. СПб., 1859. Т. 1. С. 59.2 Коялович М. О. Литовская церковная уния. СПб., 1859. Т. 2. С. 84.3 Коялович М. О. Чтения о церковных западно-русских братствах. М., 1862.4 Документы, объясняющие историю западно-Русского края и его отношение к России
и к Польше. СПб., 1865.5 Виноградов И. Львовское ставропигиальное братство и его деятельность в защиту пра-
вославия в XVI в. до насильственного введения унии в западнорусском крае // Волынские епархиальные ведомости. 1867. № 13. С. 303—316; № 15. С. 393—406; № 19. С. 543—560.
6 Макарий (Булгаков). Первое двадцатипятилетие церковной унии в западнорусском крае. М., 1880.
51Историография истории Львовского Успенского братства
возникли братства, которые «хотели служить не своим только церквям, а всей церкви православной»1. Митрополит Макарий считал, что Львовское братство не имело четкого устава и «прочного внутреннего устройства», которые были даны ему антиохийским патриархом. Инициативу организации школы и типо-графии при Львовском братстве историк также приписывал восточным патри-архам. Преувеличение роли патриархов в организации братств «нового типа» было характерно для всей церковной исторической школы. Макарий Булгаков впервые высоко оценил деятельность Львовского братства, направленную на создание и поддержку братств во многих городах и местечках Украины, особо отмечая, что первостепенное значение для украинского православного населе-ния Польши имели братские школы, которые «принесли много пользы право-славной Церкви»2.
Большая монография профессора Казанской духовной семинарии Кон стантина Васильевича Харламповича (1870—1932) посвящена развитию школьного образования на украинских и белорусских землях в составе Речи Посполитой3. Историк большое внимание уделял анализу католических и протестантских учебных заведений, но в центре внимания исследования — организация школьного образования в братских школах в 1586—1633 гг. Харлампович вы-соко оценивал усилия Львовского братства по созданию и содержанию брат-ской школы и влияние методики организации учебного процесса Львовской братской школы на развитие системы образования на Украине. Харлампович выделил два основных периода в развитии школьного обучения: начальный греко-славянский, который постепенно переходит в латино-польский (при этом отмечая, что Львовская братская школа сохранила греко-славянское направление, а латинский язык вошел в школьную программу только как предмет)4. Харлампович высоко оценил деятельность братских школ, главным образом, в борьбе против католицизма и унии, а причину успехов он видел в их всесословности и преподавании предметов как светского, так и религиозно-го направления5. Монография Харламповича до сих пор является единствен-ной, где показана целостная картина развития разных тенденций и традиций школьного образования в конце XVI — начале XVII вв. в их взаимосвязи и взаимовлиянии, определяющих разные пути развития каждого из направле-
1 Макарий (Булгаков). История Русской церкви. СПб., 1900. Т. 9: Период разделения Русской церкви на две митрополии. История Западнорусской, или Литовской митрополии (1458—1596). С. 469.
2 Макарий (Булгаков). История Русской церкви. М., 1996. Т. 5. С. 229—234, 273—281.3 Харлампович К. В. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века, от-
ношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты право-славной веры и церкви. Казань, 1898.
4 Там же. С. 306—308.5 Там же. С. 417—459, 474—476.
52 Глава первая
ний системы школьного образования как основы для формирования системы высшей школы.
Профессор ПДА Платон Николаевич Жукович (1857—1919), хотя и не за-нимался специально историей братского движения на Украине, но в связи со своими исследованиями церковной жизни на Украине в XVII—XVIII вв. затро-нул некоторые аспекты в проблематике изучения братств. В фундаментальном труде «Сеймовая борьба православного западно-русского дворянства с цер-ковной унией»1 Жукович высоко оценивал участие членов братств в сеймах и сеймиках с целью отстаивания прав православного населения. Как и другие православные историки, он видел в братствах прежде всего церковные орга-низации и рассматривал их в борьбе против унии как выразителей позиции украинского городского населения. К вопросам о роли братств в борьбе с цер-ковной унией Жукович обращался и в других своих исследованиях2.
В 90-х гг. XIX в. церковный историк Александр Александрович Папков (1855—1920) издает в «Богословском вестнике» ряд статей, посвященных истории украинских и белорусских братств3. В 1900 г. вышли монографии4, в которых он излагал их историю в хронологическом порядке до конца XVIII в., что было нетипично для историков православной историографической школы, которые рассматривали историю братского движения только конца XVI — первой по-ловины XVII вв. Однако работы Папкова носят в основном компилятивный, описательный характер.
1 Жукович П. Н. Борьба против унии на современных ей литовско-польских сеймах (1595—1600 гг.). СПб., 1897. СПб., 1901—1910. Вып. 1—6. 1897. Оценка работ Жуковича в ЗНТШ. Т. 113.
2 Жукович П. Н. Брестский Собор 1591 г. (по новооткрытой грамоте, содержащей дея-ния его) // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1907. Т. 12. Кн. 2; Жукович П. Н. Протестация митрополита Иова Борецкого и других западно-русских иерархов, составленная 28 апреля 1621 г. // Сборник статей по славяноведению. СПб., 1910. Вып. 3. С. 135—153.
3 Папков А. А. Охранительная деятельность православных братств в последние годы царствования короля Сигизмунда III: 1620—1632 // Богословский вестник. 1891. № 5. С. 166—188; № 7. С. 16—42; Он же. Древнерусский приход. Краткий очерк церковно-приходской жизни в восточной России до XVIII в., и в западной до XVII в. // Богословский вестник. 1897. Т. 1. Февраль. С. 251—284; Март. С. 373—395; Т. 2. Апрель. С. 42—67; Он же. Эпоха преобразования западнорусских церковных братств: 1586—1600 гг. // Богословский вестник. 1897. № 9. С. 193—224; № 11. С. 200—239; Он же. Братства как мощная защита православия вплоть до восстановления православной иерархии в 1620 г. // Богословский вестник. 1898. № 1. С. 26—52; № 3. С. 335—364; Он же. Оживленная деятельность право-славных братств в эпоху митрополита П. Могилы: 1632—1647 // Богословский вестник. 1898. № 8. С. 141—182.
4 Папков А. А. Очерк истории западно-русских православных братств. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900; Он же. Жизнь и деятельность братств во второй половине XVII и в XVIII веках. Троице-Сергиева Лавра, 1900.
53Историография истории Львовского Успенского братства
Как и представители украинской церковной историографии, русские исто-рики православной историографической школы акцентировали внимание пре-имущественно на религиозных формах функционирования братств и сферах деятельности, способствовавших «укреплению и защите» православия, поэ-тому их исследования были ограничены хронологически (до середины XVII или до начала XVIII вв.). Такой односторонний подход к деятельности братств значительно обедняет картину общественно-политической жизни того време-ни, не отражает всех аспектов развития общекультурного процесса, в котором братства играли немаловажную роль.
Среди русских «светских» историков украинские братства вызвали такой же интерес, как и у историков церковной школы историографии, но темати-ка исследований двух историографических направлений исторической науки по этому вопросу существенно различается. Если историков церкви интере-совали преимущественно церковно-религиозные стороны функционирова-ния братских организаций и особенно их борьба за православие, то историков университетской школы привлекали проблемы происхождения братств и их вклад в развитие общественной мысли и культуры.
Первым историческим исследованием, в котором впервые поднимается во-прос о братствах, является «Историческое известие о возникшей в Польше унии» Николая Николаевича БантышКаменского (1737—1814)1. Этот труд особо отличается от всех последующих исследований как по истории унии, так и по истории братств. В работе, написанной в 1795 г., задолго до публикации основных источников, Бантыш-Каменский впервые говорит о большой заслуге братств в борьбе против унии и впервые приводит сеймовую речь члена брат-ства Лаврентия Древинского, являющуюся одним из лучших памятников по-литического ораторского искусства XVII в. Опубликованная в 1805 г., работа Бантыш-Каменского в течение всего XIX в. оставалась лучшим исследованием церковной унии 1596 г. в русской историографии.
В середине XIX в., сразу после публикации первых материалов по истории Львов ского и некоторых других братств, в русской историографии разверну-лась полемика о происхождении этих организаций. Начало дискуссии поло-жил Сергей Михайлович Соловьев (1820—1879), который выдвинул теорию происхождения украинских братств конца XVI—XVII вв. из древнерусских «братчин», известных с XII в.2 Флеров и Коялович считали, что братства воз-никли из цеховых организаций. Н. Скабалланович полагал, что братства берут свое начало от западноевропейских «духовных гильдий»3. Своеобразную тео-
1 БантышКаменский Н. Н. Историческое известие о возникшей в Польше унии. М., 1805; 2-е изд. Вильно, 1864.
2 Соловьев С. М. Братчины // Русская беседа. 1856. № 4. С. 108—117.3 Скабалланович Н. Западно-европейские гильдии и западно-русские братства // Хри-
стианское чтение. 1875. Ч. 2.
54 Глава первая
рию происхождения братств выдвинула А. Я. Ефименко, согласно которой все братства и им подобные организации происходят от одной «материнской фор-мы» — родового братства1. Дискуссия, начатая еще в середине XIX в., остается открытой и сегодня2.
Особого внимания заслуживает историко-этнографический очерк петер-бургского историка Александры Яковлевны Ефименко (1848—1918) «Южно-русские церковные братства», опубликованный в 1880 г.3 Впервые украинские и белорусские братства рассматривались как часть одного общеевропейского процесса. Исследуя материалы по истории родовых союзов славян, Германии и Скандинавии, Ефименко приходит к выводу, что западноевропейская гиль-дия, ремесленный цех, древнерусская братчина, церковное братство являются однородными явлениями и происходят из родовых союзов. Ефименко не толь-ко связывает украинские братства с аналогичными союзами в других евро-пейских странах, но и прослеживает их развитие и эволюцию вплоть до XIX в. Ефименко выдвинула и оригинальную концепцию причин упадка братств, в том числе и Львовского, во второй половине XVII в. Эти причины лежат в усу-гублении разрыва между украинским мещанством и шляхтой после церков-ной унии 1596 г., которую шляхта в целом принимала, а мещанство отвергало. Как теория происхождения братств, так и замечания о причинах их упадка, выдвинутые Ефименко, не получили поддержки у историков, и только теперь в историографии получила развитие ее мысль об общеевропейском братском движении как историческом феномене, начинают появляться исследования о взаимовлияниях братств разных стран и их воздействии на общекультурные процессы развития общества начиная с эпохи Средневековья и до новейшего времени.
Изучение истории украинских братств сегодня невозможно представить без теоретических работ Льва Платоновича Карсавина (1882—1952), который рассматривал историю культуры как «раскрытие некоторой основной психи-ческой стихии, проявляющейся через индивидуальные осуществления во всех сферах жизни изучаемой коллективности — от социально-экономических от-ношений до высот мистико-философского умозрения»4. Украинские братства не были предметом исследования Л. П. Карсавина, но он впервые в русской
1 Ефименко А. Я. Южно-русские братства // Южная Русь. СПб., 1905. Т. 1. С. 200—309.2 Анализ основных концепций происхождения братств в историографии середины
XIX — начала XX вв. см.: Мединський Є. М. Братські школи України і Білорусії в XVI—XVII століттях. Київ, 1958. С. 1—19. Краткий обзор современной зарубежной историографии по вопросам происхождения западноевропейских и украинских братств см.: Isaievych Ia. Be-tween Eastern Tradition and Influences from the West Confraternities in Early Modern Ukraine and Belorussia // Ricerche Slavistiche. 1990. Vol. 37. P. 270—294.
3 Ефименко А. Я. Южнорусские церковные братства // Слово. 1880. № 10—12.4 Карсавин Л. П. Культура средних веков. Пг., 1918. С. 1.
55Историография истории Львовского Успенского братства
историографии предложил характеристику средневековых братств Западной Европы1. При рассмотрении западноевропейских средневековых организаций мирян он предпринял попытку найти в европейских братствах разного типа и ориентаций общие черты. По мнению Карсавина, братства — это организа-ции мирян, которые следует рассматривать в рамках истории монашества, так как они «представляют собою форму ослабленной аскезы» и отражают своими идеалами те или иные стороны религиозной жизни эпохи. Общим для всех братств является стремление к организованной религиозности жизни в миру, умеренный религиозно-моральный идеал, который получил определенную са-моценность2. Попытка Карсавина как медиевиста найти константы сознания человека посредством анализа институтов, концентрирующих в себе основные черты личности изучаемой эпохи (которыми являются средневековые брат-ства), являются актуальными для современной исторической науки.
Проблемы истории культуры разрабатывал в своих работах Александр Сер геевич ЛаппоДанилевский (1863—1919). В «Методологии истории» исто-рию культуры он определяет как специальную научную дисциплину, раз-витие которой началось в «век просвещения», когда появилось «общее по-нятие о некоторой законосообразности исторических явлений»3. Главными аспектами изучения истории культуры Лаппо-Данилевский считал развитие народного самосознания, борьбу идей, формирование личного начала. Но фундаментальный труд «История политических идей в России в XVIII в. в связи с развитием ее культуры и ходом ее политики», в котором рассмотре-ны признаки эпохальной смены культур в России в XVII—XVIII вв., остался неопубликованным. Лаппо-Данилевский предварил свое исследование вве-дением4, в котором рассмотрел новые явления в русской культуре XVII в., процесс создания нового и цельного типа культуры. Этот труд был опубли-кован спустя 80 лет после написания как самостоятельное произведение5. В контексте истории русской общественной мысли и культуры XVII—XVIII вв. Лаппо-Данилевский впервые поставил и попытался решить проблему про-никновения западноевропейской образованности, научной мысли и культу-ры в Россию в XVII в. через Украину, которая стала своеобразным полем, где с конца XVI в. начался процесс синтеза традиционной для Руси ориентации на Восток и новых передовых западноевропейских идей в польско-латинской ин-
1 Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М., 1992. С. 143—149.2 Там же. С. 148—149.3 ЛаппоДанилевский А. С. Методология истории. 4-е изд. Пг., 1923. Т. 1. С. 137—139.4 Клибанов А. И. А. С. Лаппо-Данилевский — историк и мыслитель // ЛаппоДани
левский А. С. История русской общественной мысли и культуры XVII—XVIII вв. М., 1990. С. 249.
5 ЛаппоДанилевский А. С. История русской общественной мысли и культуры XVII—XVIII вв. М., 1990.
56 Глава первая
терпретации. Особую роль в процессе влияния латино-польской образован-ности и протестантской культуры на русскую общественную мысль Лаппо-Данилевский отводил украинским братствам, и в особенности Львовскому братству. В заслугу Львовскому братству Лаппо-Данилевский ставил то, что львовские мещане стали сознавать свободу вероисповедания как первую из свобод человека и активно ее отстаивать. Но главным достижением братств были их просветительские стремления, и в среде Львовского братства (в шко-ле которого преподавали философию и в библиотеке которого было собрано большое количество «греческих и латинских книг» крупнейших философов и богословов) вырабатывалась одна из главных парадигм XVII в. о том, что нау-ка должна стать средством, которым можно и должно пользоваться для своих православных целей. Оценивая украинские братства в контексте становле-ния русской общественно-культурной жизни, Лаппо-Данилевский занижает их роль в становлении и развитии национального самосознания — процессе, который был одной из доминант в общекультурном развитии и Украины, и России в XVII в.
Польские историки в противовес русским почти не касались истории укра-инских братств. В некоторых работах по истории города Львова, изданных в XIX в., о существовании Львовского братства даже не упоминается1 или го-ворится только о братской типографии2. Исключением является моногра-фия Владислава Лозиньского «Патрициат и мещанство города Львова в XVI и XVII вв.». Эту работу можно рассматривать не только как историческое иссле-дование, но главным образом как — характерный пример отношения к укра-инской нации, к украинской культуре польского населения. Характеристике украинской нации, украинских фамилий Лозиньский отводит одну из послед-них глав своего исследования, после анализа армянской и еврейской общин, проживавших во Львове.3 Он негативно относится к украинскому народу и отмечает, имея в виду прежде всего Львовское братство с его типографией и школой, что во Львове было мало русинов (украинцев), но много Руси как идеи, как исторического образа. В. Лозиньский сравнивает львовских украин-цев с искоркой под холодным пеплом потухшего костра, которая может и по-гаснуть, и разгореться пламенем. Рассматривая историю братства и украин-ского народа Галиции, можно сказать, что эта искорка не только не потухла, но и действительно разгорелась огнем национально-культурного возрождения в конце XVI — начале XVII и в XIX вв. Лозиньский крайне негативно оценивал деятельность Львовского братства, причем то, что он ставит в вину братству, в действительности были большими гражданскими, политическими, экономи-ческими завоеваниями братства: это прежде всего — борьба за равные религи-
1 Paree F. Historia Lwowa. Lwów, 1894.2 Chodynecki X. Historia miasta Lwowa. Lwów, 1865. S. 409—420.3 Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo Lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwów, 1892. S. 307—352.
57Историография истории Львовского Успенского братства
озные, экономические и политические права с поляками. В. Лозиньский писал, что в правовом отношении украинская община была самой бесправной, даже по сравнению с армянской, только «за армянской улицей не было никого и ни-чего, а за Русской улицей лежал целый мир, спящий и не ведающий ни о чем, но с таким очагом (Ставропигийским братством. — Ю. Ш.), который будил его ото сна»1. Весьма тенденциозно оценивая отношения братства со львовским Магистратом, Лозиньский все же отмечал, что при крайне бесправном поло-жении украинцев в городе, когда они не могли ни входить в администрацию города, ни выбирать ее, ни быть в числе ремесленных цехов, ни строить дома в центре города, Ставропигийское братство на протяжении всей своей истории сохраняло исключительное положение в обществе, которое позволяло ему не только иметь гораздо большее значение, чем институции с народным харак-тером, но и до определенного уровня пропагандировать свое национальное самоуправление2. Лозиньский с пренебрежением писал и о Львовском брат-стве, и обо всем украинском народе: «это был не народ, а остаток народа, кото-рый давно утратил свою культуру, свое национальное лицо, который упрямо жил, хотя не имел никаких сил для жизни и смотрел с ненавистью на все чу-жое», — в этих словах автор невольно говорит о необыкновенной силе укра-инского народа, сумевшего выжить и сохранить национальную самобытность, несмотря на все попытки его уничтожить3. Весьма скептически относился к стремлению львовских братчиков участвовать в политической жизни города и отстаивать права украинского народа в органах Рады города Ян Птасьник4. Такая оценка была характерной для польской историографии XIX в., наполнен-ной национально-политическими амбициями и отрицательным отношением к украинской культуре. Более объективное отношение к истории Львовского братства у В. Загурского, который посвятил свою работу истории Львовской братской школы5, хотя он существенно преувеличивал роль украинских маг-натов и молдавских господарей в создании братской школы и типографии в конце XVI в.
Советская историография 20х — начала 50х гг. XX вв. История братского движения Украины не вписывалась в жесткие схемы марксистской историо-графии. В 20-е гг. были предприняты попытки оценить братское движение с классовых позиций. М. Н. Покровский рассматривал братства как организа-ции городской буржуазии и ремесленников, которые ведут антифеодальную
1 Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo Lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwów, 1892. S. 308.2 Ibid. S. 349.3 Ibid. S. 307—350.4 Ptaśnic J. Walki o demokratyzacje Lwowa // Kwartalnik Historyczny. 1925. S. 240—250; Pta
śnic J. Lwowianie w nacji polskiej w Padwie // Kwartalnik Historyczny. 1923. T. 37.5 Zagórski W. O szkole grecko-słowiańskiei we Lwowe // Muzeum czasopismo towarzystwa
nauczycielei szkól wyższych. 1893. Zeszyt 9, 10—11. S. 819—825, 935—940.
58 Глава первая
борьбу, при этом совсем игнорировал их национально-религиозную деятель-ность. Получение привилеев патриархов Покровский объяснял исключитель-но фактом покупки привилеев братствами и продажей их за высокую цену патриархами1. В. Фаворский сводил деятельность братств к роли держателей церковной казны, которые ведут борьбу против епископата, отражавшего ин-тересы феодалов и шляхетства2. Такая трактовка не только искажала сущность деятельности братств, но и полностью не соответствовала историческим реа-лиям. В академическом издании «История Украинской ССР» (1953 г.) братства оцениваются как общественные организации — центры политических сил для борьбы против угнетения панской Польшей, против реакционной польско-католической культуры3.
Но, несмотря на новые методологические установки, в 20-е годы были опубликованы работы А. А. Савича4 и Ф. В. Титова5, в которых рассматрива-лись вопросы, связанные с историей братской школы и типографии. Заслуга Титова в том, что он впервые обратил внимание на важность предисловий старопечатных изданий как исторических источников и впервые осуще-ствил их публикацию. Исследование Савича было единственной в советской историографии научной работой довоенного периода, в которой рассматри-вались вопросы происхождения братств, характера их деятельности. Савич считал, что братства сыграли весомую роль в истории культуры Украины и Белоруссии6. В 1946 г. С. И. Маслов опубликовал небольшую статью, в ко-торой продолжает развивать взгляд на братское движение, предложенный М. С. Грушевским7. Это была единственная работа, написанная в «сталин-ский период» советской истории, в которой братства рассматривались с по-зиций культурно-национального возрождения на Украине. Если на Западной Украине, вошедшей после Первой мировой войны в состав Польши, изучение братского движения, начатое в XIX в., продолжалось, то в условиях гонений и репрессий за любые попытки развития национально-патриотических воз-зрений на историю, в условиях насаждаемого «воинствующего атеизма» в
1 Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. Л., 1924. Т. 2. С. 154.2 Фаворський В. Церква та національний рух на Україні в XVI—XVII ст. Київ; Харків,
1929. С. 17.3 Історія Української РСР. Київ, 1953. 4 Савич А. А. Западно-русские униатские школы XVII—XVIII в. // Труды Белорусского
государственного университета. Минск, 1922. Т. 1. С. 164—175; 1923. Т. 2—3. С. 130—197.5 Тітов Хв. Матеріали для історії книжкової справи на Вкраїні в XVI—XVIII вв.:
Всезбірка передмов до українських стародруків. Київ, 1924.6 Савич А. А. Нариси з історії культурних рухів на Вкраїні та Білорусі в XVI—XVIII ст.
Київ, 1929.7 Маслов С. І. Культурно-національне відродження на Україні в кінці XVI і першій
половині XVII ст. // Наукові записки Інституту мови та культури АН УРСР. Київ, 1946. С. 3—20.
59Историография истории Львовского Успенского братства
обществе и вульгарно-марксистских методов в исторической науке изучение братского движения становилось невозможным, так как все основные сферы деятельности братств так или иначе попадали под табу сталинской историо-графии.
Историография украинского зарубежья. Среди историков, оказавших-ся за пределами Украины, можно также выделить несколько историографи-ческих школ, в рамках которых оценивалась история Львовского братства. Историками православной исторической школы Львовское братство оцени-валось с точки зрения церковной каноничности. В. Заикин, отмечал заслуги братства в деле защиты православия и сохранения благочестия, в сфере об-разования и просвещения, но в то же время негативно оценивал церковную деятельность братства и главным образом — противостояние духовенству1. В целом положительную оценку братствам дал протоиерей Константин Зноско. Рассматривая их как церковные организации, он отмечал, что братства приоб-рели большое значение в рамках Польско-Литовского государства и выступа-ли перед королями как представители всего украинского и белорусского наро-да. Но особая заслуга братств состояла в оказании мощного противодействия церковной унии2. Это направление историографии не отличалось оригиналь-ностью и придерживалось выработанных российской церковной историогра-фической школой XIX в. концепций.
У истоков создания одного из основных центров изучения истории Украины в эмиграции — Украинского Свободного Университета (Український Вільний Університет) — стоял Дмитрий Иванович Дорошенко (1882—1951), представ-ляющий так называемую государственную школу историографии. В общих курсах истории Украины он отмечал большую роль братств в обновлении цер-ковной и духовной жизни на Украине, в деле сохранения национальной само-бытности украинского народа3.
Несколько работ4 посвятила проблемам истории братств Наталия Дмитриевна ПолонскаяВасиленко (1884—1973). Вопросы о роли братств в исто-рии украинского народа она анализировала в рамках общих курсов истории церкви и истории Украины5. Полонская-Василенко рассматривала братства как церковные организации, в деятельности которых было много революци-
1 Заикин В. Участие светского элемента в церковном правлении. Варшава, 1930. С. 55—64.2 Зноско К. Исторический очерк церковной унии, ее происхождение и характер. Варша-
ва, 1933.3 Дорошенко Д. І. Нарис історії України. Варшава, 1932. Т. 1.; Дорошенко Д. І. Огляд укра-
їнської історіографії. Прага, 1923. 4 ПолонськаВасиленко Н. Братства на Україні // Минуле і сучасне. Мюнхен, 1947; По
лонськаВаси ленко Н. Братства на Україні // Рідна церква. Ч. 17. 1955.5 ПолонськаВасиленко Н. Історія української церкви. Мюнхен, 1949; ПолонськаВаси
ленко Н. Історія України. Мюнхен, 1972—1976. Т. 1—2; Київ, 1995. Т. 1—2.
60 Глава первая
онных элементов, приводивших к конфликтам с церковными иерархами. Она высоко оценивала деятельность братских школ, особенно школы Львовского братства, ставшей не только весомой альтернативой иезуитским школам, по-лучившим распространение в XVI в. в Польше, но и служившей примером для организации школ в других городах и местечках Украины. Учителя и ученики Львовской братской школы «разносили знания и лозунги борьбы против като-лического натиска», воспитывая у нового поколения чувства национального самосознания1.
Большую роль братств в истории Украины отмечали исследователи украин-ской культуры. Особо следует отметить культурологические работы Дмитрия Ивановича Чижевского (1894—1977), в которых впервые в историографии обо-сновывалась общеевропейская схема культурного развития Украины и укра-инская культура рассматривалась как элемент мирового культурного про-странства, которая переживала те же внутренние процессы, что и целостность, к которым она принадлежала2. Период наибольшей активности украинских братств Чижевский оценивал как эпоху Ренессанса и Реформации, которые проходили на Украине одновременно. Деятельность братств Чижевский рас-сматривал в контексте духовной истории Украины, отмечая, как в их деятель-ности переплетались элементы религиозного движения, процессы религиоз-ной борьбы, вызванные влияниями реформации, и национальное движение3.
Братства как проявления организаций западной ориентации рассматрива-ет историк украинской культуры И. Мирчук, отмечая особые заслуги братств в развитии образования, науки, философской мысли, театрального искусства, архитектуры4. Роль украинских братств в истории Украины анализировалась в работах В. Иванис5. Преимущественно исследователей интересовала роль братств в истории церкви и религиозных движений6. Оценка самобытности украинского братского движения, как и всего культурного процесса Украины в контексте мировой культуры, была важнейшим достижением украинской культурологии, развивавшейся в диаспоре с главными научными центрами в Мюнхене, Гарварде и Виннипеге.
1 ПолонськаВасиленко Н. Історія України. Київ, 1995. Т. 1. С. 382—383, 398—399.2 Чижевський Д. Культурно-історичні епохи. Авгсбург; Монреаль: Накл. Т-ва прихиль-
ників УВАН (Slavistica, № 78), 1978. С. 9.3 Чижевський Д. Філософія на Україні. Прага, 1929; Чижевський Д. Історія української
літератури. Нью-Йорк, 1956.4 Мірчук І. Історія української культури. Мюнхен, 1949.5 Iванис В. Церковнi братства та їх значення для українського народу // В оброні віри.
Торонто, 1954. Т. 1.6 Крат М. М. Братства в iсторiї України. Лондон, 1950; Назарко I. Братства i їх роль в
iсторiї української церкви. Париж, 1966; Луцiв В. Церковнi братства в Українi // Богословия. Рим, 1973. С. 89—123.
61Историография истории Львовского Успенского братства
Историография русского зарубежья. Проблема украинских братств получи-ла незначительное освещение среди русских историков, оказавшихся в эми-грации после революции 1917 г. Проблемы братств разрабатывались в основ-ном в рамках двух историографических направлений: истории русской право-славной церкви и истории русской философии. К проблематике братств и их роли в истории церкви обращался Антон Владимирович Карташев (1875—1960), рассматривая братства как церковные организации, «миссионерские и вероисповедные учреждения», заслуги братств видел в первую очередь в деле сохранения православной веры, подчеркивая, что братства способствовали активизации богословской мысли среди православного духовенства в конце XVI в. Карташев отмечал большую роль братских школ в развитии образова-ния и подготовке целой плеяды полемистов, богословов, филологов, а главную заслугу в системе образования братских школ видел в том, что в них впервые начали изучать системно («наукообразно») церковно-славянский язык. Право мирян контролировать епископов он оценивает как дерзновенное и относит-ся к реформационным элементам в деятельности братств негативно1. После введения церковной унии братства оказались мощным ее сопротивлением и сыграли выдающуюся роль в деле сохранения православия2. А. В. Карташев рассматривал организации украинских мирян в традициях русской дореволю-ционной православной историографической школы. Его работа не отличает-ся оригинальностью суждений, а повторяет ставшие общепринятыми оценки братского движения Украины, согласно которым они рассматривались исклю-чительно как церковные организации, направлявшие все свои усилия против борьбы с унией и игнорировавшие как многие другие сферы деятельности братств, так и униатский период их истории.
Особую оценку получили украинские братства в работах историков рус-ской религиозной мысли и русской философии, в которых впервые укра-инские братства рассматривались как важнейшие центры сосредоточения передовых мыслителей на Украине в конце XVI — начале XVII вв., оказав-ших существенное влияние на развитие философской и богословской мысли России. Протоиерей Георгий Васильевич Флоровский (1893—1979), исследуя пути русского богословия, считал братства опорными точками в религиозно-общественной борьбе, очагами литературной полемики и богословской ра-боты3. Василий Васильевич Зеньковский (1881—1962) в своем фундаменталь-ном труде по истории русской философии связывал перелом в общерусском церковном сознании с движением украинских братств и в особенности с их просветительской и образовательной деятельностью. Зеньковский счи-тал, что только благодаря братствам «открываются широкие двери для про-
1 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1993. Т. 1. С. 603—608.2 Там же. Т. 2. С. 270—276.3 Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937; Вильнюс, 1991. С. 38—40.
62 Глава первая
никновения на Украину западной богословско-философской литературы» и во многом благодаря братствам стало возможно церковное возрождение на Украине1. Работы Г. В. Флоровского и В. В. Зеньковского положили начало изучению роли братств в истории духовной культуры, впервые обозначили проблемы, связанные с изучением богатого наследия братского движения, на-метили дальнейшие пути изучения источников по истории религиозной, фи-лософской, общественной мысли на Украине.
Историография 50—80х гг. Новый период в изучении братств начинает-ся с середины 50-х годов. В рамках широкого празднования 300-летия вос-соединения Украины с Россией стали возможны исследования украинской истории, особенно средневекового периода. Первой такой работой с харак-терным названием было исследование о братских школах Е. М. Медынского2, в котором впервые в советской историографии давался обзор дореволюцион-ной традиции изучения вопроса и подвергалась критике теория о братствах Покровского. В рамках истории педагогической мысли освещали деятельность братских школ в основном в первый период их существования Б. Н. Митюров и В. Шокотко3, к вопросам книгоиздательской деятельности Львовского брат-ства обращался Г. И. Коляда4. Если историки XIX—XX вв. переоценивали ре-лигиозные стороны деятельности украинских братств, то в советской исто-риографии религиозная направленность братств, их роль в духовной жизни народа и влиянии братств на историю церкви существенно принижалась или вообще умалчивалась. В общих курсах истории СССР и Украинской ССР, в учебниках и энциклопедиях отмечались заслуги братств только в борьбе про-тив «окатоличивания и ополячивания», за развитие украинской культуры5. Братства рассматривали как организации ремесленников и купцов, формаль-но объединенные вокруг одной церкви, фактически политические организа-ции, которые выступают за национальное равноправие6. Это была своеобраз-
1 Зеньковский В. В. История русской философии. Париж, 1948; Л., 1991. Т. 1. Ч. 1. С. 56—58.2 Медынский Е. М. Братские школы Украины и Белоруссии в XVI—XVII вв. и их роль
в воссоединении Украины с Россией. М., 1954. Украинское издание: Мединський Є. М. Братські школи України і Білорусії в XVI—XVII ст. Київ, 1958.
3 Митюров Б. Н. Из истории Львовской братской школы // Советская педагогика. 1954. № 2. С. 82—89; Он же. Памятник педагогической литературы начала XVII в. «О воспитании чад» // Наукові записки Львівського педагогічного інституту. Т. 4. Вип. 2. Серія педагогічна. Львів, 1955. С. 101—109; Шокотко В. До питання про історію братств і їх шкіл на Україні в кінці XVI — на поч. XVII ст. // Наукові записки Донецького педінституту. 1956. Вип. 4.
4 Коляда Г. И. Книгоиздательство Львовского братства в XVII веке // Ученые записки Сталинабадского объединения педагогического и учительского института им.Т. Г. Шевчен-ко. 1952.
5 Советская историческая энциклопедия. М., 1962. Т. 2. С. 702—703; Большая советская энциклопедия. М., 1971. Т. 4. С. 9.
6 Історія Львова. Короткий нарис. Львів, 1956. С. 30.
63Историография истории Львовского Успенского братства
ная ниша, которая позволила в условиях советской цензуры изучать сложные и противоречивые аспекты истории братств Украины. Во второй половине 50-х годов появились работы Николая Павловича Ковальского, посвящен-ные связям украинских братств с Российским государством в XVI—XVII вв.1 Заслуга Н. П. Ковальского в том, что он впервые привлекает к изучению исто-рии Львовского братства материалы из московских архивов, что значительно расширило круг источников по истории братства, особенно касающихся кон-ца XVII в. Вопросы об участии Львовского братства в установлении и разви-тии украинско-русских связей в XVI—XVIII вв. получили отражение в рабо-тах И. П. Крипьякевича2.
В 60-е годы М. Худаш открывает новое направление исследования архива Львовского братства, обращается к документам братства как к носителям язы-ковой культуры и на их основании проводит изучение лексики деловых доку-ментов конца XVI — начала XVII вв.3
Под знаменем антиуниатской борьбы на Западной Украине стало возмож-но изучение памятников религиозной полемической литературы Украины. С 60-х годов активно стало разрабатываться философское направление из-учения братского движения. Эти вопросы в контексте развития идей гума-низма и рационализма и влияния западноевропейской Реформации раз-рабатывали П. К. Яременко, Г. И. Коляда, Ф. И. Науменко, М. В. Кашуба, И. С. Захара, В. М. Ничик, И. В. Паславский. Большое внимание уделялось изучению литера турно-полемического наследия членов братств, пробле-мам их философских, историософских воззрений. Появились работы о Гавриле Дорофеевиче4, Сте фане и Лаврентии Зизаниях5, Иване Борецком6,
1 Ковальский Н. П. Связи западно-украинских земель с Русским государством (вторая пол. XVI — XVII вв.): Автореф. дис. ... канд. истор. наук. Львов, 1958; Ковальський М. П. Львівські братства. Діяльність Івана Федорова. Зв'язки Львова з Росією в XVI — першій половині XVII ст. Львів, 1956; Ковальський М. П. Політичні зв'язки західно-українських земель з Россійською державою в другій проловині XVII ст. // Питання історії СРСР. Львів. 1957. Вип. 6.
2 Крип'якевич І. П. Зв'язки Західної України з Росією до середини XVII ст. Київ, 1953.3 Худаш М. Лексика українських ділових документів кінця XVI — початку XVII ст. Київ,
1968.4 Коляда Г. І. Гаврило Дорофеєвич, український літератор XVII ст. // Радянське літерату-
рознавство. 1957. № 3. С. 49—59.5 Яременко П. К. Стефан Зизаній — український полеміст кінця XVI ст. // Радянське літе-
ратурознавство. 1958. № 2. С. 39—54; Алексютович Н. А. Культурно-просветительская дея-тельность братьев Зизаниев // Из истории философской и общественно-политической мыс-ли Белоруссии. Избранные произведения XVI — начала XIX вв. Минск, 1962. С. 126—132; Ботвинник М. Б. Лаврентий Зизаний Тустановский — педагог, просветитель и гуманист второй половины XVI — начала XVII вв. Минск, 1970; Ружицький Е. Невідомий документ про смерть Стефана Зизанія // Архіви України. 1972. № 1. С. 63—64.
6 Науменко Ф. І. Педагог-гуманіст і просвітитель І. М. Борецький. Львів, 1963.
64 Глава первая
Петре Могиле1, Иване Вишенском2. В отдельных работах были предпри-няты попытки комплексного изучения развития философской мысли в конце XVI — первой половины XVII вв., в том числе и произведений де-ятелей братского движения, в которых оно рассматривалось в контексте общенационального подъема3. Особого внимания заслуживает работа И. В. Паславского, в которой он пытается систематизировать философские идеи деятелей братского движения, подразделяя их на такие философские направления, как рационалистическая критика церковных догматов, обще-ственный гуманизм и культ памяти, историософия в произведениях брат-ских идеологов в конце XVI — первой трети XVII вв.4 Общей особенно-стью этих работ является то, что они не были свободны от идеологического давления того времени. Несмотря на тщательность изучения источников, философских текстов в оценках роли и значения как самих деятелей брат-ского движения, так и их произведений марксистская методология и клас-совый подход к событиям не давали возможности не только всесторонне изучить рассматриваемые источники, но и расширить их диапазон. Так, за
1 Ничик В. М. Из истории молдавско-украинских культурных связей в первой половине XVII в. // Очерки по истории молдавско-русско-украинских философских связей (XVII—XX вв.). Кишинев, 1977.
2 Яременко П. К. Іван Вишенський. Київ, 1982.3 Загайко П. К. Українські письменники полемісти кінця XVI — початку XVII ст. в
борртьбі проти Ватікану і унії. Київ, 1957; Коляда Г. І. До питання про автора «Перестороги» в світлі гіпотези Івана Франка // Іван Франко. Статті і матеріали. Зб. IV. Львів, 1958; Яременко П. К. «Пересторога» — український антиуніатський памфлет початку XVII ст. Київ, 1963; Он же. Исследование украинской полемично-публицистической литературы конца XVI — начала XVII вв. Киев, 1966; Ісаєвич Я. Д. З історії викладання філософії на Україні (XVI — XVII ст.) // Від Вишенського до Сковороди. Київ, 1972. С. 24—35; Кашуба М. В. З історії боротьби проти унії XVII — XVIII ст. Київ, 1976; Захара И. С. Борьба идей в фило-софской мысли на Украине на рубеже XVI — XVIII вв. Киев, 1982; Пилявец Л. Б. Идеология братского движения на Украине и в Белоруссии (конец XVI — первая половина XVII в.) // Исторические традиции философской культуры народов СССР и современность. Киев, 1984. С. 185—191; Пришляк В. В. Роль братств у пожвавленні зв'язків з наддніпряньскою Україною і Росією на початку XVIII ст. // Прогресивна суспільно-політична думка в бо-ротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні. Львів, 1988. С. 138—139; Антонюк Г. Д., Захара І. С. Боротьба братства проти суспільно-політичних та філософських поглядів діячів контрреформації // Прогресивна суспільно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні. Львів, 1988. С. 28—29; Боянівська М. Б. Братства та антиуніатська полемічна книжність: к. XVI — 30-ті pp. XVII ст. // Там же. С. 70—72.
4 Заславський І. В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI — пер-шій третині XVII ст. Київ, 1984; Заславський І. В. Суспільний ідеал братств: до питання про характер ідеології братського руху // Прогресивна суспільно-політична думка в бо-ротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні. Львів, 1988. С. 21—24.
65Историография истории Львовского Успенского братства
пределами рассмотрения советских исследователей оказались многие про-изведения философского и историософского плана, причем некоторые из них ранее были опубликованы.
Большая заслуга в изучении истории братского движения на Украине при-надлежит львовскому историку Ярославу Дмитриевичу Исаевичу, который в своих исследованиях продолжал традиции львовской исторической школы. Ряд исследований он посвятил книгоиздательской деятельности Львовского братства1. В 1966 г. вышла монография «Братства и их роль в развитии укра-инской культуры XVI—XVIII вв.»2, в которой историку удалось, несмотря на жесткие конъюктурные требования, раскрыть общественно-культурную дея-тельность братств в контексте западноевропейских реформационных и гу-манистических процессов, отметить большую роль братств в общественно-политической и культурной жизни Украины XVI—XVIII вв., делая акценты не только на социально-экономической деятельности братств, но и подчеркивая их роль в национальной жизни Украины. Исаевич впервые показал специфи-ку, оригинальность и самобытность украинских братств по сравнению с много-численными западными братствами. Исследование Исаевича основано на бо-гатом фактическом материале, причем историк не ограничился источниками из архива Львовского братства, а положил начало эвристическому изучению источников по истории братств городов и местечек Украины в архивах Киева, Москвы, Ленинграда, Варшавы. Исаевичу удалось обнаружить целый комплекс ранее неизвестных источников по истории многих небольших братств Украины. Этот материал существенно расширяет представление о братском движении Украины XVI—XVIII вв. Монография Исаевича до сих пор является лучшим ис-следованием истории украинских братств. В дальнейшем Исаевич продолжал изучение украинских братств и Львовского братства главным образом. Он про-должал изучать ставшие традиционными в историографии вопросы, а также поднимал новые темы для изучения богатого наследия украинских братств.
Исаевич изучает вклад братств в развитие книгопечатания и типограф-ского дела, разрабатывал вопросы библиографии изданий братской типо-графии, изучал аспекты распространения братских изданий, книготоргов-ли3. Вместе с А. П. Запаско Я. Д. Исаевич издал каталог старопечатных книг,
1 Исаевич Я. Д. Издательская деятельность Львовского братства в XVI — XVIII веках // Книга. Исследования и материалы. Сборник 7. М., 1963. С. 199—238; Он же. Книгопечатание во Львове XVI — XVII вв., XVIII в. // 400 лет русского книгопечатания. М., 1964. С. 73—77, 218—221; Ісаєвич Я. Д. Українська археографія в XVII — XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання. Київ, 1964. С. 174—185.
2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI — XVIII століття. Київ, 1966.
3 Ісаєвич Я. Д. Деякі питання бібліографії видань братств // Архіви України. 1970. № 6. С. 9—16; Львівські видання XVI — XVIII ст. / Ісаєвич Я. Д. Львів, 1970; Исаевич Я. Д.
66 Глава первая
изданных на Украине1, — это лучшее библиографическое издание, снаб-женное полным научно-справочным аппаратом, в котором можно найти перечень всех изданий Львовской братской типографии с 1591 по 1800 гг. Значительное внимание истории типографии Львовского братства уделяет Исаевич в фундаментальной монографии, посвященной истории украин-ского книгоиздания2. Историк обращался к малоизученной теме в истории Львовского братства — истории братской библиотеки, которая не сохрани-лась до наших дней3, он пытается реконструировать состав книг в библио-теке и на их основании определить круг читательских интересов львовского мещанства4.
К нетрадиционным темам, разрабатывавшимся Исаевичем, можно от-нести первое исследование об архиве Львовского братства5. В нем рассмо-трена история создания уникального архива, делопроизводство братства, согласно которому и шла комплектация архива. Исаевич впервые обратил внимание на уникальные источники по истории музыкального искусства, хранящиеся в архиве Львовского братства, в отдельном исследовании он показывает большой вклад братства в развитие украинской музыкальной культуры XVI—XVIII вв.6 Специальное исследование посвящает историк роли братства в сохранении и развитии культурных связей между право-славными народами7. Я. Д. Исаевич впервые рассматривает взаимоотно-шения украинских братств и запорожского казачества — двух основных общественных формирований украинского народа, которые взяли на себя
Роль братств в издании и распространении книг на Украине и Белоруссии (конец XVI — XVIII вв.) // Книга и графика. М., 1972. С. 127—136; Он же. Новые каталоги книг кирилли-ческой печати // Археографический ежегодник за 1977 г. М., 1978; Он же. Приемники перво-печатника. М., 1981; Ісаєвич Я. Д. Слов'янські стародруки в історії слов'янської і світової культури. Київ, 1983.
1 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, ви-данних на Україні. Львів, 1981—1984. Кн. 1—2.
2 Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002.3 Ісаєвич Я. Д. Бібліотека Львівського братства // Бібліотекознавство та бібліографія.
Харків, 1966. Вип. 3. С. 126—132.4 Исаевич Я. Д. Круг читательских интересов городского населения Украины в XVI —
XVII вв. // Федоровские чтения. 1976; Читатель и книга. М., 1978.5 Ісаєвич Я. Д. Архів Львівського братства // Архіви України. 1968. № 1. С. 88—93.6 Ісаєвич Я. Д. Братства і українська музична культура XVI—XVIII ст. // Українське му-
зикознавство. Київ, 1971. Вип. 6. С. 48—57.7 Iсаєвич Я. Д. Львівське братство і його роль в мiжслов'янських культурних зв'язках
в XVI—XVIII ст. // V Республiканська славiстична конференцiя. Тези докладiв. Ужгород, 1962. С. 241—242; Iсаєвич Я. Д. До питання про діяльність Львівського братства в галузi мiжслов'янських культурних взаємин у XVI—XVIII ст. // Українське слов'янознавство. 1970. Т. 1. С. 137—140.
67Историография истории Львовского Успенского братства
роль обороны национально-политических прав и культурных традиций1. Историк обращался к изучению проблем общественно-политической и культурной деятельности братств2. Исаевича по праву можно назвать лучшим историком украинских братств, который не только подвел итог в полуторавековой историографии Львовского братства, но и наметил многие новые и малоизученные аспекты истории братского движения на Украине.
В архиве братства отложился значительный комплекс греческих грамот. Впер вые палеографическое изучение этих источников предпринял Борис Львович Фон кич. В результате палеографического анализа ему удалось идентифи-цировать писцов греческих грамот по почерку, определить их принадлежность к школам письма3. Он определил автографы Арсения Элассонского4, первого учителя греческого языка братской школы. Палеографическое изучение гре-ческих грамот, отложившихся в архиве Львовского братства, позволяет, как отмечает Б. Л. Фонкич, «не только извлекать известные факты, выявлять ню-ансы в отношениях православных христиан Западной Руси с восточными па-триархами в XVI—XVII вв., но и получать важные дополнения для греческой палеографии указанного времени»5.
Современная историография. С 90-х гг. начинается новый этап в изучении братского движения Украины, который характеризуется осмыслением его феномена в контексте общеевропейской истории, введением в научный обо-рот новых источников, отложившихся в архивах самых разных учреждений и практически малоизученных, выработкой новых методов их изучения, осве-
1 Ісаєвич Я. Д. Зв'язки братств з запорізьким козацтвом // Середні віки на Україні. Київ, 1973. Вип. 2. С. 149—150; То же // Київська Старовина. 1992. № 1. С. 7—11; То же // Україна давня і нова. Львів, 1996. С. 105—113.
2 Iсаєвич Я. Д. Суспiльно-полiтична та культурна дiльнiсть братств: проблеми перiо-дизації // Прогресивна суспільно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні. Львів, 1988. С. 7—9.
3 Фонкич Б. Л. Новые работы по истории греческой культуры послевизантийского пе-риода // Византийский временник. 1975. Т. 36. С. 194—199; Он же. Греческо-русские куль-турные связи XV—XVII вв.: Греческие рукописи в России. М., 1977; Он же. К вопросу о про-исхождении Ивирского списка гомилий Фотия о нашествии россов на Константинополь // Byzantinoslavica: Revue internationale des etudes Byzantines. 1981. T. XLII/2. Fasc. 2. С. 154—158. Рис. 1—10; Он же. Греческие писцы эпохи Возрождения // Византийский временник. М., 1981. Т. 42. С. 124—128; Он же. Заметки о греческих рукописях советских хранилищ // Памятники культуры. Новые открытия. 1981. Л., 1983. С. 11—27; Он же. Палеография гре-ческих грамот Львовского братства // Palaeoslavica. Х / 2002. № 2. Р. 282—292.
4 Фонкич Б. Л. Греческие писцы эпохи Возрождения // Византийский временник. М., 1981. Т. 42. С. 125.
5 Фонкич Б. Л. Палеография греческих грамот Львовского братства // Palaeoslavica. Х / 2002. № 2. Р. 283.
68 Глава первая
щением малоизученных фактов истории братства1. Появляются исследования, посвященные изучению символики Львовского братства2.
Большой интерес вызывает сегодня история Львовского братства у львов-ских ученых, причем к материалам его архива обращаются исследователи са-мых разных гуманитарных дисциплин: филологи и философы3, искусствоведы
1 Isaievych Ia. Between Eastern Tradition and Influences from the West Confraternities in Early Modern Ukraine and Belorussia // Ricerche Slavistiche. 1990. Vol. 37. P. 270—294; Isaievych Ia. Eastern Rite Lay Confraternities in Ukraine and Byelorussia // Confraternitas: The Newsletter of the Society for Confraterniti Studies. 1991. Vol. 2. № 2; Исаевич Я. Д. Церковные братства на Украине и в Белоруссии в конце XVI — перв. пол. XVII вв. // Славяне и их соседи. Като-лицизм и православие в средние века. М., 1991. С. 64—66; Isajewicz J. Bractwa cerkiewne w diecezjach przemyskich obrządku wschodniego w XVI—XVIII wieku // Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 3. Przemysl, 1996. S. 63—73; Isaievych Ia. Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine. Edmonton; Toronto, 2006; Ісаєвич Я. Д. Успенське брат-ство // Історія Львова / Редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2006. Т. 1. С. 141—147; Кашуба М. В. Проблема ренесансу в українській духовній культурі // Записки НТШ. Львів, 1994. Т. 128. С. 357—371; Матюхіна О. А. Вплив античної культури на укладачів Адельфотесу // Записки наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Львів, 1994. Вип. 4. С. 76—82; Спаська Л. І. Будинок «шкільний» Ставропігійського братства в Руському кварталі // Записки наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Львів, 1994. Вип. 4. С. 83—89. Матковська О. Львівське братство: Культура і традиції. Кінець XVI — перша половина XVII ст. Львів, 1996; Ісаєвич Я. Д. «Lycaum trilingue»: концепція тримовної школи у Європі в XVI ст. // Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів, 1996. С. 308—318; Ісаєвич Я. Д. Історія Львівського Успенського братства: проблеми періодизації // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 5—8; Мицько І. З. Острозька слов'яно-греко-латинська академія (1576—1636). Київ, 1990; Мицько І. З. Львівські священники та вчителі останньої чверті XVI — першої третини XVII ст. // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному від-родженні. Львів, 1996. С. 12—23.
2 Сварник І. І. До питання про вплив Львівського братства на формування братської символіки // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 36—39; Шустова Ю. Э. Символика Львовского Ставропигий-ского братства // Гербоведъ. 2005. № 2 (80). С. 94—104.
3 Криса Б. Поетичний доробок Львівської братської школи // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 39—43; Матковська О. Ідеї социніян в ідеології та практиці братств в Україні (кінець XVI — перша по-ловина XVII століття) // Записки НТШ. Львів, 1994. Т. 128. С. 372—388; Люзняк М. Історико-філософський зміст національної ідеї в діяльності Успенського братства (XVI—XVIII ст.) // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 100—102; Паславський I. В. Мiж Сходом i Заходом. Нариси з культурно-полiтичної iсторiї Української Церкви. Львів, 1994; Паславський І. В. Суспільно-культурна діяльність Львівського братства кінця XVI — першої половини XVII ст. в оцінці української історіографії // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 43—51; Паславський I. В. Берестейська унія і українська хрис-тиянська традиція. Львів, 1997; Гурська Л. І. Православні братства в Українi як чинник фор-
69Историография истории Львовского Успенского братства
и музыковеды1, историки архитектуры2, театра3 и книжности4. Я. Д. Исаевич переиздал свою монографию о братствах 1966 г., дополнив ее всесторонним анализом западной историографии о светских братствах Западной Европы Средневековья и Раннего Нового времени5.
Львовский историк Мирон Капраль исследовал некоторые проблемы исто-риографии Львовского братства6, в том числе вопрос о времени возникно-вения организации, который исследователи истории братства рассматрива-ли по-разному7. На основании новых актовых источников он реконструи-
мування нацiональної самосвiдомостi (кiнець XVI — перша половина XVII ст.): Автореф. дис. … канд. філос. наук. Київ, 2000.
1 Костюк С. Копії портретів родини Корняктів у фондах ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відро-дженні. Львів, 1996. С. 77—80; Ясиновський Ю. П. Перші східно-слов’янські нотні видання: До 400-річчя книгодрукування на Україні // Українське музикознавство. Київ, 1974. С. 45—54; Ясіновський Ю. Львівські нотні першодруки // Какофонія. Львів, 2002. Вип. 1. С. 25—36; Ясіновський Ю. Музика // Історія Львова / Редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2006. Т. 1. С. 209—212; Ясіновський Ю. Музичне мистецтво // Історія Львова / Редкол. Я. Іса-євич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2006. Т. 1. С. 270—272.
2 Вуйцик В. С. Архітектурний ансамбль Успенського братства: реставрація та обнови // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 23—31; Долиньска М. Хронiка ставропiгiйського братства Дениса Зубриць-кого як джерело для вивчення нерухомої властностi Ставропiгiї // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми ство-рення інформаційного банку даних. Львiв, 1999. С. 390—401.
3 Пилипчук Р. Початки українського шкільного театру в Галичині: Ярослав Ісаєвич про «Просфониму» // Προσϕóνηµα. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича. Львів, 1998 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 5). С. 465—473; Пилипчук Р. До історії українського шкільного театру кінця XVI — поч. XVII ст. // ЗНТШ. Т. 237. С. 15—42.
4Александрович В. Бібліотека братів Рогатинців. // ЗНТШ. Т. CCXXXIII: Праці Історично-філософської секції. Львів, 1996. С. 251—256; Боянівська М. Львівське Успенське братство і книгописання (кінець XVI — середина XVII ст.) // Успенське братство і його роль в укра-їнському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 51—54; Козак У. Історія бібліотеки Ставропігії // Там же. С. 72—77; Колосовська О. Видання Успенського братства у львівських збірках // Там же. С. 84—88; Рибчинська Н. Книготорговельні каталоги Львів-ської Ставропігії XVIII — початку XX ст. в контексті західноукраїнської торговельної біблі-ографії // Там же. С. 81—84; Фрис В. Рукописна книга в бібліотеці Львівського Ставропігій-ського братства // Там же. С. 55—60.
5 Isaievych Ia. Voluntary brotherhood: confraternities of laymen in early modern Ukraine. Ed-monton, 2005.
6 Капраль М. Історіографія Львівського Успенського братства // Україна в минулому. Київ; Львів, 1992. Вип. 1. С. 54—71.
7 Капраль М. Чи існувало Львівське Успенське братство перед 1586 роком? // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 8—12.
70 Глава первая
рует биографии первых старейшин братства — братьев Рогатинцев и Ивана Красовского1, а также Стефана Зизания2. Изучение М. Капралем националь-ных отношений в социально-правовом и демографическом аспектах нацио-нальных сообществ Львова, в том числе украинского, позволило по-новому осмыслить причины возникновения и направления деятельности Львовского братства3. Он подготовил к публикации привилеи национальных сообществ Львова4, значительная часть которых касается истории Львовского братства и хранится в его архиве.
Роль греков в жизни Львова и в истории Успенского братства рассматри-вает Игорь Лильо5. Впервые он ставит проблему изучения генеалогии гре-ческих родов (Альвизиев, Афендиков, Корняктов, Лангишей, Мадзапетов, Мазараки, Папаров), которые сыграли в истории братства и города значи-тельную роль.
На основании архивных документов рассматривала одну из самых про-блематичных страниц истории братства — переход под юрисдикцию римско-католической церкви — А. Киричук6. Истории Ставропигийского институ-та в XIX в. посвящена монография И. Орчевич, в которой она в частности рассматривает роль Д. И. Зубрицкого в деятельности Ставропигии и об-
1 Капраль М. Брати Рогатинці — старійшини Львівського Успенського братства // Україна в минулому. Київ; Львів, 1992. Вип. 2. С. 50—60; Он же. Актові матеріали до біографії Івана Красовського // Україна в минулому. Київ; Львів, 1993. Вип. 4. С. 90—131.
2 Капраль М. Неопублікований фрагмент документа стосовно релігійних поглядів Сте-фана Зизанія // ЗНТШ. 1993. Т. 225. С. 307—309.
3 Капраль М. Українська громада на вулиці Руській Львова в 1550—1585 роках // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2002. Вип. 37. Ч. 1. С. 145—160; Он же. Між двома уніями: правові конфлікти української громади та магістрату Львова у другій половині XVI ст. // Київська старовина. Київ, 2002. № 1. С. 50—62; Он же. Огляд історіографії національних взаємостосунків у Львові XVI—XVIII століть // Український археографічний щорічник. Київ, 2002. Нова серія: Вип. 7. С. 216—231; Он же. Привілеї міста Львова XIV—XVIII ст. (Історико-джерелознавчий огляд) // Привілеї міста Львова XIV—XVIII ст.: Зб. док. Львів, 1998. С. 7—25; Он же. Привілеї національних громад міста Львова XIV—XVIII ст. (Історико-джерелознавчий огляд) // Привілеї національних громад міста Львова XIV—XVIII ст.: Зб. док. Львів, 2000. С. 5—37; Он же. Національні громади Львова XIV—XVIII ст. (соціально-правові взаємини). Львів, 2003; Он же. Боротьба за рівні права: судові конфлікти Ставропігігйського братства та української громади Львова з магістратом у 30—50-х роках XVIII ст. // Наукові зошити Львівського національного університету ім. Івана Франка. Львів, 2003. Вип. 5. С. 77—85.
4 Привілеї національних громад міста Львова: Збірник документів / Упроряд. М. Ка-праль. Львів, 2000 (Львівські історичні пам'ятки. Т. 2.).
5 Лило І. М. Нариси з історії грецької громади Львова XVI—XVII століть. Львів, 2002.6 Киричук О. Перехід Львівського Ставропігійського братства під юрисдикцію Св. Апо-
стольського престолу (за матеріалами ЦДІА України у Львові) // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 95—99.
71Историография истории Львовского Успенского братства
стоятельства создания его основных работ по истории братства и города Львова1.
В связи с 400-летним юбилеем Брестской церковной унии появилось значи-тельное количество работ, в которых многие историки отмечали роль Львовского братства в реформировании церкви2. Проблемам взаимоотношения братств, в том числе и Львовского, с православной иерархией (епископами и патриар-хами) и православной знатью уделяет особое внимание в своих работах Борис Николаевич Флоря3.
Московский историк Михаил Владимирович Дмитриев, исследуя пред-посылки и складывание реформационного движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI в., показал, что сложное переплетение религиозно-реформационной и национально-освободительной борьбы привело к росту активности православных братств, в идеологии и практике которых лозунги ортодоксального православия сочетались с рефор-мационными принципами деятельности4. К проблеме братского движения в связи с возникновением церковной унии Дмитриев обращался в последующих публикациях5.
1 Орлевич І. Ставропігійський інститут у Львові (кінець XVIII — 60-і рр. XIX ст.). Львів, 2000.
2 Яковенко С. Г. Православная иерархия Речи Посполитой и планы церковной унии в 1590—1594 гг. // Славяне и их соседи. Вып. 3. Католицизм и православие в средние века. М., 1991. С. 41—58; Ґудзяк Б. Київська ієрархія, Берестейські собори і укладення унії // Історичний контекст, укладення Берестейської униії і перше поунійне покоління: Матеріали Перших «Берестейських читань». Львів, Івано-Франковськ, Київ, 1—6 жовтня 1994 р. Львів, 1995. С. 101—136; Гудзяк Б. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської униії. Львів, 2000; Сенык С. Брестская уния: подведение итогов // 400 лет Брестской церковной унии (1596—1996): Критическая переоценка. Сб. мат-ов межд. симпозиума, Неймеген, Голландия. [М.], 1998. С. 13—28.
3 Флоря Б. Н. Брестские синоды и брестская уния // Славяне и их соседи. Католи-цизм и православие в средние века. М., 1991. С. 59—75; Он же. Отношения государства и церкви у восточных и западных славян (Эпоха средневековья). М., 1992; Он же. Брест-ская уния 1596 г. и некоторые вопросы конфессиональных отношений на Украине и в Белоруссии в первой половине ХVII века // Славяноведение. 1996. № 2. С. 22—28; Он же. Восточные патриархи и западнорусская церковь // Дмитриев М. В., Флоря Б. Н., Яковенко С. Г. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Бело-руссии в конце XVI — начале XVII в. Ч. 1. Брестская уния 1596. Исторические причины события / Отв. ред. Б. Н. Флоря. М., 1996. С. 117—130; Он же. Епископы, православная знать и братства. Вопрос о реформе церкви в последние десятилетия XVI в. // Там же. С. 95—116.
4 Дмитриев М. В. Православие и реформация. Реформационные движения в восточно-славянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI века. М., 1990.
5 Дмитриев М. В. Религиозно-культурная и социальная программа греко-католической церкви в Речи Посполитой в конце XVI — первой пол. XVII в. // Славяне и их соседи. Ка-толицизм и православие в средние века. М., 1991. С. 66—68; Дмитрієв М. В. Концепції унії
72 Глава первая
В монографии «Между Римом и Царьградом: генезис Брестской церков-ной унии 1595—1596 гг.» М. В. Дмитриев особое внимание уделяет взаимоот-ношениям братств и епископата, в частности конфликту Успенского братства с львовским епископом Гедеоном Балабаном. Он отмечает, что возрастание роли братств в жизни православной церкви является одной из главных от-личительных черт в переменах второй половины XVI в., особенно начиная с 1580-х гг. Историк делает вывод о наличии в конце XVI в. двух программ реформ православной церкви — одной, выдвинутой братствами, другой — предложенной в 1590 г. духовенством, которые кардинально различались в том, какую роль в церковной жизни должны играть миряне и какую — духо-венство1.
К проблемам взаимоотношений православных братств и церковной иерар-хии в конце XVI в. обращается в своих работах С. С. Лукашова2. В ее моно-графии «Миряне и церковь: религиозные братства Киевской митрополии в конце XVI века» рассматривается история православных братств украинско-белорусских земель Речи Посполитой, проводится сравнительный анализ православных и католических объединений мирян. Значительное внимание в работе уделяется Львовскому Успенскому братству, его взаимоотношениям с церковными иерархами, его роли в церковных реформах конца XVI в. 3
К проблеме изучения истории православных братств на восточнославян-ских территориях Речи Посполитой во второй половине ХVI — первой поло-вине ХVII вв. также обращается в диссертационном исследовании О. А. Фе-фелова.4 К изучению бытования в культуре в XVII—XVIII вв. первой книги,
в церковних і державних колах Речі Посполітої кінця XVI ст. // Історичний контекст, укла-дення унії і перше поунійне покоління: Матеріали Перших «Берестейських читань». Львів, 1995. С. 39—73; Dmitriev M. V. Les confréries de Ruthénie dans la deuxième moitié du XVIe siècle — une «Réforme orthodoxe» // Etre catholique, être orthodoxe, être protestant. Confessions et identités culturelles en Europe médiévale et moderne. Études réunies et publiées par Marek Derwich et Mikhaïl V. Dmitriev. Wroclaw, 2003. P. 208—220.
1 Дмитриев М. В. Между Римом и Царьградом: генезис Брестской церковной унии 1595—1596 гг. М., 2003.
2 Лукашова С. С. Конфликт епископа Гедеона Балабана и Львовского Успенского брат-ства в 80—х гг. XVI в.: попытки реформы церкви или борьба за имущественные интересы // Славянский альманах за 1999 г. М., 2000. С. 36—52; Она же. «Мы, нижей подписанные…»: Львовский синод 1595 г. в истории Брестской унии // Славянский альманах за 2000 г. М., 2001. С. 12—19; Она же. Взаимоотношения клира и объединений мирян на восточных зем-лях Речи Посполитой в конце XVI в.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2002.
3 Лукашова С. С. Миряне и церковь: религиозные братства Киевской митрополии в кон-це XVI века. М., 2006.
4 Фефелова О. А. Православные братства на восточнославянских территориях Речи По-сполитой во второй половине ХVI — первой половине ХVII веков: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2001.
73Историография истории Львовского Успенского братства
изданной в типографии Львовского братства, — «Адельфотеса», обращается Д. Н. Рамазанова1.
Важнейшие выводы, касающиеся истории происхождения и бы тования одного из интереснейших памятников по истории Львовского братства — так называемого «Альбома» Ставропигийского института — были сде ланы Б. Л. Фон кичем. Кодекс был создан в 80—90-х гг. XVI в. и считался членами братства одним из основных документов его архива. Изучив графику грече-ских текстов «Альбома», Б. Л. Фонкич пришел к выводу, что все они бы ли на-писаны двумя писцами. Их почерк исключительно близок к почерку Арсения Элассонского, который прибыл во Львов в 1586 г. и остался здесь в качестве ректора новооснованной братской школы. В книге имеются также три подлин-ных грамоты константинопольских патриархов. Причем это не вставленные в книгу листы, а грамоты, написанные на бумаге кодекса. Б. Л. Фонкич делает вывод о том, что кодекс в 1638—1642 гг. трижды возили в Константинополь, где грамоты с подтверждением прав и привилегий братства вписывались не-посредственно в книгу2. Выводы историка позволяют по-новому рассматри-вать взаимоотношения братства с восточными патриархами и осознать его роль в истории Христианского Востока.
Зарубежная историография. Проблемы истории братств Украины и Белорус-сии практически не разрабатывались в зарубежной историографии. Но, изучая украинское братское движение, невозможно обойти вниманием исследования историков о братствах, функционировавших в разных странах мира. Первые попытки осмыслить роль братств в истории римско-католической церкви от-носятся к XVIII в.3 Интерес ученых-историков к истории братств зародился в Европе в период постромантизма и был связан с идеализацией примитивных общинных форм и традиционных периодов истории культуры доиндустриаль-ного общества4. В то же время возникает интерес к истории украинских и бело-русских братств в России и Украине. Но систематическое изучение братств на-чалось во второй половине XX в. В первую очередь это связано с изменениями в самой исторической науке, которая ищет новые методологические подходы исследований и открывает новые темы для изучения. Вторым фактором, сти-мулирующим изучение братств, явилось изменение политики Римской като-
1 Рамазанова Д. Н. Бытование первой Греко-славянской грамматики (Львов, 1591 г.) в славянских землях в XVII—XVIII в. // Федоровские чтения. М., 2003. С. 277—283.
2 Фонкич Б. Л. «Кодекс» Львовского Успенского братства // Чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева. Москва, 15—16 октября 2003 г.: Материалы. М.: ИВИ РАН, 2003. С. 56—57.
3 Bassi I. B. Tractatus de sodalitiis seu de confraternitatibus ecciesiasticis et laicalibus. Roma, 1725; Guzman A. Tratado del origen de la Confradternitad. Madrid, 1730; Ustawy Bractwa, ktore pod Tytulem Nayswietszych Serc Jtzusa y Maryi zaprowadzone iest w Polockim Xiezy. 1759.
4 Vauchez A. Les confreries au Moyen Age: esquisse d’un bilan historigraphique // Revue his-torique. 1986. T. 275. P. 267—277.
74 Глава первая
лической церкви, которая на протяжении нескольких последних десятилетий провозглашала важность участия светских людей в церковном управлении и деятельности и поддерживала мирские религиозные объединения. Одной из лучших работ, посвященных истории средневековых западноевропейских братств, является фундаментальная монография Гилеса Герарда Меерссемана1. Книга Меерссемана стала «коперниковской революцией в истории церкви», потому что историк утверждает, что подлинным центром христианской жиз-ни являются не официальные церковные структуры, а добровольные религи-озные действия простых людей2. Относительно интенсивно история братского движения изучалась в Италии3 — стране, где братства разных типов получи-ли наиболее широкое распространение, поэтому считается, что Италия была классической страной братского движения. Проблемам истории братского движения в Западной Европе были посвящены международные конференции4, которые рассматривали братства как «неформальные и добровольные объеди-нения с уставными ограничениями и дисциплиной», члены которых состав-ляют «добровольную религию, противопоставленную канонической иерархии священнослужителей в церквях». Появился ряд исследований, в которых рас-сматриваются проблемы происхождения западноевропейских братств5, при-чем направления развернувшейся дискуссии почти полностью совпадают с направлениями дискуссии, развернувшейся в отечественной историографии в середине XIX в. Социологические и антропологические исследования совре-
1 Meersseman G. G. Ordo Fraternitatis: Confraternitate e pieta dei laici nel medioevo (Italia sacra). Roma, 1977. Vol. 1—3.
2 Vauchez A. Les laics au Moyen Age. Paris, 1987. P. 95.3 Gasparini G. De Sandre. Appunti per uno studio sulle confraternitate medievali: problemi e
prospettive // Studia Patavina. 1968. V. 15. № 1. P. 116—122; Le confraternitate romane: esperienza religiosa, societa, commitenza artistica // Riserche per la storia religiosa di Roma, 5. Roma, 1984; Fiorani L. Discusioni e ricerche sulle confraternitate romane negli ultimi cento anni // Storiografia e archivi delle confraternitate romane. Riserche per la storia religiosa di Roma, 6. Roma, 1985.
4 Le movement confraternelle en Moyen Age: France, Italy, Suisse: Actes de la table ronde or-ganisee par l’Universite dev Lausanne avec le concours de l’Ecole francaise de Rome et de l’Uniate associee 11011 du CNRS, Lausanne 9—11 mai 1985. Geneve, 1987; «Voluntary Religion»: Papers Read at the 1985 and 1986 Meetings of the Ecclesiastical History Society. (Studies in Church His-tory, 23.) Worcester, 1986.
5 Fiamingo R. Le confraternitate nel diritto canoncico e civile. Neapoli, 1917; Zoric K. Le confra-ternitate in Dalmazia studiate neil lor manoscritti ed il loro infiusso sulla vita religiosa. Roma, 1949; Deschamps J. Les confreries au Moyen Age. Bordeaux, 1958; Wipszycka E. Swieckie bract-wa w zyciu religijnym chrescijansiego Egiptu // Przeglad Historyczny. T. 59. 1968. P. 447—462; Wipszycka E. Les confreries dans la vie religieause de l’Egypte chretienne // Proceedings of the XII Internationl Congress of Papyrology. 1970. P. 511—525; Schnyder A. Die Ursulabruderschaften des Spatmitteialters: Ein Beitrag zur Erforschung der deutschsoorachigen religiosen Literatur des 15. Jahrhunderts, Stuttgart, 1986; Mackenney R. Tradesmen and traders: The world of the guilds in Venise and Europe. 1250—1650. London; Sydney, 1987.
75Историография истории Львовского Успенского братства
менных братств Франции, Испании и Латинской Америки находятся в началь-ной стадии1, но вопросы восточноевропейских католических и православных братств практически не рассматриваются в западноевропейской историогра-фии. Проблемам истории католических братств уделяется большое внимание в польской историографии2.
Большое внимание ученые разных стран уделяли изучению братской школы. Греческий ученый Ф. Димитракопулос посвятил свое исследование первому ректору школы Львовского братства — Арсению Элассонскому3. Исследованию первой славяно-греческой Грамматики Адельфотес посвятила свою диссерта-цию итальянская исследовательница М. К. Брагоне4.
Изучение истории братств самых разных типов, существовавших в странах Западной и Восточной Европы и Ближнего Востока, имеет важное значение для понимания сущности братского движения Украины и Белоруссии, возникшего в конце XVI в. Украинские братства, несомненно, создавались под влиянием основных моделей ранее существующих братств в других странах. Усвоение характерных черт средневековых европейских братств позволило украинским братчикам применять их для решения своих конкретных задач.
1 Manipulating the Saints: Religious Brotherhoods and Social Integration in Postconquest Lat-in America / Meyers A., Hopkins D. E. (editors). Hamburg, 1988.
2 Kumor B. Kościelne stowarzyszenia świeckie na ziemiach polskich w okresie predrozbioro-wym // Prawo Kanoniczne. 1967. S. 289—356; Wiśniowska E. Bractwa religijne na ziemiach pol-skich w średniowieczu // Roczniki Humaniostyczne. 17. 1969. Z. 2. S. 51—58; Kuźmak E. Bractwa Matki Boskiej Wspomożycielki Chrzescjan na ziemiach polskich w XVIII st. Rzym, 1973).
3 Δημητρακόπουλος Φ. Άρ. Άρσένιος Έλασσόνος (1550—1626). Βίος καί ἔργο. Συμβολή στή μελέτη τῶν μεταβυζαντινῶν λογίων τῇς Άνατολῆς. Άθήνα, 1984 (2-е изд.: Άθῆναι, 2007.
4 Bragone M. С. La grammatical greco-slavo ecclesiastica. Adelphotes. Rome, 1999.
ГЛАВА 2
ЛьВоВское успенское стАВропиГийское брАтстВо В контексте истории
корпорАтиВных объединений ГородскоГо нАсеЛения среднеВекоВоГо ГородА
§ 1. происхождение Львовского братства
Проблемы происхождения братств, их эволюции, характера и роли в истории общества остаются пока открытыми, хотя эти вопросы под
нимаются в европейской и отечественной исторической науке уже с середины XIX в. Братства — организации, характерные для христианской культурной традиции. Причины возникновения братств и схему становления их как института исследовал Л. П. Карсавин. В первую очередь он относит братства к попыткам организации религиозной жизни среди мирян: миряне одного прихода заботились о содержании своего храма, были связаны между собой началами материальной и религиозной взаимопомощи1. Это и обусловило объединение людей с целью организованного решения тех или иных задач.
Основой существования братств послужил Христианский Восток, где с IV в. брат ства отдельных форм получили довольно широкое распространение. Возникавшие братства органично сочетали в себе два начала: форма этих организаций была позаимствована у древнегреческих фратрий (Phratria) или древнеримских коллегий (Collegium), а цели и задачи были продиктованы христианской моралью и способом организации религиозной жизни в первые времена распространения христианства. Интересно, что такое сочетание языческих, дохристианских форм объединения людей с моральными нормами христианской религии можно проследить практически во всех странах,
1 Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М., 1992. С. 143.
78 Глава вторая
где получило распространение христианство. Возможно, становление и укрепление церковной иерархии, строгая регламентация религиозной жизни неизбежно приводили к расколу между официальными церковными структурами и теми людьми, которые привыкли организовывать свою жизнь самостоятельно.
Первые известные братства создавались с целью организации похорон: члены братства провожали в последний путь тело умершего, заботились о проведении похоронной церемонии и о поминовении души усопшего в дальнейшем. Такие организации видели себя братьями во Христе, объединениями душ живущих и умерших. К первым таким заупокойным братствам можно отнести братство, существовавшее в Константинополе с 336 г. Второй причиной, вызывавшей организационное оформление мирян, было оказание моральной или материальной помощи членам братства и всем нуждающимся. Братства возникали в связи с организацией какоголибо богоугодного заведения — госпиталя, который мог быть либо лечебницей, либо странноприимным домом, занимались сбором пожертвований и др., например, в V в. в Александрии существовало братство по уходу за больными чумой.
Организация такого рода религиозных ассоциаций была возможна на определенном этапе усвоения христианской морали в обществе. Поэтому распространение братств в византийской культуре относится к IV—V вв., а в странах Западной Европы — к XII—XIII вв., хотя первые братства известны во Франции с VII в., в Германии с IX в., в Италии с X в., Сербии и Хорватии с XII в., в Польше с XIV в. Если прототипом итальянских братств можно считать древнеримские коллегии, то прототипом немецких и скандинавских — традиционные для этих стран объединения, известные как гильдии. В одном из первых известных документов о ранних средневековых братствах «Capitula presbyteris data 852 AD» — капитулярии реймского епископа Инкмара — предписывалось духовенству прекратить самоуправство братств, а «гильдиям или братствам» («geldonias vel confratrias») оставаться в пределах строгих религиозных обязанностей, таких как посещение похоронных служб, обеспечение церквей свечами, сбор милостыни1.
К XII в. относятся первые сведения о братствах, существовавших в Киевской Руси. Ипатьевская летопись сообщает о «братчинах» — объединениях прихожан одной церкви, которые организовывали совместные пиры на храмовые праздники («пир на весь мир»)2. В древнерусских братчинах тоже наблюдается сочетание дохристианской обрядности с нормами христианской религиозной жизни. Древнерусские братчины, как и западноевропейские братства, были формой религиозноцерковной организации мирянприхожан
1 Isaievych Ia. Between Eastern Tradition and Influences from the West Confraternities in Early Modern Ukraine and Belorussia // Ricerche Slavistiche. 1990. Vol. 37. P. 270—294.
2 Полное собрание русских летописей. М., 1962. Т. 2. Стб. 495—496.
79§ 1. Происхождение Львовского братства
одной церкви и получили довольно широкое распространение в древнерусском обществе1.
Религиозный подъем в странах Западной Европы в XII—XIII вв. вызвал рост религиозных организаций мирян. По мнению Л. П. Карсавина, это было обусловлено стремлением людей к спасению своей души, которое не могло быть удовлетворено ростом монастырей и появлением новых орденов, предполагающих отрицание мира. Жадно мечтая о спасении, простой мирянин искал выхода, и средний человек мог найти его только в такой форме жизни, которая бы позволяла ему не оставлять мира и семьи2. Такая форма была найдена — братства, которые представляли собой форму ослабленной аскезы и отражали идеалы религиозной жизни эпохи. В конце XII — начале XIII вв. независимо друг от друга возникают религиозные организации мирян из средних и низших классов общества. В этот период были выработаны основные черты, характерные для организаций типа братства и отличающие их от других корпораций Средневековья. Цели создания братства, организационное устройство, обязанности его членов регламентировались уставом, который утверждался церковными иерархами. Например, устав терциариев, или «кающихся братьев», был утвержден в 1221 г. папой Григорием IX. В сущности, братства сформировали сеть религиозных образований, основанных на личном добровольном членстве, как противопоставление строгой принадлежности церковным приходам.
Братства стали чрезвычайно популярны в XIV—XV вв. Наибольшее распространение они получили в городах, что было связано с ростом самосознания горожан, которые становились более образованны, крепки политически и экономически. Братства на протяжении всей своей истории развивались в соответствии с наиболее популярными религиозными течениями. Чем выше был религиозный подъем в обществе, чем шире распространялись идеи апостольской жизни и стремление церкви воздействовать на мир, тем значительнее был расцвет братского движения, сочетавшего в себе общественные идеалы и противопоставление властным церковным структурам. В XVI в. их дальнейшее развитие было стимулировано западноевропейской Реформацией. Некоторые протестантские историки считают братское движение предтечей протестантской Реформации, а с другой стороны, католические историки видят в братствах тенденцию к реформам в рамках католической церкви. Нужно отметить, что конфессиональное разъединение внутри христианства не вли
1 Попов А. Пиры и братчины. М., 1854; Папков А. А. Древнерусский приход. Краткий очерк церковноприходской жизни в восточной России до XVIII в. // Богословский вестник. 1897. Февраль; Март; Апрель; Ефименко А. Я. Южнорусские братства // Южная Русь. СПб., 1905. Т. 1. С. 200—309; Зеленин Д. К. Древнерусская братчина как обрядовый праздник сбора урожая // Сборник отделения русского языка и словесности АН СССР. 1928. Т. CI. № 3; Лукашова С. С. Миряне и церковь: религиозные братства Киевской митрополии в конце XVI века. М., 2006. С. 56—61.
2 Карсавин Л. П. Монашество в средние века. С. 144.
80 Глава вторая
яло на развитие и распространение братского движения. Организации типа братств существовали как в рамках монокультуры (странах с доминирующей национальнорелигиозной традицией), так и в странах, сочетавших разные по типу национальные и религиозные традиции.
С XV—XVI вв. в странах, принадлежащих к одной церковнорелигиозной традиции, появляются братства, относящиеся к другому направлению христианства. Например, александрийский патриарх Мелетий Пигас в письме 1597 г. сообщает об устройстве братства Св. Спиридона на острове Корфу1. Наиболее известным является основанное в 1498 г. в Венеции греками православное братство Св. Николая. К концу XV в. оно насчитывало около 250 членов, включая женщин и даже детей2. Такого рода корпорации были попытками сохранить в рамках иной культуры свою религиозную, национальную и культурную традиции.
Отличительной чертой братств является то, что это организации мирян, группирующиеся вокруг одной церкви для осуществления конкретных задач, как правило, оговоренных в уставе или иных установочных документах, основанные на демократических началах. К характерным чертам организации типа братства можно отнести заботу и попечение о своем храме; помощь своим сочленам и другим нуждающимся; наличие общей кассы, которая пополняется за счет обязательных взносов членов братства и других видов доходов, контролируемых братством; периодические собрания членов братства, на которых коллегиально решаются общие вопросы, выбираются руководители братства и другие должностные лица; заботу о больных членах; организацию похорон умерших братчиков и членов их семей, имена которых заносят в помянники. Институт братств был наиболее распространен в эпоху Средневековья. Но организации этого типа оказались наиболее жизнеспособным образованием этой эпохи и существуют до наших дней. Это можно объяснить тем, что объединения такого рода были призваны решать в первую очередь общечеловеческие проблемы, актуальные для любого периода истории общества, поэтому,
1 Малышевский И. И. Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие в делах русской церкви. Киев, 1872. Т. 2. С. 57. Док. № 17.
2 О венецианском братстве Св. Николая (с 1527 г. — Св. Георгия) см.: Малышевский И. И. Александрийский патриарх Мелетий Пигас. Т. 1. С. 40, 367; Bελούδος I. `Ελλήνων Ñρθοδόξων ¢poik…a ™n Benet…a. `Iστορικòν Øπόμνημα. Ἔκδοσις δευτέρα. Βενετία, 1893; Geanakop-los D. J. Greek Scholars in Venice. Studies in Dissemination of Greek learning from Byzantium to Western Europe. Cambridge Mass., 1962; Fedalto R. Ricerche storiche sulle posizione giuridica ed ecclesiastica dei Greci a Venezia nei sec. XV e XVI. Firenze, 1967; Мανούσακας̣ М. І. 'Ανέκδοτα πατριαρχικὰ γρ£μματα (1547—1806) πρòς τοÝς ™ν Вενετία μητροπολίτας Φιλαδελφείας καὶ τ¾ν Ñρθόδοξον `Eλληνικ¾ν 'Αδελφότητα. Βενετία, 1968; Ясіновський А. Грецька колонія у Венеції в ранньомодерну епоху: Quasi alterum Byzantium // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. ΠΡΟΣΦΟΝΗΜΑ. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60річчю академіка Ярослава Iсаєвича. Львiв, 1998. С. 703—714.
81§ 1. Происхождение Львовского братства
не меняя своей сути, они легко приспосабливались к новым формам организации общества, сохраняя при этом черты братств V—XII вв.1
Особое место в истории братств занимают православные организации мирян, возникавшие с конца XVI в. в городах, местечках и селах восточных земель ПольскоЛитовского государства, которые сыграли большую роль в общественнополитической, религиозной, культурной жизни Украины в конце XVI—XVIII вв. До сих пор в историографии не была выработана цельная схема происхождения украинских братств, что порождает споры не только вокруг самой теории генезиса братств, но и вокруг даты возникновения Львовского Успенского братства. В историографии выдвигались разные теории генезиса украинских братств, среди которых самыми распространенными являются:
1) братства ведут свою историю от древнерусских братчин; 2) братства развивались из права патроната над церквями; 3) на организацию братств оказали влияние купеческие и духовные гиль
дии;4) братства развивались под влиянием ремесленных цехов;5) основу братств составляли принципы городского самоуправления со
гласно Магдебургскому праву.На мой взгляд, используя одну или несколько из представленных версий,
невозможно передать полноту того сложного процесса, который привел к образованию в конце XVI в. в Речи Посполитой братств, существенно отличающихся от всех ранее существовавших организаций такого рода прежде всего масштабами своей деятельности и влиянием на развитие всего общества. К сожалению, мы не располагаем достаточным количеством источников, позволяющих проследить эволюцию братств, начиная от братчин, существовавших в Киевской Руси в XII в., до конца XVI в.
Как и все ранее существовавшие братства начиная с IV в., украинские братства сочетали в себе начала, восходящие к дохристианской традиции, а именно — организацию и проведение совместных праздников. Первыми братствами такого типа были братчины XII—XVIII вв.2 Некоторые историки считают, что прообразом древнерусских братств были родовые общины или территориальнородовые союзы, которые вели совместное хозяйство и защищались от врага3. В XI—XV вв. языческий элемент в организации совместных праздников отодвигался на второй план, а каждый этап и элемент празднич
1 О западноевропейских братствах Средневековья и Нового времени см.: Лукашова С. С. Миряне и церковь. С. 77—103.
2 Соловьев С. М. Братчины // Русская беседа. 1856. № 4. С. 108—117.3 Грушевський М. С. Культурнонаціональний рух на Україні в XVI—XVII віці. Київ;
Львів, 1912. С. 108; Wynar L. History of the early Ukrainian printing 1491—1600. Denver, 1963. P. 67.
82 Глава вторая
ной церемонии был соотнесен с христианскими моральноэтическими нормами. Такие «медовые» братства готовили к определенным праздникам большую свечу, пели молебны, устраивали складочные пиры, для которых варили пиво и сытили мед; собранные во время праздника деньги отдавались в храм на свечи и другие нужды1. Традиции празднования храмовых и главных религиозных праздников, существовавшие в украинских братствах XVII—XVIII вв., позволяют говорить об одной культурноисторической традиции, восходящей к древнерусским братчинам и более поздним «медовым» братствам.
Можно найти общие черты и у братств, и у института патроната над церквями. Однако здесь представляется более правомочным говорить о взаимовлиянии этих двух типов объединения, а не о влиянии института церковного патроната на институт церковных братств, как считали некоторые историки2. Как показали современные исследования процесса эволюции церковного патроната, этот институт был характерен не только для католической церкви и той части православной церкви, которая находилась под непосредственным влиянием западноевропейских правовых норм, но и для не знавшей западного влияния Московской Руси3. Возникновение института патроната относится к XIV—XV вв., то есть более позднему времени, чем возникновение братств. Право церковного патроната включало в себя ряд обязательных правовых норм, главными из которых являлись: jus donandi — право обеспечения церквей и монастырей материальными средствами; jus praesentandi — право представлять для назначения и посвящения священников, игуменов, архимандритов; jus patronandi — право общего покровительства над церквями и монастырями4. Почти все братства, существовавшие и в православных, и в католических странах, фактически пользовались jus donandi. Братства должны были заботиться о своем храме, поддерживать его материально, следить за порядком, обновлять его. Это «право» можно отнести к характерным чертам организаций типа братства, которым они пользовались задолго до складывания права патроната.
Теория о происхождении украинских братств из западноевропейских духовных и купеческих гильдий5 не получила широкого распространения в историографии, а теория происхождения братств на основании ремесленных цехов
1 Папков А. А. Братства. Очерк истории западнорусских православных братств. СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 1900. С. LVII—LVIII.
2 Голубев С. Т. История Киевской духовной академии. Киев, 1886. С. 79—83; Савич А. А. Нариси з історії культурних рухів на Вкраїні та Білорусі в XVI—XVIII ст. Київ, 1929. С. 117.
3 Флоря Б. Н. Отношения государства и церкви у восточных и западных славян: (Эпоха средневековья). М., 1992. С. 83—85.
4 Коялович М. О. Чтения о церковных западнорусских братствах. М., 1862. С. 22—23.5 Скабалланович Н. ЗападноЕвропейские гильдии и западнорусские братства // Хри
стианское чтение. 1875. Ч. 2. С. 271—327.
83§ 1. Происхождение Львовского братства
была довольно популярна среди историков1. Сходства уставных норм ремесленных цехов и братств действительно очень большие. Применительно к украинским братствам конца XVI—XVII вв. следует выделить два основных этапа: 1) развитие институтов религиозных братств и ремесленных цехов в Западной Европе и их взаимовлияние в XII—XV вв.; 2) влияние западноевропейских братств XV в. на украинские братства конца XVI в.
Институт братств в Западной Европе возник раньше института профессиональных объединений. Однако развитие этих корпораций проходило параллельно: XII—XIII вв. — время широкого распространения братств и развитие цехового устройства в городах Западной Европы; в XIV—XV вв. произошло окончательное оформление цехового устройства, которое существовало и развивалось в паре с развитием городских муниципий вообще. На Украине организация цехов и городского управления развивалась по немецким образцам с XIV в. Но наибольшее распространение цеховая организация в украинских городах получила в XV — первой половине XVI вв., времени полного расцвета цеховой организации в Германии, выработки и регламентации ее форм цеховыми уставными нормами2. Цех представлял собой самоуправляющуюся организацию, имеющую свой устав, общую казну, с выборным цехмистром (senior), который являлся репрезентантом цеха перед властями, все споры между членами цеха решались на цеховом суде, а в городские суды подавалась только апелляция неудовлетворенных решением цехового суда3. Многое в организационном устройстве цехов было позаимствовано от братств. Цех мыслился как «братство» (fraternitas) мастеров, которые связаны определенным религиозным культом, наказание с члена цеха взимается воском, который идет на свечи в богослужении, все «цеховые братья» обязаны принимать участие в похоронах члена цеха и его жены4. Украинские братства, организационное оформление и распространение которых приходится на конец XVI — начало XVII вв., безусловно, брали в качестве образца для своей организации лучшие традиции городских корпораций, окончательно утвердившихся в городском обществе. Принципы организационного оформления новой организации, позаимствованные от норм уже существующих и пользующихся официальной поддержкой корпораций, позволяли надеяться на то, что новооснованное объединение горожан будет включено в структуру городского корпоративно
1 Флеров И. О православных церковных братствах, противоборствовавших унии в ЮгоЗападной России в XVI, XVII и XVIII столетиях. СПб., 1857. С. 15—16; Коялович М. О. Чтения о церковных западнорусских братствах. С. 24—25; Клименко П. Цехи на Україні. Київ, 1929.
2 Грушевський М. С. Історія України — Руси. Київ, 1995. Т. 6. С. 109—110.3 Флеров И. О православных церковных братствах. С. 15—16; Грушевський М. С. Історія
УкраїниРуси. Т. 6. С. 111.4 Грушевський М. С. Історія України — Руси. Т. 6. С. 111—112.
84 Глава вторая
го устройства и поддержано властными структурами, что обеспечит широкие возможности деятельности. Таким образом, возникавшие братства несли в себе, с одной стороны, глубокие национальные корни, уходящие к временам Древнерусского государства, а с другой — являлись наследниками западноевропейской традиции организации братств, цеховых организаций и традиций городского самоуправления.
Процесс образования таких организаций именно в конце XVI — начале XVII вв. начинается задолго до окончательного этапа «уставного», или официального, оформления украинских братств. Причины следует искать в двух взаимосвязанных областях: социальнополитической и национальнокультурной.
С XIV в. Галичина находилась под властью Польши, которая всячески старалась ассимилировать коренное население захваченных областей, лишая его политических и гражданских прав, ущемляя религиозные чувства православного населения. Политика полонизации украинского населения началась с введения в судах и делопроизводстве на украинских землях польского языка. Вторым этапом была борьба за украинскую шляхту. Привилеями короля Ягайла — Берестейским 1425 г., Едлинским 1430 г. и Краковским 1433 г. — на украинскую шляхту распространялось польское право, а привилей короля Владислава II в 1434 г.1 не только окончательно закреплял польское право за украинскими магнатами, но и освобождал галицкую шляхту от всех повинностей. Политику полонизации украинской шляхты в целом можно считать успешной. Украинская шляхта охотно шла на службу в интересах польского государства, отказываясь от национальных интересов, родного языка и даже вероисповедания, принимая католичество во имя своего благополучия. В результате уже к середине XVI в. практически вся украинская шляхта, за редким исключением, была полонизирована.
Вторым этапом полонизации украинского населения Польским государством было усиление натиска на городское население как частных, так и королевских городов. И именно со стороны городского населения политика полонизации встретила серьезное сопротивление. Корпоративные традиции, которые имели глубокие корни во всех городах, позволили горожанам бороться за свои профессиональные, национальные и религиозные права. Здесь следует отметить, что политика полонизации городского украинского населения не подкреплялась никакими официальными актами, напротив, во всех королевских грамотах провозглашались лояльность и терпимость по отношению к украинскому населению. Католикам отдавалось предпочтение при выборе на государственные должности, при организации ремесленных цехов, в торговле. Национальное и религиозное угнетение достигло в XVI в. своей кульмина
1 Дорошенко Д. І. Нарис історії України. Львів, 1991. С. 136—137.
85§ 1. Происхождение Львовского братства
ции, несмотря на грамоты короля Сигизмунда I 1521 г.1 и 17 февраля 1525 г.2, Сигизмунда II от 9 февраля 1563 г.3 и 20 мая 1572 г.4, Генриха Валуа от 15 апреля 1574 г.5 и Стефана Батория от 26 мая 1577 г.6, подтверждавшие некоторые права украинского населения. Причиной невыполнения, а подчас и полного игнорирования королевских указов была система государственной власти и управления Польского государства. Польша формально была выборной монархией, но фактически управляли государством крупные магнаты, поддерживаемые средней и мелкой шляхтой. С конца XV в. Польша — конституционная монархия, в которой власть короля ограничивалась законодательным органом — cеймом. Согласно конституции 1505 г. «Nihil novi», король не мог без согласия сейма принимать какиелибо решения, ущемлявшие интересы шляхты7. Упадок королевской власти относится к концу XVI — началу XVII вв., он сопровождал падением значения верховного органа власти Речи Посполитой — Вального Сейма и политической децентрализацией. Анархия и децентрализация власти позволяли вести лживую и лицемерную политику в интересах польской шляхты. С одной стороны, в постановлениях, исходивших от польской верховной власти, провозглашались свобода совести и вероисповедания, равноправие между народами, проживавшими в Речи Посполитой. С другой стороны, поляки преследовали как украинское население, так и православное духовенство, препятствовали занятиям торговлей, ремеслами, владению недвижимым имуществом. Н. И. Костомаров писал по этому поводу: «Польша гордилась и имела право гордиться, что нет в мире страны, где бы так ценилась свобода совести, мысли, слова и дела. Но всегда почти бывало в истории, что свобода, достигши высшей степени развития, уничтожив всякие границы, губит себя, допуская такие стихии, которые, пользуясь слабыми сторонами общественного строя, берут верх над всем и потом господствуют насильно»8. В таких условиях украинским мещанам бороться за свои права, которые формально им были дарованы, было чрезвычайно трудно. Это и вызвало широкое распространение на всей территории Украины и Белоруссии, входивших в состав Речи Посполитой, братств — организаций мещан, способствующих защите от социальнополитических и экономических притеснений.
1 MCS. P. 2—4.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 5. Опубл.: MCS. P. 8—9.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 36.4 Там же. Д. 47. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 42—48; MCS. Р. 63—64; ЦГИА Украины во
Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 48.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 53, 54. Опубл.: MCS. Р. 66—67, 68—69.6 Там же. Д. 55. Опубл.: MCS. Р. 72—73.7 Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском Советском
Социалистическом государстве: Справочник. Львов, 1955. С. 16.8 Костомаров Н. И. Южная Русь в конце XVI в. // Собр. соч. СПб., 1903. Т. 3. С. 623—624.
86 Глава вторая
Общая тенденция развития национальнокультурных процессов в Украине приходится как раз на вторую половину XVI в. Существовавший выбор между лидерами духовного возрождения (дворянством и мещанством) состоялся в пользу горожан. В 60—70х гг. XVI в. национальнокультурное движение возглавляла украинская шляхта, она являлась «академией политической борьбы для украинских парламентариев, которые выступали за оборону прав руськой церкви и руського народа»1. Но более образованное, более восприимчивое к новым, прогрессивным течениям общественной мысли, имевшее общественное положение и средства для организации национальнокультурного возрождения украинское дворянство оказалось не способным взять на себя такую ответственность, предпочтя не вступать в борьбу с власть имущими, от которых зависело их благосостояние. Украинская шляхта предпочла более простой путь приобщения к польской культуре и перехода в католичество. Не выдержав соблазнов и искушений, которые ставила ей как аристократической верхушке, как общественному классу современная жизнь Речи Посполитой, украинская шляхта стремилась всеми силами войти в эту жизнь, как можно теснее приспосабливаясь к ее требованиям, приобщаясь для этого к польскому языку, религии, культуре, вступая в брачные союзы с влиятельными польскими фамилиями с целью обеспечить себе значительное положение в политике, в общественной жизни, в распределении должностей и богатств2.
70е гг. XVI в. представляют большой интерес для осознания причин смены исторических парадигм историкокультурного развития украинского народа: вопервых, изменение религиознокультурной ориентации с византийской традиции на западную; вовторых, смена социальнокультурного лидерства, возглавляемого в конце XVI в. не дворянством, а представителями городского населения — мещанством, и позже, в XVII в., — украинским казачеством.
С 80х гг. в условиях активизации социальных, национальных и религиозных противоречий на историческую авансцену выходит городское население, мещанство, которое взяло на себя роль национальнокультурного лидерства, объединившись в корпоративные организации — братства, по своей роли в истории народа, в становлении национальной культуры и влиянию на формирование национального самосознания не имеющие аналогов среди европейских братских организаций. Центром братского движения на Украине стал город Львов, который существенно выделялся своей политической, экономической и культурной активностью среди всех других украинских городов того времени.
Возглавить национальнокультурное движение выпало на долю мещанам, простым купцам и ремесленникам, гонимым и обездоленным в ПольскоЛитовском государстве, которое стремилось всеми силами уничтожить пра
1 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 2. С. 34.2 Там же. С. 44.
87§ 1. Происхождение Львовского братства
во славноукраинский элемент на своей территории, но которое самым неожиданным образом встретило мощное и грозное сопротивление со стороны украинского мещанства. Горожане были и более консервативны, и более ограниченны, и менее требовательны в культурных и социальных вопросах по сравнению с дворянством, но оказались более патриотичными, способными на самопожертвование во имя сохранения и развития культуры своего народа.
* * *Вопрос о возникновении Львовского Успенского братства является одним
из самых дискуссионных в историографии и до сих пор остается открытым. В историографии Львовского братства существуют два взгляда на проблему возникновения братства. Большинство историков XIX — начала XX вв. и некоторые современные считают, что Львовское Успенское братство существовало задолго до санкционирования его устава антиохийским патриархом Иоакимом в 1586 г. и рассматривают объединение прихожан, опекавших Успенскую церковь, упоминаемое в источниках с XIV в., как братство. Другие считают правомочным говорить об организационном оформлении Львовского Успенского братства в 80х гг. XVI в.
Гипотезу о наиболее ранней дате основания братства при Львовской Успенской церкви выдвинул Я. Ф. Головацкий. Он относил организацию братства к 1250 г. — первому упоминанию об Успенской церкви, при которой, «по преданиям», «братство тое ведля старинного Руси звычая для целей богоугодных составилося»1. Возможно, что при Успенской церкви действовала организация типа «братчин», но никаких письменных свидетельств о существовании такого братства во Львове с середины XIII в. не сохранилось.
Большинство историков братства относят возникновение Львовского братства к XV в. Впервые это предположение ввел Д. И. Зубрицкий. В работах Зубрицкого встречается несколько разных дат основания братства. «Летопись Львовского братства» он начинал с 1453 г., основываясь на материалах «Хроники Львова» Бартоломея Зиморовича, написанной в 1650 г., в которой говорилось: «В 1453 г. во Львове было восемь русских церквей и в том числе городская Успенская церковь»2, из чего Зубрицкий делает вывод: «Если была городская церковь, то при ней должно было существовать и братство»3. Однако первым документальным свидетельством о существовании братства Зубрицкий называл грамоту короля Польши Казимира IV о передаче
1 Головацкий Я. Ф. Начало и действование Львовского Ставропигийского братства по историколитературному отношению. Львов, 1860. С. 3.
2 Zimorowicz B. Historia miasta Lwowa. Lwów, 1835.3 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1849.
№ 5—6. Ч. 62. Отд. 2. С. 3.
88 Глава вторая
Львовского Онуфриевского монастыря под покровительство львовского городского братства, которую он датировал 1463 г.1 С обстоятельной критикой этой концепции выступил в 1960х гг. видный историк братского движения Украины Я. Д. Исаевич, который на основании архивных документов пришел к выводу, что называемый Зубрицким акт был составлен в 1460 г. и подтвержден королем в 1469 г., но о братстве в них не упоминается2. Эти документы были утеряны еще в начале XVII в., в сохранившемся инвентаре архивных документов братства, составленном в конце XVI в., значатся два привилея на Онуфриевский монастырь: «Привилея монастырца святого Онофрия. Привилеец малый з завесистою печатю Стефана Дропана, мещанина львовского, на манастыр святого Онофрия. Року 1460. Ему начало: Нос Андреас Одровонт... Року 1469. Привилеец малый з завесистою печаткою от короля Казимера, потвержде-не воле Дропановы». На полях, напротив этих записей, пометы скорописью XVII в.: «Тых обох немаш привилейцов», «И того нет»3.
В другой своей работе Зубрицкий называет еще одну дату основания Успенского братства — 1439 г., также на основании несохранившегося документа, который упоминался в инвентаре братского архива 1601 г. как «Привилей Казимира IV»4. Этим утверждением руководствовались Я. Головацкий, отмечавший, что эта грамота является первым письменным документом о существовании братства, и А. С. Крыловский, писавший, что первое упоминание о братстве относится к 1439 г. Однако Казимир IV был королем Польши в 1447—1492 гг. и не мог выдать привилей в 1439 г. Это несоответствие вызвало споры в среде историков второй половины XIX — начала XX вв. Митрополит Макарий (Булгаков) указывал, что 1439 год был назван Зубрицким ошибочно, что он имел в виду привилей Казимира IV от 1469 г. об утверждении грамоты старосты Одровонжа, касающегося Онуфриевского монастыря5. Я. Д. Исаевич пришел к выводу, что в инвентаре 1601 г. была допущена ошибка, а Зубрицкий не обратил внимания на то, что указанная им дата не согласуется с годами правления Казимира IV6. Введенные в научный оборот Д. Зубрицким неточные даты основания Львовского братства (1463 г. вместо 1460 г. и 1439 г. вместо
1 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1849. № 5—6. Ч. 62. Отд. 2. С. 3. С. 4.
2 Ісаєвич Я. Д. Найдавніші документи про діяльність братств на Україні // Історичні джерела та їх використання. Київ, 1966. Вип. 2. С. 14—16; Он же. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII століття. Київ, 1966. С. 23.
3 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 383.
4 Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach ruskosłowiańskich w Galicji. Lwów, 1836. S. 3.
5 Макарий (Булгаков). История русской церкви. СПб., 1900. Т. 9. С. 33.6 Ісаєвич Я. Д. Найдавніші документи про діяльність братств на Україні. С. 16.
89§ 1. Происхождение Львовского братства
1460 г.) привели к многочисленным неточностям во многих работах, посвященных истории братского движения. Поскольку сведения Зубрицкого о документах, подтверждающих основание братства, были взяты из перечней архивных документов, составленных членами братства с целью документально засвидетельствовать значимость своей организации, ее юридический статус в обществе, то если бы в этих документах действительно содержались сведения о существовании братства, подтвержденные привилеем короля, то это было бы обязательно отмечено в инвентарных описаниях. Более того, в соответствии с принятыми в братстве в конце XVI — начале XVII вв. нормами делопроизводства наиболее ценные документы копировались и заносились в специальную книгу, а оригиналы хранились в «торбе для привилеев», что обеспечивало хорошую сохранность документам, которые в братстве считали наиболее значимыми, и вряд ли такие важные грамоты были бы утеряны.
В актовых материалах города Львова существует упоминание об организации мещанпарафиян Успенской церкви, но ее название нечеткое, в разных актах фигурируют различные определения. На основании изучения актовых материалов Рады города Львова второй половины XV — первой половины XVI вв. И. П. Крипьякевич пришел к выводу о существовании Успенского братства в конце XV в. Историк подчеркивал, что в актах отмечается только деятельность братства, но оно «не упоминается четко», то есть не называется братством1. В городских актах XV—XVI вв. представители украинской общественности фигурируют под разными определениями: в актах 1472, 1498 гг. встречается название «ruteni», «rutheni» (русины), 1502 г. — «vitrici ecclesiae Rutenorum» (опекуны церкви русинов), в первой половине XVI в. часто встречалось «seniores vitrici» (старшие опекуны), «provisores ecclesiae» (церковные провизоры), «provisorum et patronorum ecclesiae» (провизоры и покровители церкви), в 1543 г. впервые появляется название «seniores Rutheni» (старшие русины), часто встречающееся в последующее время, в акте 1544 г. — «confratrum et vicinorum suorum patronorum ecclesiae» (братья и соседи, опекающие церковь)2. Крипьякевич считал, что под этими разнообразными названиями нужно иметь в виду Успенское братство. В своей работе он приводит имена мещан, которые ему удалось выявить в актовых материалах Рады Львова за 1498—1547 г., всего Крипьякевич называет около 35 имен3.
1 Крип’якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали. Львів, 1994. С. 70.
2 В 1994 г. были впервые опубликованы актовые материалы Рады Львова, подготовленные к публикации И. П. Крипьякевичем в 1907 г., которые содержат сведения об украинских мещанах Львова. Документы об организации львовских мещан см.: Крип’якевич І. П. Матеріали до історії Львівської Русі (1460—1550 рр.) // Крип’якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали. Львів, 1994. № 18, 109, 129, 130, 138, 161, 187, 264, 748, 758, 894.
3 Крип’якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст. С. 97.
90 Глава вторая
Версию Крипьякевича о том, что организация мещан, которая упоминается в актовых книгах Львова с конца XV в., являлась братством, развивает современный исследователь Мирон Капраль. Отмечая строгую организацию городской жизни Львова в рамках различных корпораций и положение украинского населения, которое почти полностью было отстранено от участия в ремесленных цехах, Капраль подчеркивает, что украинскому населению оставалось только объединяться в религиозные организации1. Поскольку документов о деятельности организации украинских мещан в XIV—XV вв. почти не сохранилось, а в условиях строгой регламентации функционирования любой организации необходимо было юридическое подтверждение каждого направления деятельности в городе, М. Капраль выдвигает предположение, что правовой основой существования организации украинских мещан была грамота Казимира III 1356 г. о пожаловании Львову Магдебургского права, в которой определялась правовая автономия украинцев2. Но вести начало деятельности организации типа «братство», которая предполагала определенные не только юридические, но прежде всего формальные, структурные и целевые характеристики для существования на основании грамот о регламентации статуса тех или иных этносов, проживавших в средневековом городе, совершенно безосновательно.
О существовании какойлибо организации среди мещан украинцеврусинов в многонациональном Львове, где строго регламентировались не только все гражданские права, но и территория проживания населения, сомневаться не приходится. На основании выявленных Крипьякевичем актовых материалов можно охарактеризовать сферы деятельности мещан, фигурирующих под определениями «vitrici ecclesiae Rutenorum», «seniores rutheni» и др.:
1) церковный патронат над городской Успенской церковью3;2) благотворительная деятельность4;3) контроль института священников в Успенской церкви5.
1 Капраль М. Чи існувало Львівське Успенське братство перед 1586 роком? // Успенське братство і його роль в українському національнокультурному відродженні. Львів, 1996. С. 9—10.
2 Acta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1872. T. 3. S. 14—17; Історія Львова в документах і матеріалах / Упор. Єдлінська У. Я., Ісаєвич Я. Д., Купчинський О. А. та ін. Київ, 1986. С. 16—17.
3 Крип’якевич І. П. Матеріали до історії Львівської Русі (1460—1550 рр.) // Крип’якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали. Док. № 18. С. 107—108; № 187. С. 143—144; № 748. С. 287—288; № 756. С. 290.
4 Там же. Док. № 228. С. 153; № 335. С. 180; № 384. С. 194; № 415. С. 203—204; № 467. С. 216—217.
5 Там же. Док. № 105. С. 125; № 109. С. 126; № 116. С. 127—128; № 129. С. 130—131; № 130. С. 131; № 174. С. 141; № 243. С. 157; № 264. С. 163; № 344. С. 183; № 360. С. 188; № 502. С. 226; № 534. С. 233; № 627. С. 257; № 639. С. 260; № 895. С. 327.
91§ 1. Происхождение Львовского братства
Все эти функции являются характерными для сфер деятельности западноевропейских братств, наличие общей казны требовало общественного контроля, но статус этой организации не только не был определен юридически, не санкционирован государственными, городскими или религиозными властными структурами (о чем свидетельствует постоянно меняющаяся терминология обозначения представителей украинской общественности), но и не был выработан в среде самих «seniores rutheni». Отсутствие четко выработанного статуса организации в городе, где корпоративность имела не только глубокие корни, но и весомое общественное значение, не позволяет назвать организацию «provisores ecclesiae» братством.
Впервые в историографии с критикой концепций о функционировании братства с XV — начала XVI вв. выступил Н. И. Костомаров. Он полагал, что братства начинают свою историю с 80х гг. XVI в. Мнения о более раннем возникновении братств Костомаров считал весьма спорными, так как они не подтверждались «несомненными свидетельствами, а если что и было, то братство получило свое звание только в конце XVI в.»1. Это мнение поддержали многие исследователи, и обстоятельное обоснование этой концепции предложил Я. Д. Исаевич, справедливо отмечая, что организация прихожан Успенской церкви до середины 80х гг. XVI в. не называлась братством, организационная структура «украинской общины» была нечеткой, расплывчатой2. В доказательство своей концепции Исаевич приводит единственные сохранившиеся документы о внутренней жизни организации украинских мещан, что позже привело к образованию братства de jure3. Это — записи о выборах «опекунов»Успенской церкви и ревизии имущества Успенской церкви и имущества Онуфриевского монастыря, относящиеся к 1579—1583 гг., дошедшие до нас в копии конца XVI или начала XVII вв. В протоколах собрания мещан, проведенных при ревизии «церковного скарбу и убиру и книг» от 11 мая 1579 г., организация еще не называет себя братством, здесь говорится о «старших и молодших» мещанах4, которые следят за имуществом и благосостоянием церкви. Эта организация имела отличное от братства внутреннее устройство. Для руководства делами выбирали двух человек, а не четырех, как в братстве, и не было строго регламентированного статуса руководителей: в
1 Костомаров Н. И. Южная Русь в конце XVI в. // Собр. соч. СПб., 1903. Т. 3. С. 627.2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. Київ,
1966. С. 31—32; Ісаєвич Я. Д. Найдавніші документи про діяльність братств на Україні // İсторичні дже
рела та їх використання. Київ, 1966. Вип. 2. С. 14—16; То же: Ісаєвич Я. Д. Україна давняя і нова: народ, релігія, культура. Львів, 1996. С. 51—54.
3 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. Київ, 1966. С. 29—31.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1003. Л. 1.
92 Глава вторая
протоколе собрания 1581 г. говорится об избрании «уряда», а 1582 г. — двух «витрикушев», которым передавали «ключh церковный и скарб»1.
Название «братство» впервые встречается в акте Рады Львова от 12 февраля 1544 г., где «старшие русины» (seniores Ruthenos) названы еще и «братьями и соседями» (confratrum et vicinorum), но это определение помещено не в начале документа, а в середине, что говорит о том, что эти термины не имели за собой какоголибо правового статуса. В 1588—1589 гг. в актах Рады Львова и других документах Успенское братство называется «новым», «новооснованным» (fraternitatis novae)2. Слово «братство» в значении особой формы организации городского населения встречается в сохранившихся уставах двух братств на Краковском предместье Львова — Благовещенского братства 1542 г.3 и Николаевского 1544 г.4 Эти уставы имеют лишь незначительные расхождения, что говорит об одном источнике, на основании которого были составлены эти уставы, или об одном авторе этих документов. О деятельности братств на львовском предместье не сохранилось никаких свидетельств. Повидимому, это были первые попытки создания аналогичных организаций во Львове. Некоторые историки считали, что основой для создания как самих братств, так и их уставов послужили Львовское Успенское братство и его устав5. Но если бы это было действительно так, то в уставах такое положение было бы обязательно оговорено, потому что преемственность братства на предместье города с аналогичной городской, «в мурах», организацией поднимала бы авторитет первой. Поэтому правомочнее сделать вывод о том, что в основу устава Львовского братства 1586 г. были положены уставы братств львовского предместья. Это подтверждают более архаичные пункты уставов Благовещенского и Николаевского братств по сравнению с уставом Успенского братства, значительно переработанные и расширенные положения устава в соответствии с задачами, которые ставили перед собой львовские горожане в 80х гг. XVI в., а также тот факт, что в архиве братства сохранился устав Николаевского братства6.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1003. Л. 3 об., 4.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 110. Л. 3. Опубл.: MCS. P. 186; Loziński W.
Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie. Lwów, 1882. S. 255.3 Вестник ЮгоЗападной России. 1862. № 3. С. 98—100.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. Опубл.: MCS. P. 13—15; Пам'ятки
братських шкіл на Україні. Кінець XVI — початок XVII ст.: Тексти і дослідження. Київ, 1988. С. 14—15.
5 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство: Опыт церковноисторического исследования. Киев, 1904. С. 36—40; Крип’якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали. Львів, 1994. С. 70—71.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 10. Опубл.: MCS. P. 13—15
93§ 1. Происхождение Львовского братства
Накопленный историографией Львовского братства богатый фактический материал позволяет сегодня поновому осмыслить причины и схему возникновения Львовского Успенского братства.
В условиях национальнорелигиозного, политического и экономического притеснения украинского населения города Львова наиболее активные мещане периодически выступают от имени всей украинской громады перед властями для защиты своих гражданских прав. Поскольку территориальное расселение каждого этноса во Львове было строго регламентировано, украинцы проживали в основном в районе Русской улицы с Успенской церковью, парафиянами которой они являлись. Согласно древней традиции, Успенская церковь пользовалась так называемым коллективным патронатом, в обязанности «опекунов» церкви входило следить за ее имуществом, контролировать церковнослужителей (повидимому, эту обязанность взяли на себя «опекуны церкви» во время ликвидации православной епархии во Львове в 1423—1538 гг.), организовывать и проводить храмовый праздник для всех прихожан. В условиях наступления католицизма с широкой сетью иезуитских школ возникла реальная угроза полной ассимиляции украинского населения.
С целью сохранения своей национальнокультурной самобытности нужно бы ло организовать мощное противостояние польскокатолическим религиознокультурным мероприятиям. Зарождение украинского нацио нальнокультурного движения в XVI в. имело прежде всего религиозную основу. Как отметил М. С. Гру шевский, «религия — это знамя национальности в это время, борьба веры православной и католической — это борьба культуры руссковизантийской и польсколатинской»1. Украинские православные земли, ставшие частью Польского католического государства, оказались в условиях неразрешимого религиозного конфликта. Вся общественнополитическая жизнь средневековой Польши имела религиозное основание. Некатоликам не было места в ремесленных цехах, которые являлись полурелигиозными организациями; некатоликам нельзя было быть членами городского магистрата, потому что это тоже связывалось с разными религиозными церемониями; некатолику трудно было даже вести судебный процесс, ибо он не мог дать законом установленную католическую присягу2. В полной зависимости от польскокатолических властей оказались все сферы общественной жизни: политическая, экономическая, культурная и даже церковнорелигиозная. Все православные церковные должности назначались польскими светскими властями, от них же исходили церковные награды, высокие церковные должности нередко просто продавались. Вследствие этого сильно снизился духовный уровень иерархии, почти все православные священники были малообразованны, часто
1 Грушевський М. С. Культурнонаціональний рух на Україні в XVI—XVII віці // Духовна Україна: Збірка творів. Київ, 1994. С. 146.
2 Там же. С. 144—145.
94 Глава вторая
нарушались или не соблюдались церковные каноны, распространялось мздоимство среди духовенства. Уже в начале XVI в. самими православными иерархами положение церкви, состояние богослужения, проповеди, нравственный и «профессиональный» уровень духовенства были оценены как не отвечающие нормам церковной жизни и требующие немедленного исправления1. Общий упадок церковной жизни, «церковные нестроения», «оскудение веры» привели к упадку национальнокультурной жизни, что на фоне оживления польской культурнообщественной жизни в XVI в. могло иметь самые серьезные последствия. Роль религиозных и национальнокультурных лидеров постепенно берет на себя украинское мещанство. Значительный рост экономического потенциала украинского мещанства в течение XVI в. способствовал росту авторитета православных горожан в глазах польских властей, что позволило добиться некоторых уступок и поднять политический статус украинского населения.
В 20х гг. XVI в. «опекуны» Успенской церкви во главе с купцом Макаром Рафаиловичем Тучапским выступают от имени всего украинского населения города и предместий в процессе с Радой Львова по делу нарушений прав некатоликов и выступлений против католического епископа Бернардина, который всеми силами стремился «облегчить схизматикам поворот к правдивой вере»2. Эти процессы завершились возобновлением деятельности Львовского православного епископата в 1538 г., а епископом стал человек, «годный и Богу и митрополиту и шляхте и всему поспольству закону греческого» — Макар Тучапский3. В 1539 г. королем Сигизмундом I был дан привилей львовскому епископу Макарию (Тучапскому) на основание РусскоГалицкоПодольской епископии4.
Во второй половине XVI в., 50—60х гг., парафияне Успенской церкви вели активные строительные работы по восстановлению своего сгоревшего храма. Большую материальную поддержку в этом им оказал молдавский господарь Александр Лопушанин. Сохранилось довольно большое количество писем за 1558—1566 гг., в которых молдавский господарь сообщает о посылке очередной суммы денег на восстановление церкви. Нужно отметить, что ни в одном послании при обращении к львовянам не встречается слово «братство». Молдавский господарь обращается поразному к людям, занимающимся восстановлением храма: «Славетным и учтивым паном мещаном львовским, всим посполите живущим в послушенстви закону греческого», «Qцтивым и славетным паном мещаном львовским всим посполите так старым, як и мо-лодым, которыи суть правовернои вhры нашей хрестиянской закону грече-
1 Дмитриев М. В. Православие и реформация. Реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI века. М., 1990. С. 39—40.
2 Цит по: Крип’якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст. Львів, 1994. С. 79.3 Крип’якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст. Львів, 1994. С. 81—83.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 9.
95§ 1. Происхождение Львовского братства
ского», «Мещаном львовским и попорянам церкви нашей Успения пречистой Божии матери»1. К сожалению, отстроенная церковь простояла только 10 лет и вновь была разрушена пожаром 1571 г. Намерение восстановить храм во многом способствовало организационному оформлению братства в 80х гг. XVI в. В 90х гг. уже не парафияне Успенской церкви, а братство вновь обратилось за материальной помощью для восстановления церкви к молдавскому господарю. В своих ответных письмах молдавский господарь называет организацию при Успенской церкви «Панове еже о Христе братство Ливовскаго града» и обращается к его членам как «Чесно уроженим паном братиам еже о Христе братсву храму Успения пресвятыя чистия Богородиц града Ливовскаго»2. Эта корреспонденция подтверждает, что при Успенской церкви во Львове существовала организация парафиян, но она не только не называла себя братством, но и не соответствовала формам организации типа «братство».
В 60—70х гг. XVI в. сложились благоприятные условия для осознания львов скими мещанами необходимости конкретных задач для возрождения украинской национальной культуры. Пребывание во Львове Ивана Федорова, издавшего первые печатные книги на Украине при активной поддержке львовских мещан, способствовало осознанию большой значимости книги в деле сохранения и развития своей культуры. Издание во Львове Федоровым первого печатного Букваря («Граматикия», 1574) говорило о назревшей необходимости развития образования на родном языке. В результате городской реформы 1577 г. при Магистрате было организовано представительство городской общественности (поспильства) — Коллегия сорока мужей (Collegium quadraginta virorum), ставшая первой городской организацией, уже в первый состав которой вошли два православных украинца: Лесько Малецкий и Хома Бабич. Допущение двух украинских депутатов в орган городского самоуправления позволяло надеяться на дальнейшее расширение гражданских и политических прав украинцев.
К 80м гг. XVI в. четко обозначился круг актуальных задач, которые стояли перед украинским населением: реформирование церковной жизни, борьба за общественнополитические права украинского населения, расширение культурнопросветительской деятельности. Для их решения необходима была организация, наделенная определенными правами, санкционированная вла
1 Письма молдавского господаря Александра к русским гражданам во Львове, занимающимся созданием городской Успенской церкви с 1558—1566 года / Петрушевич А. С. // ВСИ. 1881. С. 149—168.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 149, 320, 323, 330, 335, 341, 345, 351, 358, 362, 370, 376, 390, 396, 402; Продолжение писем молдавских господарей, писанных ко Львовскому Ставропигийскому братству при церкви Успения пресвятыя Богородицы, занимающемуся вторично постройкою сей церкви после пожара той же в 1571 г. / Петрушевич А. С. // ВСИ. 1882. С. 149—164.
96 Глава вторая
стями. Форма братства была наиболее удобной, вопервых, она предполагала религиозную направленность, а отождествление своей нации с православной церковью было само собой разумеющимся не только в среде православных, проживавших в Речи Посполитой, но и в среде их политических и религиозных противников; вовторых, религиозное православное братство гарантировало невмешательство во внутренние дела организации католической церкви и в значительной степени городских властей, уставное оформление организации во многом было схожим с уставными нормами и задачами других корпораций Львова — ремесленных цехов, католических братств. Будучи по уставу традиционной средневековой корпорацией, Львовское братство взяло на себя функцию воплощения в жизнь задач, которые диктовало обществу Новое время. Оно поставило перед собой чрезвычайно большие и сложные задачи борьбы за политические, профессиональные, религиозные и культурные права украинского народа — задачи грандиозные не только по своему замыслу, но и по воплощению; задачи такого масштаба никогда ранее не ставили перед собой средневековые корпорации подобного уровня и социальной ориентации.
§ 2. организационная структура
Организационному оформлению Львовского братства в 80х гг. XVI в. способствовало то, что наиболее активные мещане, которые «опекали» Успен скую церковь и Онуфриевский монастырь, взяли на себя обязательства восстановить сгоревшую во время пожара 1571 г. Успенскую церковь и выкупить типографию первопечатника Ивана Федорова, возобновив типографское дело во Львове. Для этого нужно было иметь не только деньги и поддержку местного населения, но и юридические права. В 1586 г. представился удобный случай официально оформить правовой статус организации, когда во Львов прибыл антиохийский патриарх Иоаким, утвердивший устав Успенского братства. Именно с 1586 г. братство ведет свою активную деятельность как «юридическое лицо», принимает участие во всех важнейших вопросах жизнедеятельности украинских мещан города.
Факт утверждения устава братства патриархом позволил многим историкам утверждать, что Львовское братство было основано (или реорганизовано) по инициативе антиохийского патриарха. Причем впервые такое утверждение встречается в работах Д. И. Зубрицкого, который писал, что пребывание патриарха во Львове ознаменовалось утверждением русского братства1, «приведением в порядок» братства2. В русской православной историографии
1 ГИМ ОПИ. Ф. 450 «Е. В. Барсов». Ед. хр. 820 (Д. Зубрицкий «Историкокритические очерки о Галицкой Руси. 1492—1596 гг.». 1846 г.). С. 92.
2 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1849. № 5—6. Ч. 62. Отд. 2. С. 15.
97§ 2. Организационная структура
второй половины XIX — начала XX вв. такая концепция была доминирующей; например, митрополит Макарий (Булгаков) писал, что патриарх посоветовал завести братства и дал братству устав1. Такую точку зрения разделяли и некоторые историки в середине XX в.2 Обстоятельную критику этой концепции дал в своих работах Я. Д. Исаевич, доказавший, что инициатива создания братства исходила от львовских горожан и текст устава был составлен самими братчиками3.
Падение Византийской империи привело к тому, что некогда могущественная византийская православная церковь переживала кризис. Положение младших патриархов в Александрии и Антиохии было особенно бедственным. В XVI в. восточные патриархи все чаще обращались за материальной помощью к подвластным им митрополиям, а особой материальной поддержки ждали от богатеющего Московского государства. В 1585—1586 гг. антиохийский патриарх Иоаким объезжал румынские, молдавские, украинские, белорусские и русские земли с целью собрать пожертвования на поддержание православных храмов и духовенства в Сирии и на покрытие долгов патриархии. Зубрицкий высказывает предположение, что константинопольский патриарх поручил ему лично удостовериться в положении православной церкви в Польше, где, с одной стороны, ей угрожало польское правительство и католическое духовенство, «жаждавшее или уничтожить ее или по крайней мере соединить с Римом, а с другой — она была ослаблена отпадением многих знатных домов и падением нравственности среди высшего духовенства»4. Но никаких документальных подтверждений этому утверждению не известно.
Патриарх прибыл во Львов 1 января 1586 г. и был встречен православными горожанами с большим почетом5. Этим же днем датирована пышно оформленная грамота, написанная от имени патриарха, об основании во Львове братства при Успенской церкви и с текстом устава («права») братства6.
1 Макарий (Булгаков). История русской церкви. СПб., 1900. Т. 9. С. 412—414.2 Полонська-Василенко Н. Д. Історія України. Київ, 1995. Т. 1. С. 383.3 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. Київ,
1966. С. 33—34; Ісаєвич Я. Д. Найдавніші документи про діяльність братств на Україні // İсторичні джерела та їх використання. Київ, 1966. С. 17—20; То же: Ісаєвич Я. Д. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів, 1996. С. 55—58.
4 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1849. № 5—6. Ч. 62. Отд. 2. С. 15.
5 ПКК. Киев, 1898. Т. 3. С. 43.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 71; ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукопи
сей). Инв № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 23—39, 40—47, 250—256; Опубл.: DS. № 3. P. 3—15; MCS. № 80. P. 113—119; Акты, относящиеся к истории Южнозападной Руси / Сост. А. С. Петрушевич. Львов, 1868. С. 101—108; Патриаршия грамоты изданы в пользу Львовского Ставропигийского братства при храме Успения Пресвятыя Богородицы // ВСИ.
98 Глава вторая
Преамбула и некоторые статьи устава, касающиеся церковного устройства братства, написаны на церковнославянском языке в соответствии с традициями того времени, а другие пункты устава — на разговорном украинском языке XVI в. Создание такой грамоты, к тому же украшенной витиеватым орнаментом, требовало значительного времени, поэтому она не могла быть изготовлена в первый день пребывания патриарха во Львове. Кроме того, патриарх Иоаким разговаривал на арабском и не знал славянских языков. Поэтому документы, написанные на незнакомом ему языке, которые подносили ему на утверждение, он скреплял лишь печатью. Во время пребывания во Львове только на одной грамоте, написанной на арабском языке и составленной, повидимому, по инициативе самого патриарха, он собственноручно поставил подпись1.
В историографии выдвигались предположения о возможности ведения переговоров львовских мещан с патриархом, потому что в грамоте содержится целый ряд «очень важных и дальновидных прав и поручений братству, которые делали полный переворот в существующих церковных отношениях»2, или что 1 января патриарх только согласился выдать установочную грамоту братству, а позже эта грамота была изготовлена и подана патриарху, который скрепил ее печатью3. В самой же грамоте написано: «Пришли... мещане львовские вси посполе ктиторе храма Успения Пречистой Божьей матере во граде Львове, хотячи братство устроити, соединившися любовию до повного за-кона Божия»4. Посылая в ноябре 1592 г. образец своего устава Берестейскому братству, львовские братчики писали, что патриарх Иоаким уже застал во Львове «телесни обрhт» — братство, госпиталь и школу5. Мне представляется, что грамота с текстом устава братства была изготовлена «ктиторами» Успенской церкви специально к моменту приезда патриарха Иоакима во Львов. Это — единственный документ, датированный первым днем пребывания патриарха в городе. Если бы братчики вели переговоры с патриархом и составляли документ во время его пребывания во Львове, то поставили бы иную дату, поскольку это не имело никакого принципиального значения, тем более что другой документ, который подали братчики на утверждение патриарху,
1869. С. 113—120; Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 2. С. 14—15; Привілеї національних громад міста Львова (XIV—XVIII ст.). Львів, 2000. № 1 (170). С. 500—504.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 73; Опубл.: DS. P. 16—18.2 Грушевський М. С. Історія України—Руси. Т. 6. С. 513—514.3 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 34.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 71. Опубл.: MCS. P. 113—119; ПКК. 1852. Т. 3.
№ 1; 1898. № 1. С. 3; DS. Р. 3—15; ВСИ. 1874. С. 101—108; Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братсво. Приложения. № 2. С. 14—15; Привілеї національних громад міста Львова. № 1 (170). С. 500—504.
5 ЧОИДР. М., 1848. № 6. С. 57.
99§ 2. Организационная структура
был датирован 15 января 1586 г.1 Вероятнее всего, именно эта вторая грамота, в которой патриарх обращался ко всем православным с призывом о сборе пожертвований на строительство Успенской церкви, школы, типографии и госпиталя, была получена в результате последующих переговоров с патриархом. Эти две грамоты явились юридической основой функционирования братства. Первая грамота утверждала устав организации, который являлся основным документом для любой средневековой корпорации, а вторая утверждала и обосновывала ставшие впоследствии основными сферы деятельности братства: книгоиздательскую, просветительскую и благотворительную.
В уставе братства были определены цели и задачи корпорации, организационная структура и сферы деятельности братства, права и обязанности членов братства. Устав был составлен в соответствии с принятыми нормами и требованиями к подобным документам того времени и является, с одной стороны, типично средневековым уставом, но с другой стороны — отдельные его пункты содержали поистине революционные идеи, сформулированные и внесенные в устав под влиянием идей Реформации. По уставу главной целью братства было сохранение и распространение православия. Вторая цель — оказание помощи страждущим, обслуживание братской церкви, забота о погребении умерших своих единоверцев, поддержание в обществе благочестия и нравственности, а также противодействие распространению ересей. Это были традиционные формулировки целей создания средневековых братств.
Но здесь же присутствуют не типичные для средневековых братств черты, которые можно отнести к категориям уже не Средневековья, а Нового времени. Братство должно было следить за соблюдением церковного порядка, религиозного и нравственного быта как среди мирян, так и среди духовенства. Оно имело право не подчиняться епископу, если он «будет идти против зако-на истины», обличать его в случае неисправления противоправных действий. Епископ не имел права противиться постановлениям братства. Оно обязано было знать о поведении священников и мирян не только в городе, но и в окрестных селах, а обо всех «беззакониях» докладывать епископу для суда «по правилам святых отец». Особо в уставе отмечалось, что на собраниях братства дóлжно читать и изучать книги Ветхого и Нового Заветов и, собравшись «не в питейном доме», а в доме какоголибо брата, проводить время не в пьянстве, а в прославлении Бога.
Членом братства мог быть человек, принадлежащий любому социальному сословию, проживающий как в городе Львове, так и за его пределами: «А кто бы хотел вступити в сие братство: или мещанин, или шляхтич, или пред-мещанин, или посполитых людей вшелякого стану, як тутешнии, так сто-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 72. Опубл.: MCS. P. 119—120; АОИЗР. Т. 3. С. 301—302; ЮИЛСБ. Т. 1. № 84. С. 57; ПКК. Т. 3. С. 11; ПІФ. С. 82—83; Привілеї національних громад міста Львова. № 2 (171). С. 504—505.
100 Глава вторая
роннии, мает дати вступного грошей шесть»1. Это тоже нетипичное определение членства в организации для средневековой корпорации. Не равные между собой корпорации средневекового общества основывались на принципе равенства своих сочленов, в корпоративную группу объединялись люди одной профессии, одинакового рода занятий, равного социального статуса2. Провозглашенный здесь принцип всесословности был продиктован теми национальными сверхзадачами, которые ставило перед собой братство, но которые не оговаривались специально в уставе и для решения которых необходима была поддержка всех социальных групп всего украинского «поспильства». В подтверждение этой широкой национальной программы, задуманной для воплощения львовскими горожанами, можно привести зафиксированное в уставе братства право главенства (старейшинства) над всеми новоорганизующимися братствами, а новые братства должны были строиться «водле права сего церковного братского, которое мы першее во Львове старhишинство закон-не подаем»3.
Организационная структура братства схожа со структурой современных ему ремесленных цехов. Раз в месяц (при необходимости чаще) члены братства должны были собираться на заседания, о которых уведомлялись «зна-мением братским». Каждый год братство должно было избирать из своих членов четырех старших братчиков и им поручать ведение братских дел, о которых старшие братчики ежегодно должны были отчитываться перед всей братией. Братская казна («кружка») находилась у старшего братчика, а ключ от нее — у младшего. За проступки братчики подвергались братскому суду, причем за одинаковые прегрешения старшие братчики карались вдвое, а то и втрое строже, чем младшие «чести ради». Большому наказанию подвергались братчики за разглашение дел, которые обсуждались на заседаниях. Братство обязано было помогать всякому братчику, кто нуждается в помощи: находящемуся в нужде — оказывать денежную помощь, ухаживать за больными, а тело умершего братчика должны были провожать в последний путь со свечами все братья. Ежегодно братство должно было организовывать заздравные и заупокойные литургии за всех своих членов и членов их семей, в эти дни из братской казны должна была раздаваться милостыня бедным4. В уставе братства, основанном на традиционных нормах функционирования корпораций современного ему города, уже была зафиксирована ориентация на новые общественные и религиозные идеалы. Но в более полном объеме это было отражено в последующих правах и привилеях, полученных братством от цер
1 MCS. P. 115.2 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 202.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 71. Опубл.: MCS. P. 117; Привілеї національних
громад міста Львова. № 1 (170). С. 503.4 MCS. P. 113—119.
101§ 2. Организационная структура
ковных и светских властей, и в направлениях деятельности, не получивших официального подтверждения.
Фундаторы (основатели) братства не удовлетворились утверждением своего устава антиохийским патриархом, а подали эту же, скрепленную печатью патриарха, грамоту на подпись киевскому митрополиту Михаилу (Рогозе) и его протонотарию Григорию, на грамоте стоит печать и львовского епископа Гедеона (Балабана). Это означает, что братство добилось санкционирования своей деятельности у православных церковных иереев всех уровней церковной иерархии.
Получив утверждение правового статуса братства самим патриархом, а также митрополитом и епископом, львовские горожане обеспечили себе прочное положение в системе городских корпораций. «Оформленное» юридически, братство включалось на равных правах в сложную форму существования средневекового города, признающего авторитет корпорации, получившей официальное подтверждение своего общественноправового статуса. Теперь уже не горстка людей, заботящаяся о материальном положении одного из многочисленных городских храмов, будет представлять интересы украинской народности, а организация, получившая санкцию от самого патриарха. Это позволяло значительно расширить не только сферы деятельности украинского населения в обществе, но и обеспечить ему гарантированную защиту от произвола городских и католических властей.
Утверждение устава Львовского братства и благословение антиохийского патриарха на учреждение при нем школы, типографии и госпиталя формально давало право выступать в качестве самостоятельной организации, имеющей реальный юридический статус, но не совсем удовлетворяло львовян. Киевская митрополия непосредственно подчинялась константинопольскому патриарху, поэтому львовские братчики обратились к константинопольскому патриарху Феолипту с просьбой подтвердить статус братства, утвержденный антиохийским патриархом: «Сего ради посылаем хартию братства сего, да подпишет-ся рукою тебе, пастыря нашего и печатию ти да знаменается»1. Уже 2 декабря 1587 г. братство получило подтверждение привилея антиохийского патриарха от нового константинопольского патриарха Иеремии, к которому непосредственно не была адресована просьба львовских братчиков. В своей грамоте Иеремия подтвердил статус братства и основных его структур — школы, типографии и госпиталя2. В июле 1589 г. вышел универсал короля Сигизмунда III о передаче церковных дел православного населения Польши и Литвы под юрисдикцию константинопольского патриарха, после чего Львовское братство
1 MCS. P. 139.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 90; С. 49—54. Опубл.: DS. № 7. P. 35—38; MCS.
P. 151 (аннотация); ПКК. Т. 3. С. 14; АОИЮЗР. Т. 2. С. 110—112; Патриаршия грамоты изданы в пользу Львовского Ставропигийского братства при храме Успения Пресвятыя Богородицы // ВСИ. 1869. С. 122—124; Привілеї національних громад міста Львова. № 3 (172). C. 506—508.
102 Глава вторая
обратилось к константинопольскому патриарху с повторной просьбой о подтверждении своих прав1. В ноябре 1589 г. патриарх Иеремия еще раз подтвердил устав братства2 и дал привилей Онуфриевскому монастырю, находившемуся под патронатом братства, право ставропигии3. С этого времени братство считало себя Ставропигиальным, тем более что этот статус доводил до логического конца закрепленное в уставе братства право не подчиняться епископу. Право ставропигии (от греч. staueop»gion: staue-+ p»gnumi — крестоводружение) предоставлялось патриархами монастырям, реже — отдельным храмам и означало выведение их изпод юрисдикции местных церковных властей (епископа и митрополита) и непосредственное подчинение патриарху, от патриарха ставропигия должна была получать «суд, управление и власть», от него получала (хотя не всегда) миро, антиминсы и другие церковные принадлежности. Митрополиту и епископу ставропигия подчинялась в том случае, если ктолибо из них был экзархом патриарха. Получение братством права ставропигии вызвало резкое недовольство львовского епископа, который даже изготовил фальсификат от имени константинопольского патриарха о подчинении братства власти львовского епископа4. В ноябре 1592 г. константинопольский патриарх Иеремия выдал привилей на право ставропигии братской Успенской церкви5, что означало распространение этого права непосредственно на братство. Права братства в дальнейшем были подтверждены константинопольскими патриархами Матфеем в 1599 г., Мефодием в 1600 г.6, Кириллом в 1626 г. и
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 107. Опубл.: MCS. P. 180—181; АОИЗР. Т.И. № 17. С. 21.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 121; ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 57—63, 111—118. Опубл.: DS. № 16. P. 62—67; MCS. P. 207 (аннотация); ПКК. Т. 3. № 5. С. 16—19; Акты, относящиеся к истории Южнозападной Руси / Сост. А. С. Петрушевич. Львов, 1868. С. 112—115; Патриаршие грамоты изданы в пользу Львовского Ставропигийского братства при храме Успения Пресвятыя Богородицы // ВСИ. 1869. С. 124—127; Привілеї національних громад міста Львова. № 4 (173). C. 509—513.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 117; ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 65—70, 119—124. Опубл.: ПКК. Т. 3. № 6. С. 20; DS. № 14. P. 56—59; MCS. P. 203—205; Акты, относящиеся к истории Южнозападной Руси / Сост. А. С. Петрушевич. Львов, 1868. С. 115—119; Патриаршие грамоты изданы в пользу Львовского Ставропигийского братства при храме Успения Пресвятыя Богородицы // ВСИ. 1869. С. 127—129.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 202; MCS. P. 361—362.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 210; ЛИМ. Отдел фондов (собрание руко
писей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 91—96. Опубл.: DS. P. 87—90, 107—108; MCS. P. 393—396; ПКК. Т. 3. С. 36—38; Акты, относящиеся к истории Южнозападной Руси / Сост. А. С. Петрушевич. Львов, 1868. С. 119—121; Привілеї національних громад міста Львова. № 7 (176). C. 517—520.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 344, 346.
103§ 2. Организационная структура
Парфением в 1640 г.1, а также александрийским патриархом Кириллом в 1611 и 1614 гг.2 и иерусалимским патриархом Феофаном в 1620 г.3
В 1590 г. все права Львовского братства, в том числе и ставропигии, бы ли подтверждены на Брестском поместном церковном соборе, а также бы ло принято решение, чтобы такие же братства организовывались в других местах4. На поместном церковном соборе в Бересте 27 октября 1591 г. были подтверждены все права и привилеи Львовского и Виленского братств, в том числе на типографию и школу «греческого и словенского» языка5. Привилеи братства в 1590 г. были подтверждены киев ским митрополитом Михаилом Ро гозой6 и в 1637 г. — Петром Могилой7. Подтверждения своих прав братство добилось у львовских епископов Иере мии Тисаровского в 1608 и 1630 гг.8, Арсения Желиборского в 1641 и 1666 гг.9 и Иосифа Шумлянского в 1704 г.10 Очень важно для братства было получить юридическую санкцию функционирования организации у государственной власти, подтверждения всех своих прав королем Польши. Уже в 1592 г. Сигизмунд III подтверждает все права Львовского Успенского братства11. Подтверждения своих прав братство добивалось у всех последующих королей Польши12, причем тексты подтверждений прав и привилеев составляли часто сами члены братства13.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 495, 548. Опубл.: Голубев С. Т. Петр Могила. Приложения. Т. 1. С. 287—290; Т. 2. С. 182—186; DS. P. 119—122.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 431, 452. Опубл.: Голубев С. Т. Петр Могила. Приложения. Т. 1. С. 203—205.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 480. Опубл.: АОИЗР. Т. 4. С. 508—509; ПIФ. С. 143—144.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 143,144; ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 81—84. Опубл.: MCS. P. 254—261; Акты, относящиеся к истории Южнозападной Руси. С. 129—137; ПКК. Т. 3. С. 22—26. Акты, относящиеся к истории Южнозападной Руси. С. 129—133.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 188. Опубл.: MCS. P. 319—321; АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 77—79; Пам’ятки братських шкiл. С. 25—27.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 127, 137. Опубл.: MCS. P. 216—218, 237—239; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 520—522; Привілеї національних громад міста Львова. № 5 (174). C. 514—515.
7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 534. Опубл.: ПКК. Т. 3. С. 58.8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 419, 507. Опубл.: Крыловский А. С. Львов
ское Ставропигиальное братство. Приложения. № 45. С. 102—103; ПIФ. С. 150—151.9 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 554, 555, 647. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 184—185;
Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 58. С. 118—120.10 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 773. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 607—631.11 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 205.12 Там же. Д. 208, 517, 523, 524, 542, 584, 586, 587, 606, 672, 673, 674, 676, 697, 698, 700, 701,
702, 703, 707, 743, 745, 746, 747, 754, 917, 939, 970, 971, 1001.13 Там же. Д. 206, 208, 248, 747, 758.
104 Глава вторая
Таким образом, юридической основой деятельности Львовского Успенского братства являлись установочные грамоты восточных патриархов, документы поместных церковных соборов 90х гг. XVI в. и грамоты с подтверждением прав братства королей Польши. Это позволило ему развернуть широкомасштабную национальнокультурную деятельность в городе Львове и оказывать большое влияние на все братское движение Украины и Белоруссии.
При изучении истории любой организации важно знать ее организационную структуру, основные принципы функционирования. В уставе Львовского братства организационные формы отражены лишь частично, поэтому основными источниками для исследования этого круга вопросов выбраны протоколы заседаний и различные хозяйственные документы.
Желающий стать членом братства должен был лично прийти на заседание и заявить о своем решении. Все члены братства обсуждали его кандидатуру, выслушивали мнения знавших его людей и только после этого выносили соответствующее постановление. Всем вновь принятым братчикам прочитывался устав, который они должны были соблюдать1. Сложилась традиция, что в братство принимали только женатых людей2. Впоследствии, в 1633 г., при монастыре Св. Онуфрия было образовано «молодшее» братство, которое было утверждено привилеем киевского митрополита Петра Могилы от 3 февраля 1645 г.3 Членами младшего («молодечного») братства были молодые неженатые люди, которые после женитьбы могли стать членами «старшего» Успенского братства. Онуфриевское братство играло вспомогательную роль при Успенском, служило как бы первым, испытательным этапом для молодежи, которая собиралась посвятить себя «трудной дороге — братству».
Вступали в братство на всю жизнь, более того, в соответствии со средневековыми категориями мировосприятия его членами считались и все умершие братчики, имена которых заносились в специальный братский Помянник и должны были поминаться на церковных службах в установленные дни. М. С. Грушевский отмечал, что тот, кто имел желание вступить «в этот своеобразный орден борцов за руськую веру, делал это на всю жизнь — чтобы за определенный моральный авторитет, за определенное моральное право платить тяжелыми трудами, жертвами и временем — великими лишениями своей личной жизни»4. В этом были элементы православного аскетизма, «пустынного» идеала, проповедуемого Иваном Вишенским после возвращения с Афона — центра православной монашеской жизни в конце XVI — начале XVII вв. Но в то же время это можно расценивать как элементы западного покаянничества, которые сближали брат
1 АЮЗР. Т. 11. С. 72—73, 74—75, 127, 155.2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 62.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 569. Опубл.: Голубев С. Т. Петр Могила.
Приложения. Т. 2. С. 309—311.4 Грушевський М. С. Історія української літератури. Т. 5. Кн. 1. С. 35.
105§ 2. Организационная структура
ство со светским монашеским орденом. М. С. Грушевский рассматривал это еще и как большое сходство с дворянскими объединениями, которые патронировали ту или иную евангелистскую конфессию, беря на себя ее организацию и оборону, и при этом претендовали на все права над ней, включая контроль над ее пасторами и ее хозяйством1.
Как и в любой средневековой корпорации, все важные события в жизни членов братства и самой организации были связаны с определенными ритуалами, каждое значительное событие проводилось согласно принятой или установленной традиции. Обряды, сопровождавшие жизнь людей в рамках одной организации, имели важнейшее значение, несли в себе большую смысловую нагрузку. Каждая корпорация средневековья вырабатывала свои особые формы жизни коллектива, свой особый язык символов, помогающий людям жить вместе долгие годы. Обрядная, или ритуальная, сторона жизнедеятельности имела сильное влияние на каждого члена коллектива в отдельности и призвана была помочь каждому человеку отрешиться (или отказаться) от своего «Я» и ощутить силу и мощь коллективного «Мы», почувствовать сакральную связь своей судьбы с судьбой организации, членом которой он является. Это придавало жизни людей в рамках определенной корпорации некую возвышенность, осознание сплоченности и единства всех членов, ощущение служения высшим целям и задачам, которые можно осуществить только в рамках этой организации, а также чувство защищенности от внешнего мира в группе людей, связанных между собой священными узами. Изучение обрядов, сопровождавших жизнь членов той или иной корпорации, имеет большое значение для осознания коллективной психологии этой группы, для более глубокого понимания мотивов поведения и способов решения задач, высшей цели, которую ставили перед собой эти люди. Обряды и ритуалы как одна из важнейших сторон функционирования Львовского Успенского братства оставались практически вне внимания исследователей.
Жизнь человека в братстве начиналась в торжественной обстановке, сопровождавшей церемонию вступления в братство. Принятие в члены братства было важным и ответственным шагом в жизни человека. В присутствии всех членов братства, при зажженных свечах поступающий в братство должен был дать «обhт» — клятву, в которой он обещал выполнять все обязанности члена братства, его «противникам сопротивлятись», а в случае если бы он должен был «отступити, или похулити, или сопротивитись сему законному брат-ству», то попал бы под церковное проклятие, а если такой человек скончается без покаяния — «да будет и по смерти не разрhшен»2. Это было самое суро
1 Грушевський М. С. Історія української літератури. Т. 5. Кн. 1. С. 35—36.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 25 об. — 26. ЛИМ. Отдел фондов
(собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 17. Опубл.: DS. P. 1—2; АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 135.
106 Глава вторая
вое наказание для глубоко религиозного человека того времени. На некоторых людей это производило чрезвычайно сильное впечатление и приводило к случаям отказа принять «обhт и вступоване до братства»1. О клятве или присяге при вступлении в братство в конце XVI в. нам ничего не известно. Впервые упоминание о существовании обычая давать «обhт» при вступлении в братство и описание этого ритуала вместе с текстом «обhта» встречаются в «Эпистолии» 1609 г. — письме Львовского братства новооснованному братству в Новоконстантинове2. Возможно, текст этой клятвы был позаимствован львовскими братчиками у Виленского братства (текст клятвы при вступлении в организацию помещен в уставе Виленского братства)3.
Обычай произносить клятвы при вступлении в братство был осужден константинопольским патриархом Тимофеем в 1620 г. главным образом — изза «проклятства окрутне страшного». Патриарх снял проклятие со всех живых членов братства и тех, кто «в том грехе» умерли, и ликвидировал этот обет как «глупо учиненое»4. Повидимому, после осуждения этого обряда патриархом клятву при вступлении в организацию не давали. Но вскоре этот обычай решили возобновить. На элекции 1633 г. все члены братства должны были дать «обhт»5, после чего имя братчика должно было быть вписано в «братский каталог». Повидимому, текст клятвы был взят с проклятием на отступника, потому что один из братчиков отказался ее давать: «упоре отповhдhл, иж я того не учиню», за что был исключен из братства6. Клятву на верность братству должны были дать все члены организации, в том числе и не присутствовавшие на элекции 1633 г. Однако они не торопились с этим. Два братчика дали «обhт» на элекции 1637 г.7, а еще два — только на элекции 1644 г., на которой обсуждали вопрос о том, какой обет следует давать при вступлении в братство: «стародавний, от продков отправований, страшливе строгий обет» или «последнеший, скорочений и зносниший, през теразнейшую братию от-правований». Было принято решение об использовании сокращенного варианта присяги, без строгого проклятия. Только после этого Андрей Лукиянович и Андрей Стрелецкий дали обет, при этом запись в протоколе заседания от
1 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 62—63.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 25 об. — 26. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 338—339.
3 Голубев С. Т. Петр Могила. Приложения. Т. 2. С. 239.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 481. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское
Ставропигиальное братство. Приложения. № 33. С. 71—73.5 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». С. 17. Опубл.: DS. P. 1—2; АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 135.6 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 96—97.7 Там же. С. 127—128.
107§ 2. Организационная структура
мечает, что каждый из них «любо от давных лет найдуючийся в братствh, еднак братолюбия ради душезбавеннаго притом братии иншых обhт сей отправил»1. С 1645 г. «целование креста» (произнесение обета новопринятыми в братство) проводилось по утвержденным на элекции (отчетновыборном собрании) 1644 г. правилам2. После принятия унии братство было вынуждено изменить и форму присяги. С 1725 г. присягу давали на латинском языке3.
Все дела братства решались на собраниях («схожках», «схажках»). По уставу собрания должны были проводиться раз в месяц, но сложился обычай, что братство собиралось на «схожку» еженедельно, в каждый воскресный день после утренней службы4. В случаях необходимости члены братства собирались чаще, а иногда собрания проводились гораздо реже. Могли созываться и экстренные или генеральные собрания по особо важным делам, например по поводу принятия учителя в братскую школу, встречи высокопоставленных лиц, смерти львовского епископа и избрания на его место другого5 и пр. За неявку на собрание без уважительной причины братчики подвергались строгому наказанию или штрафу. Например, весьма уважаемого человека, старшего братчика Юрия Рогатинца, осудили за неявку на заседание братства, где обсуждались важные вопросы об «утисках великих от ляхов» заключением на башне в течение суток и штрафом в размере фунта воска6. Заседания братства не могли состояться при отсутствии кворума («для малости братий»)7. Иногда на собрания братства допускались или приглашались члены братств львовских предместий. В том случае, когда на собраниях обсуждались вопросы, касавшиеся всего украинского населения, все присутствовавшие на таких «открытых» собраниях имели право голоса8.
О предстоящем собрании все члены братства оповещались «знамением брат ским», или «цhхой». Братство нанимало специального человека (мальчикаподростка), чтобы он «с цhхой ходил»9. Эта форма сбора членов организации была позаимствована у ремесленных цехов. К сожалению, нам не известно, что из себя представляла братская «цhха». А. С. Крыловский считал,
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 147—148.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 68—50. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 155.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 868, 869. Опубл.: Юбилейный сборник в
память 350ле тия Львовского Ставропигиона. Львов, 1936. Ч. 1. № 72. С. 112—115.4 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 105—106, 179.5 Там же. С. 86, 115, 131, 133, 248.6 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 64;
АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 58. ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 1.7 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 102, 108, 114, 116, 118.8 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство // АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 34.9 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1044. Л. 4 об.
108 Глава вторая
что это оттиск с изображением Успения Пречистой Богородицы — герба братства1, то есть издательская марка братской типографии с изображением герба братства, встречающаяся на обороте титульного листа некоторых изданий братства. Такой вывод Крыловский сделал на основании подписи под знаком: «Пречистое знамение братства Ставропигион львовского Успения пресвятыя Богородица Присно Девы Мария». Но здесь слово «знамение» следует понимать как «герб», «символ», а не «знамение братское» как «цhха». Я. Д. Исаевич считал, что братская «цhха» была не в виде типографского оттиска на бумаге, а изготовленная из металла или дерева2. Возможно, на таком «братском знамении» и было одно из изображений, которые считались гербом братства и которые можно увидеть на издательской марке и печатях братства. Но возможно также, что «цhха» не имела какоголибо материального воплощения, а означала оповещение в установленной форме о предстоящем собрании братства. Если бы это был действительно металлический или деревянный знак с какимлибо символическим изображением, то, вероятнее всего, сохранилась бы если не сама «цhха», то хотя бы ее описание, поскольку упоминание о посылании «знамения братского» встречается в источниках до середины XVII в., а ко всем своим вещам братство относилось очень бережно.
Собрания братства были периодическими («сессии») и отчетновыборными («элекции») и проходили в соответствии с принятыми формами проведения собраний членов любой корпорации того времени. Чрезвычайно важными были моменты открытия и закрытия собрания. Сох ранились ритуальные «предмовы», составленные в форме специальной молитвы, которыми сопровождалось открытие и закрытие заседания братства3. В «предмове», или молитве при открытии сессии братства, говорилось о верности православной вере и перечислялись требования к порядку ведения собрания: «На сей час тую то сесию альбо заседание спокойне фундуем и закладаем, и покуй всем споведуем. И кто бы што ведал належного, бысти братству абы споведал. А кто бы теж повинен был отдати вину или доходу який братский, тот абы обложил во имя Божие, и кто если што мает, справу яковую до братства или до кого, аби и отправовал»4. Эти слова, произносимые каждый раз при открытии братских собраний, должны были дисциплинировать всех братчиков и напоминать о важности этого собрания и всех вопросов, которые на «схожке» обсуждаются.
На сессиях решались все текущие дела братства: принимали новых членов, обсуждали вопросы общественнополитической, религиозной деятельности
1 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. С. 59—60.2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 63.3 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». С. 13.4 Там же. С. 19—20.
109§ 2. Организационная структура
организации, решали текущие проблемы, связанные с работой братских школы и типографии, занимались решением имущественных и финансовых дел братства, проводили суд над провинившимися братчиками и пр. С особой ответственностью в братстве относились к избранию посланников и депутатов от организации на сеймы и сеймики, на суды по делам братства, на которых решались важнейшие общественнополитические вопросы по проблемам, волнующим все украинское население Речи Посполитой. На собраниях скрупулезно обсуждались все вопросы, которые необходимо поставить перед той или иной институцией, перед тем или иным чиновником, манера и форма подачи прошений, петиций или жалоб, размер «подарков» каждому должностному лицу, от которого зависело решение вопроса. В результате этих обсуждений на собрании составлялась инструкция депутатам от братства, а по их возвращении заслушивался подробный отчет. Большое внимание на сессиях уделялось текущей корреспонденции. Оглашались письма, грамоты и другие послания, которые получало братство, и обсуждались варианты ответов на все письма, принимались решения по вопросам составлений посланий от имени братства разным должностным и частным лицам, учреждениям и институтам. На сессиях обсуждались спорные и конфликтные вопросы, возникавшие между членами братства или между братством и наследниками одного из умерших его членов. С пристальным вниманием следили за финансовыми операциями братства, принимали решения о выделении денег из братской казны на те или иные нужды.
Хотя все аспекты деятельности братства и отдельных его членов решались на еженедельных собраниях, главным собранием являлось элекционное, на котором подводились итоги всей его деятельности и каждого члена в отдельности.
По уставу отчетновыборные собрания (элекции) должны были проводиться раз в год. Но фактически элекции созывались раз в 3—4 года, а иногда и реже1. Как правило, эти собрания проводились в особый день, обычно первый воскресный день после Пасхи («в Фомину Неделю»). Но были случаи, когда элекции проводились в другие воскресные, а иногда и в будние дни недели2. На элекции все старшие братчики и лица, занимавшие другие должности, должны были дать братству подробный отчет о своей деятельности, особенно строго следили за финансовыми операциями братства. Старшие братчики должны были представить ключи от казны, печати братства, приходорасходные и другие отчетные документы. Никто не имел права уклоняться от отчета под угрозой исключения из организации. Иногда перед отчетом назначалась депутация из двух или трех братчиков для проверки представленных приходорасходных отчетов3. Выборы на все должности проводились открытым голосованием и в случае единогласного решения считались состоявшимися. При
1 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 63.2 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство // АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 20.3 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 114, 144—145.
110 Глава вторая
отсутствии единогласного решения проводилось тайное голосование, и выбирали по большинству голосов — «большости крысов», то есть черточек перед именем избираемого1.
Для руководства братством на элекционных собраниях избирались четыре старейшины («колегиум панове старши четири»)2. С начала XVII в. избирали помощников старших братчиков, которые в отсутствие коголибо из старейшин могли их полностью заменять. Между избранными старшими братчиками должности (обязанности) распределялись в соответствии со способностями каждого, при этом вверялись атрибуты каждой должности: ключи от казны, печати братства, знамя, перо и чернильница, счеты и др.3 В ведении старших братчиков был довольно широкий круг вопросов, охватывавший практически все стороны деятельности братства. Под их контролем находились братская казна («кружка» или «скрынька») и все братское имущество, на них лежала главная забота по наблюдению за школой, больницей, типографией и монастырем, они вели сношения с государственными и городскими представительствами, судебными учреждениями, с духовными иерархами, определяли характер и масштабы деятельности организации. Старшие братчики должны были отчитываться перед младшими, а «молодшие» — выполнять все решения и поручения старших. Должность старших братчиков была почетная и ответственная. Властные полномочия руководителей своей организации братчики стремились подтвердить декретом короля, что обеспечило бы больший авторитет представителей братства перед различными городскими и судебными структурами. В 1640 г. по просьбе братчика Андрея Стрелецкого король Владислав IV выдал декрет, регламентирующий статус старших братчиков. В декрете особо сказано об обязательных ежегодных перевыборах старших братчиков, которые должны давать полный финансовый отчет перед всеми членами братства4. Хотя по уставу все четыре старейшины имели в братстве равные властные полномочия, сложился обычай, что первый из числа старших братчиков был главным руководителем организации. Со временем его стали называть сеньором, а второго старшего братчика — вицесеньором. С 1741 г. избирали только двух руководителей — сеньора и вицесеньора5.
Во время военных действий середины XVII в. братские сессии не проводились. По их возобновлении в 1686 г. должностной состав организации был
1 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство // АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 21. 2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1061.Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 191.3 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство // АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 22. 4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 545. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское
Ставропигиальное братство. Приложения. № 57. С. 117—118.5 Головацкий Я. Ф. Хронологическая роспись вписных братий прежде братства Львов
ского Успения Пресвятыя Богородицы, ныне же Института Ставропигийского // ВСИ. 1864. С. 86.
111§ 2. Организационная структура
следующим: четыре старейшины, отвечающие за выдачу для продажи книг (Василий Корендович), «дозор» за типографией и ключи от лавки, где находилась денежная казна (Ян Мазараки), ведение финансовых дел братства и владение ключом от сундука, в котором хранилась казна (Стефан Лавришевич), заведование церковью и сосудохранилищем (Петр Афендик). Асессоры должны были продавать книги (Григорий Русянович), заведовать госпиталем (Николай Михалевич) и «на ратуш ходить», чтобы там не принимали постановлений, ущемляющих права православного населения города1.
Кроме старейшин, в братстве было довольно много разных выборных должностей, число которых возрастало и менялось с расширением и изменением сфер деятельности братства. Выбирали четырех братчиков для контроля за порядком во время собраний братства («до столу», «столовых бра-тьев»), в начале XVII в. выбирали их заместителей, а позже — только двух «асессоров публичных сессий»2. На элекциях выбирали следующие постоянные должности:
— двух ключников, у одного хранились ключи от церковной сокровищницы и лавки («ключи од скарбу церковного и от склепу»), у другого — от казны братской и магазина (книжной лавки) и от склада («от братское скринки еден ключ, од крамку и од колодки»);
— писаря или секретаря братства («на писарство»);— управляющего монастырем св. Онуфрия («до владзы манастырское»);— управляющего братской больницей («на доглядане шпиталя»); — заведующего школой («до доглядованя школы», «до дозору школы
мhсцкое»);— заведующего типографией братства;— двух депутатов в Коллегию сорока мужей и их заместителей («до М мен-
жов на Ратуш»);— смотрителя за свечами и продавца свеч в братской Успенской церкви и
церкви Cв. Онуфрия («на запалене свеч», «до осмотреня, и заполованя, и га-шеня свеч»);
— продавцов книг, изданных в братской типографии («до проданя книг»);— сборщиков денег или милостыни во время богослужения, которые долж
ны были ходить со специальной кружкой или табличкой с указанием, на какие цели проводится сбор пожертвований («до столпца, що в притворе ест, абы каждое недели у него стоячи, просил», «до поповское тяблицh», «до тяблицh манастырское»)3;
— инспектора «на всяк грех»;
1 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II, 2125. Л. 6—8 об.2ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 7; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в
розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 63—64.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 7, 7 об., 11, 11об., 59 об., 60, 62, 62 об.
112 Глава вторая
— деспекта (наблюдателя за нравственностью членов братства);— маршала (смотреть, чтобы во время совещаний братства и подачи голо
сов каждый занимал свое место);— руководителя или директора архива;— смотрителя библиотеки («дозорцы библиотеки»)1.Часто некоторые должности совмещались, например, смотритель свеч дол
жен был «ходить с таблицей», то есть собирать пожертвования на церковь; часто совмещались должности по заведованию Онуфриевским монастырем и братским госпиталем, поскольку последний находился на территории монастыря («до госпиталя святого Онофрия до дозору и росказу, и до завhдованя шпиталя», «до кгосподарства шпитального и дозору монастырского»)2. Были в братстве и временные должности, которые создавались в связи с определенной сферой деятельности братства в тот или иной период. Во время ведения братством строительных работ избирались смотрители на строительстве церкви, типографии, школы, отдельных монастырских сооружений; выбирались депутаты в суды по делам братства, депутаты на сеймы и сеймики, на поместные церковные соборы; некоторое время из членов братства назначались смотрители церковного хора, келий монастыря; ответственные за издание отдельной книги в типографии братства и др.
Разносторонняя деятельность братства требовала больших материальных затрат. Все доходы составляли братскую казну и хранились в специальном сундучке («скрыньке»). К братской казне было особое отношение. С одной стороны, члены братства тщательно следили за всеми доходами и расходами, о чем свидетельствуют многочисленные сохранившиеся финансовоотчетные документы, а с другой — отношение к «братской скрыньке» было трепетным, сакральным, как к символу не столько финансового, материального благополучия организации, сколько к материализованному объекту духовной общности и единения людей во имя высших, благородных целей. Об этом говорит ритуал, которым сопровождалось открытие и закрытие братской казны. Это была торжественная церемония: в присутствии всех членов братчик, у которого хранился ключ от казны, должен был произнести специальную речь «предмову» прежде, чем открыть «скрыньку» (сундучок). При закрытии «скрыньки» тоже произносилась «предмова», наполненная словами благодарности «за таковые дары»3.
Все члены братства должны были регулярно платить членские взносы. В уставе был определен размер взносов — вступительного (6 грошей), который вносили при вступлении в братство, и ежемесячного (полгроша). Сложилась традиция, сбора взносов раз в год, как правило после элекционного собра
1 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство // АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 23—24. 2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 7, 11 об., 62 об.3 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». С. 13. Опубл.: DS. P. 2—3.
113§ 2. Организационная структура
ния. Размер ежегодного взноса варьировался в зависимости от инфляционных процессов в государстве. Установленный размер годового взноса («рочного») составлял обязательный для всех минимум, как правило, зажиточные и состоятельные члены братства вносили бόльшие суммы. Например, на элекции 1608 г. было установлено, что «от каждого брата на рок мается отбирати по грош 6», однако в реестре уплативших взносы, состоящем из 24 человек, 6 грошей внесли только 2 братчика, 13 человек уплатили по 24 гроша, а 11 — по 1 злотому1. В 1612 г. из 29 членов братства 6 грошей уплатили только 5 человек, 18 членов братства дали по 18 грошей, 3 — по 48 грошей, по одному братчику — 24, 42 и 44 грошей, 2 человека — по 1 злотому и 4 — по 1 злотому и 6 грошей2. Львовское братство, как и другие корпорации средневекового типа, мыслилось его членами как «единение во Христе» всех братий: живущих и умерших. Это мироощущение проявлялось и в сборе членских взносов. За умерших членов братства продолжали уплачивать взносы их вдовы. Так, в реестре «выбира-ня пhнязий рочных» 1608 г. 8 вдов бывших братчиков внесли по 1 злотому и одна — 24 гроша, в 1611 г. — 7 вдов внесли по 48 грошей и 2 — по 18 грошей, в 1612 г. рочные платили 7 вдов, в 1613 и 1614 гг. — 6 вдов3. Однако членские взносы составляли незначительную сумму и не могли покрывать расходы обширной деятельности братства.
Кроме членских взносов, в «братскую скрыньку» вносил каждый, кто сколько мог, в зависимости от своих доходов и материального положения. Часто в братстве проводились целенаправленные сборы денег — на определенную акцию братства. Например, 31 января 1600 г. проводилась «складка» на депутацию в Варшаву по делам братства4. На сессии 1625 г. братство постановило, что каждый братчик должен внести определенную сумму («даток») на ведение судебного процесса с Радой города по вопросу освобождения братства от налогов5. Часто такие сборы денег проводились с целью покупки необходимых вещей для убранства церкви, для школы или типографии братства, на содержание госпиталя, на различные благотворительные акции.
Статьи получения доходов у братства были весьма разнообразными. Неболь шим по размеру, но постоянным доходом братства был сбор пожертвований. Во время богослужений специально выбранный член братства стоял у церкви с табличкой, на которой указывалось, на какие цели производится сбор пожертвований. Открытие «скрыньки» (урны) для сбора денег производили обязательно в присутствии членов братства, а сумма записывалась в реестр приходов. Одна из первых таких записей относится к 1606 г.: «...пан
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 12.2 Там же. Л. 16—16 об.3 Там же. Л. 12, 16 об., 18 об., 21, 22.4 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 19—20.5 Там же. С. 57.
114 Глава вторая
Хома Кушнhр з сыном своим Стефаном выняли с тябличнои скринки цер-ковной зол. 20 и 4»1. Позже братство обязывало ходить «с тяблицею» одного из прихожан, за что платило третью часть из собранных им денег. При открытии урны обязательно должны были присутствовать три члена братства; например, 9 сентября 1627 г. «з волею всех братий п[ан] Григорий Романович, п[ан] Андрей Бhлдага, п[ан] Ян Афендик прибрали к себе и мене колегия Маковича, отворили скриньку табличную церковную, в которой нашолся роз-ных монет ведле ниже описаного реестру»2. Как правило, эти деньги шли на церковные нужды, в основном на свечи, на содержание священнослужителей, а также на содержание братского госпиталя.
В конце XVI — начале XVII вв. Львовское братство активно занималось строительством и устройством Успенской церкви, школы, типографии и госпиталя. Для этого нужны были большие средства. Братство не раз обращалось с воззваниями ко всем православным с просьбой о помощи в деле восстановления сгоревшей во время пожара 1571 г. Успенской церкви, строительстве типографии, школы и госпиталя3. Братчики просили о содействии в сборе средств на строительство иерархов, в результате чего были изданы окружные послания к православным с просьбой помочь братству в восстановлении сгоревшей Успенской церкви, школы, типографии и госпиталя от патриархов антиохийского Иоакима4, константинопольского Иеремии5, киевского митрополита Михаила Рогозы6 и львовских епископов Гедеона Балабана7 и Иеремии Тисаровского8. В 1592 г. братство снарядило посольство к русскому царю Федору Иоанновичу с просьбой оказать им материальную помощь9. Из Москвы брат
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1044. Л. 1.2 Там же. Д. 1049. Л. 9. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 357—372.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 198, 231, 319. Опубл.: ЮИЛСБ. Т. 1. С. 62—
63, 72, 74; MCS. Р. 358, 359, 807 (аннотации).4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 72. Опубл.: MCS. P. 119—120; АОИЗР. Т. 3.
С. 301—302; ЮИЛСБ. Т. 1. С. 57; ПКК. Т. 3. С. 11; ПIФ. С. 82—83; Привілеї національних громад міста Львова. № 2 (171). C. 504—505.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 118, 120, 170. Опубл.: MCS. P. 206 (аннотация); DS. P. 55; ЮИЛСБ. Т. 1. С. 91.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 193, 218. Опубл.: АОИЗР. Т. 4. № 32. С. 42; Акты, относящиеся к возобновлению во Львове сгоревшей Ставропигиальной Успенской церкви, с больницею, странноприимным домом, школою и типографиею // ВСИ. 1874. С. 113—115; MCS. Р. 327—329; ПİФ. № 70.
7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 83. Опубл.: ЮИЛСБ. Т. 1. С. 58.8 Там же. Д. 422. Опубл.: Акты, относящиеся к истории Южнозападной Руси / Сост.
А. С. Пе тру шевич. Львов, 1868. С. 149—153.9 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 199, 235, 241, 1035. Л. 15 об. — 19. Опубл.:
MCS. P. 359, 484 (аннотации), 465; ЮИЛСБ. Т. 1. С. 68—73; АОИЗР. Т. 4. С. 66; Письма князя Константина Острожского // ВСИ. 1867. С. 72—73; Акты, относящиеся к возобновлению во
115§ 2. Организационная структура
чики привезли довольно крупную сумму на строительство Успенской церкви, школы, типографии и госпиталя1. В 1605 г. братство снарядило второе посольство в Москву к Лжедмитрию I. Самозваный царь тоже не отказал в помощи львовским братчикам2. В братском помяннике рядом с именами русских царей Иоанна Васильевича, Федора Иоанновича, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, Иоанна Алексеевича стоит и имя Дмитрия Ивановича как благодетеля братства3. Но больше всего львовские братчики рассчитывали на материальную поддержку молдавских господарей4. Именно из Молдавии постоянно присылали братству значительные суммы денег, которые помогли ему завершить строительновосстановительные работы5. Братство обращалось с просьбой оказать содействие в строительстве к другим братствам Украины и Белоруссии, к влиятельным вельможам (Константину Острожскому, Богдану Сапеге, Федору Скумину Тышкевичу и др.), состоятельным купцам и ремесленникам6. На его просьбы охотно откликались7. Братство внимательно следило за поступлением пожертвований, в специальную книгу записывались
Львове сгоревшей Ставропигиальной Успенской церкви, с больницею, странноприимным домом, школою и типографиею // ВСИ. 1874. С. 115—124.
1 РГАДА. Ф. 79. Оп. 2. Ед. хр.10; ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1035. Опубл.: [«Из рукописного сборника, содержащего в себе старинную переписку Ставропигийского братства с разными лицами»] // ВСИ. 1871. С. 129—130.
2 Собрание грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. М., 1819. Ч. 2. С. 279—280.
3 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 482.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 146, 427, 428, 1035. Опубл.: MCS. P. 263 (ан
нотация); ЮИЛСБ. Т. 1. С. 59; [«Из рукописного сборника, содержащего в себе старинную переписку Ставропигийского братства с разными лицами»] // ВСИ. 1871. С. 131—132.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 149, 320—323, 330, 331, 335—337, 341, 345, 351, 353, 358, 359, 362, 363, 370, 371, 375—378, 381, 390, 399, 402, 403, 405, 413, 418, 429, 430, 433—438, 440, 443, 448, 450, 468, 497, 498, 505, 515, 521. Опубл.: MCS. P. 264, 807, 809, 838 (аннотации); ЮИЛСБ. Т. 1. С. 7, 19—20, 26; АОИЗР. Т. 4. С. 499; АОИЮЗР. Т. 1. С. 268, 271; Голубев С. Т. Петр Могила. Приложения. Т. 1. С. 155—157, 159—161; Продолжение писем молдавских господарей, писанных ко Львовскому Ставропигийскому братству при церкви Успения пресвятыя Богородицы, занимающемуся вторично постройкою сей церкви после пожара той же в 1571 г. // ВСИ. 1882. С. 149—164; [Письма из Молдавии Львовскому Ставропигийскому братству о помощи в восстановлении Успенской церкви] // ВСИ. 1883. С. 147—176.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1035. Опубл.: [«Из рукописного сборника, содержащего в себе старинную переписку Ставропигийского братства с разными лицами»] // ВСИ. 1871. С. 134—142, 147—148.
7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 168, 265, 350, 1035. Опубл.: Акты, относящиеся к возобновлению во Львове сгоревшей Ставропигиальной Успенской церкви, с больницею, странноприимным домом, школою и типографиею // ВСИ. 1874. С. 125—127; MCS. Р. 537—538, 854.
116 Глава вторая
имена жертвователей (фундаторов) и суммы пожертвований; к сожалению, эти записи сохранились лишь фрагментарно1.
К форме воззваний к населению о сборе пожертвований братство обращалось еще и в тех случаях, когда необходимы были средства на ведение судебных процессов и снаряжение посольства в Краков или Варшаву по делам, касающимся политических прав украинского народа. Например, сохранились «Запись складчин и расходов по ходатайству братства перед государственными властями за интересы русской народности и православной церкви» за 1599—1629 гг.2 или Реестры сбора средств среди украинского населения города в 1621 г. для подарков королю Сигизмунду III и королевичу Владиславу, прибывающим во Львов с визитом3, на подарки приезжавшим во Львов королям Владиславу IV в 1634 г.4 и Яну Казимиру в 1660—1661 гг.5 Однако к такой форме сбора средств братство прибегало в исключительных случаях.
Самым стабильным и одним из основных источников дохода была типография братства. Книги, которые издавались в типографии, пользовались большим спросом, и это служило гарантией не только окупаемости всех затрат на издательское дело, но и сулило постоянный доход.
Братство пользовалось большим авторитетом среди населения, поэтому многие состоятельные люди считали своим долгом и большой честью оказывать братству материальную помощь. Самой надежной и стабильной формой получения прибылей в то время были земля и недвижимость. Среди завещаний на имя братства («тестаментарных легаций», «записов последной воли»), помимо крупных сумм денег, ценных и дорогих подарков, были завещания на земельные угодья и недвижимость (дома или «каменицы», магазины или «крамы»)6. Чаще всего сумму пожертвований записывали как ведеркаф («ведеркавф отцов наших»)7 на недвижимое имущество, так что последующие владельцы этого имущества должны были ежегодно выплачивать братству определенный процент (как правило, 8 % годовых) с завещанной братству суммы8. В результате таких завещаний братство стало собственником земельных угодий в с. Збоиске, лугов и
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1038. Л. 1.2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 679—692.3 Там же. С. 54—55.4 Там же. С. 107.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1081.6 Шараневич И. И. Важнейший из давных тестаментарных легаций (фондацийных за
писов последной воли) Ставропигийского братства // ВСИ. 1875. С. 146—148.7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1083. Л. 1 об.8 Там же. Д. 379, 964, 984; Ф. 9. Оп. 1. Д. 359. Л. 1172—1173, Д. 369. Л. 1172—1173; Ісає-
вич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 65; Ка-праль М. Актові матеріали до біографії Івана Красовського // Україна в минулому. Київ; Львів, 1993. Вип. 4. С. 111—112, 130.
117§ 2. Организационная структура
пасеки в с. Белогоще, нескольких домов и магазинов. Сдавая свою недвижимость в аренду, братство получало дополнительные средства, которые составляли довольно большие суммы. В архиве братства сохранился документ, составленный в 1690 г., в котором перечислены имена людей, пожертвовавших наиболее крупные суммы на церковь, монастырь, школу и госпиталь в 1630—1679 гг.1, среди них — Константин Корнякт, Петр Сагайдачный, супруги Григорий и Ксения Поповичи, Михаил Алозий, супруги Лангиши, Василий Григорович, Василий Леонович, Ян Василевич, Михаил Слёзка, Ян Мазараки и др.
Для увеличения своих доходов братство занималось различными финансовыми операциями. Члены братства ездили на ярмарки в другие города, где продавали деньги (монеты) по выгодному для братства курсу2. Иногда деньги из братской казны давали купцам в торговый оборот, и прибыль от торговых операций шла опять же в братскую казну3. Особой статьей дохода братства были различные кредитные операции. Братство давало кредиты под залог своим членам4, купцам и ремесленникам, которые обращались к нему за помощью, причем не только из Львова, но и из других городов и местечек Украины, а также греческим, венгерским и еврейским купцам5, иногда довольно знатным вельможам (львовскому подвоеводе Степану Чаманскому, молдавскому воеводе Моисею Могиле и др.)6. На выгодных для себя условиях братство предоставляло заем даже своим идейным противникам, например Коллегии иезуитов7. Оно тщательно следило за возвращением кредитов и уплатой задолженностей кредиторами8, все ценные вещи и бумаги, оставляемые под залог, принимались согласно акту оценки вносимого залога9 и записывались в специальные книги долговых обязательств10.
1 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II, 2125. Л. 108—110, 129—131; ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1124. Опубл.: Шара невич И. И. Важнейший из давных тестаментарных легаций (фондацийных записов последной воли) Ставропигийского братства // ВСИ. 1875. 146—148; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 345—349.
2 Срібний Ф. Студії над організацією Львівської Ставропігії від кінця XVI до полов. XVII ст. // ЗНТШ. Львів, 1913. Т. 115. С. 54; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 65, 224.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 3 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 299.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 426, 439, 530, 982, 987.5 Там же. Д. 97, 329, 439, 1071, 1168. Опубл.: MCS. Р. 157—159, 814—815.6 Там же. Д. 473, 612. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропиальное братство.
Приложения. № 31. С. 66.7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1099.8 Там же. Д. 1060. Л. 1—18.9 Там же. Д. 1139. Л. 1—3; 1144. Л. 1—2.10 Там же. Д. 1113, 1135, 1139. Л. 5—9, 1158, 1168; АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 620—622.
118 Глава вторая
Располагая значительными суммами денег, братство могло вести широкую культурнополитическую деятельность. Основные статьи его расходов — расходы на судебные дела по защите прав украинского населения, содержание типографии, школы, монастыря и госпиталя. Братство содержало священнослужителей Успенской церкви, школьных учителей, нанимало наборщиков, корректоров, граверов для работы в братской типографии. Одной из основных сторон деятельности организации была благотворительность. Самые разные формы помощи всем нуждающимся, которые обращались за помощью к братству, требовали больших денежных сумм. При анализе финансовых дел братства можно отметить постоянное стремление его членов к увеличению доходов своей организации, но это стремление было продиктовано не жаждой личного обогащения братчиков (за отдельные такие попытки братство сурово наказывало), а стремлением как можно больше сделать на благо своей организации, своего народа, на благо отдельных лиц.
§ 3. социальный, количественный и национальный состав братства
Социальный, количественный и национальный состав братства изучен недостаточно главным образом изза фрагментарности сохранившихся по этим вопросам источников и некритического использования информации, содержащейся в дошедших до нас документах. По уставу членом братства мог быть любой православный, независимо от социального происхождения, материального состояния и места жительства. Такая декларация членства в организации была прогрессивна и совсем нетипична для средневекового общества и особенно для граждан польского города, где принципы жесткой иерархии в конфессиональном, социальном, сословном, профессиональном плане имели первостепенное значение. Такое определение устава свидетельствует о влиянии идей гуманизма, получивших распространение в западноевропейской философии того времени. Но фактически в братстве состояли представители средних социальных слоев общества — мещане, ремесленники и купцы Львова и в меньшей степени — жители предместий, а также священники Успенской и Онуфриевской церквей. Многие историки считали, что членами братства были женщины, имена которых значатся в «братских реестрах». Изучение архивных документов, особенно протоколов заседаний и уставов многих братств, образовавшихся по образцу Львовского, позволяет сделать вывод, что имена женщин встречаются в источниках только в качестве фундаторов братства, пожертвовавших организации значительные суммы денег или оказавших особые услуги. Например, Татьяна Матфеевая Малинская была вписана в организацию заочно, «през писаня листу своего», который передала братству своим слугой Яном Федоровым Горским вместе со «вступным» в размере 150 злотых,
119§ 3. Социальный, количественный и национальный состав братства
что составляло довольно значительную сумму1. Вдовы членов братства, ежегодно уплачивавшие взносы, никакого участия в делах корпорации не принимали. Даже Анастасия Лясковская, жена братчика Степана Лясковского, которая принимала самое активное участие в деятельности братства, занимаясь продажей книг, изданных в братской типографии, ведя финансовые записи о продажах, не была действительным членом организации.
В течение XVII—XVIII вв. изменялось социальное положение членов братства. С середины XVII в. члены братства получили возможность приобрести (купить) дворянство (шляхетство). Нобилитация давала право мещанам не подчиняться Магистрату и не платить пошлин и налогов, предусмотренных для простых горожан. В 1654 г. Сейм нобилитировал братчика Романа Стрилецкого, в 1659 г. — Феодосия Томкевича, Юрия Папару, Яния Мазараки. Получили шляхетство Николай Красовский и Юрий Корендович2. Изменение номинального социального статуса членов братства не повлияло на изменение реального социального положения. Как и прежде, все эти братчики продолжали заниматься своим основным видом деятельности — торговлей. В XVIII в. также многие члены братства получили права шляхтичей. В 1765 г. был нобилитирован Андрей Дзёковский, в 1768 г. — Антон и Христофор Деймы3.
Неоднородным братство было и по национальному составу. Кроме украинцеврусинов в него входили и греки, которые во второй половине XVII в. часто занимали руководящие должности в братстве. Однако ни сами братчики греческого происхождения, ни их товарищи украинцы не воспринимали друг друга как представителей разных национальностей. Напротив, они ощущали религиознокультурную общность, которая позволяла совместными усилиями решать единые задачи, связанные с возрождением национальной культуры, воспринимавшейся в XVII в. в первую очередь сквозь религиозную призму, сквозь православную византийскую («откуда пошла вера наша») культурную традицию.
Львовское братство было немногочисленным. В реестре «фундаторов» — осно вателей братства значится всего 12 человек. В первой половине XVII в. его численность колебалась от 21 до 36 членов, после казацкой войны численность братства резко уменьшается до 17, но уже через несколько лет снова насчитывает свыше 20 братчиков. Эти цифры являются самыми красноречивыми свидетельствами силы духа, мужества, подвижничества членов Львовского братства. Столь небольшое число объединившихся в братство, людей, не имевших значительного положения в обществе, лишенных многих прав, которыми пользовалась основная часть населения города, сумело добиться больших достижений в различных сферах жизни не только львовян, но и всего украинского народа.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 82. Л. 3.2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 54.3 Boniecki A. Herbarz polski. 1902. T. 4. S. 270; T. 5. S. 215.
120 Глава вторая
§ 4. Общественно-политическая деятельность
Большой интерес для изучения моделей социального развития общества представляют взаимоотношения общественных организаций и государствен-ных институтов, поскольку при изначально разной природе их возникновения и функционирования они призваны решать одну глобальную задачу — обеспе-чение адекватного существования отдельного человека в рамках данного со-общества, системы ценностей, культурной и ментальной среды. Чрезвычайно интересным в этой связи представляется опыт взаимодействия Львовского Успенского Ставропигийского братства с органами государственной власти и управления Речи Посполитой.
Начиная с XIV в. город Львов был крупным торговым и ремесленным цен-тром, стоявшим на пересечении важных торговых путей между Европой и странами Востока, одним из самых больших городов Польши по количеству населения. Это способствовало тому, что во Львове оседали купцы и ремеслен-ники из многих государств, образуя целые колонии, однако при этом корен-ное население города оказалось самым бесправным среди них. С 1356 г. Львов пользовался Магдебургским правом, что определяло его особый политический и административный статус1. Но коренное украинское население фактически не могло участвовать в управлении городом, несмотря на королевские при-вилеи, которые определяли правовую автономию украинцев-русинов. В XIV—XV вв. в формировании городских органов власти принимала участие так на-зываемая гмина-община, в которую входило только католическое население города. Представителей украинской общины было запрещено принимать в число магистратских чиновников, заниматься торговлей, держать трактиры, принадлежать к ремесленным цехам, к которым не принадлежали их отцы. Украинскому населению было предоставлено только право суда над единовер-цами, и то весьма ограниченное2. Активизация общественно-политической жизни в конце XVI в. стала одной из основных причин, побудивших наиболее влиятельных украинских купцов и ремесленников создать сильную организа-цию, способную отстаивать права своей нации на самых высоких уровнях.
До организационного оформления Львовского братства в 1586 г. наиболее активные мещане из числа «опекунов», «ктиторов» Успенской церкви неодно-кратно брали на себя миссию защитников прав всего украинского населения города как перед городскими властями, так и перед королем. Об этом сви-детельствуют протестации украинского населения против ограничений его
1 Acta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego Ber-nardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1872. T. 3. S. 14—17; Історія Львова в документах і матеріалах. С. 16—17.
2 О правах украинского населения см.: Капраль М. Національнi громади Львова XVI—XVIII ст. (соцiально-правовi взаємини). Львiв, 2003. С. 62—66.
121§ 4. Общественно-политическая деятельность
религиозных, национальных и профессиональных прав и привилеев город-ским Магистратом1. В XVI в. короли Польши по просьбе украинских горожан выдавали привилеи, уравнивавшие украинцев-русинов в правах с польским католическим населением. Такие привилеи были получены в 1521 и 1525 гг. от короля Сигизмунда I2, в 1563 и 1572 гг. — от Сигизмунда II3. Привилей Сигизмунда II от 1572 г. украинскому населению Львова об уравнивании его в правах с польским населением города был подтвержден в 1574 г. Генрихом Валуа и в 1577 г. Стефаном Баторием4. При обращении к королю с прось-бой выдать такие привилеи украинцы просили короля об издании специ-альных документов с указанием городским властям города о необходимости их исполнения. Одновременно с привилеями были изданы также мандаты Магистрату Львова об уравнивании прав украинского населения с правами польского населения города5, а в 1572 г. дополнительно был издан мандат ко-роля Сигизмунда II львовскому старосте о защите украинского населения от произвола Магистрата города6. Однако фактически права украинского насе-ления были лишь декларативными. При слабой королевской власти органы местного самоуправления, особенно магистраты крупных городов, практиче-ски игнорировали указы короля, ущемлявшие их основные интересы. С одной стороны, Магистрат делал видимость соблюдения равенства украинского и польского населения: разрешал пользоваться некоторыми общегородски-ми правами, такими как право ездить по ярмаркам, право провозить товары без пошлины и др., проявлял заботу об украинских сиротах, иногда выделял украинцам земельные участки для домов или на «синагогу» на несколько лок-тей больше прежних и т. п.7 Как справедливо заметил И. П. Крипьякевич, эти «ласки» имели цену отходов со стола, которыми затыкают рот голодному и обобранному в правах8. С другой стороны, когда дело касалось прав не от-дельных людей, а всей украинской общности города, тут никаких уступок и «справедливых» решений не принималось. Украинцам было запрещено стро-ить дома за пределами отведенного для их проживания небольшого кварта-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 51; Крип’якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст. С. 61—62.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 5; MCS. P. 2—4, 8.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 36, 47. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 42—48;
MCS. Р. 63—64.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 53, 55. Опубл.: MCS. Р. 66—67, 72—73.5 Там же. Д. 48, 54. Опубл.: MCS. Р. 68—69.6 Там же. Д. 49. Опубл.: MCS. Р. 65—66.7 Крип’якевич І. П. Матеріали до історії Львівської Русі (1460—1550 рр.). № 192.
С. 144—145; № 238. С. 155—156; № 306. С. 173—174; № 393. С. 196; № 625. С. 256—257; № 924. С. 335; № 931. С. 338.
8 Крип’якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст. С.59.
122 Глава вторая
ла — Руськой улицы, не разрешалось заниматься новыми ремеслами, быть мастерами или цехмистрами, то есть руководить ремесленными цехами, торговать наиболее прибыльными товарами, открывать свои торговые лав-ки1. М. С. Грушевский отмечал, что все эти вроде бы законные ограничения и противозаконные «кривды» оскорбляли как в высшей степени идеальные чувства, так и вполне реальные интересы украинского городского населения2. Постоянные столкновения украинской общественности с Магистратом горо-да вызывали не только неудовлетворение, раздражение и спорадические вы-ступления по поводу отдельных «кривд», злоупотреблений и нарушений и без того весьма ограниченных прав украинских горожан, но и готовили актив-ную оппозицию, которая приобретала определенные организационные фор-мы и вылилась в оформление Львовского Успенского братства.
В общественно-политической сфере деятельности братства можно выде-лить несколько направлений:
1) участие депутатов от братства в заседаниях органов городского управ-ления;
2) ведение судебного процесса с Магистратом Львова за уравнивание в пра-вах украинского населения города с польским;
3) участие членов братства в сеймах и сеймиках (прямое или посредством подачи петиций с перечнем вопросов и проблем для рассмотрения);
4) занесение протестаций о нарушении прав украинского населения в су-дебные актовые книги.
Активная общественно-политическая деятельность львовских горожан на-чинается с 70-х гг., то есть еще до организационного оформления Львовско-го братства и утверждения его устава антиохийским патриархом в 1586 г. Поскольку инициаторами и непосредственными участниками важнейших со-бытий в жизни православных украинских горожан стали именно те люди, ко-торые спустя несколько лет станут инициаторами создания Львовского брат-ства и продолжат начатое в 70-х гг. дело борьбы за участие украинского на-селения в управлении городом, характеристику общественно-политической деятельности братства следует начинать именно с 70-х гг. XVI в.
Население Львова, согласно грамоте о наделении города Магдебургским правом, было разделено на общины, которые формировались по националь-но-религиозному принципу. Украинская община была такой же бесправной, как и общины поселившихся во Львове армян, евреев, сербов и других этносов. Самой представительной была гмина-община, в которую входило католическое население города, главным образом поляки и немцы. В XIV—XVI вв. лишь гми-на имела право принимать участие в формировании городских органов управ-ления, только из представителей гмины могли избираться райцы (советники) и
1 Loziński W. Patrycjat i mieszaństwo lwowskie. Lwów, 1882. 2-е видання. C. 339—340.2 Грушевський М. С. Історія України—Руси. Т. 6. С. 259.
123§ 4. Общественнополитическая деятельность
лавники. Но в XVI в. даже права гмины были сильно ограничены, когда райцы избирались пожизненно, причем самими райцами. В результате городской ре-формы 1577 г. при Магистрате Львова, состоявшем из двух коллегий — Рады (Совета) и Лавы, был организован новый орган административного управле-ния, имевший контрольные функции — Коллегия сорока мужей (Collegium quadraginta virorum), являвшийся представительством гмины. Коллегия сорока мужей состояла из 20 купцов и 20 ремесленников, которые избирались пожиз-ненно, причем купцов избирали цеховые мастера (см. схему 1).
Коллегия сорока мужей имела право контролировать городские кассы и не-движимое имущество города. Это была первая городская организация, уже в
административное управление Львова в конце XVI—XVIII вв.
Схема 1
124 Глава вторая
первоначальный состав которой вошли два православных украинца: Лесько Малецкий и Хома Бабич, впоследствии фундаторы (основатели) и члены брат-ства1. После юридического утверждения братства в 1586 г. оно закрепило за со-бой право назначать двух депутатов заседать в городской Ратуше для охраны прав своего народа. Делегатов «до 40 менжов на Ратуш» выбирали на элекци-ях братства. В Коллегию сорока мужей могли избирать как старших (руково-дителей), так и «молодших» (рядовых) членов братства, с 1644 г. выбирали не только двух депутатов, но и их заместителей на случай отсутствия кого-либо из депутатов во время заседания Коллегии, которые проводились четыре раза в год2. Депутаты-братчики должны были отчитываться перед братством по всем вопросам, обсуждаемым в Коллегии: «За кожды бытностю мают дати реляцию панам братиям старшим, цо за пунктом услышати, а панове стар-шие — молодшим»3. Но Коллегия сорока мужей не могла смириться с присут-ствием на своих заседаниях «схизматиков-русинов». Два голоса представителей украинской общественности терялись в подавляющем большинстве враждебно настроенных членов Коллегии, которые поддерживали политику Магистрата, направленную на лишение украинских горожан политических, гражданских, экономических и религиозных прав. В 1643 г. на Львов королем была наложена донатива (род даровой подати) в размере 6 000 золотых. Коллегия сорока му-жей, без участия украинцев, приняла грабительское решение, назначив уплату 2 000 золотых на украинцев, несмотря на то что оседлых украинцев в городе было только 20 человек4. Братство по этому поводу обращалось с жалобами в Городской и Коронный суд, сообщая, что члены Рады «на себя ничего не нало-жили, а на нацию нашу руську, в том числе на явно обедневших людей, вдов и сирот понаписывали невыносимо большую сумму... и наказали уплатить под страхом двойного штрафа»5. В 1669 г. Коллегия сорока мужей выступила про-тив украинцев, которые, вопреки утвержденному Магистратом ограничению о покупке городских земельных участков и недвижимости в рамках Руськой ули-цы, покупали дома на Рынке (центральной площади города) и на других ули-цах6. Такие решения Коллегии были не единичными. В связи с этим на элекции братства 1686 г. депутатам было особо наказано уделять пристальное внима-
1 Zubrycki D. Kronika miasta Lwowa. Lwów, 1844. S. 204.2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 89, 123, 147—148, 161; Т. 12. С. 171; ЦГИА Украины во Львове.
Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 60, 62.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 60.4 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1849.
Ч. 62. Отд. 2. С. 159. 5 Цит. по: Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—
XVIII ст. С. 107.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52. Оп. 3. Д. 77. С. 1063—1066; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх
роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 107.
125§ 4. Общественно-политическая деятельность
ние тем решениям Коллегии, которые ущемляли права украинской нации, и об этом докладывать на заседаниях братства1. И хотя братство упорно пыталось расширить права украинских мещан посредством своего участия в Коллегии сорока мужей, результаты «заседаний на Ратуше» были незначительными.
Таким же было участие братства в сформированном в начале XVII в. во Львове совещательном органе «станов и наций», в состав которого входили представители всех городских сословий и наций. Собрание «станов и наций» созывалось для решения важных городских вопросов, установления новых на-логов и пр. Сведений об участии в нем представителей украинского населения сохранилось чрезвычайно мало. Я. Д. Исаевич выдвигает предположение, что представителями украинских горожан в этой организации были те же братчи-ки, которые входили в Коллегию сорока мужей2. Распределение голосов было строго регламентировано, голос украинской общественности был одним из последних в этом списке, и к нему в этой организации почти не прислушива-лись. В середине XVI в. даже армяне получили значительные преимущества при обсуждении вопросов и в принятии решений в организации «станов и наций». По решению Рады 1662 г. первое место и первый голос на этом собра-нии принадлежал Лаве, второе место и второй голос — «старшинам армянско-го народа», третье — купцам, четвертое — ремесленникам, пятое — украин-ской нации и последнее — регенту, возглавлявшему Коллегию сорока мужей. Такое распределение голосов приводило к тому, что не только игнорировались справедливые просьбы и требования украинской нации, но и часто заведомо принимались решения, крайне несправедливые по отношению к горожанам-русинам. Украинские горожане оказались не только в угнетенном положении по отношению к польскому католическому населению города, но и оскорблен-ными тем, что их единоверцы-армяне, составлявшие небольшую колонию во Львове, пользовались преимуществами и бóльшими правами по сравнению с коренным населением3. В 1692 г. Львовское братство жаловалось русскому ре-зиденту в Польше Борису Михайлову, что во время приветствия приехавшего во Львов короля «ходили к королевскому величеству львовские жители на визита и поздравляли, и подносили подарки. А в начале у них были поляки, а после поляков шли армяне, а за армяны шли русские люди благочестивые греческого закона, а прежде сего они были прежде армян»4. Львовское брат-ство не могло смириться с таким положением и неоднократно обращалось к королю с просьбой о изменении распределения голосов при обсуждении го-родских дел. В 1699 г. король Август II выдал Магистрату мандат с предписа-
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 171.2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 106.3 О правах армянской общины Львова см.: Капраль М. Нацiональнi громади Львова
XVI—XVIII ст. С. 72—82.4 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1691. Кн. 243. Л. 173.
126 Глава вторая
нием, чтобы во всех совещаниях, касающихся общих дел города, украинский народ свободно подавал свой голос после поляков и армян, и только после — купцы и ремесленники. Однако это постановление короля вызвало резкое воз-мущение Магистрата и всей гмины. Городской регент вызвал представителей братства в Надворный суд по вопросу отмены решения короля, что повело за собой судебные тяжбы по делу уравнивания в правах украинцев с поляка-ми1. Понимая всю бесперспективность участия нескольких украинских пред-ставителей во враждебно настроенных против них органах городской власти, Львовское братство уже с самого своего основания начинает искать новые ме-тоды борьбы за права своего народа, но и они не всегда приводили к успеху.
Одной из самых драматичных страниц истории братства является его борьба с Магистратом Львова за соблюдение и расширение прав украинско-го населения города и предместий. В 1596 г. братство начинает судебный про-цесс с Магистратом по делу о наделении украинского населения города рав-ными правами с другими горожанами. Ведение тяжбы с могущественным Магистратом организацией, представлявшей практически самую бесправную часть населения города, было мужественным и отчаянным предприятием, но бесправное положение русинов в городе заставило Львовское братство пойти на этот решительный шаг. Многочисленные документы сохранили тягостную картину положения православных украинцев в конце XVI в.: ремесленникам запрещалось производить своих православных учеников в подмастерья, укра-инцев не принимали в новые ремесленные корпорации, незаконно исключали из цехов; поляки врывались в дома православных, грабили и громили их, на-падали на прислугу, всячески вредили и препятствовали любой хозяйственной деятельности и даже оскверняли строительство восстанавливаемой братством Успенской церкви нечистотами, публично называли православных с костель-ного амвона и в Магистрате неверными и язычниками, что являлось тяжелей-шим оскорблением в то время; католики запрещали многие православные об-ряды, заставляли православных ходить в костел, праздновать праздники по Григорианскому календарю, запрещали детям ходить в школу, ученики поль-ской школы неоднократно избивали учеников братской школы, отнимали у них вещи и деньги2.
Поводом для ведения судебного процесса Львовского братства против Магистрата явился целый ряд религиозных притеснений украинского насе-ления. Народ мог терпеть многочисленные экономические притеснения, част-ные нарушения прав того или иного человека или семьи, но когда дело кос-нулось явных посягательств на святая святых — религию, которая в то вре-
1 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1850. Ч. 64. Отд. 2. С. 128—129.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 214, 216; MCS. P. 408—409, 411—412; Кры-ловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство // АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 53—55.
127§ 4. Общественно-политическая деятельность
мя отождествлялась и со своей национальностью, и со своей историей, и со своим достоинством, чаша терпения украинских горожан переполнилась. В 1595 г. начинаются активные выступления братства против самоуправства Магистрата. В ответ на выступления братчиков Магистрат сажает в тюрьму наиболее активных членов братства Юрия Рогатинца, Ивана Красовского, Луку Губу, Матвея Бабича, Ивана Зеньковича, Андрея Белдагу1. Но даже из тюрьмы братчики продолжили борьбу с Магистратом: сохранилось воззвание заключенных братчиков к православным верующим защитить православное население Львова от самоуправства Магистрата2. 20 марта 1595 г. Магистрат Львова издал декрет о запрещении звонить в братской Успенской церкви во время богослужения в доминиканском костеле3, который братство игнориро-вало. Магистрат опять сажает под заключение членов братства и требует вы-куп за освобождение4. Видя свое бессилие противостоять могущественному Магистрату, наделенному чрезвычайно большими властными полномочиями, Львовское братство обратилось к королю от имени всего украинского населе-ния города с жалобой на Магистрат, который нарушал данные королевской властью украинскому народу права и привилегии5. Это была единственная возможность найти законную поддержку: с одной стороны, братство высту-пало за соблюдение существующих законов, гарантом которых являлся ко-роль государства, а с другой — король мог поддержать православных горо-жан Львова не столько желая предоставить им определенные права, сколько исходя из своих личных интересов — противостояния королевской власти и власти магистратов крупных городов, пользующихся Магдебургским правом и практически полностью игнорирующих королевские указы, ведя собственную политику. В ответ на жалобу Львовского братства 23 июля 1596 г. Сигизмунд III вызвал львовский Магистрат на королевский суд за нарушение прав и при-вилегий православного населения города6. С этого времени начинается чрез-вычайно длительный, утомительный и практически безрезультатный процесс между Львовским братством и львовским Магистратом.
Ведя тяжбу с Магистратом, братство добивалось прав участия в нем укра-инского населения состоять во всех ремесленных цехах, снятия ограничений на торговлю, беспрепятственной деятельности школы и типографии, осно-ванных братством, выступало против религиозных преследований. Судебный процесс проходил в Варшаве. Это требовало больших финансовых расходов
1 MCS. P. 569, 578.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 277. Опубл.: MCS. Р. 586—589.3 Там же. Д. 278.4 Там же. Д. 279, 282. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 444—446; Опубл.: MCS. Р. 592—594,
606—607.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 291.6 Там же. Д. 296. Опубл.: MCS. Р. 716—718.
128 Глава вторая
на снаряжение членов братства в дорогу, их проживание в столице, но больше всего — на подарки и подношения чиновникам всех уровней. В многочислен-ных документах братства можно встретить записи о выдаче денег «на права», то есть на расходы, связанные с ведением судебного процесса с Магистратом. Среди основных статей расходов братства можно выделить расходы «на фур-мана» (дорожные расходы), «на страву» (на питание посланника), «на позвы» (писарю и возным за составление вызова на суд), «прокураторови» (прокуро-рам и адвокатам, ведущим дела братства), «з декрету королевского», «на ман-дат» (подношения судьям и чиновникам судебной канцелярии), «за реплhку» (свидетелю в свою пользу на судебном процессе), «от реляции, що войт чи-нил пред райцы» (сообщение решения суда в Магистрате). Иногда члены брат-ства брали на себя часть расходов (на дорогу и проживание в другом городе). Например, в 1600 г. Иван Красовский «своим конем и своей страве ехати на тую дорогу з доброты своее офhровался»1. Иногда посланникам от братства приходилось скитаться по всей стране за королем с целью получения докумен-тов для продолжения тяжбы. Так, в 1606 г. Семен Луцкий отправился к королю в Варшаву, затем — в Сандомир, а потом — в Краков. Эта поездка отняла мно-го денег братства, но не принесла никаких ожидаемых результатов2. Для ве-дения судебных дел братство нанимало прокураторов, которые отчитывались перед братством о ходе процесса, просили предоставить необходимые для ве-дения тяжбы документы или свидетельства, сообщали о причинах отклады-вания слушания дела3. Но положиться полностью на прокураторов братство не могло, поэтому отправляло посланников для ведения судебного процесса с Магистратом. Снаряжение каждый раз новых посланников в Варшаву для ведения судебных дел было очень накладным, поэтому в 1616 г. братство при-няло решение, чтобы те из братчиков, которым наиболее известен ход судеб-ных дел, по очереди жили в Варшаве в качестве резидентов, сменяя друг друга каждые 8 недель. На время их отсутствия во Львове братство брало на себя заботу об их семьях4.
Часто братство обращалось за помощью на судебном процессе с Маги-стратом к влиятельным чиновникам и вельможам. Во львовские гродские акты в 1595 г. по просьбе братства была внесена протестация послов Киевского во-еводства князей Адама Вишневецкого и Кирилла Ружинского против пресле-дования Магистратом украинского населения города5. По просьбе братства
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 20.2 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1849.
Ч. 62. Отд. 2. С. 93.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 444, 445, 594, 826, 827, 839, 849; Крылов-
ский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 20. С. 41—42.4 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1849.
Ч. 62. Отд. 2. С. 135.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 283. Опубл.: MCS. Р. 608—611.
129§ 4. Общественно-политическая деятельность
ходатайствовали о расширении прав украинского православного населения как перед городскими, так и перед королевскими властями князь Константин Острожский, Федор Скумин-Тышкевич, Адам Кисель, Иеремия Могила1 и др.
Многократно с просьбами о помощи ко Львовскому братству обращались ремесленники города и предместий, о чем свидетельствуют сохранившиеся в архиве братства реестры ремесленников-русинов, не принятых в цехи2, про-екты жалоб украинских ремесленников Краковского предместья на Магистрат и цехмистров-католиков, на издевательства, заточения в тюрьму и отказы принять в цехи, составленные членами братства для внесения во Львовский гродский суд3, протестации ремесленников против незаконного исключения из цехов4 и др. Братство возбуждало судебные процессы по поводу наруше-ния ремесленниками-поляками прав и привилеев ремесленников-украинцев5. В деле отстаивания прав украинского народа братство пользовалось широкой поддержкой всех горожан Львова, жителей предместий и окрестных сел, ино-гда братства других городов отправляли своих представителей от шляхты и мещанства во Львов для совместного обсуждения защиты прав православного населения6. На совместном собрании Львовского Успенского братства и братств львовских предместий все единогласно приняли решение в деле «о вольности всего народу руского... до скончания права стояти, не щадячи маетностей, часу и самих себе», а тех, кто бы выступил против начатого дела, решено было считать отступниками и с такими «не обедать, не есть и не пить»7.
Несмотря на все старания братства и вкладывание крупных сумм денег в ведение процесса с Магистратом, добиться желаемых результатов не удава-лось. Судебные проволочки, откладывание слушания дела на несколько меся-цев, а иногда на год или вообще на неопределенное время делали этот процесс беспрерывным. Едва заканчивалось рассмотрение одной жалобы братства на Магистрат, как со стороны Магистрата следовали все новые и новые ущемления
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Там же. Д. 349, 393, 396, 1061. Л. 8, 9—10. Опубл.: MCS. P. 852—853; АОИЗР. Т. 4. С. 238—239; Письма князя Константина Острож-ского // ВСИ. 1867. С. 77, 78—79; Продолжение писем молдавских господарей, писанных ко Львовскому Ставропигийскому братству при церкви Успения пресвятыя Богородицы, занимающемуся вторично постройкою сей церкви после пожара той же в 1571 г. // ВСИ. 1882. С.161—162.
2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 504—508.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 343.4 Там же. Д. 389. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. При-
ложения. № 10. С. 23—24.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 590.6 Там же. Д. 458. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. При-
ложения. № 23. С. 45—47.7 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 3—4, 24—25, 40; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку
української культури XVI—XVIII ст. С. 99—100.
130 Глава вторая
прав украинского населения Львова, принимались все новые противоречащие королевским привилеям законы и требования, и тяжба продолжалась1. Однако Львовское братство не щадило для этого ни сил, ни материальных средств. Братству приходилось постоянно давать взятки чиновникам всех уровней управления, начиная от мелких должностных лиц и заканчивая Великим ко-ронным канцлером и королем2. Только благодаря этому братчикам удавалось получить королевские привилеи и мандаты, согласно которым Магистрату за-прещалось не допускать украинцев в ремесленные цехи, ограничивать их тор-говлю и пр.3 Но в условиях ослабленной королевской власти такие указы игно-рировались Магистратом и цеховым управлением, а государственная власть не предпринимала никаких мер для введения в силу этих распоряжений. Например, в 1699 г. Львовскому братству удалось получить от короля Августа II специальный рескрипт, в котором запрещалось Магистрату нарушать пра-ва украинского населения города при решении городских дел4. Однако этот рескрипт остался незамеченным львовским Магистратом. Братству пришлось опять обращаться в Королевский суд с жалобами на Магистрат, но члены го-родского управления игнорировали даже подписанные королем вызовы на суд в Варшаву 5. Тяжба не прекращалась, братство продолжало снаряжать посоль-ства на Королевский суд для ведения процесса с Магистратом, защиты права украинского населения города, неся при этом всю тяжесть расходов, связан-ных с судебным процессом6. Огромные средства, которые братство выделяло из своих доходов и денег, пожертвованных православным населением Львова и других городов, практически оказывались потраченными впустую. Деньги были розданы чиновникам, подтверждения прав, декреты, мандаты, привилеи подписаны королем; были даже получены предписания Магистрата о необхо-димости соблюдения прав украинского народа, но все эти требования и заве-рения оставались только на бумаге.
Судебный процесс Львовского братства с Магистратом длился почти 150 лет и закончился победой братства. Завершению этого полуторавеково-го судебного марафона способствовала острая политическая полемика, раз-горевшаяся в конце 30-х годов XVIII в. между Магистратом и Львовским брат-ством. В 1738 г. братство отправляет двух своих представителей в Варшаву на судебное заседание и вручает им письмо с перечнем всех основных притесне-
1 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1849. Ч. 62. Отд. 2. С. 81, 153; 1850. Ч. 66. Отд. 2. С. 68—69, 81, 128—129.
2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 10, 13, 17, 18, 22, 23, 28, 35, 38, 45, 48—49, 51, 53, 56, 85—86.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 202, 333, 721, 737, 917, 939. Опубл.: MCS.
Р. 361—362, 816.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 749.5 Там же. Д. 757, 766.6 Там же. Д. 814, 960, 966.
131§ 4. Общественно-политическая деятельность
ний украинского населения Магистратом города: лишение права избираться в члены Магистрата, ограничение в торговле, уплата украинскими горожанами значительно бóльших повинностей по сравнению с католиками1. Активизации судебного процесса способствовало то, что в это время Магистрат издал бро-шюру «Status causae»2, в которой украинское население Львова обвинялось в симпатиях к войскам Б. Хмельницкого во время войн середины XVII в. и на основании многочисленных обвинений доказывались невозможность и пагуб-ность признания за украинцами равенства в правах с польским населением. Братство в ответ на это выдвинуло свои контраргументы3. Я. Д. Исаевич счи-тает, что решающую роль в завершении этого процесса в пользу украинских мещан сыграла не эта полемика, а то обстоятельство, что братству удалось склонить на свою сторону посредством крупных взяток («подарков и подно-шений») Коронного канцлера и краковского епископа, при поддержке которых удалось получить декрет о допущении украинцев к городскому управлению. Но, вероятнее всего, такая уступка со стороны Магистрата свидетельствует об общем состоянии политики Польши в середине XVIII в., пытавшейся сохра-нить свое могущество любой ценой. В крайне тяжелых политических обстоя-тельствах разжигание национального противостояния и возбуждение против себя такой мощной силы, как украинский элемент в составе Польского госу-дарства, было не только не желательно, но и опасно. В таких условиях поляки пошли на уступки украинцам, но сдавали свои позиции они крайне неохотно. В 1745 г. украинцы получили право принимать участие во всех городских ор-ганах управления — Совете, Лаве и Коллегии сорока мужей (грамотой короля Августа III от 28 сентября 1746 г. за украинцами была закреплена половина мест в Магистрате), а также были допущены во все ремесленные цеха города. В дальнейшем украинские мещане должны были посылать своих представи-телей в Магистрат на места выбываемых членов-католиков, чтобы получить одинаковое с католиками число представителей. Но польско-католический Магистрат не спешил сдавать свои позиции. В 1749 г. римско-католические члены Магистрата организовали отдельное собрание, рассматривая украин-цев только как «представителей нации», а не как равноправных членов город-ского управления. Более того, польские патриции задумали провести следую-щие выборы в Магистрат скрытно, чтобы не допустить избрания украинских
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 946. Опубл.: Копыстянский А. Дополнение к ма-териалам, относящимся к истории Львовскаго Ставропигиона в XVIII ст. // Юбилейный сбор-ник в память 350-летия Львовскаго Ставропигиона. Ч. 2 // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 151—152.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 947. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона: Материалы, относящиеся к истории Львовского Ставропигиона в 1700—1767 гг. Львов, 1936. Ч. 1. С. 196—198.
3 Ptaśnik J. Walki o demokratyzację Lwowa // Kwartalnik Historyczny. 1925. S. 252; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 108.
132 Глава вторая
мещан, подкупая и запугивая членов Коллегии сорока мужей1. Братство опять подавало жалобы на Магистрат в Королевский суд и добивалось признания городскими властями прав, закрепленных за украинским населением города в 1750 и 1753 гг.2 Только в 1756 г. удалось достичь равного национального пред-ставительства в Магистрате города. Во второй половине XVIII в. многие члены братства входили в состав Магистрата3.
Судебный процесс Львовского братства против Магистрата города, длив-шийся почти полтора века, был возможен только в Речи Посполитой, кото-рая, с одной стороны, искренне считала себя самым свободным и веротерпи-мым государством, а с другой — искренне не замечала полного игнорирова-ния на практике провозглашенных свобод и заверений. В лице Магистрата города братство видело своего злейшего врага и нарушителя своих прав, в то же время в лице королевской власти — защитника, способного разрешить существующий конфликт и восстановить справедливость. Значительные суммы денег, постоянные усилия членов братства добиться королевских гра-мот и вести тяжбы в высших судебных инстанциях практически ни к чему не приводили. Получив солидное вознаграждение, высшие чиновники с лег-костью подписывали привилеи, рескрипты и другие документы, выполне-ние которых было заведомо невозможно. Местная власть их игнорировала полностью, и положение вещей не менялось. То, что в середине XVIII в. этот процесс был решен в пользу братства, вряд ли можно считать победой или поражением одной из сторон. Это стало возможно в условиях глубочайше-го политического кризиса Речи Посполитой, предсмертной агонии некогда могущественного государства. Окончательный раздел Польши в 1772 г. свел на нет все социально-политические завоевания украинского народа, привел к ликвидации всех братств на Украине. Но традиции, развитые Львовским братством, позволили в совершенно других исторических и политических условиях реформировать свою организацию и в дальнейшем способство-вать национально-культурному развитию украинского народа уже в составе Австро-Венгерской империи.
Еще одной формой борьбы за национально-политические права украинско-го народа было участие представителей братства в Сейме. Сеймы как высший орган законодательной власти возникли в конце XV в., все решения на Сейме принимались только единогласно. Братство отправляло своих послов на сей-мы в Варшаву с целью оказать влияние на сенаторов при вынесении решений по проблемам православного украинского народа и способствовать принятию
1 Юбилейный сборник в память 350-летию Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 232—233.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 960, 966.3 Головацкий Я. Ф. Хронологическая роспись вписных братий прежде братства Львов-
ского Успения Пресвятыя Богородицы, ныне же Института Ставропигийского // ВСИ. 1864. С. 86—87.
133§ 4. Общественно-политическая деятельность
благоприятных для русинов законов. Просьбы и жалобы, поданные послан-никами братства, рассматривались в сеймовых судах и трибуналах. В истори-ографии, посвященной истории борьбы украинского и белорусского народов за свои права на сеймах Речи Посполитой, практически нет указаний на роль украинских и белорусских братств в этом процессе1. Частично отдельные вы-ступления братств на сеймах рассматривали С. Т. Голубев, А. С. Крыловский, М. С. Грушевский2. Это объясняется отсутствием в научном обороте соответ-ствующих источников. Впервые на наличие таких источников, сохранившихся в архиве Львовского братства, обратил внимание Я. Д. Исаевич, который хотя и отмечал, что сохранилось мало сведений о выступлениях братчиков на сей-мовых и задворных судах, впервые ввел в научный оборот целый ряд фактов об участии братства в сеймовой борьбе украинского народа за свои права3. Это позволило по-новому представить характер политического противостояния украинского и польского народов в конце XVI—XVIII вв.
Посылая своих представителей на сеймы, Львовское братство старалось организовать выступления на них представителей всех поветов Украины и Белоруссии. В письме 1599 г. старейшина братства Юрий Рогатинец писал Стефану Зизанию в Вильно о предстоящем Сейме, на котором «подобает всhм послoм быти с кoждого повету, так от шляхты, як тыж и от мещан, оповhдаючи кривды своh... Поспhшайтесь всh!»4. Львовские братчики спра-ведливо полагали, что успехов в борьбе за национально-политические пра-ва можно достичь только совместными усилиями всего народа. Снаряжение посольства на Сейм, как и на суд с Магистратом, требовало значительных сумм денег. Деньги на эти посольства, как правило, собирали у всех украин-ских горожан Львова, жителей предместий, соседних городов и местечек. К собранной сумме («до посполитых пhнязей», «до посполитое складки») брат-ство добавляло значительную сумму из своей казны («братских пhнязий»)5. Неизрасходованные деньги братчики привозили обратно и возвращали в брат-
1 Жукович П. Н. Борьба против унии на современных ей литовско-польских сеймах (1595—1600 гг.). СПб., 1897; Он же. Сеймовая борьба православного западнорусского дво-рянства с церковной унией. СПб., 1901—1912. Вып. 1—6; Антонович В. Б. Очерк отношений Польского государства к православию и православной церкви. Киев, 1866; Он же. Об унии и состоянии православной церкви с половины XVII до конца XVIII столетия. Киев, 1871.
2 Голубев С. Т. Материалы для истории Западно-Русской церкви. Киев, 1891; Крылов-ский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Киев, 1904; Грушевський М. С. Історія України—Руси. Львів, 1905. Т. 5; Київ; Львів, 1909. Т. 7; Грушевський М. С. Історія україн-ської літератури. Київ, 1995. Т. 6.
3 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 99—106, 110—113.
4 MCS. P. 837.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1047. Л. 2 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 340—356.
134 Глава вторая
скую казну1. Деньги посланникам на сеймы собирались поистине всем миром и часто буквально по копейке. За них братство отвечало перед всеми жертво-вателями, которые надеялись «вольности» получить или хотя бы на улучше-ние своего бесправного положения. Но иногда братству приходилось распоря-жаться собранными с трудом суммами не по прямому назначению. В 1615 г. Магистратом были посажены в тюрьму ремесленники из львовского предме-стья за угрозы одному из райцов. В городскую Ратушу были вызваны предста-вители братства, которым было предложено освободить ремесленников под большой выкуп. Братство приняло эти условия и выкупило из тюрьмы своих сограждан, а деньги пришлось взять из «посполитых пhнязий, котрые были на оборону правную до Варшавы на Сейм», к этой сумме были добавлены и братские деньги «и далисмо всего старосте чирвоных злотых пятдесят»2. Из этого примера видно, как братство на практике решало вопросы о правах сво-их сограждан. В данной ситуации было принято единственно возможное для братства решение — оказать конкретную помощь нуждающимся людям. Ведь сеймовая борьба приносила незначительные результаты для улучшения пра-вового положения украинского населения в Польше, поэтому для членов брат-ства всегда было предпочтительнее оказать реальную помощь людям, если это было в их силах.
В финансовых документах братства сохранились многочисленные записи о выдаче сумм денег посланникам на Сейм, часто это — единственные сведения о том или ином посольстве на сеймы. Братство старалось не только не афиширо-вать эту сторону своей деятельности, но часто держало в большой тайне и фак-ты снаряжения посольства, и петиции, которые отправлялись на рассмотрение в сеймовые суды и трибуналы. «До Варшавы на Реч Посполитую» направля-лись не только члены братства, но и члены братств предместий, священники3. Постоянные депутации братства в Варшаву были призваны оказать влияние на сенаторов с целью рассмотрения в Сейме вопросов о правах украинского народа, смягчения законодательства в пользу коренного населения украинских земель. Следует отметить, что все национально-политические вопросы, выносимые на обсуждение, и решения сеймовых конституций по этим вопросам содержат, как правило, указание на религиозные права «народа руського», причем решения сеймовых конституций со второй половины XVII в. существенно отличаются по отношению к православному и греко-католическому (униатскому) населению. Из-за того что дела в сеймовых судах рассматривались очень долго, слушания постоянно откладывались, пребывание представителей братства в Варшаве за-тягивалось на многие месяцы. Следует отметить, что выполнение такой миссии братчиками было довольно самоотверженным поступком, ведь на все это время
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1047. Л. 9 об.2 Там же. Л. 4 об.3 Там же. Д. 1044. Л. 5 об.—6.
135§ 4. Общественно-политическая деятельность
они лишались возможности заниматься своими профессиональными делами, лишая тем самым свою семью постоянного содержания, к тому же часто чле-ны братства отправлялись на Сейм на своих лошадях и со своим провиантом. Братство всегда брало на себя заботу о семьях братчиков, находящихся в отъезде по делам организации, помогая им и материально, и морально.
К сожалению, сохранилось мало сведений о выступлениях братчиков на сеймах. Как правило, о них мы можем судить по косвенным свидетельствам. В известном полемическом произведении «Пересторога» автор приводит речь члена Львовского братства на Сейме 1598 г., разоблачающую преступную де-ятельность епископов, принявших церковную унию в 1596 г.1 Исследователи этого памятника полемической литературы пришли к выводу, что такая речь вряд ли была произнесена на этом Сейме2. Возможно, автор «Перестороги», написанной в первые годы XVII в., по аналогии с современными ему выступле-ниями братчиков на сеймах вложил в уста одного из членов такую смелую речь, которую они могли произносить на каком-либо из сеймовых судов в Варшаве.
Первым сохранившимся документальным свидетельством, позволяющим говорить о начале деятельности братства в отстаивании прав своего наро-да посредством участия в сеймах, является письмо киевского митрополита Михаила Рогозы 1595 г., в котором он сообщает членам братства о своем при-сутствии на Сейме3. Возможно, именно это сообщение митрополита подтолк-нуло братчиков прибегнуть именно к такой форме политической борьбы. Уже в 1596 г. братство обращается с воззванием к посланникам на Сейм с просьбой повлиять на короля и сенаторов для внесения на Сейм решения о лишении епископских санов недостойных епископов4. Это чрезвычайно смелое реше-ние братства продемонстрировало на всю страну и, главное, перед королем силу братства, его готовность вести борьбу с любыми оппонентами, начиная с реформирования своей православной церкви и заканчивая борьбой за рас-ширение национально-политических прав своего народа. Если еще в 1598 г. братство посылает делегатов от братства на Сейм и Задворные суды в Варшаве для внесения протестации только по церковным вопросам, касающимся про-тивостояния братства и Львовского епископа5, то в 1599 г. перед посланниками в Варшаву Семеном Луцким и Лаврином Филипповичем стояла задача гораздо труднее. На совместном заседании Львовского Успенского братства и братств львовских предместий было принято решение бороться «о вольности всего народу русского за потисненями урядов и цехов ремесел вшеляких от на-
1 Акты Западной России. СПб., 1851. Т. 4. № 149. С. 203—236; Возняк М. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. Львів, 1954. Додаток. С. 25—56.
2 Возняк М. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. С. 17—18, 42.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 274. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 106—107.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 311.5 Там же. Д. 317. Опубл.: MCS. Р. 804—806.
136 Глава вторая
роду польского народ руському», и в этой борьбе стоять до полной победы, не щадя средств, времени и самих себя («до сконченя права стояти, не щадячи маетностей, часу и самих себя»). Всех противников начатого дела принято было считать «отступником» и с «таковым не обhдовати, не есть и не пить»1. С этого времени братство отправляло своих представителей на сеймовые суды раз в год, а иногда и несколько раз в год, когда этого требовали обстоятельства2. Без сомнения, на принятие Сеймовой конституции 1607 г. «О религии грече-ской» оказали влияние львовские мещане во главе с Успенским братством. В конституции, в частности, говорилось: «...никаких должностей и церковных имуществ не будем никому предоставлять на ином праве как только согласно духу их учреждения... дворянам русского происхождения и чистой греческой веры, не нарушая ничем законной свободы их совести и не препятствуя ни в чем свободе богослужения по давним их обычаям... Братствам церковным греческой веры мы подтверждаем все их права и привилеи»3. Сам факт под-тверждения прав братства Сеймом говорит о большой политической победе львовских братчиков.
Воодушевленное такой победой Львовское братство посылает на Сейм 1609 г. своих представителей, которые должны были лично предстать перед королем или перед сенаторами Сейма и изложить все свои жалобы и предло-жения. Сохранилась инструкция от 2 января 1609 г., подписанная старейши-нами братства И. Красовским и А. Белдагой, в которой подробно излагаются все просьбы к королю об улучшении правового статуса украинского народа4. Эту инструкцию можно считать уникальным памятником политической пу-блицистики своего времени, к анализу которой обращались многие иссле-дователи5, а историк С. Т. Голубев сказал, что это хартия, «писанная кровию сердца»6. В инструкции с отчаянием говорится о бесправии и тяжелом поло-жении коренного населения на украинских землях в составе Речи Посполитой: «кривды нестерпимые, выгубляючи нас с потомством нашим, нам, народу
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 3—4.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 348. Опубл.: Голубев С. Т. Киевский митро-
полит Петр Могила. Т. 1. Приложения. С. 164—166; АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 4, 15, 20, 36—38, 41—52.
3 Цит по: Антонович В. Б. Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной Рос-сии с половины XVII до конца XVIII столетия // Моя сповідь: Вибрані історичні та публі-цистичні твори. Київ, 1995. С. 472.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 421; Крыловский А. С. Львовское ставропи-гиальное братство. Приложения. С. 31—38.
5 Науменко Ф. І. Педагог-гуманіст і просвітитель І. М. Борецький. Львів, 1963. С. 21; Яре-менко П. К. «Пересторога» — український антиуніатський памфлет початку XVII ст. Київ, 1963. С. 50—56; Паславський І. В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI — першій третині XVII ст. Київ, 1984. С. 117.
6 Голубев С. Т. Материалы для истории Западно-Русской церкви. Киев, 1891. С. 67.
137§ 4. Общественно-политическая деятельность
рускому чинят, и бhды неслыханные, котрими утяжнени естесмо мы над ярмо египетскои неволh1» «же нас леч без меча, але горhй, нhж мечем з потомствы выгублять, заборонивши нам пожитков и ремесл, обходов вше-ляких, чим бы только человhк жив быти могл, того не волен русин на при-рожоной земле своеи руской уживати, в том-то руском Львовh»2. Основным лейтмотивом инструкции звучит упрек польскому правительству в том, что коренное украинское население не только не имеет равных прав с поляками, но даже небольшие колонии армян и евреев пользуются более широкими пра-вами. Среди основных наказов братства, содержащихся в инструкции, были требования добиваться уравнивания в политических, экономических и рели-гиозных правах польского и украинского населения. Но братчики понимали, что такое требование практически невыполнимо, поэтому в инструкции дают-ся советы, какие требования выдвигать в случае отказа. Если отказано будет в первом и главном требовании, следовало предложить добиваться «особного права» для украинской части населения города — отдельного самоуправления и суда, принятия украинцев в число мещан и в ремесленные цехи. Если же и это невозможно, то требовать, чтобы украинцам были даны права, какими пользуются львовские армяне, а если бы «боронь Боже и того не схотел», то хотя бы дали такие права для ремесленников и купцов, которыми пользуются евреи. Заканчивается инструкция словами, проникнутыми горькой иронией: «А если бы, бронь Боже, и так не хотhно, як жидом волности нам допусти-ти, рады на то нh маш, только вольного листу о перестя до Волох на быт просити. Леч то жарт, але злый то жарт»3. Этими словами братчики хотели подчеркнуть, что под властью «поганина» турецкого султана православным живется легче, чем в христианском государстве под властью польского коро-ля. Текст этой инструкции готовился заблаговременно. Основные положения были распечатаны в типографии братства для широкого распространения и ознакомления с требованиями братства, с которыми оно намеревалось высту-пить в Сейме перед королем, всей украинской общественностью края4. Однако на Сейме 1609 г. не было принято новых постановлений, смягчающих поло-жение украинского населения, была лишь подтверждена Конституция 1607 г. «О религии греческой» и решение Сейма в свободное время более подробно рассмотреть этот вопрос.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 421; Крыловский А. С. Львовское Ставропи-гиальное братство. Приложения. С. 35.
2 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. С. 36.3 Там же. С. 35.4 Лямент альбо мова до короля его милости. Львов, 1608. Текст опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12.
С. 526—529; Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. С. 35—37; Iсаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Памʹятники книжнового мистецтва: Каталог стародрукiв, виданих на Украïнi. Львiв, 1981. Кн. 1. № 71. С. 34.
138 Глава вторая
Особого внимания заслуживает речь волынского чашника Лаврентия Древинского на Сейме 1620 г. М. С. Грушевский назвал Древинского одним из выдающихся украинских парламентариев, одним из предводителей церковно-го и культурного возрождения, а его сеймовую речь — выдающимся памят-ником политического ораторства1. В 1603 г. Лаврентий Древинский поставил свою подпись в реестре вступающих в члены Львовского Ставропигийского братства2, поэтому многие исследователи считали его членом Львовского братства. Однако более тесные связи у Лаврентия Древинского были с Луц-ким Крестовоздвиженским братством, вписным членом которого он был и которому завещал крупную сумму денег. Но все-таки деятельным членом как Луцкого, так и Львовского братств его назвать нельзя. Скорее, он поддержи-вал деятелей всего братского движения, оказывал всяческое содействие брат-ствам. Его сеймовая речь 1620 г. позволяет говорить, что он выражал инте-ресы не только украинского дворянства, представителем которого являлся, но и православных мещан, интересы которых выражали братства. Впервые в научный оборот фрагменты речи Древинского были введены Н. Н. Бантыш-Каменским, в более точном переводе — М. С. Грушевским3, но полностью она до сих пор не опубликована.
В своей речи Древинский в присутствии короля и сенаторов изобразил чрезвычайно бедственное положение православной церкви и украинского на-рода: «Кто же, Боже живой, не видит этого своими глазами, какие великие тя-готы, притеснения и нестерпимые унижения и горести терпит этот исконный народ украинский»4. Древинский подробно останавливается на всех наруше-ниях и ущемлениях прав украинского населения во многих городах. Самые полные сведения он представляет из городов, в которых действовали право-славные братства, — из Львова, Луцка, Вильно, Новогрудка. Сравнивая про-граммы братств в национально-политической сфере по многочисленным со-хранившимся документам, можно сказать, что источниками для выступления волынского депутата послужили именно требования украинских и белорус-ских братств. Поэтому выступление Древинского можно считать квинтэссен-цией братской сеймовой борьбы. В заключительной части своего выступле-ния Лаврентий Древинский просит короля и сенаторов именем Львовского Ставропигийского и других братств сжалиться над православными, которые уже более 20 лет на каждом сейме и сеймике напрасно умоляют о сохранении
1 Грушевський М. С. Історія української літератури. Т. 6. С. 203.2 Головацкий Я. Ф. Хронологическая роспись вписных братий прежде братства Львов-
ского Успения Пресвятыя Богородицы, ныне же Института Ставропигийского // ВСИ. 1864. С. 84.
3 Бантыш-Каменский Н. Н. Историческое известие о возникшей в Польше унии. Вильно, 1864. С. 65—70; Грушевський М. С. Історія України—Руси. Київ; Львів, 1909. Т. 7. С. 445—447.
4 Цит по: Грушевський М. С. Історія України—Руси. Київ; Львів, 1909. Т. 7. С. 445. (Пере-вод на русский. — Ю. Ш.).
139§ 4. Общественно-политическая деятельность
своих прав и вольностей1. В ответ на это выступление Сейм в очередной раз подтвердил Сеймовую Конституцию 1607 г., которая, с одной стороны, провоз-глашала определенные права украинского православного населения, а с дру-гой — не накладывала дополнительных обязательств ни на короля, ни на сена-торов, ни на местные власти, и на практике оставалась лишь декларативной.
Сеймовая деятельность братства оказывала определенное влияние на отно-шение властных структур к православному населению и была по достоинству оценена современниками. В 1636 г. львовский епископ Иеремия Тисаровский вы-разил братству благодарность за защиту прав православной церкви и передал по-слание киевского митрополита Петра Могилы, который обращался к братству с просьбой поручить своим делегатам вынести на обсуждение сеймов «Положения о правах православного населения»2. Обращение с таким предложением свиде-тельствовало о высокой оценке правозащитной деятельности братства Петром Могилой, который сам уделял большое внимание сеймовой борьбе православ-ных за восстановление православной иерархии3 и считал этот способ отстаи-вания своих прав наиболее действенным и результативным. В 1669 г. киевский митрополит Антоний Винницкий обратился к братству с просьбой финансиро-вать его поездку на Сейм для защиты прав православного населения Польши4. Православные митрополиты, которым братство фактически не подчинялось, в вопросах защиты прав православного населения видели в братствах своих союз-ников и могли рассчитывать не только на моральную, но и на материальную под-держку, когда финансовые дела в митрополии были сильно расстроены.
С особым старанием братство снаряжало посольства на коронационные сеймы. Во-первых, оно стремилось подтвердить у нового короля свои права и привилеи, пожалованные ему предыдущими королями. Во-вторых, с приходом нового короля братство надеялось на улучшение национально-правового ста-туса украинского народа. Оно старалось получить подтверждение прав не толь-ко своей организации, но и всей украинской общины города. Основанием для такого требования послужил привилей короля Сигизмунда II от 20 мая 1572 г. украинскому населению об уравнивании его в правах с польским населением города5. Начиная с 1633 г. братство добивалось подтверждения этого привилея у всех королей Польши6. Братчики часто сами составляли проекты королевских привилеев, которые они рассчитывали подписать7, посланникам на коронаци-
1 Бантыш-Каменский Н. Н. Историческое известие о возникшей в Польше унии. С. 68—69.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 532. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское
Ставропигиальное братство. Приложения. № 52. С. 111—112.3 Жуковський А. Петро Могила і питання єдности церков. Київ, 1997. С. 77—80.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 666.5 Там же. Д. 47. Опубл.: MCS. Р. 63—64. АЮЗР. Т. 10. С. 42—48.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 516, 585, 671, 699, 744.7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1 Д. 206, 207, 248, 758. Опубл.: MCS. P. 389—391,
491—496; ПİФ. С. 108—109.
140 Глава вторая
онный сейм давались подробные инструкции1, лейтмотивом которых было уравнивание в религиозных, политических и экономических правах польского и украинского населения. Так, послам на Сейм 1649 г. поручалось добиваться для украинского населения города права быть избранными в Раду или хотя бы та-кого самоуправления, как у армянской общины Львова2. Стараясь придать сво-им требованиям больший вес и значимость, братство обращалось с просьбой о поддержке к влиятельным украинским дворянам. В 1649 г. с такой просьбой оно обратилось к прибывшим в Краков на Сейм киевскому воеводе Адаму Киселю, который покровительствовал Львовскому братству и в 1634 г. вписался в ре-естр вступающих в его члены, и киевскому митрополиту Сильвестру Коссову, который прежде был учителем в братской школе3. На этом Сейме братству был дан королевский привилей с подтверждением прав организации, в частности на основание школы и типографии4, в 1653 г. оно получило второй привилей от Яна Казимира с подтверждением прав и привилегий, данных организации, Онуфриевскому монастырю и госпиталю5.
Но главное — посланников на коронационные сеймы нужно было снабдить крупной суммой денег. Например, на Коронационный сейм 1633 г. трем членам братства, помимо «особней братской складки», была выдана сумма в 300 зло-тых, а также был куплен изюм на сумму 12 злотых для подарков, «кому потре-ба там укажет дати»6. На этом сейме было утверждено «Положение о правах православного населения Короны и Литвы», которое запрещало преследова-ние православных. В архиве братства сохранились извлечения из сеймовых актов и львовских городских актов с текстом этого постановления7. На коро-национных сеймах братству практически всегда удавалось получить, а точнее, купить необходимые привилеи, подтверждающие его права, но большего до-биться никогда не удавалось.
В деятельности сеймов Речи Посполитой по отношению к украинскому православному населению можно выделить несколько периодов:
I. 1596—1647 гг. В этот период формально провозглашалось равенство в правах православных с греко-католиками и католиками, запрещалось преследование и притеснение за веру, подтверждались равные права с католиками при раздаче бенефиций, церковных должностей и иму-
1 .Там же. Д. 668; 1061. Л. 6 об. — 7.2 Там же. Д. 582. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 187—190.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1061. Л. 8—10; Зубрицкий Д. И. Летопись
Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1850. Ч. 66. Отд. 2. С. 64.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 584, 586, 587.5 Там же. Д. 606. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. При-
ложения. № 71. С. 153—155.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1052. Л. 7. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 385.7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 514.
141§ 4. Общественно-политическая деятельность
ществ, предоставлялась полная свобода в отправлении богослужений и подтверждались права братств.
II. 1647—1666 гг. Вопросы о положении православного украинского насе-ления на сеймах не рассматривались.
III. 1667—1708 гг. Сеймовые постановления были направлены на ликвида-цию православия и полное распространение унии.
IV. 1708—1772 гг. Поступательные решения сеймов, направленные на урав-нивание в религиозных, экономических и политических правах украин-ского греко-католического населения и польского католического.
Политическая активность Львовского братства практически совпадает с пе-риодами политического благоприятствования украинскому населению в сей-мах. Самые активные выступления Львовского братства за религиозные, эко-номические и политические права своего народа, постоянное снаряжение по-сольств на сеймы, выступления в Трибунальских и Задворных судах относятся к 1595—1649 гг., что практически полностью совпадает с периодом пассивного благоприятствования политического законодательства православному укра-инскому населению. Казацкая война середины XVII в. сильно подорвала эко-номическое положение как Львовского братства, так и его членов. У братства просто не было средств вести политическую борьбу.
Польша, потерпев поражение в Казацкой войне, отнявшей у нее всю Левобережную Украину, начала активизацию политики ликвидации правосла-вия на своих землях. Этому во многом способствовали требования, выдвину-тые Польше Россией. Среди требований, которые предъявляли русские послы польским представителям на переговорах в Вильно в 1658 г., были требования ликвидации церковной унии, прекращение угнетения православных народов, наделение украинской шляхты и горожан политическими правами1. Во время русско-польских переговоров 1657 и 1658 гг. с требованиями предоставления свободы вероисповедания православным, живущим в Польше, и сохранения всех их «вольностей» должны были обращаться русские послы2. Московскому посольству во главе с боярином Борисом Александровичем Репниным-Оболен-ским был выдан «наказ», состоящий из пяти статей3. Обеспокоенные такой за-интересованностью России судьбами православных в Польше польские зако-нодатели начинают вести политику, направленную на ликвидацию правосла-вия в своей стране. Первое постановление, направленное в пользу унии, было издано на Сейме 1667 г.4 В 1668 г. Генеральная конфедерация, в ведение которой
1 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 87. Л. 129—132.2 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. С. 156—166.3 Там же. С. 161—164.4 Антонович В. Б. Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с по-
ловины XVII до конца XVIII столетия // Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. С. 477.
142 Глава вторая
переходила законодательная власть в период междуцарствия, приняла суро-вый закон: «Ариане и отступники от католической веры, равно как и от унии... не должны пользоваться покровительством сеймовых конституций, обеспечи-вающих свободу вероисповедания... Отступников же вышеупомянутых долж-но наказывать изгнанием из отечества, если вина их будет доказана судебным порядком»1. В ответ на эти постановления Россия заявляет о защите «греческой веры» во всех существующих в Польше православных епархиях2. Это вызвало неудовольство у польских властей и привело не к улучшению положения пра-вославного населения, а к более активным мерам внедрения унии.
В 1670 г. братство снаряжает посольство в Варшаву на Сейм, которому дает подробную инструкцию для защиты прав украинского населения Львова3. Но эти выступления не только не облегчили участь украинского населения, но и вызвали недовольство деятельностью крупнейших братств, которые не под-чинялись ни светским, ни религиозным властям, были сильными политиче-скими противниками и располагали довольно большим капиталом. На Сейме 1676 г. было принято постановление, направленное против православных братств, особенно пользующихся правом ставропигии. Ставропигийским братствам были запрещены сношения с восточными патриархами и предо-ставления на их решение дел, касавшихся веры. Братства должны были под-чиняться местным епископам, а в случае нежелания исполнить это требова-ние должны были предоставлять спорные религиозные вопросы на обсуж-дение гражданских судов. Кроме того, было запрещено православным всех сословий под страхом смертной казни и конфискации имущества выезжать за границу или приезжать из-за границы4. Это постановление наносило двой-ной удар братствам: лишив их законного права подчинения православному патриарху, оно вынуждало подчиниться власти местных иерархов, которые были готовы принять унию. Отняв у православных возможности выезжать за границу, власти препятствовали деятельности купцов, которые ездили за товаром в другие страны, тем самым не только лишая православных купцов права на торговлю, но и подрывая экономический потенциал всех украинских горожан. Однако Львовское братство не подчинилось этим постановлениям; более того, уже в 1678 г. братство добивается у короля Яна III отмены декрета от 30 декабря 1677 г. о подчинении книгопечатания и финансовых дел братства епископской власти5. В мае 1700 г. братство отправляет посланников к королю
1 Цит. по: Антонович В. Б. Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной Рос-сии с половины XVII до конца XVIII столетия // Моя сповідь. С. 478.
2 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 78. С. 172—173.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 682.4 Антонович В. Б. Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с по-
ловины XVII до конца XVIII столетия // Моя сповідь. С. 479.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 713.
143§ 4. Общественно-политическая деятельность
и в Сенат для защиты прав и привилегий украинского населения города в свя-зи с принятием унии львовским епископом Иосифом Шумлянским1, а в июне 1700 г. получает подтверждение короля Августа II всех прав и привилегий братства с запрещением львовскому епископу Иосифу Шумлянскому застав-лять братство принять унию2, причем были получены специальные декреты и рескрипты короля Иосифу Шумлянскому, в которых львовский епископ уве-домлялся о подтверждении всех прав и привилегий братства королем, сооб-щалось, что епископу запрещается нарушать права братства под угрозой де-нежного наказания и принуждать братство принять унию3. Однако, несмотря на полученные привилегии, уния в Польше побеждала, и вскоре Львовское братство осталось одним из последних оплотов православия, но и оно вы-нуждено было принять унию в 1708 г.
Моральным стимулом для возобновления политической активности брат-ства в последней четверти XVII в. послужило заключение «Вечного мира» между Польшей и Россией в 1686 г., а именно его девятая статья, согласно кото-рой Польша должна была прекратить национально-религиозные притеснения православного населения. Сохранились свидетельства, что русское правитель-ство во время подготовки и составления трактата о «Вечном мире» пользо-валось информацией членов Львовского Ставропигийского братства4. Одним из консультантов и информаторов русских дипломатов был член Львовского братства Юрий Папара. 16 июня 1692 г. Юрий Папара сообщил русскому рези-денту в Польше Борису Михайлову о своих длительных связях с русским пред-ставительством и русскими дипломатами, в частности, он сообщал «с великим воздыханием, что бывал он на Москве блаженныя памяти при великом госу-даре царе и великом князе Михаиле Федоровиче Всеа России и целовал его царского величества руку не по одно время. А при державе блаженныя ж па-мяти великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича... з бо-ярином Артемоном Сергеевичем Матвеевым о всяких тайнах имел обсылки многие годы». Он рассказывал о своем участии в заключении Андрусовского договора между Польшей и Россией: «будто ево службою на уложенной срок Андрусовских договорех город Киев царского величества в стороне одержан, а полякам не отдан. И о том де ево радении ведомо на Москве в Посольском приказе»5. Члены Львовского братства не упускали ни одной возможности сообщать русским резидентам в Польше о насильственных методах введения
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 750.2 Там же. Д. 754.3 Там же. Д. 755, 756.4 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II,
2125. Л. 34—75 об.5 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1691. Кн. 243. Л. 338—339; Кн. 242. Л. 177об. — 178; Кн. 241.
Л. 337—338 об.
144 Глава вторая
унии в Львовской епархии. Сохранившиеся свидетельства рисуют крайне не-приглядную картину насилия и жестокостей при обращении отдельных при-ходов в унию, показывают лживость и лицемерие политики львовского епи-скопа Иосифа Шумлянского1. С резидентами члены братства встречались «втай», так как, согласно принятым законам любые переговоры с представи-телями другого государства были наказуемы, тем более переговоры с предста-вителями православного государства. Многие сведения, полученные от членов братства, русские резиденты направляли в Посольский приказ не открытым текстом, а зашифрованным, написанным цифирной азбукой2. Но Россия уже не могла остановить процесс повсеместного установления унии. После перехо-да Львовского братства под юрисдикцию Ватикана сношения членов братства с русскими послами прекратились.
В XVII в. в Речи Посполитой в связи с усилением местного самоуправления возрастает роль сеймиков, которые часто предопределяли решения сейма. На сеймиках избирали послов на сейм, депутатов в Коронный трибунал, прини-мались инструкции, которые вручались депутатам на сейм, избирали кандида-тов на земские должности (судей, подкомориев). По окончании работы сейма сеймики созывались для доклада о принятых им решениях. Львовское брат-ство старалось использовать и эту трибуну для борьбы за свои права. Братство посылало своих представителей на сеймики шляхты Русского воеводства в Судовую Вишню и Галич и на сеймики шляхты Волынского воеводства в Луцк3. К снаряжению этих посольств братство готовилось с таким же тщанием, как и к снаряжению посольств в Варшаву и Краков. Так, выделяя значительную сумму денег своим посланникам в 1632 г., в финансовых документах «Братство посы-лало пана Леська Кушнhра и пана Ивана Корунку на сеймик Вишенский, тые стравы им и форману дали всего злотых 18 грошей 15»4. При решении неко-торых церковных вопросов на сеймиках братство имело право голоса, напри-мер предлагать кандидатуру и выбирать епископа5. С середины XVIII в. зна-чение сеймиков и круг их деятельности еще более увеличился. Именно в это время братство стало активно добиваться равенства в правах в представитель-стве городского населения Львова на сеймиках. В 1755 г. Львовское братство добилось установления такого порядка, согласно которому половину предста-
1 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1691. Кн. 243. Кн. 242. Л. 199 об. — 200, 249 об. — 250, 254 об. — 255, 376 — 388 об., 390—391, 427 — 427 об.; 1691. Кн. 243. Л. 167—168, 174 — 174 об., 191 — 191 об., 191 об. — 191 а, 282—284, 282 об.— 291, 363 — 363 об., 578, 898 об. — 899; Кн. 255. Л. 61 — 62 об., 68 об. — 64 об.
2 Там же. 1691. Кн. 243. Л. 167—168, 282 об. — 291, 339 — 342 об. 3 АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 114—118; Т. 11. С. 11, 35, 42, 45, 49, 50, 380; ЦГИА Украины во
Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1052.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1052. Л. 6 об.5 Там же. Оп. 1. Д. 652.
145§ 4. Общественно-политическая деятельность
вителей Львова на сеймах и сеймиках должны были составлять украинцы1. За свою историю братство прошло путь от практически лишенных прав горожан в конце XVI в. до возможности получать шляхетство (нобилитации) в середи-не XVII в. и быть избранными в городской Магистрат, депутатами на сеймики и сеймы во второй половине XVIII в. Это можно считать большим политиче-ским достижением. Ведь только благодаря постоянной борьбе за свои права украинское население сумело сохранить свою национальную самобытность, культуру, заставить правительство, которое вело политику, направленную на ассимиляцию украинского населения, считаться с собой и в конечном итоге завоевать равные права с польским католическим населением, которых укра-инское православное и греко-католическое население было лишено в течение нескольких столетий.
Одной из форм борьбы за права украинской нации, активно используемых Львовским братством, было частое выступление представителей братства с жалобами на Магистрат в Гродской канцелярии, где заносили многочисленные жалобы и протестации в гродские акты против ограничений политических и экономических прав украинского населения. Гродские акты — судебные кни-ги, в которые наряду с решениями судов вносились разнообразные частнопра-вовые, правительственные акты и др. Протесты и манифестации заносились в отдельную группу актовых книг2. Помимо своего прямого назначения в систе-ме дело- и судопроизводства в гродских судах в конце XVI—XVIII вв., проте-стации отчасти заменяли прессу, поэтому постоянное обращение с жалобами и протестациями в суд чаще всего имело целью не выиграть конкретное су-дебное дело, а оказать влияние на общественное мнение. Братство не упуска-ло возможности выступать с протестами против нарушения прав украинского населения как со стороны городских властей (Магистрата)3 и руководства ре-месленных цехов4, так и духовных, причем и католических5, и православных6, если их действия были направлены во вред украинским гражданам. Занесение протестации в гродские акты также стоило братству определенных затрат, но братство по особо важным делам заказывало извлечения из гродских актов, которые могли понадобиться в других судах и других судебных учреждениях.
1 Ptaśnik J. Walki o demokratyzację Lwowa // Kwartalnik Historyczny. 1925. S. 2522 Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском Советском
Социалистическом государстве: Справочник. Львов, 1955. С. 33.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 271, 279, 282. Опубл.: MCS. Р. 574—577;
ПКК. 1898. Т. 3. С. 39; АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 444—446.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 389. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское
Ставропигиальное братство. Приложения. № 10. С. 23—24.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 214, 216, 528. Опубл.: MCS. P. 408—409,
411—412.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 134, 183. Опубл.: MCS. Р. 233—236, 312—314.
146 Глава вторая
В архиве братства сохранилось довольно большое число таких извлечений из гродских актов и проекты протестаций, составленные членами братства для внесения во львовские гродские акты1. Иногда братство обращалось к влиятель-ным шляхтичам с целью внесения протестаций в гродские акты от своего име-ни, что придавало таким протестам большую значимость. Например, в 1595 г. во львовские гродские акты была внесена протестация против преследований Магистратом украинского населения города2 князей Адама Вишневецкого и Кирилла Ружинского. Князья поддержали деятельность братства и собствен-норучно вписались в реестр членов братства («изволил есми братства учест-ником зостати»)3. Однако даже за право вносить протесты в гродские кни-ги братству приходилось бороться. Магистрат старался лишить организацию этой трибуны в конце 90-х гг. XVI в. Братство обратилось с жалобой к королю и выиграло это дело, о чем свидетельствует мандат Сигизмунда III Магистрату о запрещении нарушать права украинского населения города на внесение за-писей в магистратские акты и на получение извлечений из них в связи с апел-ляциями4. Братство вносило протесты не только во львовские гродские акты, но и в судебные акты Варшавы и многих городов, где проживало украинское население, с целью ознакомления со своими выступлениями как можно боль-шего числа людей и поддержки отдельных выступлений украинских горожан других городов в борьбе за свои права. Такая форма борьбы, как занесение протестов и жалоб в гродские книги, хотя и была малоэффективной, однако ее заслуга состоит уже в том, что она позволяла постоянно напоминать своим политическим оппонентам не только о своем существовании, но и о своей по-литической программе.
Рассматривая историю Львовского братства, которое является уни-кальным примером существования сообщества «большой длительности» на примере общественно-политических взаимоотношений организации с государственно-административными учреждениями Речи Посполитой, мож-но сделать вывод, что сама постановка и способы решения национально-политических вопросов в течение всего существования Львовского братства оставались практически неизменными. Это — три проблемы, которые реша-ло братство с конца XVI до конца XVIII вв.: уравнивание в правах украинско-го населения с польским на уровне городского самоуправления, профессио-нальной деятельности и свобода вероисповедания. Еще М. С. Грушевский от-мечал, что украинское мещанство, которое «бомбардировало правительство
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 266. Опубл.: ПКК. 1898. Т. 3. С. 39.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 283. Опубл.: MCS. Р. 608—611.3 Головацкий Я. Ф. Хронологическая роспись вписных братий прежде братства Львов-
ского Успения Пресвятыя Богородицы, ныне же Института Ставропигийского // ВСИ. 1864. С. 83.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 333. Опубл.: MCS. Р. 816.
147§ 4. Общественно-политическая деятельность
своими депутациями, петициями, жалобами, добиваясь равноправия с като-ликами», в то же время не могло подняться над своими «локальными кривда-ми и жалобами», что мешало ему достичь уровня защиты национальных прав всего украинского народа, а не только своего города1. Попытки объяснить, почему украинское мещанство, которое возглавило национально-культурное возрождение в конце XVI — начале XVII вв., не довело начатое дело до свое-го логического конца, не раз предпринимались в историографии. На приме-ре Львовского братства этот процесс можно проследить детально на протя-жении почти двух веков. Наибольшая социально-политическая активность братства приходится на конец XVI — начало XVII вв., а наибольшие реаль-ные успехи в завоевании политических прав — на вторую половину XVIII в. Львовское братство не могло преодолеть средневекового способа мировос-приятия ценностных категорий, не могло сделать шаг к принципиально ино-му способу решения проблем. И дело не в том, что среди членов братства не было достойных людей, способных решать глобальные задачи. Скорее, это объясняется тем, что Львовское братство, являвшееся типичной средневеко-вой корпорацией, функционировало в обществе, в котором присутствовали средневековые категории устройства общества. В Польше XVII — первой по-ловины XVIII вв. назревал большой конфликт несоответствия средневеково-го устройства общества (система центральных органов управления, город-ское устройство, система землевладения) и нового уклада жизни, который все сильнее проникал в Польшу. Это и стало тем основным фактором, который привел к ослаблению некогда могущественного государства и в конечном ито-ге к тому, что Польша перестала существовать как государство. Существуя в таком государстве, в городе, где были очень развиты средневековые принци-пы и городского управления, и средневекового корпоративного устройства, Львовское братство на протяжении всей своей истории оставалось типично средневековой корпорацией. Это говорит о довольно длительном сохранении в сознании людей, членов братства, средневековых категорий стабильности, плавности, медленно меняющихся ценностных понятий, не позволяющих ни изменять своих требований в условиях их нерешенности, ни завышать их с учетом изменения исторических условий существования общества и по-литического положения государства, в котором они живут. Именно поэто-му Львовское братство в течение двух веков с равным успехом решало одни и те же проблемы, ставило одни и те же вопросы, что позволяло все же со-хранять искру некогда большого костра национально-культурного возрож-дения конца XVI — начала XVII вв., которая разгорится большим пламенем национально-культурного возрождения XIX в.
1 Грушевський М. С. Історія України—Руси. Т. 6. С. 260.
148 Глава вторая
§ 5. Благотворительная деятельность
Украинские братства явились средоточием новых идей, которые отража-ли смену средневековых категорий мировосприятия в обществе категориями мышления и мироощущения Нового времени. Сам по себе выход на авансцену истории мещанского сословия знаменовал одну из самых существенных смен сословного перераспределения ролей. Украинские братства, то есть представи-тели нового среднего сословия, сумели не только во весь голос заявить о себе как о новой деятельной силе, но и мудро сохранить лучшие черты «старого времени», тем самым обеспечив преемственность культурных традиций, что явилось одним из самых благоприятных факторов при поддержании «револю-ционной» деятельности братств самыми широкими слоями населения и прак-тически всеми сословными группами. Среди сфер деятельности украинских братств, которые ими были взяты из средневековой культуры, явились такие виды деятельности, которые мы сегодня называем общечеловеческими ценно-стями, подкрепленные в средневековой европейской культуре высокой нрав-ственной стороной христианства. Практически все средневековое европейское братское движение было основано на воспитании в обществе таких качеств, как человеколюбие, милосердие, сострадание, взаимовыручка. Братства забо-тились о больных, помогали людям, попавшим в беду, оказывали поддержку нуждающимся, брали на себя заботу об организации похорон, чем оказывали последнюю помощь и поддержку христианину.
В деятельности Львовского Успенского братства в конце XVI—XVIII вв. было много новых функций, которые являлись откликом на первостепен-ные проблемы, стоявшие перед обществом того времени, — политиче-ские, религиозные, национальные, культурные вопросы, решением кото-рых занималось братство. Но успешность их осуществления самым непо-средственным образом зависела от авторитета и поддержки братства как организации в обществе. Это обеспечивалось главным образом делами милосердия и благотворительности. Именно забота о страждущих и ока-зание материальной и моральной поддержки нуждающимся способство-вали росту авторитета братств среди всего населения, причем не только среди украинцев и единоверцев, но и среди представителей «угнетающей нации» — поляков и католиков.
Благотворительная деятельность Львовского братства, которая была одной из главных сфер деятельности организации на протяжении всей ее истории, оказалась незаслуженно обойденной в историографии Львовской Ставропигии и получила весьма скромное освещение. Лишь немногие историки обращали внимание на важность благотворительной деятельности в истории украинских братств и Львовского братства в частности. Впервые в историографии на зна-чимость благотворительной деятельности братств указал И. Флеров, отмечая, что братства, наряду со многими важнейшими видами их деятельности, име-
149§ 5. Благотворительная деятельность
ли «цель высокую: дела милосердия или вообще дела служения страждущему человечеству», при этом Флеров совершенно справедливо подчеркивает, что братства стремились придать своей благотворительной деятельности «более прочное направление и более общественное значение»1. Единственным иссле-дованием благотворительной деятельности Львовского братства, основанным на архивных материалах, до сих пор является работа А. С. Крыловского, в кото-рой он освещает благотворительность братства как одну из жизненно важных сторон деятельности и самого братства, и каждого из его членов2. Такое невни-мание исследователей к проблеме благотворительной деятельности братств во многом объясняется стремлением историков подчеркнуть выдающуюся роль Львовского братства в общественно-культурной жизни страны, рассмотреть его влияние на глобальные исторические процессы, и в этом контексте такая сторона деятельности братства, как «забота о малых, сирых и убогих», ото-двигалась на второстепенный план. А между тем свой огромный авторитет в обществе Львовское братство завоевало во многом благодаря своей благотво-рительной деятельности. Организация, функционировавшая в обществе, в ко-тором христианская философия не только занимала одно из важнейших мест в общественном сознании, но и являлась атрибутом культурно-политических процессов, не могла игнорировать основной постулат жизни христианина — любовь к ближнему, воплощавшийся деятельным образом в благотворитель-ных акциях как организации в целом, так и каждого ее члена в отдельности.
Традиции украинских братств, возникавших в конце XVI — начале XVII вв., во многом отличались от сложившихся традиций братского движения в Европе. Но благотворительность как одна из основных сторон деятельности Львовского Ставропигийского братства и других братств Украины, которые возникали под его влиянием и по его примеру, позволяет рассматривать укра-инские братства в контексте европейского братского движения, ведущего свою историю IV—V вв. Возникновение и распространение христианства с его осно-вополагающей идеей любви к ближнему способствовало появлению объеди-нений, которые на практике старались воплотить христианские идеи духов-ного милосердия — бескорыстной помощи и поддержки страждущим людям. Для совершения дел духовного милосердия миряне, прихожане одной церкви, часто создавали специальные организации — братства, что позволяло творить дела милосердия организованно и целенаправленно. Благотворительные брат-ства были известны в IV в. в Константинополе, в V в. в Александрии, в IX в. в Италии. В XII—XIII вв. братства с благотворительными функциями получают распространение в Германии, Франции, Испании, а позже в странах Восточной Европы.
1 Флеров И. О православных братствах, противоборствовавших унии в Юго-Западной России в XVI, XVII и XVIII ст. С. 76—80.
2 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство // АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 26—32.
150 Глава вторая
Без сомнения, при юридической организации братства львовские меща-не, провозглашая многие новаторские идеи, не характерные для европейского братского движения, не могли обойти такую характерную сферу деятельно-сти многих братств, как благотворительность. Совершать дела милосердия, «творити милостыню», было не только одной из главных сторон деятельно-сти Львовского братства, но и важнейшим христианским долгом каждого его члена.
О благотворительности как одной из главных сторон деятельности Львов-ского Успенского братства подробно говорится в уставе 1586 г.: братству надле-жит согласно закону христианской церкви, апостольским правилам и учению отцов церкви «творити... милостыню в потребу братиям недостаточствую-щим и ублажати благих»1. В уставе братства в соответствии с традициями средневековых братств особо оговорены многие дела милосердия, которые надлежит исполнять братству: «церковное богатство — нищих богатство, возраста для сирот и старости и немощи в недуг вопадшего, и нищих корм-ление и чадии мнози, странным прилежание, сиротам и убогим промышле-ние, вдовам пособие, девицам потребы, обидам заступление, во напастех поможение, у пожаре и в потопе плененым искупление, во гладе прикорм-ление, у худобе умирающим покров на гробы и погребания, а церквам и мо-настырем пустым подъятие, живым прибежище и утешение, а мертвым память»2. Проявлять заботу и внимание братчики должны были ко всем нуж-дающимся и «убогих по силе наделити»3.
В уставе особо оговаривается, как братство должно помогать нуждающим-ся членам своей организации, тем братчикам, которые попали в беду. Для это-го из братской казны следует выделять определенную сумму на поддержание терпящего лишения братчика. Но в уставе оговорено, что давать деньги брат-ство должно только тем, кто действительно испытывает острую нужду, а не тем, которые бы хотели вложить эти деньги в выгодное предприятие или обо-гатиться. Особо отмечено, что братство должно заботиться о похоронах умер-ших членов братства согласно православным обрядам и традициям. Каждый член братства должен был вписать в помянники всех своих умерших родствен-ников для поминовения в братской Успенской церкви4.
Дальнейшее развитие идеи о важности благотворительной деятельности Львовского братства содержится в документе, получившем в литературе на-звание «Эпистолия» — письме 1609 г. Львовского Успенского братства ново-основанному братству в городе Новоконстантинове, в котором братство под-робно объясняет, в чем состоит главный смысл, основа и особенности братства
1 MCS. P. 114.2 Ibid. P. 114—115.3 Ibid. P. 117.4 Ibidem.
151§ 5. Благотворительная деятельность
как организации1. Автор «Эпистолии» отмечает, что «акт братство — любов досконалая до Бога и до ближних своих»2, и подробно сообщает, как следует организовать благотворительную работу братства: необходимо избрать двух братчиков (старшего и младшего) для «дозорства и строения шпиталя и вше-ляких уломных и недостаточных особ, которые бы при церкви братской в дому, албо шпитали братском знайдовалис»3. Эти два братчика должны опе-кать, «дозирати, споряжати и заведовати» братским госпиталем.
При организации в 1633 г. младшего Онуфриевского братства в его уста-ве было отмечено, что благотворительность — одна из первостепенных задач львовских братчиков: «найбезпчнейший и найпевнейший то скарб, который в руках людий бедных, нищих, сирот, вдов и вязнев», поэтому каждому его чле-ну следует «кождому з ближних наших, ведлуг преможеня складки нашей, на-гих приодевати, зболелых нужными потребами осмотрити»4. В уставе млад-шего Онуфриевского братства, как и в уставе Успенского 1586 г., говорится о том, что братство должно помогать заболевшему братчику, причем не толь-ко материально, но и морально: члены братства должны посещать больного, а если нужно, то пригласить человека для ухода за больным. Особо братство должно было заботиться о похоронах неимущих, причем надлежало органи-зовывать похороны «ведлуг порядку уписанного» не только членов организа-ции, но и всех «странных теж, убогих тела, если бы обачено лежачие албо слышачие»5.
Часть своих средств братство выделяло специально на милостыню. Каждый год в установленное время, чаще всего на Рождество и на неделе после празд-ника Воскресения Господня, Сошествия Св. Духа, в Лазареву субботу, храмо-вый праздник Успения Пресвятой Богородицы, братство раздавало милосты-ню всем нуждающимся: во всех больницах и тюрьмах, всем бедным «по улицам лежачим и скитаючимся, каждому убогому», «нищим званя и монастырским убогим», а также для отпущения грехов «всей братии живой и за отпущение грехов умершей братии»6.
Одна из основных задач братства — это оказание помощи братчику, кото-рый попал в беду, заболел, обеднел или у кого случилось какое-то несчастье или горе. В уставе организации говорится: «Естли з допущеня Божия будет
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 10—26 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 305—339.
2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 306—307.3 Там же. С. 337.4 Устав братства Свято-Онуфриевского или так званого меньшаго, при монастырской
церкви во Львове стоящего под покровительством Львовского Успенского-Ставропи гиаль-ного братства / Петрушевич А. С. // ВСИ. 1870. С. 129—148.
5 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 84, 86—87.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1052. Л. 6; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 86—87.
152 Глава вторая
на брата яковыи упадок или немоч, а не мhл бы достатку, мают ему братя помогати братскими пhнязми и в немочи презирати»1. Было принято, что братчик, которому помогают в несчастии братскими деньгами, не должен пла-тить с них налогов. Как показало изучение социального и имущественного по-ложения членов братства, в него входили преимущественно состоятельные и богатые ремесленники и купцы. Однако от несчастья никто не был застрахо-ван, и в категорию обедневшего («упадлого брата») мог попасть каждый из преуспевающих сегодня братчиков. Так, Яний Савелович принадлежал к од-ним из самых состоятельных членов организации. Об этом свидетельствуют реестры сбора денег среди братчиков 1621 г.: «датки» Савеловича были самыми большими2. Спустя 10 лет он фигурирует в документах как совсем обедневший. На сессии 19 июня 1633 г. специально рассматривалась просьба об оказании материальной помощи Янию Савеловичу, который «в упадку своим и забытю маетности утhкся с просьбою усилного до братий, просячи о руку помочи». В братстве сложилась традиция, что деньги из братской казны выдавались брат-чикам в случае необходимости под залог золотыми, серебряными или другими ценными вещами3. Однако у Яния Савеловича не было ничего, что бы он мог дать под залог. Учитывая его заслуги перед братством, было принято решение о выдаче ему необходимой суммы денег, при этом была составлена «Ассекурациа розных братий», то есть список членов братства с обязательствами вернуть определенную сумму денег в братскую казну в счет Яния Савеловича4. После смерти Савеловича братство не оставило в беде и его вдову. В 1645 г. она об-ратилась с просьбой к братству, чтобы ей «ведлуг милости християнской» по-могли деньгами, которые ей необходимы на лечение. Братство постановило да-вать ей по 3 золотых еженедельно5. Под именем «упадлого брата» фигурирует в документах Гавриил Ярошевич. В 1634 г. по его просьбе братство дало ему 20 экземпляров напечатанных в братской типографии книг Псалтыри, с тем, что-бы все вырученные деньги остались Гавриилу Ярошевичу6. После его смерти братство помогало его «нищетные» дочери, выдав ей в 1656 г. деньги из брат-ской казны безвозвратно7. На заседании 1645 г. было принято решение, что все членские взносы братчиков должны расходоваться исключительно на помощь «утрапленым» членам братства и всем сиротам8.
1 MCS. P. 116.2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 54—55.3 Срібний Ф. Студії над організацією Львівської Ставропігії від кінця XVI до полов.
XVII ст. // ЗНТШ. Львів, 1913. Т. 114. С. 42.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 31 об. — 32. 5 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 158.6 Там же. С. 107.7 Там же. С. 445.8 Там же. С. 155.
153§ 5. Благотворительная деятельность
Братство постоянно помогало семьям братчиков, уезжавшим в Краков, Варшаву или другие места по делам организации. Часто судебные процессы, в которых участвовало Львовское братство, надолго затягивались. Семья, ли-шенная основного кормильца, всегда могла рассчитывать на помощь и под-держку со стороны братства. Например, в 1601 г. из братской казны были вы-даны деньги Мартыновой жене на жизнь («на страву») в связи с тем, что муж ее «ходил до Вильна по потребе братской»1. Забота не только о своих членах, но и о семьях братчиков повышала авторитет этой организации в глазах всех горожан и жителей предместий. Особую заботу братство проявляло о вдо-вах членов братства, которые испытывали нужду. Так, братство оказывало постоянную помощь вдовам Губиной, Луцнице, Ференцовой и ее детям си-ротам, Третяцкой и многим другим2. Вдове одного из основателей братства Луки Губы (Губиной) братство помогло похоронить умершую в 1605 г. дочь («на погрhб, коли дочка ей умерла — зол. 4»)3. В одном из документов брат-ства отмечено, что специально была выделена сумма денег вдовам на празд-ники («на свента»).
Особую заботу братство проявляло о детях из бедных семей и сиротах. Братчики заботились о воспитании и образовании сирот, бесплатно учили бедных детей в своей школе. Ученикам братской школы давали возможность самим заработать деньги, поручая им составление писем от имени братства, перевод посланий от патриарха, написанных по-гречески, составление сче-тов, квитанций и других делопроизводственных документов. Например, в 1605 г. Яремковым детям заплатили за составление «записов альбо квитан-ций», некоему подростку — за составление писем в Молдавию («выростко-ви от писаня листов до Влох грошей 15») и др.4 В 1607 г. одного из учеников братской школы призвали на военную службу, братство купило ему полное обмундирование: саблю, пороховницу с порохом, ладанку и пр.5 Братство не только содержало нуждающихся учеников своей школы, но и помогало полу-чить профессиональное образование детям, оставшимся без отца, внося плату за обучение мастеру, а также и снабжая ученика всей необходимой одеждой на период обучения. В 1607 г. братчики «отдали до науки» ремесла портного сына Анны Миколаевой, «на тот час вдова будучая», Ивана, ремесленнику Федору Фучковичу сроком на два года с условием, что он выкупит Ивана из цеха портных и будет учить его ремеслу. Братство дало обязательство платить Федору Фучковичу за обучение и обеспечивать ученика одеждой «пристой-
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 75.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1047. Л. 3 об.; 1053; 1104; АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 194, 353, 391, 527, 619.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1044. Л. 4.4 Там же. Д. 1044. Л. 5, 5 об.5 Там же. Л. 6.
154 Глава вторая
ною, так летнюю, як и зимную»1. Часто братство оказывало материальную помощь мальчикам, поющим в церковном хоре. Так, в реестрах расходов за 1690, 1692 и 1695 гг. записано, что «дискантикам» к Рождеству были подарены одежды: кутнушики, шапки и сапоги2. Помогали братчики студентам, которые отправлялись на учебу в Киев. В 1691 г. помощь в размере 30 злотых была ока-зана студентам Василевичу и Сувальскому, в 1692 г. — Терлецкому, который ехал «для наук в Киев», в размере 15 злотых, в 1697 г. — студенту Чарнецкому3. Студентам также дарили книги, например, 19 июля 1692 г. «какому-то студен-ту» подарена Грамматика за 13 грошей4.
Несколько раз братчики находили у церкви младенцев. В 1648 г. такого ре-бенка не удалось спасти5, а в 1676 г. нашли мамку и регулярно платили ей на содержание брошеного ребенка6. Бывали случаи, когда братство оказывало со-действие девушкам при вступлении в брак, снаряжая им приданое7.
За помощью к братству обращались самые разные люди с различными просьбами. Братство никогда не отказывало в помощи действительно нуж-дающемуся человеку. Таких примеров бескорыстной помощи в документах братства можно встретить очень много. Например, в 1605 г. братство помо-гает отцу Иоанну Вишенскому8, выдающемуся писателю-полемисту своего времени. В 1612 г. с просьбой одолжить 3 злотых обратилась к братству пани Андреевая; видя всю тяжесть ее положения («упадшую в убозтво»), члены организации выдали ей нужную сумму «до часу слушного», что подразуме-вало возможность невозврата долга9. В 1595 г. были выданы деньги на обувь сборщику пожертвований на Онуфриевский монастырь («на боты грошей 10 прошакови»)10, в 1605 г. — «хлопцу», который ходил с братской цехой и опове-щал о собрании братства11, в 1653 г. — некой девушке, служившей в братском госпитале («дhвыцh на черевикh»)12. В 1614 г. девушке Настусе дали денег
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 3. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 298—299.2 Шараневич И. И. Николай Красовский (Миколай Красувський) от года 1686 до года
1692 писарь управления, а от г. 1692 до г. 1697 — старейшина Ставропигийского братства во Львове. Исторический очерк с прибавкою современных записок из сессийных книг и регестов Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1895. С. 110, 111, 113.
3 Там же. С. 111, 115.4 Там же. С. 113.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1054. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 401.6 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 512.7 Там же. С. 464.8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1044. Л. 3.9 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 75.10 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1041. Л. 1, 311 Там же. Д. 1044. Л. 4 об.12 Там же. Д. 1070. Л. 5 об.
155§ 5. Благотворительная деятельность
на еду и купили ей чулки («на страву,... еще панчохи купилем»)1. Братство оказывало помощь больным и брало на себя организацию похорон бедных мещан города, мастеровых людей, которые работали по найму для братства, и людей «вшелякого рода и звания», умерших или замерзших на улицах2. Так, в 1602 г. братство «даровало» 7 злотых вдове Губиной на лечение ее дочери, а отец Федор от себя дал ей 15 грошей3, в 1605 г. некоему Олекшему было вы-дано для лечения и на похороны 8 злотых («так в хоробh, як и на погрhб»), а позже его вдове выдали еще 7 злотых4; в 1612 г. — нищим, выдали денег из братской казны когда они болели, 5. Иногда члены братства сами ухаживали за больными, у которых не было родных6. Братство предоставляло средства для выкупа из тюрьмы или плена своих сограждан, а вышедшим из них дава-ло значительную сумму денег на первое обзаведение7; иногда братчики пы-тались освободить от казни осужденных на смерть. В 1637 г. они выкупили крестьянина Павла, осужденного на смерть за кражу лошади8, в 90-х годах XVII в. оказали помощь некоему греку, который был «тут в неволе», «воло-шинове невольникови», двум пленникам — «москалеви и козакови»9. Часто братство оказывало материальную поддержку престарелым женщинам и вдо-вам. Таких примеров в различных хозяйственных документах братства сохра-нилось очень много, но, вероятнее всего, еще больше таких случаев осталось не зафиксированными документально.
Официальным благотворительным заведением братства был госпиталь при Онуфриевском монастыре. Содержание госпиталей было одной из самых рас-пространенных сфер деятельности западноевропейских братств. Госпи таль — это благотворительное учреждение, которое предназначено было прежде всего для бедных людей. Средневековый госпиталь соединял в себе функции лечеб-ницы для больных, приюта для стариков, калек и немощных людей, странно-приимного дома, дававшего пристанище скитальцам и паломникам10. При юри-дическом оформлении братства в 1586 г. одной из главных своих обязанностей
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1047. Л. 3 об.2 Там же. Д. 1054, 1066, 1114. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 401, 525, 549, 556.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 6; АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 65.4 Там же. Д. 1044. Л. 3, 3 об.5 Там же. Д. 1047. Л. 2.6 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 75.7 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство // АЮЗР. Т. 12. С. 28—29.8 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 129.9 Цит. по: Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—
XVIII ст. С. 67.10 Gloger Z. Encyclopedja staropolska. Warszawa, 1903. T. 4. S. 337; Крип'якевич І. П. Українські
госпиталі у Львові в XVI—XVII ст. // Лікарський вісник. Львів, 1930. № 1. С. 15.
156 Глава вторая
братчики провозгласили строительство и содержание госпиталя1. С 1586 г. брат-чики начали сбор средств на его строительство2, а в 1592 г. братство получило разрешение львовского старосты Николая Гербурта на строительство госпи-таля при Онуфриевском монастыре3 и в течение трех лет вело строительные работы. Сохранились реестры выдачи денег на строительство госпиталя при Онуфриевском монастыре за 1592—1595 гг.4, на основании которых можно про-следить, как велось строительство и какую заботу о нем проявляло братство.
За всю свою историю братство дважды полностью перестраивало свой гос-питаль. Первая реконструкция была проведена в 1662—1663 гг.5 и в 1765 г., причем сохранились заявления монахов и священников Онуфриевского мона-стыря, на территории которого стоял братский госпиталь, что в связи со зна-чительными издержками братства на перестройку госпиталя в 1765 г. они от-казываются от денежного пособия, которое им платило братство6.
О постройке и содержании госпиталя братство заботилось весьма ревност-но и считало, что как храм нужен для души, так он нужен для тела. Госпиталь братства предназначался для стариков, вдов, сирот, «вшеляких уломных и недостаточных людей», нуждающихся в заботе и опеке, и для «приймованя странных духовных»7. Во второй половине XVII—XVIII вв. в деятельности братского госпиталя начинал доминировать профиль лечебного заведения. В госпитале лечились ученики братской школы, студенты бурсы, которых брат-ство к тому же обеспечивало лекарствами8. Некоторое время с братством со-трудничал дипломированный доктор медицины Филипп Ляшковский. В би-блиотеке братства была хорошая подборка книг по медицине9, книги меди-цинской тематики были также в библиотеках некоторых братчиков10. В 1704 г.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 72. Опубл.: MCS. P. 119—120; АОИЗР. Т. 3. С. 301—302; ЮИЛСБ. Т. 1. С. 57; ПКК. Т. 3. С. 11; ПIФ. С. 82—83.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 83, 146, 193, 231, 241, 1035 Л. 15 об. — 19. Опубл.: MCS. P. 263, 358, 484 (аннотации), 327—329; ЮИЛСБ. Т. 1. С. 58, 59—60, 72, 73; Письма князя Константина Острожского // ВСИ. 1867. С. 72—73; Акты, относящиеся к возобновлению во Львове сгоревшей Ставропигиальной Успенской церкви, с больницею, странноприимным домом, школою и типографиею // ВСИ. 1874. С. 113—124; АОИЗР. Т. 4. С. 42, 66; ПİФ. № 54.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 201. Опубл.: MCS. Р. 368.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1040, 1041.5 Там же. Д. 1082.6 Там же. Д. 994.7 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство // АЮЗР. Т. 12. С. 26.8 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». С. 412, 406; АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 65, 689.9 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. 2170.
Л. 31, 35. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 35.10 Skoczek J. Lwowskie inwentarze biblioteczne. Lwów. 1939. S. 392, 395, 419.
157§ 5. Благотворительная деятельность
русские войска, отходя из Львова после кратковременного постоя, оставили своих больных и раненых в госпитале братства1. На основании этих фактов Я. Д. Исаевич выдвинул предположение, что в братском госпитале могли при-меняться медицинские достижения того времени2. Однако документальных свидетельств о характере и методах лечения, организации общей медицинской помощи в госпитале практически неизвестно.
Госпиталь содержался на деньги из общей братской казны, а также на спе-циальные пожертвования на госпиталь, к которым относятся главным обра-зом крупные денежные пожертвования и проценты с недвижимости3, а также сравнительно небольшие суммы, которые составлялись из сбора пожертвова-ний населения. В 1607 г. на собрании братства было принято решение, чтобы при монастыре Св. Онуфрия сидел «человhк старый» и просил «на потребу манастырскую». Одну часть из этих денег братство отдавало «тому прошако-ви», а оставшиеся две части делили на три и распределяли следующим обра-зом: одну часть священнику, вторую — вдовам и сиротам, третью — «на опра-ву» монастыря Cв. Онуфрия4. Дополнительным, хотя и очень незначительным источником содержания госпиталя были деньги, получаемые от людей, посту-павших в больницу, и остававшиеся после их смерти (больные охотно жертво-вали свои незначительные сбережения в пользу братского госпиталя).
Госпиталем заведовал старший братчик, выбираемый из числа старейшин на элекционных собраниях братства, ему в помощь назначался один из чле-нов младшего Онуфриевского братства. «Дозорец», или «провизор», госпиталя была очень ответственная должность, так как приходилось не только следить за уходом за больными, за «дедами и бабками госпитальными», но и заботить-ся о закупке продуктов питания и о приготовлении пищи, об обеспечении дровами, о поддержании хорошего состояния всех строений, относящихся к госпиталю, и о других хозяйственных нуждах. «Дозорец шпиталя» должен был вести приходно-расходную книгу, куда подробно записывались все статьи расхода денег из братской казны, выделяемые «на шпиталь», с целью дать пол-ный финансовый отчет о ведении дел по госпиталю перед братством. С таким же тщанием записывались суммы, которые жертвовали на содержание брат-ской больницы разные люди. Сохранились приходо-расходные книги по со-держанию госпиталя, которые вели такие «провизоры шпитальни», как Павел Лавришевич, Матвей Федорович, Павел Ермиевич, Семен Лавришевич, Степан
1 Гербільський Г. Ю. Петро Перший в Західній Україні. Львів, 1948. С. 17; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 225.
2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 68.3 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II,
2125. Л. 108—110, 129—131; ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1124.4 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 71.
158 Глава вторая
Звиркович, Иван Захаркевич, Киприян Кисельницкий и др.1 Только одна такая приходо-расходная книга братства за 1634—1653 гг. была опубликована2.
Зная о широкой благотворительной деятельности Львовского братства, к не му обращались за помощью и многие именитые люди. Неоднократно с прось-бой о материальном вспомоществовании обращались иерусалимские патри-архи (в 1644, 1646 и 1743 гг.)3. Видимо, весьма щедрым было вознагражде ние иерусалимскому патриарху Феофану от Львовского братства в 1620 г. Известно обращение к братству львовского епископа Арсения Желиборского с просьбой о материальной помощи на дорогу к польскому королю по делам православной веры4 и пр.
Братство оказывало помощь многим нуждающимся церквям, монастырям и братствам. Оно оказывало материальную поддержку при возобновлении сгоревшей Рождественской церкви в Желкве; посылало комплекты богослу-жебных книг многим церквям и монастырям. После возвращения Каменца-Подольского турками Речи Посполитой разоренной ими Каменец-Подольской церкви братство послало в 1699 г., кроме денежного пособия, на возобнов-ление богослужения все необходимые книги (12 наименований в количестве 27 экземпляров), и облачения для священнослужителей, а также 12 икон5. В 1641 г. к Львовскому братству обратились стрятинские мещане с просьбой о помощи в открытии православных церквей, закрытых в связи с убийством польского ксендза6. В 1699 г. на реставрацию старинной Крылоской церкви Успения Богородицы было выделено из братской казны 2000 злотых7. Братство постоянно оказывало материальную помощь Креховскому, Уневскому, Теребовльскому, Ясскому и другим монастырям8. Особым покровительством братства пользовался Манявский скит, которому братство регулярно помога-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1055, 1063, 1070, 1080, 1082, 1105 и др.2 Там же. Д. 1055. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 679—689.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 568 (копию см.: ЛИМ. Отдел фондов (со-
брание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 271—279), Д. 572, 959. Опубл.: Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила. Т. 2. Приложения. С. 305—309; Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 61. С. 124—125.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 575. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 64. С. 129—130.
5 Шараневич И. И. Николай Красовский (Миколай Красувський) от года 1686 до года 1692 писарь управления, а от г. 1692 до г. 1697 — старейшина Ставропигийского братства во Львове. Исторический очерк с прибавкою современных записок из сессийных книг и реге-стов Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1895. С. 151; Крыловский А. С. Львов-ское ставропигиальное братство // АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 29—30.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 553.7 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 149.8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 557, 687, 690, 1132. Опубл.: Голубев С. Т.
Киевский митрополит Петр Могила. Т. 2. Приложения. С. 203—204; ПIФ. С. 198—199.
159§ 6. Просветительская деятельность
ло денежным пособием, книгами, а иногда присылало работников для прове-дения строительных работ на территории монастыря1. Львовская Ставропигия оказывала всевозможную помощь и поддержку многим украинским и бело-русским братствам: львовским братствам Богоявленскому, Николаевскому и Параскевы Пятницы, Рогатинскому, Городоцкому, Перемышлянскому, Сокальскому, Красноставскому, Новокон стантиновскому, Дубецкому, Галицкому, Любачевскому, Виленскому, Могилев скому и др.
Благотворительность была не только первостепенным долгом львовских братчиков как христиан, но во многом благодаря делам милосердия Львовское братство снискало себе славу, авторитет и уважение, которыми пользовалось в течение двухсотлетнего своего существования. Часто благотворительная дея-тельность была той первой ступенькой, с которой начиналась тяжелая работа братства в вопросах веры, национальности, политики и культуры.
§ 6. Просветительская деятельность
а) Ш к о л аОчагом культурно-просветительской деятельности братства была школа.
Большая заслуга Львовского братства состоит в том, что оно учредило первое на Украине всесословное учебное заведение, содержавшееся на средства обще-ственной организации, в котором начальное образование соединялось неко-торыми курсами высшей школы. Школа Львовского братства явилась прооб-разом новых учебных заведений, которые, благодаря своим программам и ме-тодике, тщательному подбору преподавателей и доступности для любых уче-ников, создали наиболее благоприятные условия не только для сохранения, но и для развития национальной культуры2.
Во Львове украинские школы существовали задолго до основания брат-ской. Первое упоминание о «Руськой школе» (Rutenorum schola) встречается в Львовских гродских актах за 1546 г.3 Это была школа при Богоявленской церк-ви Галицкого предместья Львова. И. П. Крипьякевич, изучая жизнь львовских горожан в первой половине XVI в., отмечал, что горожане преимущественно были грамотными, о чем свидетельствует то, что они писали письма, различные реестры, соглашения, завещания и т. п. Образование их было чисто практиче-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 615, 943; Збірник документів і грамот Скитських. Львів, 1887; Скрипник І. Нариси історії Скиту Манявського. Богородчани, 1996. С. 91—92.
2 См.: Шустова Ю. Э. Школа Львовского Успенского ставропигийского братства в конце XVI — начале XVII в.: взаимодействие греко-славянских культурных традиций // Россия и Христианский Восток. Вып. II—III. М., 2004. С. 163—185.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52. Оп. 2. Д. 11. Л. 465; Крип’якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали. Львів, 1994. С. 39, 310.
160 Глава вторая
ским, начальное образование они дополняли практическими знаниями, кото-рые нетрудно было получить среди бурной городской жизни и в путешествиях по чужим городам и странам1. К концу XVI в. среди горожан прочно утверди-лось понимание важной роли образования в жизни общества. Это объясня-ется не только ростом реальных потребностей уметь читать, писать, считать, необходимых при овладении профессиональными навыками, но и осознанием обществом чрезвычайной важности образования для становления и отдель-ной личности, и всего социума. Пониманию важности хорошего образования способствовало то, что некоторые горожане получили хорошее образование в польских и зарубежных университетах2. В 1572 г. украинское население Львова добилось подтверждения королевским привилеем права посылать своих детей в школы Львова и других городов для изучения «свободных искусств»3.
В Польше в XVI в. под влиянием Реформации и Контрреформации стали возникать многочисленные школы. Особой популярностью во второй поло-вине XVI в. пользовались школы, основанные орденом иезуитов4. Иезуитские коллегии заметно отличались от других школ высоким уровнем образования. Многие представители украинской знати старались отдать своих детей в эти школы, «бо хвалят добру науку дhтям»5. Дети, приходя в школы, принад-лежащие другой культуре и ревностно относящиеся к другой вере, неизбеж-но утрачивали отцовскую веру, которая являлась основным национально-культурным фактором. А. С. Лаппо-Данилевский отмечал, что иезуитские школы предлагали такую систему образования, из которой можно было из-влечь средства для полемики6. Однако вступать в полемику с мировоззре-нием иезуитов мог не тот человек, который познавал азы образованности, находясь в их среде, а тот, который изначально овладел другой, отличной си-стемой знаний. Неизбежно возникала идея организации национального об-разования.
1 Крип’якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст. С. 39.2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст.
С. 128.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 48.4 Харлампович К. В. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века, от-
ношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты право-славной веры и церкви. Казань, 1898; Он же. Борьба школьных влияний в допетровской Руси // Киевская старина. 1902. Июль — август; Жукович П. Н. Отзыв о сочинении К. Хар-ламповича «Западно-русские православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви». СПб., 1902.
5 Цит. по: Грушевський М. С. Культурно-національний рух на Україні в XVI—XVII віці // Духовна Україна: Збірка творів. Київ, 1994. С. 170.
6 Лаппо-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культуры XVII—XVIII вв. М., 1990. С. 35.
161§ 6. Просветительская деятельность
В обществе идея распространения образования, развития образования на родном языке приобрела значение национально-культурного возрождения, становления национальной культуры. Развитие системы национального об-разования, опирающегося на исторические традиции своего народа, продол-жающего и развивающего национальную традицию, родилась в среде украин-ской аристократии. Представители многих знатных родов, следуя утвердив-шейся в обществе традиции, хотели дать своим детям хорошее образование. Но учебные заведения в Польше были носителями иной культуры, другого вероисповедания. В противовес польским католическим учебным заведени-ям около 1576 г. под покровительством князя Константина Константиновича Острожского была основана первая украинская школа высшего типа — Острожская греко-славяно-латинская коллегия для «воспитания и образо-вания многих ученых». Современники называли ее «трехъ язычным лице-ем», «коллегией», «академией»1. Основатели Острожской школы стремились сделать ее школой высшего академического типа, однако полностью осуще-ствить эту задачу не удалось из-за нехватки научных сил. Но большая заслуга этой школы в том, что она сумела не только значительно подняться над уров-нем старой школьной системы, но и впервые поставила изучение родного «словенского» языка на научную основу. Особое значение Острожской школы состоит в том, что она впервые применила западноевропейскую модель трех-ъязычного научно-учебного заведения, основанную Эразмом Роттердамским. «Lycaeum trilingue» состояла в обязательном освоении трех сакральных язы-ков: Hebraeus, Latinus и языка литургии. Острожская школа, взяв за основу эту модель гуманистической традиции образования Западной Европы, органично переработала ее в соответствии с национально-культурными особенностями, обозначив «Trilingue» как соединение славянского, греческого и латинского языков2. Именно эту особенность отмечали иностранные современники как одно из главных достоинств Острожского «трехъязычного лицея»3. Основание Острожской славяно-греко-латинской школы знаменовало переход к новому этапу культурного синтеза — осмысленного стремления соединить славяно-греческое культурное наследие с достижениями «латинскими», то есть с куль-турными достижениями Западной и Центральной Европы4.
В 80-х гг. XVI в. происходит смена парадигм в реализации программы национально-культурного возрождения. Украинское дворянство оказалось неспособным далее возглавлять национальное движение. Эту миссию взя-
1 Грушевський М. С. Культурно-національний рух на Україні в XVI—XVII віці. С. 181.2 Мицько І. З. Острозька слов'яно-греко-латинська академія (1576—1636). Київ, 1990.3 Pecalidis S. De bello Ostrogiano. Cracoviae, 1600. Перевод: Українська поезія XVI ст. /
В. Яременко. Київ, 1987. С. 203, 214.4 Ісаєвич Я. Д. «Lycaeum trilingue»: концепція тримовної школи у Європі в XVI ст. //
Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів, 1996. С. 314.
162 Глава вторая
ло на себя украинское мещанство. Оно оказалось более решительным, более действенным, хотя в силу своего социального статуса, политического поло-жения, нехватки образования и других причин так и не сумело осуществить революционный прорыв во всех своих начинаниях. Львовские мещане горячо поддержали идеи распространения просвещения и образования. Не случайно последнее из известных писем князя А. М. Курбского1 об отстаивании своей религиозной самобытности было адресовано львовскому мещанину Семену Седларю2, который, в свою очередь, оказал существенную поддержку перво-печатнику Ивану Федорову3.
Осуществлять программу национально-культурного возрождения львов-ские мещане, объединившиеся в официально утвержденную организацию — братство, намеревались по образцу Острожского культурно-просветительного центра, включавшего школу, типографию и, главное, кружок ученых, пере-довых мыслителей своего времени. О влиянии культурно-просветительской программы Острожского коллегиума на культурно-национальную программу Львовского братства говорит и автор знаменитого полемического сочинения начала XVII в. «Перестороги». Автор этого произведения передает не только свое отношение к идеям просвещения и образования в обществе, но и выра-жает взгляды современников, которые видели причины упадка национально-культурной жизни украинского народа в том, что «великие ревнители... што было найпотребнешие: школ посполитых не фундовали, и так то вельми много зашкодило панству руському, же не могли школ и наук посполитых розширяти, и оных не фундовано, бо коли бы были науки мели, тогды бы за неведомостию своею не пришли до таковые погибели»4. Мысль о важ-ности образования не только в жизни отдельного человека, но и общества в духе идей Просвещения была высказана составителем сборника поучитель-ных слов Иоанна Златоуста «О воспитании чад», вышедшего в типографии Львовского братства в 1609 г.5 Распространение образования и знаний автор сборника считает одним из главных факторов развития и процветания обще-
1 Письма князя А. М. Курбского к разным лицам. СПб., 1913. Док. № XXV. Ст. 111—114.2 См.: Шустова Ю. Э. «Посланейцо краткое к Семену Седларю, мещанину львовскому,
мужу честному, о духовных делах вопрошающему» А. М. Курбского в контексте украин-ского национально-культурного движения 70—80-х гг. XVI в. // Источниковедение и крае-ведение в культуре России: Сборник к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта Историко-архивному институту. М., 2000. С. 85—89.
3 Огієнко І. Історія українського друкарства: Історично-бібліографічний огляд україн-ського друкарства XV—XVIII вв. Київ, 1994. С. 79, 157; ПİФ. № 6, 12, 13, 72. С. 22—23, 30—36, 115—119.
4 АОИЗР. Т. 4. С. 204.5 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Кн. 1. № 76. С. 35. Ре-
продукция: Науменко Ф. І. Педагог-гуманіст і просвітитель І. М. Борецький. Львів, 1963. С. 73—116.
163§ 6. Просветительская деятельность
ства, «всего народу руського», в то время как невнимание к школьному обра-зованию неизбежно приведет общество к упадку, «до погоршеня».
О желании львовских мещан организовать школу (или официально под-твердить статус уже организованного учебного заведения) говорится в гра-моте антиохийского патриарха Иоакима от 15 января 1586 г.: «Хотят с помо-чю Божею панове мещане львовские школу закладати для наученя дhтем християнским вшелякого стану, которые бы мели учитися письма светого грецкого и словенского, да не будет род их християнский аки безсловесен ненаучения ради. И теж купили друкарню писма словенского и греческого, ку той же школh потрhбную»1. В другой грамоте ярко подчеркивается кон-цепция единства типографии и школы для преумножения национальной на-уки и культуры: «...для размноженя наук письм наших словенских руських внесена была до тых краюв наших друкарня руськая, которая ижи за недо-статком, а потом за смертю друкаря тое друкарнh згасла была. Про то мы, стараючися в том, абы знову наше письма друкованh были и абы при той друкарнh школу грецкую для науки нашего благочестия во градh Львовh фундовати»2. В 1611 г. братство купило у Ивана Красовского, долгое время бывшего старейшиной братства, «Мисцовскую» каменицу «на школу вhчне» и для типографии3. Так что долгое время и школа, и типография братства рас-полагались в одном доме.
Точная дата основания школы неизвестна, но, вероятно, она была создана в 1585 г.4 Юридические права на основание школы за братством были закре-плены грамотами антиохийского патриарха Иоакима от 1 и 15 января 1586 г.5, подтверждены киевским митрополитом Михаилом Рогозой в 1590 г.6, помест-ными церковными соборами в 1591 и 1594 гг.7 и королями Польши8. В грамо-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 72. Опубл.: MCS. P. 119—120; АОИЗР. Т. 3. С. 301—302. № 157; ЮИЛСБ. Т. 1. С. 57; ПКК. 1898. Т. 3. С. 11—12; ПİФ. С. 82—83. Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. № 2 (171). С. 504—505.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 80. Опубл.: MCS. P. 142—144.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 340. Л. 4—5, 6 об. Опубл.: Капраль М. Актові
матеріали до біографії Івана Красовського // Україна в минулому. Київ; Львів, 1993. Вип. 4. С. 120—121.
4 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 129.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 71, 72. Опубл.: MCS. P. 113—120; ПКК. 1898.
Т. 3. С. 1—12; DS. Р. 3—15; BCИ. 1869. С. 113—120; ПIФ. С. 82—83; Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. № 1(170) — 2 (171). С. 500—505.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 127. Опубл.: MCS. P. 218—220; АОИЗР. Т. 4. С. 69; Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. № 5 (174). С. 514—515.
7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 188, 258. Опубл.: MCS. P. 319—321, 516—519; АОИЗР. Т. 4. № 48. С. 67—69; АЮЗР. Т. 10. С. 77—79; Пам’ятки братських шкіл на Україні. Київ, 1988. С. 25—27.
8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 206, 586, 702, 703. Опубл.: MCS. P. 389—391; ПİФ. С. 108—109.
164 Глава вторая
те киевского митрополита Михаила Рогозы от 7 января 1590 г. на учреждение школы при Львовском братстве говорится: «Школу для науки детиеи писма греческого и словенского при церкви соборной лвовскои заложити и друкар-ню мhти и всякое дhло церковное добре строити, а иных школ по разных в тамошнем мhсте Лвовском и на предмhстью никому не мае допущоно быти, кроме школы одное головное при церкви соборнои львовскои»1. Все эти документы определяли юридические права братства на содержание школы и являлись официальными актами, подтверждающими деятельность школы в течение всей ее истории.
Братчики стремились сделать свою школу учебным заведением высшего типа и преподавать философию, относящуюся к наукам академическим, уни-верситетским, в своей школе, о чем говорится в документах 1586 г.2 Но для по-лучения статуса высшей школы необходимо было специальное разрешение короля. В 1592 г. по ходатайству Константина Острожского и Федора Скумин-Тышкевича королем Сигизмундом III братству была выдана грамота, в которой определялся статус братской школы как Scholae pro tractandis liberalibus artibus (школы свободных искусств)3. Свободные искусства, «Septem artes liberales», входили в число предметов традиционной средневековой схоластической шко-лы и включали науки «тривиума» (грамматика, риторика, диалектика) и «ква-дривиума» (арифметика, геометрия, музыка, астрономия). Этот курс наук по-зволял называть братскую школу гимназией («гимнасион... в обучение юным, и предложение художества писмен, и учений внhшних же и божественных»4). Некоторые гимназии могли включать в свои курсы философию и богословие, что давало им возможность стать академией, то есть высшим учебным заведе-нием5. В 1658 г. казаки добились у короля привилея на открытие двух украин-ских академий — Киевской и еще одной. Это вызвало панику среди иезуитов, которые имели все основания считать, что вторая академия будет открыта во Львове на базе братского «гимнасиона». Чтобы этого не случилось, они доби-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 127. Опубл.: MCS. P. 218—220; АОИЗР. Т. 4. С. 69; Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. № 5 (174). С. 514—515.
2 Ісаєвич Я. Д. З історії викладання філософії на Україні (XVI—XVII ст.) // Від Вишенсь-кого до Сковороди. Київ, 1972. С. 24—26.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 206. Опубл.: MCS. P. 389—391; ПİФ. С. 108—109.
4 Октоих. Львов, 15 дек. 1630 2-я группа. Предисловие к читателю. Л. [2] об. Опубл.: Строев П. М. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских, хранящихся в библиотеке тайного советника, сенатора двора его императорского величе-ства действительного камергера и кавалера графа Федора Андреевича Толстова. М., 1829. С. 180—185.
5 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 132, 135.
165§ 6. Просветительская деятельность
лись провозглашения в 1661 г. Львовской коллегии иезуитов Академией, а два высших учебных заведения в одном городе не могли функционировать1.
С самого начала своего существования Львовская братская школа явилась носителем передовых взглядов науки и педагогики, во многом это стало воз-можным вследствие того, что вокруг школы объединились высокообразован-ные люди, обладающие организаторским талантом. Возглавил школу архиепи-скоп димоникский и элассонский Арсений, грек по происхождению. Он раз-работал проект программы обучения2, который был положен в основу уста-ва школы3 и стал главным стержнем ее деятельности4. Арсений преподавал в 1586—1588 гг. греческий язык, после чего переселился в Россию, где стал архан-гельским, а затем суздальским архиепископом5. Учителем «словенского» языка с 1586 по 1593 гг. был один из выдающихся деятелей культуры своего времени Стефан Зизаний — богослов, полемист, проповедник, автор многих богослов-ских и полемических произведений6.
1 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст С. 136—137.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 81. Опубл.: DS. P. 19—20.3 Там же. Д. 87. Опубл.: DS. P. 21—29.4 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». С. 448—454. Опубл.: DS. P. 30—34.5 Оглоблин Н. Арсений архиепископ Елассонский и его «Описание путешествия в Мо-
сковию» (1588—1589 гг.) // Историческая библиотека. 1879. № 8—9; Дмитриевский А. Ар-сений архиепископ Элассонский (Суздальский тож) и его вновь открытые исторические мемуары // ТКДА. 1898. Т. 1. Январь; Он же. Архиепископ елассонский Арсений и мемуары его из русской истории. Киев, 1899; Мединський Є. М. Братські школи України і Білорусії в XVI—XVII століттях. С. 41. Питирим, епископ (Нечаев). Арсений архиепископ Елассон-ский и его поэма об учреждении русского патриаршества // Богословские труды. М., 1968. Сб. 4. С. 251—280; Фонкич Б. Л. Греческо-русские культурные связи XV—XVII вв.: Греческие рукописи в России. М., 1977. С. 19—21, 52—59; Δημητρακόπουλος Φ. Άρ. ’Aρσένιος ’Eλασσόνος (1550—1626). Βίος καὶ ἔργο. Συμβολή στή μελέτη τῶν μεταβυζαντινῶν λογίων τη̃ς ’Aaτολη̃ς. ’Aθήνα, 1984; Зилитинкевич В. С. Арсений Елассонский // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1. СПб., 1992. С. 108—110; Арсений Елассонский. Мемуа-ры из русской истории // Хроники Смутного времени / Конрад Буссов. Арсений Елассон-ский. Элиас Геркман. «Новый летописец». М., 1998. С. 163—210.
6 Беляновский А. С. Стефан Зизаний. Почаев, 1897; Загайко П. К. Українські письмен-ники полемісти кінця XVI — початку XVII ст. в брортьбі проти Ватікану і унії. Київ, 1957. С. 20—25; Яременко П. К. Стефан Зизаній — український полеміст кінця XVI ст. // Радянське літературознавство. 1958. № 2. С. 39—54; Алексютович Н. А. Культурно-просветительская деятельность братьев Зизаниев // Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избранные произведения XVI — начала XIX вв. Минск, 1962. С. 126—132; Ружицький Е. Невідомий документ про смерть Стефана Зизанія // Архіви України. 1972. № 1. С. 63—64; Паславський І. В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI — першій третині XVII ст. Київ, 1984. С. 66—75.
166 Глава вторая
Львовская братская школа заметно отличалась от других учебных заведе-ний того времени, главным образом, общедоступным характером. Училища в Речи Посполитой в XVI в. были преимущественно для детей шляхты, а про-столюдины (горожане, крестьяне), как правило, никакого образования не получали. Провозглашенный братством принцип всесословной школы был поистине революционным для своего времени. Единственным «ограничи-тельным» условием школы была ее строго православная ориентация, но она исходила не из принципа противопоставления православного вероисповеда-ния другому, не была воинственно настроена против других конфессий, что было характерно для многих школ того времени, а в ее основе было заложено желание сохранения своей национально-культурной самобытности в рамках государства с доминирующей другой культурой и другим вероисповеданием. Принцип всесословной школы был одним из главенствующих при организа-ции «гимнасиона» братством. В школьном уставе было особо оговорено, что она создается для «всех православных христиан, як стану духовного, так же особ княжецких, панских, шляхетских и всего посполитого народу, даже и до убогих вдовиц»1. В братскую школу принимали детей «убогих за прости Бог, а богатых за розным датком». Дети из бедных семей и сироты обучались бесплатно и находились на иждивении братства. Ученики всех сословий были равны: «богатые над убогими в школе не чим вышшим не мают быти, толь-ко самою наукою, плоти же равно вси», поэтому «учити дидаскал и любити мает вси заровно, як сынов богатых, так и сирот убогих, и которые ходят по улицам живности просячи»2. Принципы оплаты за обучение также носили весьма демократический характер. Плата была незначительной и вносилась родителями раз в квартал «с поможення своего» (по возможности). Вероятно, начальное образование детей членов братства («вписных братий») было бес-платным, а «братия, которые сыны свое даючи до школы учити кгрецкого и латинского охоти своеи, поступуючи, каждый с преможеня своего от сына братству всему, с котрых то грошей братство мает давати тую костен-тацию дидаскалам»3. Так же, как членом братства, по уставу, мог быть любой человек независимо от своего социального положения, но в действительно-сти ими являлись в основном мещане, так и учениками братской школы были главным образом дети горожан. К сожалению, мы не располагаем точными сведениями об учениках школы, так как сохранилась только одна книга спи-сков учеников за 1587—1596 гг., причем не полностью4. В 1587 г. в школе было 22 ученика, а в 1588 г. — 26, преимущественно дети львовских мещан, предме-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 87. Л. 1. Опубл.: DS. P. 21.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 87. Л. 3.3 Там же. Д. 1043. Л. 9. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 69.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 91. Опубл.: АЮЗР. Т. 10. С. 57—60.
1586—1590 гг.
167§ 6. Просветительская деятельность
щан, духовенства и несколько человек из других городов. Но хорошо извест-но, что князь Константин Константинович Острожский, основатель знамени-той Острожской школы, посылает в 1592 г. своего младшего сына Александра на попечение братству, чтобы избежать на него влияния «западных людей веры и науки», потому что «помощи и ратунку в потверженю веры его от нас мети не может, скудости ради учителей»1. Почти все исследователи биографии выдающегося деятеля украинской культуры киевского митропо-лита Петра Могилы полагают, что первоначальное образование он получил в школе Львовского братства, хотя этому не сохранилось документальных под-тверждений2. И все же факты обучения знатных детей в братской школе были единичными.
Решение о зачислении детей в школу принимали члены братства на собра-ниях. Братство ревностно относилось к тому, чтобы ему самому принимать детей в школу. На одном из заседаний 1604 г. говорилось о «приймованю детей до школы, теды без воле братское которые суть на то обыбраны не мают»3. Видимо, в этом члены братства усматривали одну из важнейших своих задач по руководству школой.
Львовскую братскую школу возглавлял ректор, избиравшийся братством из лиц, хорошо известных своими педагогическими способностями и по-знаниями. В ведении ректора была учебно-воспитательная работа школы. Организационно-хозяйственными вопросами занимались «провизоры», или «дозорцы школы» от братства. На элекциях выбирали провизора «до доглядо-ваня школы», который должен был следить за хорошим состоянием школьного здания, вовремя его ремонтировать, заботиться об обеспечении школы дрова-ми, следить за исправностью печей и заниматься другими хозяйственными во-просами. В обязанности провизоров входило также следить за школьным обо-рудованием, которое состояло из «таблицы великой» (школьной доски, учени-ки учились писать на специальных «малых таблицах» или дощечках), столов и лавок4. Решение о приеме на должность дидаскала выносилось на собраниях братства. Каждый кандидат на занимаемую должность должен был предста-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 212. Опубл.: Письма князя Константина Острожского / Головацкий Я. Ф. // ВСИ. 1867. С. 71—72. MCS. P. 401.
2 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883. Т. 1. С. 19; Василенко Н. П. Очерки по истории Западной Руси и Украины. Киев, 1916. С. 86; Жу-ковський А. Петро Могила і питання єдности церков. Київ, 1997. С. 41.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 8 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 68—69.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1052, 1089; АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 376, 489; Шараневич И. И. Николай Красовский (Миколай Крассувський) от года 1686 до года 1692 писарь управления, а от г. 1692 до г. 1697 — старейшина Ставропигийского братства во Львове. Исторический очерк с прибавкою современных записок из сессийных книг и реге-стов Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1895. С. 108.
168 Глава вторая
вить братству в устной или письменной форме свой план обучения. К сожале-нию, такие планы практически не сохранились до наших дней. Известны всего две такие записки учителей Георгия Лапчинского1 и Теодора Рудкевича 1699 г.2 Особый интерес представляет записка Георгия Лапчинского, причем она при-мечательна не столько содержанием, сколько своими палеографическими особенностями. Желая стать учителем братской школы, Георгий Лапчинский старался показать, насколько он сам искусен в письме: записка написана кра-сивым ровным витиеватым почерком, с выписанными заглавными буквами, а вверху листа — изображение головы собаки, которое, видимо, должно было символизировать верность и преданность дидаскала служению на поприще образования и то, что он является сторонником братской системы школьно-го образования3. Если совет братства находил предложенный план обучения удовлетворительным и соответствующим задачам школы, то принимал пре-тендента.
К учителям братство предъявляло высокие требования, как профессио-нальные, так и нравственные. Учитель (дидаскал) должен быть по уставу «бла-гочестив, разумен, смиреномудрый, кроток, воздержливый, не пияница, не блудник, не лихоимец, не сробролюбец, не гневлив, не завистник, не смехо-строитель, не чародей, не басносказатель, не пособитель ересем, но благо-честию поспешитель, образ благих во всем себе представляющим и в сице-вых добродетелех да будут ученици, якож учитель их». Каждый дидаскал должен был творчески подходить к своим ученикам и «за непослушенство» наказывать «не тирански, но учительски»4.
Учителя получали от братства жалование, а кроме того, они пользовались обедами, которые давались по очереди родителями учеников: «Обеды ведлуг порядков своих давных от каждого хлопца на день назначенный дидаскало-ве мают доходити»5. В 1604 г. братство приняло «за ректора» школы Ивана Борецкого, которому «братя подали в моц школу, также и порядки школь-ные». Кроме заведования школой, Иван Борецкий «оферовался» учить детей греческому и латинскому языкам. За это братство определило ему жалование в размере 10 польских злотых в квартал6. На этом же собрании был принят Федор Сидорович учителем «языка словенского», а также «до церковное працы», его жалование составило 5 злотых в квартал. Интересно сопоставить размер этих
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 689.2 Там же. Д. 759. Опубл.: DS. P. 111—112.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 689.4 Там же. Д. 87. Л. 1 об, 2 об.5 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 131; Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 108.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 8 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 68—69; Історія Львова в документах і матеріалах: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1986. С. 66.
169§ 6. Просветительская деятельность
жалований с платой за обучение. Яний Афендик, Василий Семенович, Семен Луцкий обязались платить за квартал по 1/3 злотых, Лука Василевич, Василий Стефанович — по талеру, Миколай Лукашевич — по ползлотого, Иван Кгерос «от приятеля своего» — по золотому1. В реестре указана только вносимая пла-та за детей членов братств, но если исходить из того, что число учеников было около 25, то можно предположить, что получаемой платы за обучение едва ли хватало на выплату жалования учителям, так что практически все затраты на содержание школы несло братство.
Школа братства, созданная «великою пилностью, стараниям же и накла-дом всего братства Львовскаго... и всего посполитаго народа российского», пользовалась щедрой материальной поддержкой православных владык, мол-давских господарей, казацких гетманов, украинских дворян и зажиточных го-рожан (купцов, ремесленников), жертвовавших большие суммы «на цвhчение дhток християнских» и на «выховане бакаларов учоных». В 1622 г. братству была передана сумма в 1500 злотых, завещанная гетманом Украины Петром Конашевичем Сагайдачным2. Этой суммой он завещал выделять деньги «на выховане учоного магистра в греческом языку». Деньги надлежало выгодно вложить, чтобы «тые полторы тисечи золотых абы николи не убывали, ани уменьшали», и тратить их следует только «на науку»3. Все условия этого за-вещания были выполнены. Братство, выгодно вложив эту сумму, регулярно получало проценты на содержание школы4, причем упоминания о «легации» гетмана Сагайдачного встречаются в документах братства в течение 150 лет после завещания5. В 1644 г. Михаил Альвизий завещал 1000 злотых Успенской церкви и братской школе6. Имена всех «фундаторов и благодетелей» заноси-лись в специальные реестры7, и все они ежегодно поминались на Пасхальной литургии в Успенской церкви. Такие пожертвования позволяли братству не только содержать школу на высоком уровне, но и приглашать лучших учите-лей («дидаскалов») того времени.
Начальное образование в школе получали «мhськh сыны» (дети горожан), обучение которых оплачивали родители, и бедные дети («нищие», «павпры»,
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 9.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 490.3 Там же. Д. 486. Л. 2. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство.
Приложения. № 25. С. 76—79.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1049; АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 209, 362, 365; Т. 12.
С. 223, 224, 345, 580. 5 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст.
С. 166—167.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 566.7 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II,
2125; ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1124; АЮЗР. Т. 12. С. 164—352.
170 Глава вторая
«мендики»), которые обучались бесплатно. Большинство «павпров», в том числе и «спhвачки», которые пели в детском церковном хоре, жили в бурсе при школе. В бурсе жили и «виростки» — бедные подростки и юноши, которые помогали учителям и выполняли разные поручения братства (копировали и переводили документы, доставляли письма братства адресатам, носили книги и шрифты из типографии на склад1).
Обучение в школе было трехступенчатым. Первый уровень предполагал на-чальное образование, когда детей учили «слов познавати и складати». В на-чальную школу принимались дети без всякой подготовки. Основу начального обучения составляло изучение азбуки, после чего читали Часослов и Псалтырь, «которые опусканы быти не могут»2. По окончании первой ступени школьной программы ученик должен был уметь читать и писать. Второй уровень обуче-ния давал среднее образование: «учити читати и напамяти многий речей ся учити», третий уровень предполагал элементы высшего образования: «учити, читаючи, выкладати, розсуждати и розумети»3. Учеников высшего уровня называли «спудеями» (студентами). Они не только учились в братской школе, но и были одновременно учителями-репетиторами («педагогами»)4.
Первым учебным пособием детей в братской школе был букварь, издан-ный в 1574 г. Иваном Федоровым во Львове. Исследователь братского движе-ния и книгоиздания на Украине Я. Д. Исаевич предполагает, что этот букварь неоднократно переиздавался в XVI и первой половине XVII вв.5 Это утверж-дение вполне обосновано, так как ранние буквари, изданные в типографии Львовского братства, практически не сохранились до наших дней. Сегодня известны два экземпляра первого на восточнославянских землях учебного по-собия Букваря Ивана Федорова, которые хранятся в библиотеке Гарвардского университета (США) и в Британской библиотеке в Лондоне6. Только из ис-точников о деятельности братской типографии нам известно об издании бук-варей в 1662, 1698, 1701, 1720, 1723 гг.7 Они были изданы максимально боль-шими тиражами для того времени — 6000 экземпляров. Дошедшие до нас
1 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 131.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 87. Л. 4.3 Там же.4 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 132.5 Там же. С. 155.6 Факс. изд.: Ivan Fedorov’s Primer of 1574. Facsimile edition with commentary by Roman
Jakobson and appendix by William A. Jackson. Cambridge, Mass., 1955; Harvard Library Bulletin. 9. 1955. P. 5—45; Граматика Iвана Федорова. Київ, 1964; Федоров И. [Азбука]. Подготовка из-дания Г. В. Карпюка. М., 1974; 2-е изд. М., 1977; Буквар Івана Федорова. Київ, 1975.
7 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 354, 355, 407, 413, 431; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам’ятки книж-кового мистецтва: Каталог. Львів, 1981. Кн. 1. № 408, 726; 1984. Кн. 2. Ч. 1. № 763, 968; ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 34 об.
171§ 6. Просветительская деятельность
издания букварей 1671, 1692, 1710, 1754 гг.1 имеют одинаковый заголовок «Букварь языка славенска писаний, чтений, qчения хотящим в полезное руковожение» и текст. В первой части букварей содержится такой же матери-ал, как и в букваре Ивана Федорова: алфавит, слоги «двуписьменные» и «три-письменные», пунктуация, краткая хрестоматия из молитв и религиозных пе-сен2. После освоения букваря ученики школы продолжали учиться читать по Часословам и Псалтирям. Эти книги, так же как и буквари, часто издавали и переиздавали в типографии братства, причем специально «для науки малых дhтей», в сокращенном и адаптированном варианте: «школьные часовнич-ки» и «псалтирки».
В средних и высших классах преподавались следующие дисциплины: из светских наук — грамматика, поэзия, риторика, история, диалектика, логи-ка и другие части философии, арифметика, геометрия, география, музыка; из духовных наук — церковный устав (церковное чтение и пение, пасхалия), Священное Писание и Предание (Библия, Евангелие, Послания Апостолов, патристика), учение о добродетелях (краткое нравственное богословие), уче-ние о праздниках (литургикон)3. В школе изучали четыре языка — церковно-славянский, греческий, латинский и польский, хотя не всем языкам уделяли равное внимание. Первостепенное значение имело изучение церковнославян-ского языка. Непосредственно после ознакомления со славянской азбукой начиналось изучение греческого языка, к которому было особое отношение, причем грамматики «словенского» и греческого языков изучались параллель-но. В уставе особо оговорено, что ученики должны разговаривать между со-бой в школе на двух языках одновременно: «абы дhти един другого пытал по-грецку, абы ему отповhдал по-словенску, и ты жи не мают из собою мо-вити простою мовою, едно словенскою и грецкою»4. Именно греческий язык символизировал принадлежность к иной культурной традиции украинского народа в католической Речи Посполитой, именно он олицетворял историко-религиозную преемственность православного вероисповедания, которое в то же время для украинского народа являлось и главенствующим фактором, определяющим национальную самоидентичность. Изучение греческого языка «откуда пошла вhра наша» в школе Львовского братства делало ее важным культурно-образовательным центром для всех православных стран. Большие надежды на школу Львовского братства возлагали восточные патриархи. В 1587 г. александрийский патриарх Мелетий Пигас направил братству два
1 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 1. № 487, 672; Кн. 2. Ч. 1. № 858, 1864.
2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 155.3 Головацкий Я. Ф. Начало и действование Львовского Ставропигийского братства по
историко-литературному отношению. Львов, 1860. С. 17.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 87. Л. 8 об.
172 Глава вторая
послания, в которых призывал основать школу высшего типа, так как такая задача непосильна патриарху «в пленении» Оттоманской Порты1. Именно эти грамоты позволили некоторым историкам утверждать, что основные принци-пы учебно-воспитательной программы братчики позаимствовали у греков2. Однако система обучения в братской школе была основана на модели запад-ноевропейской школы, но с учетом национально-религиозных особенностей. Почти сразу в школьный курс были введены латинский и польский языки. Курс латинского языка в программу школы, вероятно, был введен после про-возглашения в 1592 г. ее школой семи свободных искусств, так как такая шко-ла по нормам того времени не могла существовать без латыни. Именно этот привилей давал основания в XVII в. современникам называть братскую шко-лу «школой латинской»3. Первое документальное свидетельство о преподава-нии здесь латинского языка относится к 1604 г., когда Иван Борецкий должен был учить детей латинскому языку.
Школа львовского братства ставила перед собой задачи в соответствии с популярными педагогическими идеями эпохи гуманизма. Особое внимание в образовательном процессе уделялось освоению красноречия, которое способ-ствовало развитию умственных способностей и повышению морального уров-ня учеников. На всех уровнях школьной программы обучение строилось по схеме: освоение теоретических основ наук (грамматики, поэтики, риторики, диалектики), а затем — изучение литературных произведений, причем акцент делался на памятниках античности. И только после этого ученики учились сами писать сочинения.
Особое значение в школьной программе имела диалектика. В рамках наук «тривиума» она излагалась в сокращенном варианте. Одной из главных за-дач преподавания курса диалектики было научить школьников оперировать основными понятиями в полемических спорах с апологетами католицизма4. Это было особенно актуально в конце XVI — начале XVII вв., когда религи-озная полемика между православием и католичеством достигла своего апогея и была усугублена введением унии между этими конфессиями. Преподавание велось по рукописным компилятивным сборникам (сокращенным переводам) сочинений Иоанна Дамаскина по логике и диалектике. Такие сборники были чрезвычайно популярны в XVI—XVII вв. и были широко представлены в би-блиотеке братства. Курс диалектики преподавался вместе с курсом риторики, так как важно было не только овладение понятиями, но и умение с их помо-щью убедительно обосновать свою позицию. О такой методике преподавания
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 86; MCS. P. 797, 799.2 Малышевский И. И. Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие в делах
русской церкви. Киев, 1872. Т. 1. С. 471.3 Грушевський М. С. Історія України—Руси. Львів, 1907. Т. 6. С. 520.4 Мединський Є. М. Братські школи України і Білорусії в XVI—XVII ст. С. 85.
173§ 6. Просветительская деятельность
этих предметов говорят сборники из библиотеки братства, которые включа-ли диалектику и риторику1. Курс риторики базировался на изучении антич-ных авторов (Исократ, Демокрит, Цицерон), а также включались произведе-ния украинских писателей (Кирилла Транквилиона Ставровецкого, Иоаникия Галятовского, Антония Радивиловского, Лазаря Барановича).
После освоения учениками наук «тривиума» переходили к изучению наук «квадривиума». Однако изучение этих предметов в братской школе было по-ставлено слабее, чем наук «тривиума», за исключением музыки. Курсы мате-матических наук были представлены арифметикой. В курсе арифметики из-учались четыре арифметических действия, в том числе и «друбли» (дроби). Ученики не только учились простому счету, но решали текстовые задачи2. Из астрономии изучали только некоторые разделы («пасхалия и лунное тече-ние»). Лаврентий Зизаний, приехавший в 1626 г. в Москву в составе посоль-ства от киевского митрополита Иова Борецкого, намеревался издать здесь свой Катехизис3, в который был включен раздел «О крузях небесных и о пла-нитах, и о зодиях, и о затмении солнца, о громе и о молнии, о тресновении и о шибении, и о Перуне, о комитах и о прочая звездах». Возможно, такой курс «природоведения» Лаврентий Зизаний читал, будучи дидаскалом Львовской братской школы. При обсуждении книги Лаврентия Зизания в Москве этот раздел запретили печатать, мотивируя тем, что он взят из астрологии, которая происходит «от волхвов еллинских и от идолослужителей»4. Об изучении «ге-ометрии» (так называли географию) в документах не упоминается. Такое упро-щение программы «квадривиума» не было особенностью только Львовской братской школы, а являлось «свидетельством убожества средневековой школы вообще»5.
Из наук «квадривиума» на высоком уровне в братской школе изучалась музыка. Курс включал музыкальную грамоту и церковное хоровое пение. Братство приглашало лучших учителей музыки своего времени6. Кроме ир-мологионов, в обучении использовались польские и немецкие пособия —
1 Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-sіowiaсskich w Galicji. Lwуw, 1836. S. 67; Пам’ятки братських шкіл на Україні. Київ, 1988. С. 32.
2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 161—162.
3 О «Большом Катехизисе» Лаврентия Зизания см.: Корзо М. А. Украинская и белорус-ская катехетическая традиция конца XVI—XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований. М., 2007. С. 292—353.
4 Прение Лаврентия Зизания с игуменом Илиею // Летописи русской литературы и древ-ности. М., 1859. Т. 2. Отд. 2. С. 96; Паславський І. В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI — першій третині XVII ст. Київ, 1984. С. 79.
5 Грушевський М. С. Історія України—Руси. Т. 6. С. 519.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 681.
174 Глава вторая
Себастиана Фельштинского, Иоганна Шпангенберга и др.1 В преподавании му-зыки применяли новые принципы многоголосия, получившие название пар-тесного пения. Учитель музыки был одновременно регентом церковного хора Успенской церкви. Часто они сами делали обработку церковно-хоровой му-зыки, например, в 1604 г. протопсалт Федор Сидорович сделал переложение церковных напевов на четыре и более голосов2. Хор состоял из четырех голо-сов: «басист», «альтист», «тенорист» и «дискантист»3. В 1591 г. ученики шко-лы приветствовали киевского митрополита Михаила Рогозу «потройным», то есть 12-голосным хором. В школьных театрализованных представлениях му-зыка играла весьма значительную роль. Ученики исполняли как популярные песни и танцы, так и партесные многоголосные произведения4. О важности развития церковной музыки говорится в специальном послании братству в 1614 г. александрийского патриарха Кирилла Лукариса5. В инструкции учите-лю братской школы Теодору Рудкевичу 1699 г. особо оговаривалось, что учи-тель должен следить за голосами учеников, обращая пристальное внимание на тех, кто поет «трактом», т. е. главным голосом (cantus firmus)6.
В библиотеке братства была собрана большая коллекция нотных тетрадей с записями партесных напевов, книги по теории музыки, в типографии изда-вались нотные Ирмолои7. В реестре нотных тетрадей 1697 г. (Reiestr opisanych kantyk) насчитывается 467 хоровых произведений (кантик, концертов и муте-тов на 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 18 голосов)8. Это — единственный источник, который со-хранил имена многих композиторов XVI—XVII вв.: «Служба погребова на го-лос 8» Колядчина, службы и канон Николая Дилецкого9, каноны, концерты, ве-черние службы Федора Шаваровского10, канон Яжевского, службы Орвацкого, Симеона Пекулицкого, Евстахия Завадовского, Чернущина, Бишевского и
1 Ясіновський Ю. Музика // Історія Львова / Редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2006. Т. 1. С. 211.
2 Кудрик Б. Огляд історії української церковної музики. Львів, 1937. С. 18—19; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 162.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 759. Опубл.: DS. P. 111—112.4 Ясіновський Ю. Музика // Історія Львова / Редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій.
Львів, 2006. Т. 1. С. 211.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 449. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское
Ставропигиальное братство. Приложения. № 21. С. 42—44.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 759. Опубл.: DS. P. 111—112.7 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 62—71; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецт-
ва. Кн. 1. № 470, 727; Кн. 2. Ч. 1. № 847, 2003; Ісаєвич Я. Д. Братства і українська музична культура XVI—XVIII ст. // Українське музикознавство. Київ, 1971. Вип. 6. С. 48—57.
8 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 62—71; Реєстр нотних зошитів, що належали Львівському Ставро-пігійському братству (1697 р.) // Українське музикознавство. Київ, 1971. Вип. 6. С. 245—251.
9 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 62, 64, 68.10 Там же. С. 68, 70.
175§ 6. Просветительская деятельность
др.1 Вероятно, многие из них были учителями музыки или воспитанниками братской школы. К сожалению, о большинстве авторов партесных мотетов, кроме их имени, нам ничего не известно. О некоторых сохранились скудные сведения из приходо-расходных книг братства. Например, композиторам Гавалевичу в 1694 г. братство заплатило «за мотеты на три голоса» 5 злотых; Базилевичу — 6 злотых за мотеты на три голоса и 4 злотых за мотеты на че-тыре голоса; басисту — 15 грошей за переписку двух канонов и переплетчику за переплет мотетов2. Музыка занимала в обществе особое место, а в условиях межконфессионального противостояния конца XVI—XVII вв. стала одним из важнейших условий соединения национальной традиции с новейшими евро-пейскими музыкально-стилевыми тенденциями, что в значительной степени ускорило эволюцию музыкального искусства и сформулировало новую куль-турную ментальность украинской музыки3. Усилиями братства и его школы новые жанры хорового многоголосного пения стали важнейшей вехой в раз-витии национального самобытного музыкального искусства.
Среди учебных курсов первостепенное значение отводилось грамматике, которая считалась «царицей наук» в средневековой школе. Наука грамматика имела много значений: через комментирование авторов позволяла обращаться к любому сюжету; благодаря словам позволяла добраться до скрытого смысла, ключом к которому они являются. Грамматика учила языку «буквальному» и языку «тропов», раскрывающему фигуральный, аллегорический смысл4. В кон-це XVI в. возникла острая необходимость создания славянской грамматики. Эту задачу выполнили ученики и учителя братской школы. Уже в 1588 г. начала печататься и в 1591 г. была издана греко-славянская грамматика «Адельфотес»5 (ADELFOTHS. Грамматика доброглаголиваго еллинословенскаго языка, со-вершеннаго искуства осми частей слова, ко наказанию многоименитому ро-сийскому роду. Во Лвовh. В друкарни братской. Року 1591)6. Грамматика была «сложена от различных грамматик, спудеями иже во Львовской школе»7 по указаниям первого ректора школы и учителя греческого языка Арсения и
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 62—71; Мединський Є. М. Братські школи України і Білорусії в XVI—XVII ст. С. 85.
2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 163.3 Ясиновський Ю. Львівське Успенське братство та українська музика // Успенське братство
і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 61, 62.4 Ле Гоф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 308—309.5 Факсимильное издание см.: Adelphotes. Die erste gedruckte griechisch-kiechenslavische
Grammatik. L’viv-Lemberg 1591. München, 1988.6 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Кн. 1. № 22. С. 29; Гу-
сева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века. Сводный каталог. Кн. 2. № 116. С. 813—814; ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 190.
7 Каратаев И. П. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буква-ми (1491—1692 гг.). СПб., 1883. Т. 1. С. 230—231.
176 Глава вторая
других дидаскалов школы1. В основу «Адельфотеса» были положены образцы лучших грамматик того времени — Константина Ласкариса (1471), Филиппа Меланхтона, Кленарди, Мартина Крузия и др.2 Составлена грамматика парал-лельно на двух языках, греческом и славянском3. Хотя «Адельфотес» скорее относится к компилятивным произведениям, но говорит о широкой эрудиции школьных «спудеев», хорошо владевших современным им грамматическим материалом, как греческим, так и славянским. Исследователи этого учебни-ка предполагают, что именно львовским «спудеям» принадлежит разработ-ка славянской грамматической терминологии, которая имела большое влия-ние на славянские грамматики Лаврентия Зизания (Вильно, 1596) и Мелетия Смотрицкого (Евье, 1619)4, а позже была использована при создании русских грамматических терминов и долгое время служила основным пособием для изучения славянской речи в Московской Руси, вплоть до выхода в свет грам-матики М. В. Ломоносова в 1755 г. В предисловии говорится о важном месте грамматики в системе средневековых наук: «Сия бо есть первая ключ от-верзаяй ум разумhти писания. От нея же, яко по степенех всю лhствицу, по чину учений трудолюбивии достизают. Диялектики, риторики, мусики, арифметики, геометрии и астрономии. И сими же седми, яко же нhкиим сосудом разсуждения почерпаем источник философии, разумhвающе же и врачевства, ко благоискуству превосходим всесовершеннаго богословия»5. Именно такую модель школы предполагали создать члены Львовского брат-ства: от грамматики через семь «свободных наук» к основным курсам высшей школы — философии, медицине и теологии. Эта грамматика была лучшим учебным пособием в течение всего XVII в. Она пользовалась большой попу-лярностью не только на Украине, но и далеко за ее пределами, о чем свиде-тельствуют многие рукописные копии «Адельфотеса», причем иногда перера-ботанные и усовершенствованные6.
1 Студинський К. «Адельфотес» — граматика, видана в Львові в р. 1591 // Записки НТШ. 1895. Т. 7. С. 1—42.
2 Крыловский А. С. Предисловие // АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 66; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 155.
3 Bragone M. С. La grammatica greco-slavo ecclesiastica. Adelphotes. Roma, 1999.4 Москаленко Н. А. Нарис історії української граматичної термінології. Київ, 1959. С. 34,
48—49, 103.5 ADELFOTHS. Грамматика доброглаголиваго еллинословенского языка. Львов, 1591.
Л. [2]. Опубл.: Строев П. М. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских, хранящихся в библиотеке... графа Ф. А. Толстого. М., 1829. № 27. С. 64.
6 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. 280. № 9. С. 71—72; Ф. Павликовского. Ед. хр.129; Систематическое описание рукописей графа А. С. Уварова / сост. архимандрит Леонид. М., 1894. Ч. 4. С. 503; Gębarowicz M. Katalog ręko-pisów biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego. Lwów, 1938. S. 56; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 156, 242.
177§ 6. Просветительская деятельность
Первостепенное внимание в школе уделялось изучению языков. Первона-чально она мыслилась как «двуязычный лицей», где основное внимание уделялось изучению двух сакральных языков — греческого и «словенско-го», причем греческий язык воспринимался как важнейший элемент в со-хранении религиозно-культурной самобытности («откуда есть пошла вера наша»). Основы изучения греческого языка в Львовской школе были зало-жены Арсением Элассонским. После его отъезда в 1588 г. из Львова в Москву ректором и дидаскалом греческого языка стал «муж ученна в науце пись-ма и языка еллинска и словенска» Кирилл Транквиллион Ставровецкий, ставший впоследствии знаменитым богословом, автором первой право-славной догматической системы. Дидаскалом «в еллино-греческом языцh» был член Львовского братства Гавриил Дорофеевич, который бывал в Констан тинополе, где неоднократно встречался с Мелетием Пигасом и по-знакомился с Кириллом Лукарисом, с которым вел впоследствии переписку. В 1595 г. Гавриил Дорофеевич обращается с просьбой к Кириллу Лукарису (тогда — учителю Острожской Академии) преподавать в братской школе, а он, Гавриил, будет ему помощником в этом деле. С 1602 г. «старший дида-скал» школы — Федор Касиянович, который был учеником бывшего «ректо-ра наук эллинских» в Падуе, участника Брестского церковного собора 1596 г. протосингела Никифора Кантакузина , а также Иван Борецкий. Уровень преподавания греческого языка был чрезвычайно высок. Студенты не толь-ко свободно переводили с греческого на церковнославянский и обратно тек-сты любой сложности, но и свободно писали стихотворные произведения на обоих языках. В архиве братства сохранились переводы патриарших гра-мот братству, составленные «спудеями» школы. В 1593 г. было издано при-сланное братству сочинение александрийского патриарха Мелетия Пигаса «О христианском благочестии». Издание осуществлено на греческом язы-ке с параллельным переводом на «словенский», осуществленным «спудея-ми школы нашея», причем послесловие к книге, в свою очередь, переведено «со словенского» на греческий. Преподавание греческого языка прекрати-лось в 30-х гг. XVII в. из-за отсутствия преподавателей. Львовские братчи-ки предпринимали попытки возобновить преподавание греческого языка в своей школе. Однако это было очень сложно, так как хороших местных учи-телей практически не было, а сношения с греками были строго запрещены Сеймовой консти-туцией 1620 г. и др. Однако воспитанник Львовской брат-ской школы Павел Негребецкий в написанной в Москве в 1686 г. записке о преимуществе изучения греческого языка над латинским отмечал, что на Украине изучение греческого языка сохранилось только во Львове, а в дру-гих школах «учатся латински» .
В 90-х гг. XVI в. школа становится «трехъязычным лицеем», вводя в свой курс изучение латинского языка. В 1592 г. воспитанников Львовской школы приглашали в Перемышль для преподавания греческого, латинского и сла-
178 Глава вторая
вянского языков1. Если в конце XVI — начале XVII вв. латинскому языку уде-лялось второстепенное значение, то со второй трети XVII в. именно латынь становится приоритетным в изучении языком. Несмотря на исключение из преподавания греческого языка, с середины XVII в. школа оставалась «Lycaum trilingue», так как в школе начали преподавать польский язык.
Значительное место в школьной программе занимал курс поэзии или правил стихосложения. В уставе школы 1587 г. сказано о том, что дидаскал должен учить «от поетов». Правила стихосложения были изложены в кон-це курсов грамматики Лаврентия Зизания (Грамматика словенска совершен-наго искусства осми частей слова и иных нуждных. Вильно, 1596) и Мелетия Смотрицкого (Грамматики словенския правильное синтагма. Евью, 1619), при-чем у Лаврентия Зизания излагалось наиболее распространенное на Украине в XVII в. силлабическое стихосложение, а у Мелетия Смотрицкого — тони-ческое2. Об усвоении методов стихосложения во Львовской братской школе (еще до выхода в свет печатных учебных пособий) красноречиво говорит по-этический сборник, в который вошли панегирические стихи, написанные от имени младших и старших учеников школы в честь приезда в 1591 г. во Львов киевского митрополита Михаила Рогозы. Братская школа приветствовала ми-трополита дважды — 17 января в Успенской церкви, «перед народом», и на следующий день — в самой школе. Приветственные стихи были изданы в ти-пографии братства под заголовком «ПΡOSFWNHMA. Привhт преосвященно-му архиепископу кvр Михаилу, Митрополиту Киевскому и галицкому и всея России»3. Этот сборник позволяет сделать вывод, что ученики школы хорошо владели приемами стихосложения не только на славянском, но и на греческом языке, так как многие стихотворения написаны параллельно на двух языках. В
1 MCS. P. 363.2 Мединський Є. М. Братські школи України і Білорусії в XVI—XVII століттях. Київ,
1958. С. 81—82.3 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Кн. 1. № 23. С. 29—30.
Текст опубл.: Українська поезія. Кінець XVI — початок XVII cт. / Упорядники: В. П. Коло-сова, В. І. Крекотень. Київ, 1978. С. 137—144; Українська література XIV—XVI ст. Апокри-фи. Агіографія. Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори. Перекладні повісті. Поетичні твори. Київ, 1988. С. 503—510. О сборнике «Просфонима» см.: Голубев С. Т. Панегирик, поднесенный в 1591 г. Львовским братством митрополиту Михаиле Рогозе // Киевские епархиальные ведомости. 1874. № 5. Отд. 2. С. 113—133, № 6. Отд. 2. С. 145—157; Возняк М. С. Історія української літератури. Львів, 1921. Т. 2. Ч. 1. С. 77—78; Киселев Н. П. Греческая печать на Украине в XVI веке // Книга. Исследования и материалы. М., 1962. Сб. 7. С. 184—186; Криса Б. Поетичний доробок Львівської братської школи // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 39—43; Пилипчук Р. Початки українського шкільного театру в Галичині: Ярослав Ісаєвич про «Просфониму» // Προσϕώνηµα. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича. Львів, 1998 (Україна: культурна спадщи-на, національна свідомість, державність. Вип. 5). С. 465—473.
179§ 6. Просветительская деятельность
стихотворении «От старейших», построенном на противопоставлении зимы и весны, прослеживается влияние византийских поэтических произведений:
Да радуемся и мы святителеви пролhтие благовhствующему,Лютость же зимы с тяжкими волки отгоняющему,Сие же от самhх вещей каждо нас подробну да познает,Егда убо по студеной зимh тепла весна наставает,Тогда и земля не бhдно зелену траву пущает,И дуб подчесан, головерхиа холмы украшает, И вся зеленовласия древа в новыя ся ризы облачат,Яко ветхая отложивше всякому поновитися значат1.
Львовскую братскую школу можно рассматривать как колыбель украинско-го театрального искусства. Именно ученики школы впервые ставили мисте-рии, интермедии и интерлюдии. Школьный театр выполнял несколько важных функций: во-первых, образовательную (предполагавшую освоение религиоз-ных сюжетов, способов их интерпретации и символического (образного) вос-приятия и публичного представления; составление самих текстов, как прави-ло, в поэтической форме), во-вторых, религиозно-полемическую (в условиях насаждения католицизма в Речи Посполитой театрализованные представле-ния, в основе которых были религиозные сюжеты, выполняли роль популяри-зации православной церкви).
Опыт школьной драмы был заимствованным. В XVI в. в Речи Посполитой и других странах Западной Европы школьный театр находился на подъеме. Особенных успехов на этом поприще добился Орден иезуитов. Именно в мно-гочисленных иезуитских школах театральное искусство находилось на подъ-еме. Воспитание театром, донесение в первую очередь религиозных, догмати-ческих постулатов до сознания юных воспитанников рассматривалось иезуи-тами как одна из приоритетных задач. Школьный театр также был популярен и в протестантских школах, где школьная драма рассматривалась как важный элемент образовательной модели.
В католических странах, в которых богослужение велось на латинском языке, как способ разъяснения важнейших мест священной истории и осо-бенно евангельских сюжетов, использовались пантомимы, которые посте-пенно дополнялись диалогами сперва на латыни, а позже и на родном язы-ке. Театрализованные представления чаще всего ставились в честь церковных праздников — Рож дества Христова, Пасхи и др. Такие представления назы-
1 Українська поезія. Кінець XVI — початок XVII cт. / Упорядники: В. П. Колосова, В. І. Крекотень. Київ, 1978. С. 141; Українська література XIV—XVI ст. Апокрифи. Агіографія. Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори. Перекладні повісті. Поетичні твори. Київ, 1988. С. 507; Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века. Кн. 2. №113. Рис. 113.6.
180 Глава вторая
вались мистериями (от лат. misterium — тайна, таинство). Представления-мистерии, в которых за основу сюжета были избраны чудеса какого-либо популярного святого, назывались мираклиями (от лат. miraculum), а пьесы с аллегорическими существами (Земля, Небо, Правда, Вера, Надежда, Любовь, Фортуна, Вражда и др.) получили название моралией (moralités)1. Чаще всего пьесы ставились в школах, которые были тесно связаны с церковью. Это при-вело к появлению школьной драмы, участниками которой (актерами) были учащиеся, они же часто выступали в роли драматургов (авторов стихотворных и прозаических текстов). Пантомимы и диалоги на религиозные сюжеты ста-вились учениками под руководством учителей и были чрезвычайно популяр-ны, особенно в иезуитских школах того времени. На школьные представления собирались не только все ученики школы и их родители, но и многие горожа-не. Каждое представление рассматривалось как важное событие в жизни го-рода и, как правило, было приурочено к важнейшим церковным праздникам, выступая одним из элементов праздничных ритуалов, обрядов и церемоний.
Видимо, учителя Львовской братской школы решили использовать все положительные стороны постановки школьных драматических произведе-ний как в учебных, так и в популяризаторских целях, основываясь на своей национально-культурной традиции. Представления разыгрывались в брат-ской церкви с большой пышностью и при стечении многочисленных зрите-лей2. Первое упоминание о школьном театре встречается в произведениях Ивана Вишенского, который обвинял львовских братчиков в том, что они «не знают в церкви ничтоже читати, ни тое самое псалтыри, ни часослова… Латынских басней ученицы, зовемые казнодhи, трудитися в церкви не хо-чют, только комедии строят и играют»3.
Школьный театр XVI—XVII вв. характерен прежде всего тем, что пьесы писались специально для каждого представления, и, как правило, после пред-ставления к ним не возвращались. Именно этим объясняется тот факт, что сохранилась лишь малая толика из пьес школьного театра, причем как в ру-кописной, так и печатной традициях. Особенно важными в связи с этим яв-ляются изданные в типографии Львовского братства тексты одних из первых декламаций школьного театра.
Первой печатной книгой школьных декламаций является поэтический сборник «Προσϕώνηµα. Привет преосвященному архиепископу кир Ми-хаилу Митрополиту Киевскому, галицкому и всея России»4. М. С. Грушев-
1 Єфремов С. О. Історія українського письменства. Київ, 1995. С. 167.2 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства // Журнал мини-
стерства народного просвещения. 1850. № 5. Ч. 66. Отд. 2. С. 122.3 Вишеньский І. Послання до Домнікії // Українська література XIV—XVI ст. Київ, 1988.
С. 371.4 Текст опубл.: Українська поезія. Кінець XVI — початок XVII cт. Київ, 1978. С. 137—144;
Українська література XIV—XVI ст. Київ, 1988. С. 503—510; Факс. изд.: Гусева А. А. Изда-
181§ 6. Просветительская деятельность
ский определял одну из частей сборника «Просфонима» как декламацию, кото-рая построена по принципам сценического искусства1. «Просфониму» можно считать первым печатным произведением украинской драматургии и первым изданным типографским способом кириллическим шрифтом сценическим произведением. В библиографии известно три экземпляра «Просфонимы», хранящихся в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, причем только петербург-ский экземпляр является полным2.
«Просфонима» начинается с геральдических стихов на герб города Львова. Эти же стихи были опубликованы в вышедшей в этом же году в типографии братства Грамматике эллино-словенского языка — «Адельфотесе». Видимо, они были написаны для «Адельфотеса», но использованы и в «Просфониме» с заменой одной строки, где говорится о приветствии митрополита:
Герб3 тезоименитого Князя Льва град сей мает,Его же имя по всей Европеи российский род знает.В митрополии Киевогалицкой славно пребывает,И Митрополита своего честно привhчает4.Лев царствует безсловестным зверем в начало,Словесным же образ, Христово царство нам ся показало.Мужайся, многоплеменный росский народе,Да Христос начало крhпости в тебh буде.
В Львовской братской школе искусство стихосложения занимало важное место в учебной программе, и включение его с незначительной вариацией в два издания братства 1591 г. говорит о том, что составлено оно было именно в шко-ле, возможно, учениками при помощи или участии учителей. Геральдические стихи следует рассматривать как часть книги, но не как часть декламации. Геральдические композиции (гравюры гербов и геральдические стихи) были од-ним из элементов украинской печатной книги XVI—XVII вв. Следует отметить,
ния кирилловского шрифта второй половины XVI века. Кн. 2. №113. Рис. 113.1—113.8. О сборнике «Просфонима» см.: Голубев С. Т. Панегирик, поднесенный в 1591 г. Львовским братством митрополиту Михаиле Рогозе // Киевские епархиальные ведомости. 1874. № 5. Отд. 2. С. 113—133, № 6. Отд. 2. С. 145—157; Возняк М. С. Історія української літератури. Львів, 1921. Т. 2. Ч. 1. С. 77—78; Киселев Н. П. Греческая печать на Украине в XVI веке // Книга. Исследования и материалы. М., 1962. Сб. 7. С. 184—186; Он же. Книги греческой печати в собрании Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина // Книга. Исследо-вания и материалы. М., 1973. Сб. 26. С. 124—147; Криса Б. Поетичний доробок Львівської братської школи // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 39—43.
1 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 2. С. 311—317.2 Ісаєвич Я. Д. Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Кн. 1. № 23. С. 29—30.3 В «Адельфотесе» первое слово стиха «Знамение».4 В «Адельфотесе» строка: «Его же вся окрестная страна обогащает».
182 Глава вторая
что геральдическая композиция «Просфонимы» и «Адельфотеса» отличается от традиционных тем, что в ней используется городской герб, а не дворянский.
Собственно декламация начинается с «Предослова от малых», который произносился на двух языках: греческом и славянском. Первоначальный текст, видимо, был написан по-гречески, а славянский текст — это перевод. Ученики («малыя суще детища») выражают желание приветствовать митрополита и продемонстрировать свои познания и умения «лиру возяще, царския песни сладце соплетати».
Сама декламация состоит из трех «ликов» (актов), в которых по очереди выступают «отроки», провозглашая каждый свою часть. Каждое выступление «отрока» самостоятельно, представляет собой законченную мысль. Отдельные стихотворения написаны под влиянием нескольких основных направлений, наиболее популярных в поэзии конца XVI в.: народной поэтики, поэтической молитвы, геральдического стиха и др.1 Композиция произведения, в котором присутствует соединение прозаического и стихотворного текстов, греческого и славянского языков, разных жанров литературных произведений, сочетание барочных и ренесенсных метафор и стилистических приемов2.
В первом «лике» задействовано пять «отроков», которые провозглашают стихи на греческом, а потом на славянском языках. Выступление первого от-рока прозаическое, а остальных — поэтические, причем стихотворный размер в греческих и славянских текстах различен. Греческие элегические строфы, со-стоящие из гекзаметра и пентаметра, «переводятся» на церковнославянский двумя двустишиями разного размера3. Во втором «лике» выступают восемь от-роков, а в третем — пять, провозглашая четверостишия (парные двустишия) на церковнославянском со значительной долей украинизмов:
Прагнула тя душа наша, прагнули тя и кости мои, Як земля прагнет дождя в летнии знои.Нh един так покарм телу не смакует, Як уприймая душа, видячи тя, роскошует.
Далее следует «Молитва», которая по всей вероятности произносилась хором:
Бог всесильный (честный наш Отче), Бог правдивый,Заступник наш певный потешливый.
Заканчивает первое приветствие митрополита декламация «От старей-шин», в которой наиболее ярко звучат описания природы. Оно построено на
1 Криса Б. Поетичний доробок Львівської братської школи. С. 41—42.2 Криса Б. Писемність і літературна творчість // Історія Львова / Редкол. Я. Ісаєвич,
М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2006. Т. 1. С. 194.3 Грушевський М. С. Історія української літератури. Т. 5. Кн. 2. С. 312.
183§ 6. Просветительская деятельность
противопоставлении зимы и весны, в чем прослеживается влияние византий-ских поэтических произведений. Образ митрополита связан с приходом «про-летия» (весны), символизирующей обновление, возрождение жизни.
Образами и мелодикой этот стих перекликается со знаменитым латино-язычным произведением «Роксолания» львовского поэта XVI в. Себастьяна Фабиана Кленовича:1
Ледве розтануть сн³ги, Акв³лонам на зм³ну приходятьЕври й дари золот³ людям приносить земля.Щойно в³дступить Борей, Фавон³й теплом пов³вае,В сонця пром³нн³ жарким слабшае зразу мороз2.
и эпиграфом к нему, взятым из IV Эклоги «Буколик» Публия Вергилия Марона («Лес воспоем, но и лес пусть консула будет достоин»)3.
Второе приветствие митрополита, провозглашенное в школе, значитель-но меньше. Оно состоит из двух частей. Первая начинается большим стихом «Сладко слышание, о прекраснем раи поистинне...». М. С. Грушевский считал, что это приветствие «от старейшин»4. Видимо, его провозглашал член брат-ства или учитель школы, но не ученики, так как довольно большая стихот-ворная форма не разбита на отдельные декламации «отроков». Вторая часть имеет подзаголовок «Моление от нищих» и провозглашалась двумя отроками. В этой части ученики просят разрешения на сбор пожертвований для школы. М. С. Грушевский высказал предположение, что это стихи учащихся-медников с просьбой о помощи и о разрешении обходить парафии и собирать пожерт-вования5. Б. Крыса считает, что эту часть «Просфонимы» можно рассматри-вать как источник всей «нищенской» поэзии, популярной в XVII—XVIII вв.6
Буквальное понимание этой декламации, которой завершается привет-ствие митрополита, мне представляется не совсем правомочным. Вероятнее всего, образ нищих, собирающих милостыню, является аллегорией, символи-зирующей ученика, который постигает науку. Как нищий милостью Божьей и людской, странствуя, добывает себе пропитание, так и «отрок» своим терпе-нием, трудолюбием с Божьей помощью по крупицам приобретает знания —
1 Roxolania. Sebastiani Sulmyrcensis Acerni, civis Lubliensis. Cracoviae, 1584. Перевод см.: Франко І. Я. «Старинний Львів» (Із латинської поеми Себ[астіана] Кльоновича «Roxolania») // Франко І. Я. Зібрання творів: У 50 т. Т. 11. С. 366; Кленович Севастян Фабiaн. Роксоланія: Поема / Перекл. В. Маслюк // Українська поезія XVI століття. Київ, 1978. С. 114—167; Кльонович С. Ф. Роксоланія: Поема / Перекл. з латин. М. Білика. К., 1987.
2 Пер. с лат. М. Билыка.3 Пер. с лат. С. Шервинского.4 Грушевський М. С. Історія української літератури. Т. 5. Кн. 2. С. 315.5 Там же. С. 315.6 Криса Б. Поетичний доробок Львівської братської школи. С. 42.
184 Глава вторая
капитал, сопоставимый с Даром Божьим — милостыней. Заканчивается де-кламация описанием евангельской притчи о нищих духом, которым отво-рятся «небесные ворота». И как их «...во полаты пресветлыя и нетленныя воведут, идеже вси нищелюбивыи съ лики ангел будут», так и перед постиг-шими науки будут отворяться все врата Града земного.
Изучение этого сборника позволяет сделать вывод, что ученики школы хо-рошо владели приемами стихосложения не только на славянском, но и на гре-ческом языке, так как многие стихотворения написаны параллельно на двух языках. В школьной программе курс поэзии или правил стихосложения зани-мал значительное место.
Если «Просфониму» можно отнести к такой форме театрального искусства, как диалоги, то изданные в типографии братства в 1616 г. декламации Памвы Берынды «На рождество Христа Бога и Спаса нашего вирши для утехи православным христианом»1 — к мистериям. Автором этого драматического произведения является выдающийся деятель культуры, работавший типогра-фом в Львовской братской типографии и, возможно, дидаскалом (учителем) братской школы. Впоследствии он был типографом киевской Лаврской типо-графии, автором первого украинского толкового словаря «Лексикон славено-росский» (Киев: Тип. Лавры. 12 авг. 1627). Сочинение Памвы Берынды изуча-ли и в контексте истории литературы2, и в контексте истории театрального искусства3. Сегодня библиографии известно два экземпляра его книги, хра-нящиеся в Российской государственной библиотеке (Москва) и Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург)4.
Книга посвящена львовскому епископу Иеремии Тисаровскому. Из посвя-щения узнаем, что эта пьеса была представлена учениками братской школы:
За коляду и щодрый день, книжечку тую,Праздника зацного на памятку святую.Котрая то през дhток есть деклямована,И для утhхи на день тот, з друку выдана5.
Содержание декламации — один из самых распространенных сюже-тов школьного театра — евангельский рассказ о рождении Иисуса Христа.
1 Текст опубл.: Українська поезія. Кінець XVI — початок XVII cт. С. 194—210. 2 Сычевская А. Памва Берында и его вирши на Рождество Христово и другие дни. Киев,
1912; Рєзанов В. Драма українська. Київ, 1926. Вип. 1. С. 55—70; Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 6. С. 106—114.
3 Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII—XVIII вв. Польша. Россия. Украи-на. М., 1981; Она же. Старинный украинский театр. М., 1996.
4 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Кн. 1. № 108. С. 38.5 Берында Памва. На Рождество... Иисуса Христа вирши. Львов, 1616. Л. [1] об. (Ссылки
даются по дефектному экземпляру: РГБ. НИО РК (МК). Инв. 6195).
185§ 6. Просветительская деятельность
Декламация перекликается с народной поэзией — с колядками и щедривками, которыми поздравляли каждый дом во время рождественских праздников.
После поэтического посвящения в книге следует «Пролог», который про-износил первый «отрок» с призывом радостно встречать Рождество. Далее отроки рассказывают евангельский сюжет. Разыгрывать диалоги должны были семь учеников. Причем пьеса предполагает не только декламацию, но и сценическое действие. Один из «отроков» обращается с вопросом: «Ест ли ту кто с пастухов, нех ся отзывает». Пастухи как свидетели события Рождества Христа могли рассказать достоверно о «таемници», очевидцами которой они «очне насмотрили». На этот призыв отвечает следующий отрок, что есть только один человек, который лично знал этих пастухов и «статеч-ную правду может дати». Следующий отрок рассказывает от первого лица, как видел «Иосифа, матку и дитя повитое». Эта роль предполагала и эле-мент перевоплощения, создание образа пастуха, который поклонился мла-денцу Христу.
Памва Берында не ограничивается только поэтическим пересказом кано-нического текста, но и старается «оживить» сюжет. Например, после покло-нения Христу автор декламации представляет дальнейшие события из жизни пастухов, которые возвращаются к своим стадам. Их радость передается все-му живому. Пастухи слагают радостные песни, и все вокруг радуется вместе с ними. В этих строках звучат мотивы народных песен:
Наконец, кгдыс мы юж до кошарнь своих пришли,Тамех мы, як и перше, все зась вцале нашли.Где тыж и овечки нам веселья додали,Кгдыс мы им в пищалки нашh разне заграли. Бо берегучи почали рhзко скакати, Радости и веселья нам збыть додавати. По горах и падолах ся уганяючи, Нас скоки своими удобромысляючи1.
Заканчивается пьеса «Эпилогом», так же, как и все другие части книги, на-писанном стихами. В эпилоге описывается благодать и радость, принесенная Рождеством Христовым:
О диво, правда, як солнце, на землю взышла:И справедливост зась, з неба на землю пришла. С таковым ся овоцом, земля показала:Якого нhкгды пред тым, с себе не давала2.
1 Берында Памва. На Рождество... Иисуса Христа вирши. Львов, 1616. Л. [4] об. 2 Там же. Л. 7 об.
186 Глава вторая
Вторая часть книги Памвы Берынды включает стихи на другие святоч-ные праздники: стихи Первомученику Стефану (27 декабря), два стиха на Обрезание Господне, в честь Св. Василия Великого (1 января) и на Феофанию, или Богоявление (6 января).
Заканчивается книга стихотворным послесловием «До чительника», в ко-тором звучат традиционные для книжных послесловий мотивы. Автор сми-ренно просит читателя с благодарностью («вдячно») принять его труд и эту книгу. А если читатель считает себя более ученым, то пусть сам напишет новую книгу. Но автор предупреждает о том, чтобы не было зависти, потому что на этом поприще «приязнь плынет и все доброе походит». Интересно, что Памва Берында воспринимает свой труд в контексте средневековых традиций книж-ной культуры и отношения к труду «книгописателя»:
А тое наше хоть ся в порывъ написало,Быле бы ся що есть с хоти, всhм указало,Противко чому, кгды вдячность будет видати: Будет ся тыж и що значного выдавати.Иле що бы з авторов святых старых было,А ними ся пожиток, церкви учинило1.
Пьеса школьного театра игралась, по мнению Памвы Берынды, для «утехи православным христианам», но молодой вид искусства рассматривался все же как вспомогательный даже в воспитательном процессе.
«Просфонима» как декламация, демонстрирующая успехи учеников и уро-вень обучения братской школы, и «Вирши…» Памвы Берынды как авторское произведение, носящее ярко выраженный воспитательно-нравоучительный характер, показывают, как удачно соединялись традиции западной и вос-точной культур, как опыт и методы западноевропейской системы образова-ния применялись в православной традиции, ориентированной на сохранение «веры греческой» и национальной культуры.
В 1630 г. была издана драма Андрея Скольского, типографа братской типо-графии, «Вhршh з трагодии Христос Пасхон Григория Богослова на Велику пятницу и Великдень» — стихи, которые были вольным переводом греческо-го компилятивного произведения, написанного в Византии в XI—XII вв. по мотивам трагедий Еврипида, Эсхила («Прометей», «Агамемнон»), Ликофрона, евангельских и апокрифических сюжетов.
В 1631 г. в типографии братства вышла пьеса инока Иоанникия Волковича «Розмышляне о муцh Христа Спасителя нашего, притым веселая радость з триумфального его воскресения», в которой действующими лицами были
1 Берында Памва. На Рождество... Иисуса Христа вирши. Львов, 1616. Л. [15] об.
187§ 6. Просветительская деятельность
«три побожнh души» и десять «вhстников»1. Иоанникий Волкович посвя-тил свое произведение членам Львовского братства Габриелю Лангишу и Марку Савичу, здесь названы имена учеников школы: сын старшего братчика Габриеля Лангиша, сын братского писаря Буневский, Георгиевич. Сочинение И. Волковича написано согласно нормам византийской поэтики, что говорит о популярности византийской литературы в школе и определенной эстети-ческой преемственности греко-украинской поэтической традиции в конце XVI — начале XVII вв. Вероятно, многие диалоги или интермедии, которые разыгрывали ученики братской школы, писались самими учениками и учи-телями и потом хранились в библиотеке братства как рукописные сборники. В одном из реестров расходов братства сохранилась запись о выдаче учителю для школы «диалогов» на сумму 15 злотых2. По просьбе дидаскалов школы братство покупало книги лучших драматургов современности.
Для нужд театрализованного представления в Успенской церкви накану-не праздников по заказу братства сооружалась специальная сцена — вер-теп3. Школьный театр был очень популярен среди горожан4. Представления всегда проходили с большим успехом, и на них собирались не только львов-ские мещане, но и жители предместий. В традиционные религиозные сюжеты включались сцены из народной жизни, наполненные национальным колори-том и юмором. Но церковные власти негативно относились к театральным опытам братства. Во время генеральной визитации 1743 г. настоятелю церкви и братству было строго запрещено проводить в церкви «собрания и басни» (confabulationes), чтобы «дом Божий не превращался в театр»5. Однако теа-тральные представления продолжали ставить, несмотря на запреты. В 1761 г. монах Донат Попелевич опубликовал на польском языке представлявшуюся в братской церкви «Трагедию жалей...»6.
Школа Львовского братства быстро завоевала популярность среди украин-ского населения. Примеру Львовского братства на ниве образования после-довали многие новообразованные братства в городах и местечках Украины.
1 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Кн. 1. № 206, 219. Текст опубл.: Рєзанов В. Драма українська. Київ, 1926. Вип. 1. С. 71—90, 91—127. О драмах А. Скольского и И. Волковича см.: Возняк М. С. Історія української літератури. Львів, 1921. Т. 2. Ч. 1. 190—192; Возняк М. С. Діалог Іоанікія Волковича з 1631 р. // ЗНТШ. Львів, 1920. Т. 129. С. 33—48; Єфремов С. О. Історія українського письменства. Київ, 1995. С. 167—169.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1104. Л. 9.3 Там же. Д. 1089; Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 489.4 Грицай М. С. Давня українська драматургія XVII—XVIII ст. Київ, 1974; Софронова Л. А.
Старинный украинский театр. М., 1996.5 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 165.6 Estreicher K. Bibliografia polska. T. 22. S. 66; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку
української культури XVI—XVIII ст. С. 244.
188 Глава вторая
Посылая устав братства братчикам из Новоконстантинова в 1609 г., особо оговаривали, что одной из важнейших задач организации является создание школы и постоянная забота о ней1. Братство оказывало посильную помощь при организации школ другими братствами. Уже в январе 1588 г. братство посылает устав школы Дубецкому братству2. Львовские братчики часто посы-лали другим школам учебные пособия, изданные в их типографии. Например, в 1591 г. были отправлены два экземпляра греко-славянской грамматики «Адельфотес» Виленскому братству 3, в 1617 г. — Киевской братской школе4. Зарождающаяся система школьного образования испытывала острую не-хватку учителей. Многие новообразованные школы обращались к братству с просьбой направить к ним хороших учителей. Братство охотно отклика-лось на такие просьбы и посылало своих учителей, вероятно, бывших уче-ников школы. Вот как писали братчики, посылая в 1592 г. учителя в школу Перемышльского братства: «...посылаем любви вашей, яко же и прочиим градовhм благочестивым христианом и чадом вашим Александра - дидаска-ла правовhрна и честна и благопотребна и вся належащая с ним, да устро-ится во вас, вся по ряду братства и школьнаго учения чин совершеннh и богоугодно»5. Учителя из Львовской школы преподавали в Бересте, Рогатине, Стрые и других городах6, а также в некоторых церковных школах на львов-ском предместье7. По примеру Львовской братской школы возникают или ре-организуются школы в Галиче, Городке, Комарно, Бельске и др.8 Особо тес-ные связи поддерживало Львовское братство с Виленским. В 1591—1592 гг. по просьбе виленских братчиков для организации школы («до тое науки грама-тычное письма кгрецкой и словацкой делателя искусна дидаскала, человека доброе в том уменного») были командированы лучшие учителя Львовской
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 337.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 93.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 181. Опубл.: MCS. P. 310; АЮЗР. Ч. 1. Т. 10.
С. 74—75; ПIФ. С. 100—101.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 469. Опубл.: Голубев С. Т. Киевский митро-
полит Петр Могила. Т. 1. Приложения. С. 217; ПIФ. С. 142. 5 Акты относящиеся к истории Южно-Западной Руси // ВСИ. 1878. С. 131—136; Голу
бев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила. Т. 1. Приложения. С. 29, 32—35.6 MCS. P. 363, 370—373, 463.7 Мицько І. З. Львівські священники та вчителі останньої чверті XVI — першої тре-
тини XVII ст. // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 16—17.
8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 9. Оп. 1. Д. 349. С. 897; Д. 354. С. 3511; АОИЗР. Т. 4. С. 70; Харлампович К. В. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века… С. 365—368; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 138.
189§ 6. Просветительская деятельность
школы Кирилл Транквиллион Ставровецкий, Стефан Зизаний, Игнатий1. В 1617 г. виленские братчики опять просили Львовскую Ставропигию при-слать им учителя «латинской науки»2. Но и Виленское братство не оставалось в долгу. Во Львовской школе преподавали воспитанники Виленской братской школы Сильвестр Коссов и Исаия Трофимович3. Братство также посылало дидаскалов учить детей украинских шляхтичей и часто оказывало посильную помощь книгами, моральную (давало рекомендательные письма) или матери-альную странствующим учителям4.
Однако не всех радовали успехи братской школы. Магистрат города не мог смириться с тем, что в городе крепнет православная школа. В 1592 г. по науще-нию ректора латино-польской школы было организовано нападение учеников-католиков на учеников Львовской братской школы, которых «обобрали, избили, оскорбили, поранили, так, что те едва убежали за защитой добрых людей»5. Такой факт братство расценило как серьезное оскорбление и подало протеста-цию в гродский суд. Братство выиграло этот судебный процесс и добилось пу-бличного признания ректором польской школы поведения своих учеников не-достойным6. Но противостояние между двумя школами сохранялось постоян-но, и время от времени накал страстей перерастал в неприятные инциденты7. В архиве сохранились документы только о таких случаях, которые разбирались в судебном порядке. Так, в 1694 г. факт о нападении учеников польской школы на братскую разбирался в королевском суде, в результате чего специальный декрет короля Яна III предписывал Магистрату Львова вынести наказание префек-ту польской школы8. В 1730 г. такой же случай разбирался Львовским римско-католическим Капитулом9. Но настоящие препятствия развитию Львовской братской школы чинили не ученики и учителя соседней школы, а власть иму-щие. В 1635 г. указом короля Владислава IV запрещалось братским школам рас-ширять свои курсы до уровня высшей школы, были введены ограничения на преподавание ряда дисциплин (гуманитарные науки должны были изучаться
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 181, 191, 192, 194. Опубл.: MCS. P. 310, 324—327, 330—332; АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 74—75, 79—83; ПIФ. С. 100—101.
2 АОИЗР. Т. 4. С. 43, 44; MCS. P. 340.3 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 138.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 162, 254, 352. Опубл.: MCS. P. 283—289,
506—507, 856—857; АОИЗР. Т. 4. С. 241; Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила. Т. 1. Приложения. С. 157—158.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 214. Опубл.: MCS. P. 408—409.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 216. Опубл.: MCS. Р. 411—412.7 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст.
С. 168—169.8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 737.9 Там же. Д. 913.
190 Глава вторая
не далее диалектики и логики, запрещалось преподавание богословия)1. Это сильно подорвало развитие братских школ на Украине.
Противники братской школы были не только в стане «потенциальных» не-другов, но и среди тех, кто, казалось бы, должен был поддерживать начина-ния братства. Однако в конце XVI в. братство было вынуждено вести борьбу со львовским епископатом за право основания и содержания школы, против «ереов и епископов, … хулящих и возбраняющих учения и проклинающе учащиеся, … глаголюще, яко благословенна всяка душа проста, многия же книгы в неистовство влагают»2. В 1590, 1592 гг. Львовский епископ Гедеон Балабан организовывал нападения на учеников и учителей братской школы3. Выступления Гедеона Балабана против братской школы были обусловлены не столько враждебным отношением владыки к братству, сколько несогласием с моделью образования, которая была введена в братской школе. Епископ был убежден, что позаимствованная из западноевропейского, латинского опыта система образования подрывает старинные обычаи и способствует непокор-ности светских горожан духовенству4. Интересно, что такой же конфликт между духовенством и городскими школами, которые организовывались как противопоставление церковно-монастырским школам в XII в., был харак-терен для Западной Европы5. Именно такие новые школы (университеты), будучи самостоятельными и свободными от опеки и диктата духовенства, смогли выработать новые программы и методы обучения. Братская школа отстояла свою независимость от духовенства, несмотря на конфликты со львовским епископом Гедеоном Балабаном, резкие упреки и критику «латин-ских басней учеников» писателя-полемиста Ивана Вишенского, настоятель-ные рекомендации иерусалимского патриарха Феофана передать руководство школой монахам.
Во второй четверти XVII в. научно-образовательный центр Украины пере-мещается в Киев. Киевский митрополит Иов Борецкий, бывший учитель и ректор Львовской братской школы, основал по ее образцу в Киеве школу при Богоявленском братстве. Становлению и развитию Киевская братская школа, как и многие другие, обязана лучшим научным силам из Львова, воспитан-никам Львовской братской школы, таким как Мелетий Смотрицкий, Памва Берында и др. Петр Могила, будучи архимандритом Киево-Печерской лавры, освящая отстроенную братством Успенскую церковь в 1631 г., заявил о своем намерении «фундовать школы» и просил братство командировать учителей
1 Мединський Є. М. Братські школи України і Білорусії в XVI—XVII ст. С. 86.2 MCS. P. 141.3 Ibid. P. 234, 235, 416; АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 66—67.4 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст.
С. 169—170.5 Ле Гоф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 80.
191§ 6. Просветительская деятельность
Исаию Трофимовича и Сильвестра Коссова в Киев1. В то время как Киево-Могилянская Академия становилась крупнейшим научным центром, который привлекал лучшие умы Украины, Львовская братская школа, лишенная воз-можности развиваться, постепенно угасала. На такой высокий уровень, кото-рый она переживала в конце XVI — начале XVII вв., ей не суждено было под-няться никогда. Именно в этот период в школе преподавали и учились такие выдающиеся деятели украинской науки и культуры, как Стефан и Лаврентий Зизании, Мелетий Смотрицкий, Кирилл Транквиллион Ставровецкий, Памва Берында, Исаия Трофимович, Сильвестр Коссов, Захария Копыстенский и др.
Некоторые историки видели причину упадка Львовской братской школы в чрезмерном вмешательстве братчиков в учебно-методическую работу и в конфликте между «строителями» и дидаскалами2. Однако эти утверждения не подкреплены документально и, на мой взгляд, совершенно безоснователь-ны. Братчики сохраняли за собой право зачисления дидаскала в штат учите-лей школы. Однако эта процедура проходила скорее в ритуальном порядке, а не с целью оказать влияние на формирование учительского состава школы. Напротив, братство всегда стремилось пригласить к себе лучшие научные силы. Но по независящим от него причинам, а, скорее, вследствие политиче-ского противостояния братства с властными структурами города им не уда-лось завоевать первенства в области образования, предпочтение было отдано политическим соперникам братства — иезуитам. В то же время в Киеве сло-жились более благоприятные условия для развития украинского националь-ного образования и науки. Это и обусловило отток лучших научных сил из Львова в Киев, и постепенно Львовская школа заняла скромное место среди школ, дающих начальное образование. Но и в таком положении Львовская братская школа выпускала не менее достойных воспитанников, чем в конце XVI — начале XVII вв. Так, первоначальное образование в братской школе по-лучил Феофилакт Лопатинский, который продолжил образование в Киево-Могилянской Академии, а в 1706—1708 гг. был ректором Славяно-греко-латинской Академии в Москве3. Но если значение школы как научного центра снизилось, то ее значение как воспитательного центра, прививающего любовь к национальному языку, истории, культуре, сохранялось и даже возрастало. А именно это было чрезвычайно важно в условиях усиленного стремления польско-католических властей ликвидировать любые проявления украинской культуры в Польше. Об этом красноречиво свидетельствуют слова антиукра-инского трактата конца XVII — начала XVIII вв. «Проекта уничтожения Руси»: «Наиболее непокорны сами и других более всего в непокорности поддержи-вают те украинцы, которые умеют читать свое письмо. Поэтому необхо-
1 Жуковський А. Петро Могила і питання єдности церков. С. 71.2 Грушевський М. С. Історія України—Руси. Львів, 1907. Т. 6. С. 153.3 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 146.
192 Глава вторая
димо уничтожить причину их непокорности... А этого мы, поляки, легко до-стигнем, когда запретим учиться в школах»1.
К середине XVII в. братская школа стала обычной школой, в которой изуча-ли только науки «тривиума». Этого образования явно было недостаточно, по-этому многие ученики братской школы посещали польские «публичные шко-лы», в том числе Иезуитскую академию, 30 % учеников которой были украин-цы, причем не только униаты, но и православные2. В вестовых письмах русских резидентов в Польше в Посольский приказ сообщаются интересные подроб-ности. Если в 1691 г. после окончания курса риторики допускали православ-ных учеников слушать философию только один год, «а больше году слушать философии не допускают, а велят быть униатом»3, то в 1694 г. «езувиты по-становили впредь руских студентов не токмо до философии, но и до ритори-ки и до поэтики не допускать. И многие их школы на сих днях пошли врознь, а иные в Киев»4. Многие бывшие ученики братской школы отправлялись про-должать учебу в Киев, преимущественно в Киево-Могилянскую Академию. Братство не раз помогало материально таким студентам. Например, в 1692 г. из братской казны было выделено 30 злотых «студентам, которые идут в Киев», Базилевичу и Сусальскому и 15 злотых студенту Чернецкому, который уже учился в Киеве5. По окончании учебы эти студенты, как правило, возвра-щались во Львов в качестве учителей. Так, студент Базилевич не позднее 1694 г. был дидаскалом в школе братства. Братство также поддерживало киевских студентов, которые приезжали слушать курсы во Львовскую Академию, пре-доставляло им жилье, и они были учителями-репетиторами в братской школе. В 1725 г. комиссия Папской Нунциатуры, рассматривая статус братства, поста-новила в числе прочих ограничений прав Ставропигии запретить содержать в своей бурсе «студентов-схихматиков» и «не кормить хлебом братства», особенно тех, кто ранее учился в Киеве, если они не перейдут под юрисдикцию Рима6.
К сожалению, источников, раскрывающих деятельность братской школы во второй половине XVII—XVIII вв., практически не сохранилось. В приходно-
1 Harasiewicz M. Annales ecclesiae Ruthenae. Leopoli, 1862. P. 160—161; ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 800.
2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 143, 144.
3 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 237. Л. 173.4 Там же. 1691. Кн. 243. Л. 898 об. — 899.5 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 115; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в роз-
витку української культури XVI—XVIII ст. С. 145.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 868. Опубл.: Юбилейный сборник в память
350-летия Львовского Ставропигиона: Материалы, относящиеся к истории Львовского Ставропигиона в 1700—1767 гг. Львов, 1936. Ч. 1. № 72. С. 112—115.
193§ 6. Просветительская деятельность
расходных книгах можно встретить информацию, связанную с расходами на хозяйственные нужды по содержанию школы. Как правило расходы были об-щими для школы и госпиталя. Это чаще всего расходы на дрова, а также на мелкие ремонтные работы (чинили печь, окна, замки, столы и т. п.). Не редко встречаются расходы на продукты питания (хлеб, мясо, крупы, масло, горох, капусту и т. п.). Покупали для школы доску и другие необходимые для обуче-ния вещи. Информации об учителях и о школьных программах также в архиве братства практически не сохранилось. Например, в одной из расходных книг читаем, что 16 ноября 1689 г. за парастас (заупокойную службу) по дидаска-лу Лапшинскому заплачено было 2 злотых 29 грошей, а 26 июня 1697 г. ново-му учителю на свечи выделено 5 злотых1. Часто учителям оказывали допол-нительную материальную помощь. Например, 2 января 1693 г. двум учителям «na buty» (на обувь) выдали 14 злотых, и 13 апреля 1697 г. к празднику Пасхи дидаскалу на обувь было выделено 4 злотых2.
С последней трети XVII в. ученики школы жили в зданиях братства и на-ходились на полном его обеспечении, т. е. снабжались одеждой и питанием. По окончании школы некоторые ученики желали продолжить обучение и от-правлялись в Могилянскую Академию. Братство оказывало им материальную помощь, выделяя сумму (в конце XVII в. по 15 злотых), которая должна была покрыть расходы на дорогу и на первое время пребывания в Киеве.
Братская школа, основанная в 1586 г., просуществовала ровно 200 лет. В 1788 г., согласно указу австрийского императора Иосифа II, школа была ликви-дирована и преобразована в бурсу — учебное заведение низшего разряда, где обучали только украинскому языку, истории и некоторым другим предметам, но для получения полноценного образования ученики бурсы обязаны были посещать немецкие школы3.
За свою двухсотлетнюю историю Львовская братская школа не только да-вала образование украинским детям «вшелякого стану», но главным образом была очагом культурной жизни всей Украины, служила образцом для созда-ния многих школ не только на восточнославянских землях Речи Посполитой, но и за ее пределами. Школа Львовского братства внесла значительный вклад в разработку и воплощение на практике передовых идей педагогики, основан-ных на учениях западноевропейских гуманистов и православных моралистов. Педагогическая система, выработанная в стенах братской школы, оказала вли-яние на формирование мировоззрения выдающегося педагога своего време-ни Яна Амоса Коменского. Одной из главных заслуг братской школы является то, что она явилась прообразом первой на Украине школы высшего типа —
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1113; Шараневич И. И. Николай Красов-ский. С. 107, 115.
2 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 111, 114.3 Ваврик В. Р. Школа и бурса Львовского Ставропигиона. Львов, 1933. С. 47.
194 Глава вторая
Киево-Могилянской Академии, которую основали и в которой преподавали бывшие учителя и ученики школы Львовского братства. В течение всего пе-риода своего существования школа выполняла одну из первостепенных задач, стоящих не только перед школой и братством, но и перед всем национально-культурным движением Украины в конце XVI—XVIII вв.
б) Ти п о г р а ф и я Вопросы истории типографии Львовского братства и библиографии ее из-
даний привлекали внимание многих исследователей. Среди них наиболее ин-тересные и полные — исследования Д. И. Зубрицкого1, А. С. Петрушевича2, А. С. Крыловского3, И. П. Каратаева4, И. И. Огиенко5, Я. Д. Исаевича6 и др.7 Типография Львовского братства, ставшая не только символом братства, его
1 Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. Lwów, 1836; Зубрицкий Д. И. О славяно-русских типографиях в Галиции и Лодомирии // Журнал мини-стерства народного просвещения. 1838. Ч. 19. № 9. С. 560—585.
2 Петрушевич А. С. О начале книгопечатания на Руси вообще, а в городе Львове в осо-бенности // ВСИ. 1884. С. 113—133; Он же. Хронологическая роспись церковных и мирских русско-словенских книг, напечатанных кирилловскими буквами в городе Львове, начиная с 1574 до 1800 года // ВСИ. 1885. С. 113—133.
3 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство: Опыт церковно-историче-ского исследования. Киев, 1904.
4 Каратаев И. П. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими бук-вами (1491—1692 гг.). СПб., 1883. Т. 1; Он же. Хронологическая роспись славянских книг, напечатанных кирилловскими буквами: 1491—1730. СПб., 1861.
5 Огієнко І. І. Історія українського друкарства: Історично-бібліографічний огляд україн-ського друкарства XV—XVIII вв. Львів, 1925.
6 Исаевич Я. Д. Издательская деятельность Львовского братства в XVI—XVIII веках // Книга. Исследования и материалы. М., 1963. Сб. 7. С. 199—238; Он же. Книгопечатание во Львове XVI—XVII вв., XVIII в. // 400 лет русского книгопечатания. М., 1964. С. 73—77, 218—221; Он же. Деякі питання бібліографії видань братств // Архіви України. 1970. № 6. С. 9—16; Он же. Роль братств в издании и распространении книг на Украине и Белоруссии (конец XVI—XVIII вв.) // Книга и графика. М., 1972. С. 127—136; Он же. Приемники перво-печатника М., 1981; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог. Львів, 1981—1984. Кн. 1—2; Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкар-ства на Україні. Львів, 1983; Он же. Слов’янські стародруки в історії слов'янської і світо-вої культури. Київ, 1983; Он же. Books and book Printing in Ukraine in the sixteenth and the first half of the seventeenth centuries // Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів, 1996. С. 214—240; Ісаєвич Я. Д. The book trade in Eastern Europe in the seventeenth and early eighteenth centuries // Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів, 1996. С. 241—261; Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002.
7 Historja drukarń i stowarzyszeń drukarskich we Lwowe. Lwów, 1926; Запаско Я. П., Мацюк О. Я. Львівські стародруки: Книгознавчий нарис. Львів, 1983; Шустова Ю. Э. Типогра-фия Львовского братства как преемник книгоиздательской традиции Ивана Федорова // Федоровские чтения: 2003 / Отв. ред. Е. Л. Немиров ский. М., 2003. С. 257—276.
195§ 6. Просветительская деятельность
визитной карточкой во всех православных странах, сыграла большую роль в истории культуры, оказала решающее влияние на формирование нацио-нального самосознания. Типография, на оборудовании которой были изда-ны первые печатные книги на Украине еще до организационного оформления Львовского Успенского братства, просуществовала более 360 лет, последние ее издания вышли из печати в 1942 г. Это беспрецедентный пример «типографии-долгожителя».
Львовское братство стало преемником типографии первопечатника Ивана Федорова. Типографская деятельность Ивана Федорова во Львове была связа-на с Онуфриевским монастырем, где располагалась его типография и на терри-тории которого в 1583 г. был захоронен первопечатник. После смерти первопе-чатника все его имущество оказалось в руках кредиторов. Часть типографского оборудования выкупили ученики Федорова Сачко Седларь и Сенько Корунка, которые хотели основать свою типографию, но потом продали типографский станок виленскому типографу Кузьме Мамоничу1. В 1584 г. типографское обо-рудование, заложенное Израилю Якубовичу в 1579 г. «друкарем Ходоровичем» и его сыном переплетчиком Иваном за 411 злотых, решением львовского ев-рейского суда было присуждено ему в собственность2. Вероятно, это была зна-чительная часть «инструментов», которые решили выкупить львовские горо-жане и продолжить начатое первопечатником дело. Некоторые исследователи полагали, что инициатива выкупа типографии исходила от львовского еписко-па Гедеона Балабана, которую они обосновывали воззванием 1584 г. ко всем православным с призывом выкупить типографию Ивана Федорова. Однако в самой грамоте содержится указание, что епископ не самолично принимал такое решение, а «весполок с паны мещаны львовскими»3. Вероятнее всего, «паны мещаны» обратились с просьбой к епископу о такой грамоте, которая бы помогла им в сборе денег. Заботу львовских горожан о возобновлении во Львове типографского дела можно считать одним из важных факторов орга-низационного оформления братства. Интересно, что в установочной грамоте антиохийского патриарха Иоакима 15 января 1586 г. также содержится обра-щение ко всем православным с просьбой оказать материальную помощь «па-нам мещанам львовским», которые купили типографию «письма словенско-го и греческого ку той школе потребную» за 1500 злотых в кредит4. Деньги
1 Bostel F. Przycrynek do dyiejów pierwszej ruskiej drukarni we Lwowie // Pamiętnik literacki. R. 1. Lwów, 1902. № 5, 6; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 177.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 67. Опубл.: ПIФ. С. 69—70.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 70. Опубл.: MCS. P. 111—112.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 72. Опубл.: MCS. P. 119—120; АОИЗР.
Т. 3. С. 301—302; ЮИЛСБ. Т. 1. С. 57; ПКК. 1898. Т. 3. С. 11—12; ПІФ. С. 82—83; Привiлеï нацiональних громад мiста Львова. № 2 (171). С. 504—505.
196 Глава вторая
для полного выкупа типографии братство собирало более трех лет1. Несмотря на то что основная часть типографии была выкуплена еще в 1585—1587 гг., братство не могло приступить к издательской деятельности либо по причине острой нехватки средств, либо, по предположению И. И. Огиенко, потому что Израиль Якубович передавал оборудование братству по частям, по мере упла-ты долгов2.
Братство не только было обеспокоено выкупом оборудования Ивана Федорова, но и заботилось об изготовлении нового. В 1589 г. член братства Лесько Малецкий завещал организации часть принадлежавших ему метал-лических вещей для изготовления типографских шрифтов3. Кириллические и греческие шрифты, доски для заставок, концовок, инициалов (оригиналы и ко-пии) Ивана Федорова использовались в типографии братства вплоть до конца XVIII в.4, последний оттиск с оригинальной федоровской доски зафиксирован в изданном в 1819 г. в Ставропигийской типографии Букваре5. Основой типо-графской марки братства стала большая типографская марка Ивана Федорова из Апостола 1574 г., где вместо герба Ивана Федорова на левой геральдической части было помещено изображение колокольни при Успенской церкви, кото-рая символизировала добродетель. В основу художественного оформления изданий братской типографии также были положены издания Федорова: ху-дожественное оформление титульного листа, гербы и посвящения, типограф-ский знак, орнаментальные заставки, концовки и инициалы. Поэтому можно говорить о братстве не только как о формальном преемнике типографии Ивана Федорова, но и как о достойном ученике типографского дела первопечатника.
Программа издательской деятельности братства была очень широкой. Занимаясь обустройством типографии, братчики уже видели перспективы своей издательской деятельности. В 1589 г. братчики так представляли себе программу издательской деятельности: «Мают вольность... друковати не-возбранно священныя книгы церковния со тщанием многим и прилежани-ем не токмо молитвенныя псалтыри, апостолы, минеи же и триоди, слу-жебники, синиксары, евангелия, метафрастов, панигирика, хроники сиречь
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 80, 83, 84, 120, 146; ЛИМ. Собр. рук. № V. С. 57. Опубл.: ЮИЛСБ. Т. 1. С. 59; DS. P. 68—69; MCS. P. 142—144, 145; АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 442—443; ПКК. 1898. Т.3. С. 11—12. ПIФ. С. 89, 99—100; Пам’ятки братських шкіл на Україні. Київ, 1988. С. 18—19; Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. № 2 (171). С. 504—505.
2 Огієнко І. Історія українського друкарства: Історично-бібліографічний огляд україн-ського друкарства XV—XVIII вв. Київ, 1994. С. 112.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52. Оп. 3. Д. 20. С. 235; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 177.
4 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 179.5 Запаско Я. П., Мацюк О. Я. Львівські стародруки: Книгознавчий нарис. Львів, 1983.
С. 34—35.
197§ 6. Просветительская деятельность
летописцы и прочая книги, часослов иже у нас христовой церкве, но учили-щу потребныя, то есть граматику, пиитику, риторику и философию»1. Эту программу можно назвать революционной для своего времени. Комплексное издание богослужебной и учебной литературы, включая книги по риторике и философии, говорило о широкомасштабных замыслах будущих книгоиз-дателей, несмотря на столь еще короткую историю типографского дела на Украине, понимающих, что только книгоиздание способно сделать самые не-обходимые книги более доступными для читателя. К сожалению, эту про-грамму полностью Львовское братство осуществить не смогло.
Юридической основой организации типографии при братстве стали гра-моты антиохийского патриарха Иоакима от 15 января 1586 г., константи-нопольского патриарха Иеремии 1589 г., киевского митрополита Михаила Рогозы 1590 г.2 Церковный поместный собор 1591 г. окончательно утвердил за Львовским и Виленским3 братствами право содержать типографии4. В 1592 г. это право братства было подтверждено королем Сигизмундом III5 и всеми по-следующими королями Польши. В 1639 г. Владислав IV предоставил братству исключительное право издания церковных книг кирилловским шрифтом, а в 1669 г. король Михаил, подтверждая предыдущие привилеи братства, разре-шил издавать светские книги кириллического письма, не вредные королевской власти и католической церкви6.
Первым известным изданием братской типографии являются две грамоты, отпечатанные симметрично на двух половинках одного листа: слева — грамота константинопольского патриарха Иеремии с просьбой о «вспоможении» для нужд братства, в том числе «штанбу (типографию. — Ю. Ш.) от рук еврей-скии искупити, юже застави Феодор Москвитинин», датированная ноябрем 1589 г., справа — окружное послание киевского митрополита Михаила Рогозы и львовского епископа Гедеона Балабана от 20 июня 1590 г.7 Текст обеих гра-мот отпечатан острожским шрифтом Ивана Федорова, в нижнем правом углу
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 121. Л. 1 об.; Опубл.: Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. C. 512.
2 Там же. Д. 127. Опубл.: MCS. P. 218—220; АОИЗР. Т. 4. С. 69.3 Виленское Троицкое братство унаследовало типографию Мамоничей.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 188. Опубл.: MCS. P. 319—321; АЮЗР. Ч. 1.
Т. 10. С. 77—79; Пам’ятки братських шкiл на Україні. С. 25—27.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 206. Опубл.: MCS. P. 389—391; ПİФ.
С. 108—109.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 542, 672. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10 С. 182—183,
674—676.7 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 1. № 21. Текст опубл.:
АОИЗР. Т. 4. С. 29—31; Памятники полемической литературы // Русская историческая би-блиотека. СПб., 1903. Т. 19. Примечания. С. 55—60. Факсим. воспр.: Киселев Н. П. Греческая печать на Украине в XVI веке. С. 180—184; Свєнціцький İ. С. Початки книгопечатання на
198 Глава вторая
указано: «Во Львове. В друкарни братской року 91-го генуария 23»1. Но не-которые исследователи считали, что типография братства начала свою рабо-ту в 1586 г.2 Однако к книгоизданию братская типография приступила только в 1591 г. Через 10 дней вышла вторая книга «Просфонима» — стихотворный сборник в честь киевского митрополита Михаила Рогозы. В этом же году был издан «ADELFOTHS. Грамматика доброглаголиваго еллинословенскаго язы-ка, совершеннаго искуства осми частей слова» — первая печатная граммати-ка на Украине.
Организация издательского дела на самом высоком уровне в типографии братства стала возможной благодаря хорошим кадрам, талантливым типогра-фам, которые были учениками Ивана Федорова. Львовские горожане тесно со-трудничали с сыном первопечатника Иваном Друкаревичем. В 1585 г. «Иван, друкаря сын» погиб от рук львовского епископа Гедеона Балабана, который «бросил в яму» и »заморил его до смерти»3. Первым руководителем типогра-фии братства стал монах Онуфриевского монастыря Мина. Это был хорошо образованный человек своего времени, сторонник преобразований во имя культурного возрождения украинского народа. Его мнение очень высоко це-нил князь Андрей Курбский, который в последнем из известных нам писем к львовскому мещанину Семену Седларю просит: «А проси от мене отца Мины, иже бы мя наведал» в его имении Милетичах, чтобы «усты ко устом беседовати»4. С 1585 г. Мина активно помогал в сборе средств для выкупа ти-пографии. Документ 1588 г. называет его типографом (impressor), а 1592 г. — «ученым Друкарем»5. Судьбы Ивана Друкаревича и отца Мины схожи в своей трагичности. Львовский епископ Гедеон Балабан оказывал сильное сопротив-ление начинаниям братства в сфере преобразования культурной жизни горо-да: в 1589 г. он напал на братскую школу, разогнав учеников, опустошил типо-
землях України. Жовква, 1924. Табл. 84. № 206; Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй пловины XVI века: Сводный каталог. М., 2003.
1 Цит. по: Исаевич Я. Д. Издательская деятельность Львовского братства в XVI—XVIII веках // Книга. Исследования и материалы. М., 1963. Сб. 7. С. 206.
2 Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. S. 15; Петрушевич А. С. Хронологическая роспись церковных и мирских русско-словенских книг, на-печатанных кирилловскими буквами в городе Львове, начиная с 1574 до 1800 года // ВСИ. 1885. С. 113—114; Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. С. 69—70; Харлампович К. В. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века… С. 288.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1035. С. 97.; MCS. P. 418; Немировский Е. Л. Первопечатник Иван Федоров: Жизнь и деятельность. М., 1964. С. 11; Купчинский О. А. До-кументы об Иване Федорове и его сыне Иване Друкаревиче в ЦГИА УССР в г. Львове и их использование в отечественной археографии // Советские архивы. 1975. № 4. С. 83.
4 Письма князя А. М. Курбского к разным лицам. СПб., 1913. Док. № XXV. Ст. 111—114.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 100, 1035; MCS. P. 165, 418; АЮЗР. Ч. 1. Т. 10.
С. 93.
199§ 6. Просветительская деятельность
графию, а управителя ее, благочестивого монаха Мину, выслал из города в кан-далах («оковавши, волочил, и по ямах своих сажал»)1. И. И. Огиенко называл его одним из первых мучеников за издательское дело в Украине2. Трагическая судьба этих книгоиздателей является горьким примером того, с каким трудом пробивало себе дорогу новое и прогрессивное типографское дело, которое в конечном итоге стало одним из главных факторов оживления национально-культурной жизни Украины.
В XVII—XVIII вв. типографию братства возглавляли такие книгоиздате-ли, как иеромонах Пафнутий Кульчич (1615), Памво Берында (1616), Иосиф Кирилович (1627)3, Андрей Скольский (1630—1632, 1641—1643), Михаил Слёз ка (1634—1637, 1643—1651), Иван Кунотович (1638—1639, 1642), Дмит-рий Кульчицкий (1662—1663), которому помогала жена «друкарка Дмит-ровая», Степан Половецкий (1668—1672), Семен Ставницкий (1662—1697), Степан Половецкий (1669—1671), Василий Ставницкий (1697—1730)4, Петр Ставницкий (1717), Иван Грозевский (1741—1763), Яков Паславский (1770—1772)5. Типография Львовского братства была одним из центров печат-ной книжной графики Украины. Братство старалось привлечь к себе наиболее талантливых граверов, принимая их учителями братской школы, священнос-лужителями Успенской церкви, а монахов поселяя в Онуфриевском монасты-ре. С братством сотрудничали иеродиакон Георгий, Илия, Василий Ушакевич, Иоанн Глинский, иеромонах Дорофей, Евстафий Завадовский, Никодим Зуб-риц кий, Дионисий Синкевич, Иван Филипович, Григорий Левицкий, Геор гий Вишловский и др.6 Типографии Львовского братства принадлежит ряд нов-шеств в книгоиздательском деле. Уже в первых изданиях была попытка упо-треблять в текстах заголовков и заглавных буквах упрощенный шрифт, про-образ так называемого гражданского шрифта. Еще в начале XVII в. впервые были введены сюжетные иллюстрации, вставленные в текст книги, в то время как до этого использовались только орнаментальные украшения и портретные
1 DS. P. 41—49.2 Огієнко І. І. Історія українського друкарства. С. 153—154.3 Книги с именем Иосифа Кириловича не известны современной библиографии. В
архиве братства сохранился привилей от 11 января 1627 г. киевского митрополита Иова Борецкого Кириловичу Иосифу на игуменство Онуфриевского монастыря и руководство братской типографией (ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 496. Опубл.: Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила. Приложения. Т. 1. С. 290—292.).
4 О типографах братской типографии см.: Огієнко І. І. Історія українського друкарства. 126—140, 151—155, 156—163, 271—277.
5 Iсаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 181; Iсаєвич Я. Д. Українське книговидання: Витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002. С. 270—271.
6 О граверах братской типографии см: Исаевич Я. Д. Издательская деятельность Львов-ского братства в XVI—XVIII в. С. 229—232.
200 Глава вторая
иллюстрации на весь лист1. С середины XVIII в. в изданиях братской типогра-фии начали использовать гравюры на меди. Первая книга с такими гравюрами была издана в 1742 г. («Акафисты всеседмичные благоизбранные»), в 1745 г. с использованием гравюр на меди была издана «Философия Аристотелева по умствованию перипатетиков изданная» Михаила Козачинского2.
Первоначально типография братства размещалась при Успенской церкви, но из-за строительных работ по восстановлению храма братчики перенесли в 1608 г. типографию в Онуфриевский монастырь. В одной из монастырских келий типография находилась до 1615 г. После неприятного инцидента, драки («кгвалт» и «битва») на территории монастыря во время посещения киевского митрополита-униата Вениамина Рутского и владимирского епископа-униата Илии Мороховского 3, типография была перенесена опять в город. В 1616 г. во время пожара на Руськой улице сгорело много книг типографии, а во время пожара 1628 г. братская типография сгорела почти полностью, уцелел только печатный станок и шрифты4. На возобновление типографии пожертвовали молдавский воевода Мирон Бернавский и архимандрит Киево-Печерской лав-ры Петр Могила5. В 1630 г. в восстановленной типографии вышла «со мнозhм трудом и иждивением, сосуд сей, яко многочестный, возставихом»6 книга Андрея Скольского «Вирши з трагодии Христос Пасхон Григория Богослова» с посвящением Мирону Бернавскому.
Об организации типографского дела до середины XVII в. сохранилось мало сведений. Только с 1649 г. сохранились книги расходов на типографию, которые позволяют реконструировать механизм работы типографии. На со-брании братства принималось решение об издании той или иной книги, при этом определялся тираж издания. После этого с руководителем типографии или главным типографом заключался контракт, в котором оговаривались все требования братства к мастеру, размер оплаты его труда, обязательства брат-ства обеспечить мастера всем необходимым типографским оборудованием и материалами. Интересно, что даже с постоянными своими типографами, таки-ми как Семен Ставницкий, Василий Ставницкий, Иван Грозевский и др., брат-ство каждый раз заключало контракт на издание новой книги. Типограф сам
1 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 180.
2 Запаско Я. П., Мацюк О. Я. Львівські стародруки: Книгознавчий нарис. Львів, 1983. С. 48—49.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 456, 1047; АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 344—345; Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. S. 18—19.
4 Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. S. 19—20.5 Огієнко І.І. Історія українського друкарства. С. 117.6 Октоих. Львов Тип. братства. 15 дек. 1630. 2-я группа. Предисловие к читателю.
Л. [2] об.
201§ 6. Просветительская деятельность
подбирал необходимые ему кадры («челядь») — наборщиков, помощников, подмастерьев. Все финансовые расчеты братство проводило с типографом, со-гласно контракту. А типограф уже сам рассчитывался с работниками типогра-фии, определял размер их оплаты, дополнительного вознаграждения. Поэтому типограф, не являясь владельцем типографии, все же был заинтересован под-бирать себе в помощь достойную «челядь». Кроме денежной оплаты братство в качестве дополнительного вознаграждения давало типографу часть книг от-печатанного тиража («прикладки»), которые типограф мог реализовать, но по ценам не выше установленных братством. При типографии была литейная мастерская, в которой время от времени переливались или изготавливались новые шрифты. Для наблюдения за типографией братство выбирало «дозор-ца», который являлся своеобразным директором, следившим за материаль-ным обеспечением типографии, и должен был давать перед ним отчет (глав-ным образом финансовый) о работе типографии. Братство назначало также и корректоров, которым типографы должны были показывать для согласования и утверждения пробные отпечатанные листы. Корректорами были хорошо об-разованные люди, которых можно считать так называемой интеллигенцией своего времени, а некоторых (Левинский, Горбачевский) — настоящими интел-лектуалами. В 1690 г. корректором был священник Успенской церкви Самуил Красовский, в 1741 г. — член братства Яков Русянович, в 1752—1753 гг. — свя-щенник Святковский, в 1754 г. — регент церковного хора Панькевич, а поз-же в течении ряда лет настоятели Успенской церкви и члены братства Антон Левинский и Иван Горбачевский1.
Отпечатанный тираж книги братство принимало на книжный склад, отку-да книги под расписку выдавались для продажи в книжную лавку («до скле-пу»). Продавцами книг («продавца» или «venditores librorum») назначались 2—3 братчика, исполнявшие свои обязанности по очереди, сменяя друг друга. Цены на книги («таkа») устанавливались братством на собраниях из расчета их стоимости и назначения. Наиболее дорогими книгами были напрестольные Евангелия, Апостол и некоторые другие церковные книги, предназначенные для богослужения. Самыми дешевыми были учебные книги — буквари, школь-ные часовнички и псалтирки, причем эти книги издавались самыми большими тиражами и довольно часто переиздавались. Иногда братство изменяло уста-новленные цены на книги в зависимости от спроса. Книги поступали в про-дажу в двух видах — в переплете и «в секстернах», то есть в тетрадях, иногда продавались книги в неразрезанном виде. Расценки на переплет устанавлива-лись братством также на собраниях в зависимости от размера и назначения книги. С переплетчиками братство заключало контракты, часто расплачива-лось с ними книгами.
1 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 184; Ісаєвич Я. Д. Українськие книговидання. С. 270.
202 Глава вторая
Не все книги расходились одинаково, некоторые издания залеживались на складе десятилетиями. Например, в 80-е гг. XVII в. на складе еще находи-лись экземпляры «Адельфотеса» 1591 г.1 В зависимости от спроса на книгу братство принимало решение о ее переиздании и размере тиража. Оптовым покупателям братство давало скидку, можно было купить книги и в кредит. Покупателям особо больших партий книг братство выдавало часть книг в ка-честве премии. В качестве оптовых покупателей, которые занимались распро-странением изданий братской типографии, были крупные купцы. Так, в пер-вой трети XVIII в. — Петр Кунащак, Иван Подтилецкий2. Книги продавали на крупных ярмарках, например, в 1732 г. на Почаевской ярмарке в день Успения Богородицы продавали книги Иван Комаринцкий, Яцентий Бородецкий, пе-реплетчик братства Василий Корницкий. Последний, по заданию братства, продавал книги на Уневской ярмарке3, а член братства Михаил Горошко — в Бродах4.
Книги братской типографии пользовались большой популярностью. Они расходились не только по всей Галиции, но и на Волыни, Подолии, в Белоруссии, Молдавии, Литве. С просьбой прислать грамматику «Адельфотес» к братству обратилось сразу же после выхода ее из печати Виленское братство, книга была подарена новогрудскому воеводе Федору Скумину-Тышкевичу, а в 1617 г. грамматики закупил для Киевской братской школы Иван Борецкий5. Братство регулярно посылало свои книги в Вильно6, постоянным заказчиком брат-ской книжной продукции был Манявский Скит7, с просьбой о покупке книг к братству обращались церковные иерархи8, частные лица9 и др. Например, в 1631 г. братство по просьбе Прасковии Боговитивны Ярмолинской послало ей «часть Октоихов през Андреа друкара», изданных в 1630 г. в типографии
1 Исаевич Я. Д. Издательская деятельность Львовского братства в XVI—XVIII в. С. 234.2 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 «Оссолинских».
Ед. хр. 2111.3 Исаевич Я. Д. Издательская деятельность Львовского братства в XVI—XVIII вв. С. 235.4 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 189.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 181, 185, 469. Опубл.: MCS. P. 310, 316—317;
.АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 74—76; Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила. Приложения. Т. 1. С. 217; ПІФ. С. 100—101, 142.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 474.7 Там же. Д. 615, 645, 943. Опубл.: Збірник документів і грамот Скитських. Львів, 1887.
№ 1, 5; Копыстянский А. Дополнение к материалам, относящимся к истории Львовскаго Ставропигиона в XVIII ст. // Юбилейный сборник в память 350-летия Львовскаго Ставро-пигиона. Ч. 2 // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. № 2. С. 149—150.
8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 512, 634.9 Там же. Д. 400, 513. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство.
Приложения. № 15. С. 29—30; № 47. С.104—105.
203§ 6. Просветительская деятельность
братства, за что «тая христолюбива будучи и вдячне тен дар принявши» при-слала 100 злотых1. Братство не только продавало книги, но и дарило их многим церквям, монастырям и братствам. Например, в 1659 г. разные издания брат-ской типографии были подарены Люблинскому и Берестейскому братствам2. В конце XVII в. братство подарило книги мукачевскому епископу, монасты-рю в местечке Лесько Сяноцкой земли, Люблинскому братству, Корсуньскому, Почаевскому, Верхратскому монастырям, многим братствам Галиции3. Книги типографии братства пользовались большой популярностью не только в стра-нах, где был в употреблении славянский язык (Сербия, Македония), но и в Венгрии, Греции, Палестине. Например, в 1614 г. к братству обращается с прось-бой прислать новоизданные книги бывший молдавский митрополит Макарий, а ныне «смиренный инок» со «Светеи Афонской горы»: «аще что маете друку нового, кир Иоане Красовский (старейшина братства. — Ю. Ш.), посылайте к нам»4. В 1664 г. братство пожертвовало иерусалимскому патриарху 270 книг своей типографии5. Большой популярностью издания братской типографии пользовались в России6. В 1707 г. члены братства получили аудиенцию рус-ского царя Петра I, который в то время пребывал в Жовкве (местечко близ Львова). Он выдал братству грамоту (28 февраля 1707 г.) на свободную бес-пошлинную продажу книг братской типографии на территории Левобережной Украины: «Дабы посланных изо Олвова, когда пошлютца на Украину в наши царского величества Малоросийские городы два или три человека с церков-ными на продажу книгами... и их с теми книгами до Малоросийских горо-дов чрез те места, егда им случитца ехать, где войска наши обретаютца, пропущать без задержания, не чиня им в пути их озлобления»7. Типографы и граверы братской типографии позже работали во многих других типогра-фиях: в Закарпатье, Молдавии, Валахии, Трансильвании8. Отдельные издания братской типографии пополняли книжные собрания Чехии, Венгрии, Англии, Швеции9.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1052. Л. 2.2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 226.3 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 188;
ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1104. Л. 1—2; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 178, 238.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 446. Опубл.: АОИЗР. Т. 4. С. 432—434.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 634.6 Эйнгорн В. О. Книги киевской и львовской печати в Москве в третью четверть XVII в.
М., 1894.7 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 614.8 Исаевич Я. Д. Роль братств в издании и распространении книг на Украине и Белорус-
сии (конец XVI—XVIII вв.). С. 130.9 Barnicot J. D. A., Simmons J. S. G. Some unrecorded early-printed Slavonic books in English
libraries // Oxford Slavonic Papers. 1951. Vol. 2. P. 98—118; Simmons J. S. G. Early printed Cyrillic
204 Глава вторая
Кроме изданий своей типографии братство продавало в своей книжной лавке некоторые издания Киево-Печерской типографии. В 1623 г. поступила в продажу «Минея избранна», в 1649—1665 гг. продавались киевские большие Требники (Требник Петра Могилы 1646 г.), Триоди Постные и Учительные Евангелия, в 1698 г. — Полууставы. С 1669 г. продавался «Меч духовный» Лазаря Барановича (Киев, 1666)1. Взамен в Киеве продавали львовские из-дания.
Тесные контакты двух типографий, основавшиеся на взаимной выгоде в те-чение почти 100 лет, привели к конфликту. В 1730 г. архимандрит Киево-Печер-ской лавры Роман Копа, видя в лице Львовского братства сильного конкурента, способного потеснить его на книжном рынке России, особенно после привилея Петра I братству на свободную книготорговлю на территории Левобережной Украины, через Коллегию иностранных дел обратился к императрице Анне Иоанновне с просьбой запретить ввоз из-за границы книг, которые продаются «по ярмаркам и торгам». Основной причиной, по которой следовало запретить ввоз в Россию книг, издававшихся на Правобережной Украине, отец Роман на-зывает то, что они «нарhчию российскому и орфографии весьма противны»2. Интересно, что в 1720 г. точно такие же обвинения по поводу «розни и особого наречия» предъявлялись киевской типографии Петербургским Синодом, ко-торый наказывал, чтобы «никакой розни» в киевских изданиях не было3. В дан-ной ситуации верх одержали чисто коммерческие интересы, так как Лаврская типография вполне справедливо опасалась, что издания на родном «наречии» будут пользоваться бόльшим спросом. Продажа книг Львовской типографии в России не была прекращена, братство продавало в основном книги, издан-ные до Замойского собора 1720 г., после которого во многие церковные книги были внесены значительные изменения, православные книги признаны «схиз-матическими» и не рекомендовались для продажи и использования во время богослужений. О распространении книг Львовского братства в России свиде-тельствуют описания многих книжных коллекций России, опубликованные во второй половине XIX в., в которых издания Львовского братства были пред-
books in Marsh’s library Dublin // The Irish Book. 1963. Spring; Tyrrell E. P., Simmons J. S. G. Sla-vonic books before 1700 in Cambridge libraries // Transactions of the Cambridge Bibliographical Society. Vol. III, 5. 1963. P. 389, 392; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 190; Шустова Ю. Э. Реестры продажи книг Львовского Успен-ского братства 40—60-х гг. XVII в. как источники книги // Книга в пространстве культуры. Вып. 1 (3). 2007. С. 44—62.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф 129. Оп. 1. Д. 1065, 1066, 1084, 1097; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 188; Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання. С. 273.
2 Свєнціцкий І. Дещо про печатню Успенського братства у Львові та її видання // Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 328—329.
3 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 190.
205§ 6. Просветительская деятельность
ставлены довольно полно, начиная буквально с первых изданий этой типогра-фии, таких, как «Адельфотес» 1591 г. Основная часть этих книг продавалась в России в XVIII в.
Львовское братство часто ставило коммерческие интересы во главу угла своих взаимоотношений с другими типографиями. Первый конфликт в свя-зи с типографией возник между братством и киевским митрополитом Петром Могилой. Своей грамотой от 19 февраля 1637 г. он, с одной стороны, подтверж-дал все права и привилегии братства, но в то же время вводил цензуру на все из-дания братства, требуя предварительно подавать ему на просмотр тексты всех предполагаемых к печати книг: «Абы без благословения Архиерейского на-шого жадных книг друковати в друкарни братской Львовской не важылися»1. Братство расценило это как нарушение его права ставропигии и обратилось за помощью к патриарху. В 1642 г. константинопольский патриарх Парфений специально обратился к Петру Могиле с тем, чтобы он не вмешивался в дела братства, которое подчиняется только патриарху.
Конфликт братства с Петром Могилой развивался одновременно с двумя процессами братства против типографов, которые основали свои типографии с целью издавать кириллические книги. Первый такой конфликт, затянувший-ся на 20 лет, возник между братством и его типографами — талантливыми кни-гоиздателями, которым со временем стало тесно работать под контролем брат-ства, поскольку они хотели проявить свою индивидуальность и дать возмож-ность полностью раскрыться своему таланту. Все началось с того, что Михаил Слёзка, член братства с 1633 г., руководитель братской типографии, в 1638 г. получил королевский привилей на основание во Львове своей типографии2. В это время во Львов из Молдавии вернулся Андрей Скольский, который в свое время окончил братскую школу, работал в типографии и был ее руководи-телем, — не только талантливый типограф, но и талантливый литератор, поэт. Из Молдавии Скольский привез типографские матрицы и шрифты, которые продал Михаилу Слёзке для его типографии и помог ему отлить славянские шрифты3. Именно этими шрифтами он отпечатал две книги4. Это стало пово-дом для возбуждения братством дела в гродском суде против издания Андреем Скольским книг кириллического шрифта5.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 534. Опубл.: ПКК. 1898. Т. 3. С. 58.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 540; Ф. 9. Оп. 1. Д. 390. С. 77—79. Ф. 52.
Оп. 2. Д. 266. С. 1229—1230; Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 178-—179; Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила. Т. 2. Приложения. С. 159—160; ПİФ. С. 166—169.
3 О типографии Михаила Слёзки см.: Исаевич Я. Д. Типография Михаила Слезки и ее роль в межславянских культурных связях // Федоровские чтения. 1973. М., 1976. С. 42—59.
4 Огієнко І. І. Історія українського друкарства. С. 160.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 541. Л. 1—62; 544; Ф. 52. Оп. 2. Д. 54. С. 1160;
Огієнко І. І. Історія українського друкарства. С. 160—161.
206 Глава вторая
В то же время братство начало процесс против Михаила Слёзки1. Братство обратилось к королю Владиславу IV с просьбой разрешить этот конфликт. Король подтвердил права братства на книгоиздание. Однако привилея Михаила Слёзки не отменил. Слёзка, в свою очередь, обратился за подтверждением прав на основание своей типографии к константинопольскому патриарху, на что по-лучил патриарший привилей, с которым обратился к киевскому митрополиту Петру Могиле. Могила выдал ему привилей на «друкованье в друкарни сво-ей вшеляких церковных и учительных книг кгрецким, словенским и руським далектом»2. Для разрешения конфликта в 1640 г. братство обратилось к новому константинопольскому патриарху Парфению, который стал на сторону брат-ства и выдал ему грамоту, где указывалось, что патриарший привилей Слёзке признается недействительным. Патриарх обратился с просьбой к Петру Могиле, чтобы и он отменил свой привилей Слёзке3. Однако типография Слёзки продол-жала существовать. Братская типография была подорвана не столько конкурен-цией, сколько отсутствием хороших кадров. Конфликт с Андреем Скольским закончился тем, что братство попросило его опять возглавить типографию, на что получило согласие. В 1641—1643 гг. Скольский вновь работает в типогра-фии братства. В 1643 г. братство заключило с Михаилом Слёзкой мировое со-глашение, пригласив его руководителем своей типографии. Слёзка должен был выполнять следующие условия: не издавать кириллических книг; большие изда-ния печатать тиражом 1200 экземпляров за оговоренную плату от экземпляра, а меньшие издания он имеет право издавать в братской типографии за свой счет и в свою пользу, отдавая братству за это 200 экземпляров каждого издания; на всех книгах он обязан указывать в выходных сведениях типографию братства4. Возвращение в братскую типографию Михаила Слёзки вынуждало покинуть ее Андрея Скольского, так как между ними были сложные отношения вследствие судебного разбирательства 1641 г., начатого Скольским из-за того, что Слёзка лишил его законной доли в их совместной типографии. Это дело Скольский проиграл. Уйдя из типографии братства в 1643 г., он перешел в типографию Арсения Желиборского. В 1651 г. он был заподозрен в шпионстве в пользу укра-инского казачества, обвинен в государственной измене, подвергался страшным пыткам, после чего суд признал его невиновным, но Скольский остался калекой. Последние дни он провел в Онуфриевском монастыре5.
Михаил Слёзка, подписав соглашение с братством, выполнял его пун-кты неохотно, продолжая издавать книги с указанием в выходных сведениях
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 543.2 Цит. по: Огієнко І. І. Історія українського друкарства. С. 129.3 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила. Т. 2. Приложения. С. 176—179,
182—184, 185—186.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 562. Опубл.: ПİФ.С. 200—205.5 Огієнко І. І. Історія українського друкарства. С. 161—162.
207§ 6. Просветительская деятельность
своей типографии. Новые издания Слёзки вызывали возмущение не только братства, но и Петра Могилы (после переиздания Слёзкой в 1646 г. двух книг Киево-Печерской типографии он был отлучен от церкви)1 и даже католиков2. В 1651 г. братство вынуждено было попросить Слёзку покинуть типографию братства3. Однако после разрыва братства со Слёзкой как с типографом оно продолжало считать его своим членом. Слёзка был незаурядным человеком, пользовавшимся большим авторитетом и уважением. Об этом свидетельству-ет и тот факт, что после столь длительных судебных процессов, конфликтов Слёзку в 1656 г. избирают одним из старейшин братства, а в 1664 г. — его руководителем. Слёзка выполнял многие серьезные и сложные поручения братства. После смерти Михаила Слёзки в 1667 г. возник конфликт с наслед-никами его типографии, которые решили продолжить дело Слёзки. В 1669 г. братство начало судебный процесс4 и добилось привилея короля Михаила на исключительное право издания книг кириллическим шрифтом5. На судебный процесс и взятки братство потратило значительные суммы денег, в результате суд принял решение о продаже типографии Слёзки братству за 7000 злотых6. Братство предприняло значительные усилия, чтобы собрать эту сумму, и все же выкупило эту типографию7, которая и она стала составной частью типо-графии братства.
Буквально через несколько лет, в 1678 г., возник еще один конфликт брат-ства — со львовским епископом Иосифом Шумлянским, который получил ко-ролевский привилей от 30 декабря 1677 г. на подчинение книгоиздания и фи-нансовых дел братства епископской власти. Братство обратилось в королевский суд с просьбой отменить такое решение в силу того, что оно противоречит пра-вам братства, которые неоднократно подтверждались королями Польши. Иск братства был удовлетворен, и рескриптом короля Яна III от 14 октября 1678 г. отменен выданный Шумлянскому привилей8.
В 1691 г. братство начало процесс против польского типографа Альберта Мильчевского, который на основании королевского привилея 1684 г., разре-шавшего ему печатать книги не только латинские, но и славянские, в 1690 г.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 573, 574. Опубл.: Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила. Т. 2. Приложения. С. 487—489; ПİФ. С. 227—229.
2 Огієнко І. І. Історія українського друкарства. С. 134.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 651.4 Там же. Д. 668, 178, 682.5 Там же. Д. 175, 176.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф 52. Оп. 2. Д. 77. С. 701— 704, 748—750, 1051—1057; Zu
brycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. S. 77—82; Огієнко İ. İ. İсторія українського друкарства. С. 138.
7 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 269, 251, 270.8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 712, 713.
208 Глава вторая
издал украинский Букварь тиражом 2000 экземпляров1. В результате судеб-ного разбирательства рескриптом короля 1692 г. Яна III привилей на издание славянских книг Мильчевскому был отменен, украинские шрифты конфиско-вывались в пользу братской типографии и тираж букваря передавался в соб-ственность братству, однако больше половины тиража к тому времени было распродано (братство получило 900 экземпляров из 20002).
В 1722 г. начался этап наступления на типографию братства со стороны церковных властей, который закончился установлением жесткого контро-ля над изданиями братства. После Замойского собора 1720 г. львовский епи-скоп Афанасий Шептицкий попытался подчинить себе братство, сообщив в Варшавскую Нунциатуру о том, что издания братства заражены «схизмой». Нунциатура наложила секвестр на типографию3, снятия которого братство добилось только в 1728 г.4 Была назначена комиссия по проверке книг, кото-рая должна была пересмотреть все братские издания и вычеркнуть все, что окажется противоречащим католическому вероучению. Комиссия работа-ла более четырех лет (1728—1732)5, в результате чего многие издания были изъяты и уничтожены, а братству надлежало каждое новое издание давать на рассмотрение львовского епископа и только после его благословения печа-тать тираж6. Отстоять свои права братству на этот раз не удалось. Это было связано с рядом важных причин: во-первых, право Ставропигии, неизвестное римско-католической церкви, было сохранено за братством лишь формально; во-вторых, римско-католическая церковь посредством греко-католических церковных институтов стремилась как можно сильнее сузить права организа-ции, справедливо опасаясь вредного для католической церкви влияния орга-низации, наделенного широкими правами.
Начиная с 1731 г. братство с переменным успехом вело тяжбу с Почаевской типографией. Оно внесло протестацию в Варшавскую Нунциатуру против на-
1 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Кн. 1. № 659. С. 103.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 729. Л. 1—47.3 Там же. Д. 881. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставро-
пигиона: Материалы, относящиеся к истории Львовского Ставропигиона в 1700—1767 гг. Львов, 1936. Ч. 1. № 79. С. 131—132.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 899, 901, 903.5 Там же. Д. 902, 904, 905, 907, 910, 912, 923. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-ле-
тия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. № 95, 96, 100, 107. С. 148—151, 152—153, 157—158, 168—169.
6 Разрешения на издания книг братство получало от Львовских епископов в течение 1737—1771 гг.: ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 944, 945, 979, 1000, 1004. Опубл.: Копыстянский А. Дополнение к материалам, относящимся к истории Львовского Ставро-пигиона в XVIII ст. // Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 2. // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. № 4, 5. С. 150—151.
209§ 6. Просветительская деятельность
рушения Почаевской типографией исключительного права братства издания кириллических книг1. Почаевская типография, в свою очередь, подала жало-бу папскому нунцию в Варшаве о том, что в братских изданиях содержатся многочисленные положения, противные католическому вероучению2. Но так как в это время работала комиссия папской нунциатуры по исправлению книг братства, этот довод судом не был принят во внимание, и в 1732 г. братство процесс выиграло. Но Почаевский монастырь в 1732 г. добился привилея ко-роля Августа II на основание типографии и в 1736 г. король подтвердил пра-ва типографии3. Братство опять подало протестацию в папскую нунциатуру в Варшаве, но на этот раз процесс выиграла Почаевская типография4. Братство обратилось с просьбой о пересмотре решения суда в Рим, где в 1745 г. было подтверждено решение Варшавской нунциатуры 1737 г. о правах Почаевской типографии на книгоиздание5. В 1753 г. братство возобновляет процесс6. Суд затянулся на долгие годы, но в 1771 г. было принято решение, согласно ко-торому Почаевская типография не имела права издавать книги, которые из-дает Львовская братская типография, а все книги, которые были изданы ра-нее, должны были быть конфискованы в пользу типографии братства7. Это решение суда практически означало ликвидацию Почаевской типографии. Судебное решение уже начали выполнять, но политические события спасли Почаевскую типографию, так как по первому разделу Польши в 1772 г. Львов отошел к Австрии, а Почаев — к Польше. Таким образом, эти две типографии перестали быть конкурентами. С 1772 по 1795 гг. Почаевская типография на-печатала книг больше, чем за весь предыдущий период своего существования, но после третьего раздела Польши в 1795 г., когда Почаев отошел к России, ти-пография утратила рынок сбыта и обратилась к братству с просьбой выкупить напечатанные книги. Однако австрийское правительство не разрешило брат-ству покупать почаевские книги. Тем не менее, почаевские издания переправ-лялись в Австрию, составляя конкуренцию братским изданиям8.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 920. Л. 1—24.2 Свєнціцкий І. І. Дещо про печатню Успенського братства у Львові та її видання //
Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 328.3 Огієнко І. І. Історія українського друкарства. С. 221.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 946. Опубл.: Копыстянский А. Дополнение
к материалам, относящимся к истории Львовского Ставропигиона в XVIII ст. // Юбилей-ный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 2. // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. № 6. С. 151—152.
5 Огієнко І. І. Історія українського друкарства. С. 223.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 968. Л. 1—23; 1006, 1191.7 Там же. Д. 1008.8 Возняк М. С. До історії почаївських видань XVIII віку // ЗНТШ. 1920. С. 107—119;
Огієнко İ. İ. İсторія україниного друкарства. С. 224—225.
210 Глава вторая
Параллельно процессу с Почаевской типографией братство вело такую же тяжбу с Уневской типографией. В 1736 г. королевский суд начал рассматривать дело в связи с протестацией братства против нарушения его исключительно-го права издания славянских книг Уневской типографией1. Декретом короля Августа III 1739 г. Уневской типографии запрещалось печатать книги, которые издает Львовское братство2. Братство в 1740 г. добилось особого королевского привилея на исключительное право издания церковных книг и с запрещением другим типографиям печатать книги, изданные братской типографией3.
В архиве братства сохранился привилей 1757 г. короля Августа III граве-ру и печатнику Ивану Филиповичу, тесно сотрудничавшему с типографией Львовского братства, и его наследникам на основание украинской типогра-фии4. Однако книги кирилловской печати в типографии Филиповича так и не были изданы. Братство и в этом случае строго следило за соблюдением своего исключительного права на издание кириллических книг. Типография Ивана Филиповича, функционировавшая почти 15 лет, издавала книги на польском и латинском языках. Интересно, что в ней был издан юридический трактат чле-на братства Михаила Слонского «Accessoria, statut i konstytucja», выдержавший три переиздания (1758, 1760, 1765)5. Книга была украшена искусной гравюрой на меди символическо-аллегорического содержания с надписью: «Haec domus odit Negitiem, Amat Pacem, Punit Crimina, Conservat Jura, Honorat Probos» (Этот дом ненавидит подлость, любит мир, наказывает преступления, почитает за-коны, уважает честных).
Если конфликт братства с церковными властями (Петром Могилой, Иоси-фом Шумлянским, Афанасием Шептицким) можно рассматривать факты, когда братство отстаивало свою независимость, то все конфликты братства с новоо-снованными типографиями вряд ли можно отнести к положительным момен-там. Здесь братство руководствовалось скорее не стремлением к тому, чтобы книг на родном языке было больше, они были лучше и по содержанию, и по оформлению, и по тематике, а исключительно борьбой за монополию, за устра-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 940, 941. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. № 111. С. 177—179.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 948. Опубл.: Копыстянский А. Дополнение к ма-териалам, относящимся к истории Львовского Ставропигиона в XVIII ст. // Юбилейный сбор-ник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 2. // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. № 7. С. 152—156.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 953. Опубл.: Копыстянский А. Дополнение к материалам, относящимся к истории Львовского Ставропигиона в XVIII ст. // Юбилей-ный сборник в память 350-летия Львовскаго Ставропигиона. Ч. 2 // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. № 8. С. 156—157.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 978.5 Запаско Я. П., Мацюк О. Я. Львівські стародруки. С. 51.
211§ 6. Просветительская деятельность
нение конкурентов, за свою выгоду, прежде всего материальную. Книгоиздание из меценатского, каким оно было в конце XVI — первой половине XVII вв. к се-редине XVII в. приобрело явно коммерческий характер. Издание книг приноси-ло большой и стабильный доход. А члены братства, люди деловые — ремеслен-ники и купцы, стали рассматривать типографию как продолжение своей купе-ческой деятельности. Негативно рассматривали борьбу братства за монополию на книгоиздательском рынке многие историки. В современной литературе мож-но встретить даже резко отрицательные характеристики такой позиции брат-ства. Его называют «горсткой хапающих людей», которые не допускали рядом с собой другой типографии и тем самым нанесли вред «государственной, цер-ковной и национальной жизни»1. Однако такие выводы мне кажутся безосно-вательными. Можно согласиться с тем, что отсутствие конкуренции сказалось на качестве изданий. Как правило, в частных типографиях издания были лучше оформленными, содержали большее количество гравюр, подготовленных спе-циально для того или иного издания. Но в то же время многие такие типографии существовали весьма непродолжительное время, это, как правило, типографии нескольких изданий, тогда как типография Львовского братства существова-ла долго, завоевала авторитет во многих странах, книги братства пользовались постоянно большой популярностью. Возможно, братчики опасались не столько материальной конкуренции, сколько духовной. Ведь любому самостоятельно работающему типографу отстоять свои права перед властными структурами было чрезвычайно трудно, а, подорвав авторитет типографии братства сегодня, завтра он мог быть лишен права издавать кириллические книги, и тогда книго-издание на родном языке возродить было бы очень трудно, а, может быть, и не-возможно. Так что в борьбе братства за монополию в области книгоиздания, по моему мнению, нужно видеть не только отрицательные стороны, но и положи-тельные, которые позволили сохранить национальное печатное слово в услови-ях политики ассимиляции коренного украинского населения.
Братство не только вело тяжбы с типографиями, но и помогало некото-рым из них наладить книгоиздательский процесс. В 1602 г. по просьбе князя Константина Острожского братство послало Острожской типографии грече-ский шрифт и командировало наборщика Касияновича для издания трудов александрийского патриарха Мелетия2. В 1622—1624 гг. братство помогло Виленской типографии, одолжив ей в качестве образца для сверки текста гре-ческую Триодь и две книги Минеи3. В 1641—1642 гг. братство активно помога-
1 Блажейовський Д. Берестейська ре-унія та українська історична доля і недоля. Львів, 1995. Т. 1 С. 321—331.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 372. Опубл.: АОИЗР. Т. 4. С. 203; MCS. P. 855—856; ПİФ. С. 127—128.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 489. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 37. С. 84—85.
212 Глава вторая
ло новооснованной молдавской типографии в Ясском монастыре. Братство по-могло оборудовать эту типографию1, прислало матрицы греческих шрифтов2. В 1671 г. к братству с просьбой напечатать 400 Псалтирей и 200 Проповедей «волоским языком» обратился молдавский воевода Дука3. Но, вероятно, эта просьба исполнена не была, в источниках не сохранилось никаких сведений об изданиях братства на «волоском» языке.
Тематика изданий типографии Львовского братства не всегда была оди-наковой. Хотя братчики, основывая свою типографию, предполагали изда-вать книги самого широкого диапазона, на практике им это осуществить не удалось в силу разных обстоятельств. Первый период в истории типографии (1591—1616) более всего соответствовал представлениям братства о темати-ке изданий. Были опубликованы книги научные, богословские, полемические, художественные. Второй период (1630—1644) можно назвать периодом под-готовки к изданию основного комплекса богослужебных книг. Братство уде-ляло большое внимание точности текстов, для чего сверяло многие списки, заказывало оригинальные греческие тексты. Например, при издании Октоиха 1630 г. в предисловии было отмечено, что «обрhтохом ю (Октоих. — Ю. Ш.) в разнствии велицhм, за не нерадением, паче же не искуством многим в нас писцев, от антиграфов греческих, и самаго разума далече отстоящу, в многих же тропарех и речениах не согласующуюся; тhм же судихом в опасное и совершенное исправление, благоумным и в греко-еллинском язы-ку искусным в нас мужем вhдати, еже свышше благодатию получихом»4. Широкая программа братства по изданию богослужебных книг вызвала гнев-ное возмущение католической церкви. Еще в 1639 г. братство обвинили в том, что оно «напечатало много тысяч и даже миллионов книг... и сколько книг братство не издавало бы, все они направлены против (contrarissima) римской церкви и католической веры»5. Конечно же, братство издавало не тысячи книг (нам не известны размеры тиражей всех изданий этого периода, но едва ли самые большие из них доходили до 1500 экземпляров), а о миллионах книг к
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 550, 557. Опубл.: [Письма из Молдавии Львовскому Ставропигийскому братству о помощи в востановлении Успенской церкви] / Петрушевич А. С. // ВСИ. 1883. С. 174—175; Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Моги-ла. Т. 2. Приложения. С. 203—204; ПİФ. С. 198—199.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 558, 559. Опубл.: ЮИЛСБ. С. 90; ПİФ. С. 199—200.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 684.4 Октоих. Львов, 15 дек. 1630. 2-я группа. Л.[3] об.; Опубл.: Строев П. М. Обстоятельное
описание старопечатных книг славянских и российских, хранящихся в библиотеке тайно-го советника, сенатора двора его императорского величества действительного камергера и кавалера графа Федора Андреевича Толстого. М., 1829. № 80. С. 184.
5 Loziński W. Patrycyat i mieszczaństwo Lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwów, 1892. S. 256; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 443.
213§ 6. Просветительская деятельность
этому времени вообще говорить не приходится. Но издание всех основных церковных книг приводило религиозных противников православия в паниче-ский ужас. Наряду с изданием литургических книг братство активно издава-ло и книги светские: Андрея Скольского «Вирши з трагодии Христос Пасхон Григория Богослова» (1630), Иоаникия Волковича «Розмышляне о муце Христа Спасителя нашего, притим веселая радость з триумфального его вос-кресения» (1631), Григория Бутовича «Еуодия альбо Арсения Желиборского духовных цнот запах» (1642), Сильвестра Коссова «О тайнах церковных в по-сполитости» (1642).
Работа типографии во время казацкой войны была приостановлена. В 1651 г., после битвы под Берестечком, украинские типографии Львова (типо-графия братства и типография Михаила Слёзки) были конфискованы по указу короля. Мотивировалось это решение тем, что деятельность украинских ти-пографий и приводит к таким плачевным для Польского государства послед-ствиям, как казацкое восстание, поэтому типографии, которые «сеют часто и густо схизму и ереси», надлежало ликвидировать1. Типографии были подаре-ны участнику битвы под Берестечком ротмистру Станиславу Студзинскому2. Братству понадобились значительные усилия и средства, чтобы спустя год вернуть свою типографию3. Еще большие усилия понадобились Михаилу Слёзке для возвращения своей типографии4. После такого серьезного обвине-ния братству пришлось значительно сузить тематику изданий, опасаясь, что в противном случае вернуть типографию будет еще сложнее. Поэтому следую-щий период истории типографии братства (1651—1720) не отличался широ-ким разнообразием изданий. Братство продолжало издавать и переиздавать богослужебные книги. Но даже переиздавая литургические книги, братство помещало в них эпиграммы, стихи, посвящения разным лицам, в предислови-ях и послесловиях «к чительнику» братство обращалось к актуальным про-блемам, волновавшим современников. Однако положительной чертой изда-тельской деятельности братства в этот период было то, что стали издаваться многочисленные пособия для начальной школы (буквари, псалтырки, часос-ловы), которые пользовались большой популярностью. Выделяются из обще-
1 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. С. 145; Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львïв, 2002. С. 263—264.
2 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. С. 116—117, 265; Огієнко І. І. Історія українського друкарства. С. 118—119, 135; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в роз-витку української культури XVI—XVIII ст. С.183; Исаевич Я. Д. Преемники первопечатни-ка. М., 1981. С. 158; Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. С. 263—264.
3 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 70. С. 153.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 599. Л. 2—3, 4 — 17 об. Опубл.: Крылов
ский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 69. С. 136—152; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 447—449.
214 Глава вторая
го контекста два издания: «Анамнисис или припоминане» — помянник брат-ства (1695) и «Венец победы» — панегирик в честь Александра Даниловича Меншикова (1709).
Четвертый период деятельности типографии братства отличается от пре-дыдущего большим разнообразием тематики изданий. Кроме богослужебных книг братство печатало послания львовского епископа Леона Шептицкого (1745; 1750; 1755; 1759)1, была издана грамота 1759 г. иерусалимского патри-арха Парфения с просьбой о материальной помощи (1743)2, постановления Замойского собора 1720 г. (1744)3. Впервые был издан церковный календарь на 1747 г.4 Но особое значение имеют изданные в типографии братства сочи-нения Михаила Козачинского: драматическое произведение «Благоутробие Марка Аврелия Антонина Кесаря Римскаго. Диалог с прологом и эпилогом» (1745) и «Философия Аристотелева» — текст публичного диспута, состояв-шегося 17 марта 1745 г. в Киевской Академии, который, кроме основной ча-сти, содержал генеалогию рода Разумовских и панегирики в честь братьев Алексея и Кирилла Разумовских (1745)5. В 1760 г. братство переиздало книгу «Ифика иерополитика, или философия нравоучительная символами и приу-подоблении изясненна», впервые опубликованную в Киеве в 1712 г.6 Издание иллюстрировано 67 гравюрами на меди Ивана Филиповича. Большой по-пулярностью пользовалась «Богословия нравоучительная», изданная брат-ством в 1752 г. тиражом 2500 экземпляров, которая выдержала три издания (1756, 1760)7. Книги по философии и истории продолжали активно издавать-ся в типографии Ставропигийского института. Необходимо отметить также некоторые издания, задуманые и реализованые членами братства, которое в 1788 г. было преобразовано в Ставропигийский Институт. Это такие изда-ния, как «Наставления любомудрия нравоучительного содержащая любо-мудрие практическое всеобщее право естественное, ифику и политику с ла-тинскаго на российский язык преведеная от Петра Лодия» (1790) Христиана
1 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 1517, 1718, 1921, 2093; Франко I. Я. Чотири пастирські листи єпископiв Афанасiя i Льва Шептицьких (1745—1759) // Збiрник iсторично-фiлософської секцiї НТШ. 1902. Т. 5. С. 1—11.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 959; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 1453. С. 65.
3 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 1484.4 Календарь или месяцослов. [Львов, 1746]; РГБ. НИО РК (МК). Инв. 6889; Ісаєвич Я. Д.,
Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 1545. С. 73.5 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 1510, 1511.
С. 69.6 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст.
С. 185—186.7 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 1788, 1955,
2133.
215§ 6. Просветительская деятельность
Баумейстера, «Наставления истории церковныя н[ового] з[авета] латински изданная Феодором же Захариасиевичом... на русский язык переведенная» Ч. 1—2. (1790) Матфея Даннемайра, «Ономастикон превелебнейшему госпо-дину Николаю Скородинскому» (1790) и «Ономастикон превелебнейшому го-сподину Антонию Ангеловичу» (1791) Петра Лодия1. Таким образом, можно сказать, что мечта братчиков конца XVI в. «друковати... панигирика, хроники сиречь летописцы... пиитику, риторику и философию» осуществились только в конце XVIII в. За двухвековую историю типографии братства в ней было из-дано почти 200 наименований книг, представлены были практически все жан-ры литературы (см. табл.1).
Таблица 1
Издания типографии Львовского братства
Период Богослужебныекниги
Учебная и научная
литература
Художественная, богословская,
панегирическая и полемическая
литература
Изданиядокументов
Всегоизданий
1591—1616 4 2 6 4 161630—1644 15 — 5 — 201651—1720 80 9 1 3 931722—1788 44 6 6 9 65
143 17 18 16 194
При вхождении Галиции в состав Австро-Венгрии типографии братства опять пришлось отстаивать право на существование. В 1774 г. Придворная галицкая канцелярия в Вене обратилась к галицкому губернатору с запро-сом о существовании во Львове «греко-илирийской» типографии, и если она действительно существует, то есть ли для нее цензор2. В 1775 г. по распоряже-нию императрицы Марии Терезии была выработана инструкция для цензо-ра3. В 1783 г. был выдан привилей цесаря Иосифа II Иосифу Курцбеку на пра-во печатания и продажи книг на восточных языках в Вене4. Это означало, что Львовская типография братства должна была прекратить свое существование. Однако братство сумело отстоять свои права, славянская типография в Вене не была организована. Но все издания братства, включая церковные календари и объявления, с 1785 г. должны были проходить жесткую цензуру советника гу-
1 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 2 № 3509, 3512, 3513, 3519, 3574.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1012.3 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. «Теки Козловского».
Ед. хр. 54—IV. № 2, 6. Л. 1—6, 7. 4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1024.
216 Глава вторая
бернии по церковным делам де Кнопа1. В 1788 г. братство было ликвидировано, но его члены добились реорганизации и стали называться Ставропигийским Институтом, для которого книгоиздание являлось одной из важнейших сфер деятельности.
Значение типографии для культуры не только украинского, но и всех сла-вянских и православных народов очень велико, она сыграла решающую роль в развитии и распространении печатного слова, становлении книжной нацио-нальной культуры. Типография, которая постоянно боролась за свои права, отстаивала саму возможность своего существования, преодолевала различные запреты и ограничения, сумела не только выжить, но и сохранить свою само-бытность, красоту родного слова, неповторимость родной культуры.
1 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 187. Iсаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 2137. С. 114.
глава 3
Документы львовского успенского ставропигийского братства:
структура источниковой базы и информативные возможности
Документов
Комплекс документов Львовского Успенского Ставропигийского брат-ства является интересным и ценным источником по истории Украины
XVI—XVII вв. В сохранившемся архиве братства отложилось большое чис-ло самых разных источников по форме, содержанию, целевым предназначе-ниям, времени образования, языковым и палеографическим особенностям. Несмотря на многочисленные публикации источников по истории Львовского братства, их использование исследователями истории XVI—XVIII вв. было не-значительным. Это объясняется спецификой источников из архива Львовского братства, так как аналогичных материалов сохранилось чрезвычайно мало. До сих пор не было предпринято источниковедческое исследование всего ком-плекса документов из архива Львовского братства, требующее особого под-хода и скрупулезного анализа всех основных видов источников, которые со-хранились в братском архиве. Впервые видовую структуру источников круп-нейших братств Украины — Львовского, Луцкого и Киевского — предпринял Н. П. Ковальский1. Он определил основные виды источников, отложившихся в результате деятельности братств. Но классификационная модель, предло-женная Ковальским, включает только некоторые основные виды источников, типичных для крупнейших братств Украины. Впервые особенности отдель-ных видов источников, отложившихся в результате деятельности Львовского
1 Ковальский Н. П. Источники по социально-экономической истории Украины (XVI — первая пол. XVII века): Структура источниковой базы. Днепропетровск, 1982. С. 46—50.
218 Глава 3
Успенского Ставропигийского братства, отметил Я. Д. Исаевич1, который под-черкнул необходимость скрупулезного источниковедческого анализа при ис-пользовании материалов архива Львовского братства. Однако его работы не охватывают всего комплекса имеющихся источников, и характеристики от-дельных видов и разновидностей источников не исчерпывают всю глубину и специфику этих материалов.
При исследовании корпуса источников Львовского братства в данной ра-боте предпринимается попытка решить две основные задачи, которые стоят перед источниковедческим исследованием2: изучение совокупности источни-ков, отложившихся в результате деятельности Львовского братства, их клас-сификация, что должно способствовать решению эвристических задач с це-лью привлечения внимания исследователей к комплексу архивных материалов братства. Аналитические задачи данного исследования решаются путем раз-работки методов анализа источников, получения из них достоверной и макси-мально полной информации, характеристики особенностей и специфики ис-пользования отдельных видов источников.
Классификация источников, сохранившихся в результате деятельности Львовского братства, в данной работе осуществляется по видовому признаку. Видовая структура представлена следующими видами источников:
1) Уставы:а) устав Львовского Успенского братства;б) устав младшего Онуфриевского братства;в) устав школы Львовского братства.
2) Списки лиц:а) списки членов братства;б) списки учеников братской школы.
3) Установочные грамоты и привилеи:а) от восточных патриархов;б) от киевских митрополитов;в) от королей Польши;г) от львовских епископов.
4) Протоколы заседаний братства.5) Клятвы (присяги) и ритуальные молитвы.6) Контракты (договоры) братства.
1 Ісаєвич Я. Д. Архів Львівського братства // Архіви України. 1968. № 1. С. 89—90; Ісає-вич Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму XVI—XVIII ст. Київ, 1972; Ісаєвич Я. Д. Джерела про суспільно-політичну діяльність братств України XVI—XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання. Київ, 1969. Вип. 4. С. 37—47; Ісаєвич Я. Д. Джерельні матеріали з історії мистецтва XVI—XVIII ст. в архіві Львівського братства // Третя респу-бліканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисци-плін. Друга секція. Київ, 1968. С. 99—111.
2 Медушевская О. М. Источниковедение: теория, история и метод. М., 1996. С. 56.
219Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства...
7) Реестры приходов и расходов.8) Закладные расписки, долговые обязательства, расписки о выплате дол-
гов и возвращении закладных вещей.9) Материалы судебных процессов.10) Инструкции.11) Корреспонденция: а) входящая; б) исходящая.12) Статейные списки аккредитованных в Польше русских дипломатов.13) Литературно-публицистические и полемические произведения членов
братства и деятелей братского движения.14) Предисловия, послесловия книг, изданных в типографии Львовского
братства.15) Инвентари, описи и реестры архива, библиотеки и имущества братских
церквей.16) Произведения материальной культуры: а) архитектурный ансамбль Успенской церкви и Онуфриевского мона-
стыря; б) оформление интерьеров; в) архитектурный ансамбль жилых домов (камениц) членов братства и
хозяйственные постройки; г) портреты членов братства.
ра зД е л 1
источники, отражающие функционирование львовского братства как городской корпорации
конца XVI—XVIII вв.
§ 1. уставные документы львовского братства
Одним из важнейших документов Львовского братства был устав, ко-торый определял и регламентировал все стороны жизнедеятельности
братства как организации. Этот документ интересен и как регламентирующий внутреннее устройство братства, формулирующий главные темы и задачи ор-ганизации, и как отражающий один из наиболее спорных вопросов в исто-рии братского движения — проблему происхождения братств. Текст устава Львовского братства содержится в грамоте антиохийского патриарха Иоакима от 1 января 1586 г.1, которой он утвердил основание братства. Это был один из наиболее ценных «муниментов» для членов братства, в архиве организации он всегда хранился в разряде «особо ценных документов», с него неоднократ-но делались копии2, во всех перечнях основных документов, подтверждающих правовой статус братства, он занимал почетное первое место.
Вопрос о происхождении устава Львовского братства — один из самых актуальных в историографии украинских братств, а споры о нем не утихают и сегодня. Многие историки XIX в. полагали, что устав, поскольку он содер-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 71. Опубл.: MCS. P. 113—119; Памятники, издаваемые Временною комиссией для разбора древних актов. Киев, 1898. Т. 3. С. 1—11; DS. Т. 2. P. 3—15. № 3; Акты, относящиеся к истории Южнозападной Руси. / Сост. А. С. Петру-шевич. Львов, 1868. С. 101—108; Патриаршия грамоты изданы в пользу Львовского Ставро-пигийского братства при храме Успения Пресвятыя Богородицы / Петрушевич А. С. // ВСИ. 1869. С. 113—120; Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Киев, 1904. Приложения. № 2. С. 14—15; Привiлеї нацiональних громад мiста Львова (XIV—XVIII ст.). Львiв, 2000. № 1 (170). С. 500—504.
2 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 23—39, 40—47, 250—256.
221§ 1. Уставные документы Львовского братства
жится в грамоте, составленной от имени патриарха Иоакима, был дан брат-ству антиохийским патриархом1. Это обстоятельство позволяло утверждать, что основателем организации был патриарх Иоаким, увидевший в братствах идеалы Апостольской церкви и решивший с их помощью реформировать со-временную православную церковь.
Обстоятельное источниковедческое исследование этого документа в рабо-тах Я. Д. Исаевича позволило историку обосновать другую концепцию основа-ния братства2. Он убедительно доказал, что основателем братства не мог быть патриарх, путешествующий по Украине в целях сбора материальных пожерт-вований для приходящей в упадок под властью Турции православной патри-архии. Оказавшийся во Львове проездом патриарх был скорее сам более за-интересован выполнить определенные условия православных одной из отда-ленных митрополий, чем диктовать им какие-либо, пускай и благие, условия организации и регламентации церковно-религиозной жизни. Детальный ана-лиз грамоты от 1 января 1586 г. патриарха Иоакима позволяет объяснить появ-ление последующих грамот патриарха, подписанных им во время пребывания во Львове, которые получили разную оценку в историографии.
Грамота написана на пергамене, украшена красивым орнаментом. Преам-була, окончание и некоторые статьи общего содержания написаны на церков-но-славянском языке, а статьи, регламентирующие организационную структу-ру братства, — на украинском языке. Начинается грамота словами патриарха Иоакима: «И пришедшу ми во град Илвов, в лhто от создания миру 7094, а по рождествh Господа нашего Иисуса Христа 1586 мhсяца генуария в пер-вый день. В то время пришли прид нас и предь наше право духовное мещане львовские вси посполе ктитори храма Успения во градh Лвовh, хотячи брат-ство устроити»3.
Языковой аспект, связанный с этим источником, рассмотрел в своих рабо-тах Я. Д. Исаевич. Он подчеркивал, что патриарх разговаривал только на араб-ском языке («молвил языком антиохийским»4), а грамота написана на славян-ском. Указания некоторых историков XIX в. на существование греческого ори-гинала5 безосновательны. Во-первых, сам внешний вид грамоты (пергаменная, с красивым художественным оформлением) говорит, что она изготавливалась
1 Макарий (Булгаков). История русской церкви. М., 1996. Т. 5. С. 230; Грушевський М. С. Історія України—Руси. Київ, 1995. Т. 6. С. 513—516.
2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII століття. Київ, 1966. С. 33—36; Ісаєвич Я. Д. Найдавніші документи про діяльність братств на Україні // Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів, 1996. С. 55—58.
3 MCS. P. 113. Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. С. 500—501.4 Ісаєвич Я. Д. Найдавніші документи про діяльність братств на Україні. С. 61.5 ПКК. 1898. Т. 3. С. 21; Грушевський М. С. Історія України—Руси. Київ, 1995. Т. 6.
С. 514—515.
222 Глава 3
как оригинал. Во-вторых, греческий текст этой грамоты известен только в книге копий основных документов братства. Видимо, этот перевод был сде-лан учениками братской школы и помещен в «Альбом» в соответствии с внеш-ними формами занесения сюда копий документов архива братства, когда на одной стороне листа писался текст оригинала, а на другой — текст перевода документа. Во всех известных инвентарях архивных документов нет ни одного указания на существование греческого текста этой самой главной для братчи-ков грамоты. К тому же грамоту патриарх только скрепил печатью, но не под-писал. Единственный документ, который он подписал собственноручно, — это грамота от 16 января 1586 г., осуждающая и отлучающая от церкви священни-ков, вступивших во второй раз в брак (двоеженцев)1. По всей видимости, брат-чики добились согласия патриарха Иоакима на утверждение подготовленного ими устава, заверив его, что братство будет способствовать устранению «не-годных звычаев» в церкви, в том числе и двоеженства священнослужителей. Я. Д. Исаевич высказывает предположение, что патриарх 1 января только со-гласился дать установочную грамоту братству, а потом эта грамота была изго-товлена и дана патриарху, который ее не подписал, а только скрепил печатью2. Вместе с этой грамотой братчики представили патриарху еще несколько гра-мот, подтверждавших основные положения первой грамоты, а именно утверж-дали основные сферы деятельности братства, которые должны были способ-ствовать укреплению церковных позиций в крае: школа, госпиталь, типогра-фия. Братчики хотели воспользоваться расположением патриарха и для под-держания их в деле восстановления разрушенной пожаром Успенской церкви, поэтому в грамотах был помещен призыв патриарха о помощи в сборе средств на строительство храма3. Возможно, патриарх так до конца не осознал свою роль в образовании украинских братств и Львовского братства в особенности. Львовские горожане сумели весьма выгодно использовать в своих целях его приезд, чтобы добиться санкции на ведение уже задуманных и сформулиро-ванных ими планов реорганизации национально-культурной жизни украин-ского общества.
Сегодня уже не вызывает сомнений то обстоятельство, что устав был на-писан львовскими мещанами, а не патриархом. Но вопрос о происхождении устава нуждается в особом внимании. В середине XVI в. в львовских пред-местьях возникли две церковные организации — братства. Об их деятельно-сти нам ничего не известно. Сохранились только уставы этих организаций:
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 73. Опубл.: MCS. P. 121—131; DS. P. 16—18.2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 34.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 72. Опубл.: АОИЗР. Т. 3. С. 301—302; ЮИЛСБ.
Т. 1. С. 57; MCS. P. 119—120; ПКК. 1898. Т. 3. С. 11—12; Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI — перша половина XVII ст.): Збірник документів. Київ, 1975. С. 82—83; Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. № 2 (171). С. 504—505.
223§ 1. Уставные документы Львовского братства
Благовещенского братства 1542 г.1 и Николаевского 1544 г.2 . Эти уставы были утверждены львовским епископом Макарием Тучапским. До наших дней со-хранился устав Свято-Троицкого братства, образованного в местечке Вишня недалеко от Львова в 1563 г.3 Львовские мещане, без сомнения, были знако-мы с этими уставами, во всяком случае с уставами предместских братств. Это подтверждает сравнительная характеристика этих источников и тот факт, что устав Николаевского братства сохранился в архиве Львовского брат-ства. Впервые на сходство многих положений уставов этих трех братств и устава Львовского Успенского братства обратил внимание А. С. Крыловский. Сравнивая все эти уставы братств, можно обнаружить целый ряд сходных по-ложений:
1) по всем уставам членом братства мог быть каждый желающий, независи-мо от социального происхождения;
2) во всех уставах вступительный взнос («вступное») был равен шести грошам;3) согласно уставам Троицкого и Успенского братств, собрания организа-
ций должны были проводиться раз в 4 недели, и ежемесячный взнос «в брат-скую кружку» с каждого члена был определен в размере полгроша; по уставу Благовещенского братства собрания проводились по надобности;
4) в уставах Благовещенского и Успенского братств братчикам предостав-лялось право вписывать в помянники (синодики) братства своих родителей, детей, родственников;
5) весьма сходны положения о благотворительной деятельности организа-ции в Благовещенском и Успенском уставах;
6) во всех уставах братчики должны были присутствовать при погребении умерших членов братства, за несоблюдение этого пункта устава назначался штраф в размере фунта воска;
7) по всем уставам старшие братчики избирались ежегодно, разница по этому пункту состояла в лишь в числе старейшин (в Благовещенском — 2, в Троицком — 1, причем руководитель организации здесь назван «цехмистром», в Успенском — 4);
8) согласно уставам Троицкого и Успенского братств, избираемому всей бра-тией на должность старейшего братчика запрещалось отказываться от «пред-лагаемой ему чести»;
9) согласно всем уставам, за неявку на заседания братства назначался штраф (в Благовещенском и Успенском братствах — фунт воска, в Троицком — грошек);
1 Вестник Юго-Западной и Западной России. 1862. № 3. С. 98—100.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 10. Опубл.: MCS. P. 13—15; Пам’ятки братсь-
ких шкіл на Україні. Київ, 1988. С. 14—15.3 Добрянский А. История епископов трех соединенных епархий — Перемыской, Сам-
борской и Сяноцкой от найдавнейших времен до 1794 г. Львов, 1893. С. 50, 56—58; АЮЗР. Киев, 1883. Ч. 1. Т. 6. С. 50—52; Пам’ятки братських шкіл на Україні. С. 15—17.
224 Глава 3
10) уставы Троицкого и Успенского братств почти одинаково провозглаша-ли нормы взаимоотношений между членами организации, говоря о «братолю-бии» и взаимовыручке, которые должны были стоять во главе всех отношений внутри братства;
11) по уставу Благовещенского и Успенского братств запрещалось братчи-кам обращаться в светский суд по спорным вопросам, возникающим между членами организации («а если бы котрый брат на брата мал якую загрожу»), причем в уставе Благовещенского братства обращение в светский суд каралось штрафом в полкамня воску, а в уставе Успенского братства расценивалось как церковное ослушание;
12) во всех уставах за большие преступления (ослушания) членов братств могли отлучить от церкви;
13) в уставах Троицкого и Успенского братств были определены одинаковые нормы хранения братской казны.
Из этой краткой сравнительной характеристики можно сделать вывод, что в основу устава Львовского братства были положены уставы более ран-них братств. А. С. Крыловский выдвигал предположение, что в основу устава Львовского братства был положен прежний братский устав1. Никаких пись-менных свидетельств, подтверждавших это предположение, не сохранилось. Большое сходство с уставами братств, которые играли настолько незначитель-ную роль в жизни города, что о них никаких других известий, кроме устава, не сохранилось, позволяет предполагать, что в основе всех этих документов лежали более ранние и более распространенные источники, а именно уставы ремесленных братств.
О влиянии цеховых организаций на братское движение конца XVI — на-чала XVII вв. писали многие исследователи2. Однако на прямое заимствова-ние целого ряда уставных положений Львовского братства из цеховых уставов никто не указывал. Эволюция цеховых уставов во многом напоминает более позднее распространение уставов братств. Ремесленные цехи перенимали друг от друга все лучшее, поэтому, хотя каждый устав вырабатывали ремесленники для своего ремесла, города, учитывая свою специфику, основные положения, выражающие существенные принципы цеховой корпорации, повторялись во многих уставных документах. При сравнении устава Львовского Успенского братства с уставами львовских цеховых организаций XV—XVI вв. можно об-наружить следующее сходство уставных норм3:
1 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. С. 36—41.2 Флеров И. О православных церковных братствах, противоборствовавших унии в Юго-
Западной России в XVI, XVII и XVIII столетиях. СПб., 1857. С. 15—16; Коялович М. О. Чте-ния о церковных западно-русских братствах. М., 1862. С. 24—27; Грушевський М. С. Історія України—Руси. Т. 6. С. 506—507.
3 Acta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernar-dyńskiego we Lwowie. Lwów, 1872. T. 3. № 79, 113, 114; 1876. T. 6. № 97. S. 139—140; Loziński W.
225§ 1. Уставные документы Львовского братства
1) это — самостоятельные самоуправляющиеся организации;2) руководство (старший, senior, цехмистр) выборное, является репрезентан-
том организаций перед другими городскими корпорациями и институтами;3) внутренний суд для членов организаций;4) в качестве мер наказания могли быть определены денежные штрафы и
арест;5) цех рассматривался как «братство» мастеров-ремесленников (fraternitas),
поэтому они были связаны между собой не только ремеслом, но и религиозны-ми обрядами и нормами поведения; как и братства, они должны были участво-вать в богослужениях, совместно отмечать религиозные праздники;
6) плата за нарушение дисциплины в организациях бралась, как правило, воском, который шел на церковные свечи;
7) обязательное участие всех членов организаций в похоронах умершего со-брата;
8) регулярные собрания всех членов организаций с целью обсуждения и решения текущих вопросов;
9) строгий запрет разглашения обсуждаемых в организациях вопросов, за разглашение которых член корпорации должен был быть наказан.
Как видно из сравнения, общими для уставов цехов и братства являлись ор-ганизационные формы корпорации и религиозные обряды, которые должны были соблюдать ее члены. Интересно, что большинство из этих норм было со-хранено цеховыми организациями от предшествовавших им городских объе-динений, а это были религиозные братства. Так что устройство раннесредневе-ковых западноевропейских братств сохранялось и развивалось в ремесленных цехах и потом становилось основной формой для организации восточноевро-пейских братств.
Устав Львовского братства можно условно разделить на 41 пункт, большая часть которых посвящена организационной структуре братства, обязанностям его членов, правилам поведения братчиков. Значительное число статей устава посвящено отношениям братства к церковной иерархии. Три пункта устава особо подчеркивают необходимость почитания Бога и церкви и силу право-славия. Это говорит об особой роли религии в жизни общества того времени, но для украинских горожан религия становится в конце XVI в. главным знаме-нем национально-культурного движения. Отдельным пунктом устава огова-ривается право первенства и законного старейшинства Львовского братства перед всеми братствами, которые будут образованы, причем все новооснован-ные братства должны были следовать порядку и постановлениям Успенского братства. Особое значение получил пункт устава, в котором братству дава-лось право контроля над епископами: «Аще же и епископ спротивится зако-
Złotnictwo lwowskie w dawnich wiekach. 1380—1640. Lwów, 1889. S. 30—32; Історія Львова в документах і матеріалах: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1986. № 22, 29. С. 26—28, 35—38; Грушевський М. С. Історія України—Руси. Т. 6. С. 110—112.
226 Глава 3
ну истинh и не по правилом светых апостол и светых отец стояще церков, развращающе праведных в неправду, подкрhпляюще руки беззаконником, таковому епископу сопротивитися всhм, яко врагу истинны»1. Именно эти пункты устава позволяли многим историкам считать основателем братства патриарха, так как эти вопросы входили в компетенцию высшей церковной иерархии. Что касается права контроля действий епископа со стороны брат-ства, то эти идеи могли высказывать львовские горожане перед патриархом в обстановке «нестроения» православной церкви в то время, когда институт церковной иерархии не соответствовал ни церковным канонам, ни религи-озной ситуации того времени, ни национально-культурным требованиям, предъявляемым обществом к церкви. Сама идея необходимости реформи-рования церковного устройства на всех уровнях, позволяющая мирянам на полных правах вмешиваться и влиять на церковно-религиозную жизнь обще-ства, была позаимствована львовскими горожанами из главных принципов Реформационного движения, которые становились очень популярными среди образованных православных людей с конца 60 — начала 70-х гг. XVI в. Вряд ли патриарх старался детально вникнуть в мотивы, которыми руководствовались простые горожане, предлагавшие подписать ему ряд документов. Не думал па-триарх, какой общественный резонанс вызовут эти подтвержденные им поло-жения устава организации мирян. Патриарх был искренне потрясен, насколь-ко не соблюдается церковный канон в Киевской митрополии, в то же время он понимал, что патриархия, находясь в крайне тяжелом положении, не мо-жет полностью держать под контролем церковную жизнь в столь отдаленных епархиях. Только поэтому было поддержано патриархом желание львовских горожан способствовать наведению порядка в церкви. Этими же мотивами, по всей вероятности, было продиктовано желание львовских горожан организо-вать целую сеть братств, которые смогли бы поддержать широкомасштабные задачи, воплощаемые в жизнь «старейшинами народу руського» во Львове. Так что инициаторами и этих положений устава могли быть только львовские горожане, но никак не патриарх, причем они были продиктованы веянием времени и актуальными задачами зарождавшегося национально-культурного движения.
Устав Львовского Успенского братства послужил основой практически для всех братств Украины и многих братств Белоруссии и Литвы, возникавших на-чиная с конца XVI в. и до XIX в. включительно.
Одним из наиболее влиятельных белорусских братств стало Виленское Троицкое братство. Виленское братство поддерживало тесные взаимоотно-шения со Львовским братством, которое явилось для виленских горожан об-разцом построения своей организации. Но виленские братчики, в отличие от многих братств небольших городов и местечек, которые переписывали основ-
1 MCS. P. 117; Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. С. 503.
227§ 1. Уставные документы Львовского братства
ные уставные положения Львовского братства, отбрасывая явно непосильные для себя задачи, относились творчески к основным целям, которые постави-ло перед братским движением Львовское братство. Впервые это проявилось в создании устава Виленского братства. Он был составлен вскоре после образо-вания Львовского братства и в 1588 г. дан киевскому митрополиту Онисифору Девочке на утверждение1.
В основу виленского устава, без сомнения, лег устав Львовского братства. Это подтверждает письмо Виленского братства от 8 мая 1587 г., где виленские горожане выражают благодарность Львовскому братству за присланный устав: «Дошло нам… честнаго вашего апостолом воследующаго братства подарок и постановене, еже предо всею братиею братства нашего любию прочетше, радости исполнихомся и прославихом Бога, показавшаго оставленый неким небрежением и леностию пречесный, прежде бивший от апостол составлен-ный путь братолюбия и церквам украшения, и прочим многим и неиспове-димым добродетем»2. Интересна просьба в этом письме виленских братчи-ков ко львовским, которая раскрывает обстоятельства утверждения устава Львовского братства антиохийским патриархом. Виленские братчики понима-ли, что для выполнения широкомасштабных задач братства нужно юридиче-ское оформление, которое гарантировало бы независимость православной ор-ганизации в среде в основном католических городских корпораций. Это могла обеспечить только санкция высшего церковного иерарха. Поэтому виленские братчики просят прислать текст «благословение от патриярха Цариграда» с тем, чтобы они отправили свой устав на утверждение патриарху. Виленские братчики считали, что посылать патриарху нужно непременно «согласие», ко-торое уже обеспечило утверждение устава Львовского братства, как гарантию патриаршего благословения.
Устав Виленского братства является более совершенным, более подробным по сравнению с уставом Львовского братства. Если Львовский устав нужно рассматривать в контексте уставных документов (братств, ремесленных цехов) XVI в., которые можно отнести к средневековой традиции, то Виленский устав следует отнести к традиции XVII в. (эпохи барокко или модерна). Первые уставные документы отличаются строгостью, четкостью и лаконичностью из-ложения главных принципов той или иной корпорации, вторые продиктованы не только стремлением регламентировать организационные формы корпора-ции, но и осмыслить, истолковать каждое положение устава, вписать его в кон-текст общественной жизни, общественных идеалов того времени. Именно это направление в создании уставов начинает устав Виленского братства, который содержит подробные разъяснения основных уставных норм, заимствованных
1 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1898. Т. 2. Приложения. С. 235—254.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 85. Опубл.: MCS. P. 146—147.
228 Глава 3
из устава Львовского братства, в нем содержатся многочисленные рассужде-ния о христианской добродетели, о милосердии, подкрепленные цитатами из Библии и сочинений отцов церкви. Виленский устав содержит текст присяги при вступлении в братство, о котором во Львовском уставе нет даже упоми-нания. Статьи (артикулы) Виленского устава, касающиеся внутренней жизни организации, сходны с соответствующими положениями Львовского устава, но отличаются большей точностью, снабжены подробными описаниями всех положений, детальными объяснениями каждой из провозглашенных норм. Например, в пункте о членстве в братстве сказано, что членом братства может быть любой человек, независимо от социального происхождения, в том числе лица духовного звания и женщины1. Видимо, именно эти две категории людей вызывали многочисленные вопросы, что сочли необходимым уточнить соста-вители устава. Виленские братчики издали свой устав у себя в типографии и в 1588 г. прислали Львовскому братству 30 экземпляров отпечатанного устава2. Устав Львовского братства ни разу не издавался в его типографии3.
К Львовскому братству обращались жители многих городов и месте-чек с просьбой прислать устав («выписте порядки братски»). По «чину» Львовского были основаны братства в Гологорах (1588)4, Красном ставе (1589)5, Сучаве (1590)6, Городке и Бересте (1591)7, Перемышле и Комарно (1592)8, Люблине и Бельске (1594)9, Старой Соли (1600)10, Замостье (1606)11, Новоконстантинове (1609)12, Луцке (1622)13 и др. Львовское братство охотно
1 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1898. Т. 2. Приложения. С. 240; Добрянский А. История епископов трех соединенных епархий. С. 84—90.
2 АОИЗР. Т. 4. С. 5—6.3 Впервые был опубликован А. С. Петрушевичем: Патриаршия грамоты изданы в поль-
зу Львовского Ставропигийского братства при храме Успения Пресвятыя Богородицы // ВСИ. 1869. С. 113—140.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 96. Опубл.: MCS. P. 154—155.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 258. Опубл.: MCS. P. 516—519.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 135. Опубл.: MCS. Р. 237.7 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1849.
№ 5—6. Ч. 62. Отд. 2. С. 26; АОИЗР. Т. 4. С. 38—39; АОИЮЗР. Т. 1. № 206.8 Акты относящиеся к истории Южно-Западной Руси // ВСИ. 1878. С. 136; Голубев С. Т.
Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Т. 1. Приложения. С. 34.9 АЮЗР. 1883. Ч. 1. Т. 6. № 51; АОИЗР. 1851. Т. 4. № 49.10 ПКК. 1898. Т. 3. С. 3—4. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української куль-
тури XVI—XVIII ст. С. 20.11 Будилович А. С. Русская православная старина в Замостье. Варшава, 1885. С. 28—35.12 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 423. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское
Ставропигиальное братство. Приложения. № 18. С. 38—40.13 ПКК. 1898. Т. 1. С. 30—34.
229§ 1. Уставные документы Львовского братства
шло навстречу своим собратьям из других городов, понимая, что их сила в обществе будет заметна только тогда, когда братское движение приобретет широкий размах. Братство не просто снимало копии устава и посылало дру-гим братствам, но делало это с великим тщанием и вниманием, часто не на бумаге, а на пергамене — более дорогом материале, применявшемся в то вре-мя только для написания особо ценных и важных документов. Организация братского движения была очень важным делом для братства, о чем свиде-тельствуют сохранившиеся в архиве копии писем новооснованному брат-ству Новоконстантинова. Одно из этих посланий является не деловым пись-мом, а философским сочинением, в котором авторы пытаются объяснить, что есть братство, как они представляют организацию братского движения, главные принципы деятельности организации этого типа. В историографии это послание известно как «Эпистолия» 1609 г.1 В XVII в. наиболее крупные братства брали за образец уставы Львовского и Виленского братства, в таких уставах часто встречается фраза: «Начинаем братство по чину братства Львовского, Виленского». В XVII—XVIII вв. некоторые новообразующиеся братства получали тексты устава не посредством обращения ко Львовскому братству, а у своих ближайших соседей. Бывали случаи и продажи текста устава братства: так, устав «славной веси Башни» был продан за 11 злотых братству Потилича2.
Уставы многих братств являются точной копией устава Львовского брат-ства, вернее, даже грамоты, в которой он содержится. Новоорганизованные братства не смущал тот факт, что приводимая ими форма устава Львовского братства не соответствует реальным событиям. Многие уставы полностью оставляли вступительную часть Львовского устава, в которой говорится о при-езде во Львов антиохийского патриарха Иоакима и о приходе к нему львовских горожан с просьбой утвердить братство. В новых уставах вместо Львова на-зывался тот город, в котором организовывалось братство. Например, в уставе Дрогобычского братства Св. Параскевы «пришедшу до нас мещане львовские» заменено на «пришедшу до нас сини церкви восточное, церкви Параскевы предградия Дрогобицкого»3. Причем сохранялась не только форма преамбу-лы от имени антиохийского патриарха Иоакима, но и дата утверждения им устава Львовского Успенского братства: «И пришедшу во град Львов во епи-скопию Львовскую Галицкую из Каменца Подольского за епископа Гедеона Балабана во лето 1586 генваря дня перваго. В то время пришедши до нас и
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 10—26 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 305—339.
2 Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму XVI—XVIII ст. Київ, 1972. С. 20.
3 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 1. Библиотека НТШ. Ед. хр. 258. Л. 7—25.
230 Глава 3
пред наше право духовное громада Каменецкая вси посполу ктитори храма Пресвятыя Богородицы селе Камянце, хотяще братство утворити»1.
Ряд братств имели устав Львовского братства, который получали от Красноставского братства. В 1589 г., во время пребывания константинопольско-го патриарха Иеремии в Красноставе, к нему обратились горожане с просьбой утвердить такое же братство, какое было утверждено антиохийским патриархом во Львове. Горожане показали патриарху копию устава Львовского братства и «жадали» себе «такових же порядков». Патриарх Иеремия подписал этот устав и отметил: «Позвалисьмо им и иншим мhстам переписати того, давати под печатию их братскою»2. «Артикулы альбо порядок» братства в г. Александрии (Сколе) и Дрогобыче содержат устав Львовского братства, утвержденный кон-стантинопольским патриархом Иеремией для Красноставского братства в 1589 г.: «Пришедши пред нас мещане красноставские показали нам копию листа е.м. отца Иоакима патриархи Антиохийского, данного прежде соиз-волением всех нас славным паном мещаном львовским на утверждение братства»3. Часто для составления своего устава братчики брали не перво-источник и даже не «вторую его редакцию». Например, «Артикулы или поста-новеня» Успенского братства местечка Яворов указывают сразу на несколько документов, среди которых — как собственно уставы братств, так и подтверж-дения (привилеи) прав братств: «от артикулов святейшии Феофаном па-триархою Иерусалимским, Иоакимом патриархою Антиохийским братству Св. Иоанна Богослова на подзамчу Львовском изрядне от Феофана брат-ству Виленскому наданых и благословенных»4. Видимо, Яричевское братство взяло за основу устав львовского предместского Богословского братства, ко-торое получило, вероятнее всего, от Львовского Успенского братства в каче-стве образца текст Виленского братства, а в качестве формы — подтверждение иерусалимского патриарха Феофана от 10 сентября 1620 г. всех прав братства, содержащихся в грамоте 1586 г. антиохийского патриарха Иоакима5. Братства, организованные в XVII—XIX вв. на Украине, брали в качестве образца устав Львовского братства и вносили определенные изменения в уставные пункты. Эти корректировки были продиктованы изменениями характера, целей и за-дач братского движения на разных этапах его развития6. Со временем возник-
1 Цит. по: Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму XVI—XVIII ст. С. 21.
2 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 1. Библиотека НТШ. Ед. хр. 258. Л. 27.
3 Там же. Ф. 77. А. С. Петрушевича. Ед. хр. 449. Л. 1—27 об.4 Там же. Ф. 1. Библиотека НТШ. Ед. хр. 136. Л. 1—9.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 480. Опубл.: АОИЗР. Т. 4. С. 508—509; ПIФ.
С. 143—144.6 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 3. Монастыря Василиан.
Ед. хр. 816/1; Ф. 77. А. С. Петрушевича. Ед. хр. 113, 204, 370, 445.
231§ 1. Уставные документы Львовского братства
ла необходимость перевода текста устава на более современный и понятный язык. Впервые такой «перевод» встречается в уставе Жовковского братства 1695 г.1 По уставам украинских братств, которые в основном были основаны на уставе Львовского братства, учитывая изменения, вносимые в тексты, мож-но проследить динамику развития украинского братского движения конца XVI—XIX вв.
Особый интерес представляет устав младшего онуфриевского братства, образованного в 1633 г.2 Это братство имело статус «младшего» при Львовском Успенском братстве. Его членом мог быть любой молодой неженатый человек, тогда как во Львовское братство принимали, как правило, только женатых. Именно это главное отличие «молодшего» братства от старшего оговорено в уставе: «Хто бы хотел до братства нашего уписатися, братом нам зоста-ти, таковый кождый без жадного особ бракованя, первей нам мает вписан бытии»3. При составлении устава младшего Онуфриевского братства львов-ские братчики воспользовались в качестве образца не своим, а Виленским уста-вом, позаимствовав форму и стиль документа. Датой основания и Виленского, и Львовского младших братств считается 1633 год, хотя они были образованы раньше. Где родилась идея создания младшего братства — в Вильно или во Львове, — сейчас сказать трудно, равно как и ответить на вопрос о том, ка-кое братство возникло раньше. Однако точно известно, что Устав львовского Онуфриевского братства возник чуть позже, чем Виленский, и под его непо-средственным влиянием. Сохранились сведения о присылке устава младшего Виленского братства во Львов. Письмо из Виленского «старшего» братства да-тировано 28 января 1633 г. и адресовано «братству Св. Онофрия на предме-стю Краковским львовским»4. Виленское братство посылало во Львов образец устава и сообщало о санкционировании основания младшего братства поль-скими властями, а также предоставляло форму поданного на утверждение до-кумента, позаимствованную Виленским братством в свое время от Львовского: «По повелению благословеннейшего патриархи Антиохийскаго и всех чети-рох вселенских патриархов, от них благословение отримавши…»5.
В уставе младшего Онуфриевского братства, как и в Виленском уставе, под-робно объяснено каждое положение устава, особое внимание уделено целям
1 Петрушевич А. С. Сводная Галицко-Русская летопись с 1600 по 1700 г. Львов, 1874. Т. 1. С. 382.
2 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства. С. 149.3 Устав братства Свято-Онуфриевского или так званого меньшаго, при монастыр ской
церкви во Львове стоящего под покровительством Львовского Успенского-Ставропи-гиального братства // ВСИ. 1870. С. 129—148; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 72.
4 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 1. Библиотека НТШ. Ед. хр. 15. Л. 16.
5 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 1. Библиотека НТШ. Ед. хр. 15. Л. 15 об. — 16.
232 Глава 3
и задачам организации, обязанностям членов братства. Центральное место в уставе занимают рассуждения о христианских добродетелях, подкрепленные цитатами из Библии. Манера изложения уставных положений назидательно-нравоучительная, что вполне соответствовало статусу младшего молодежного братства. Организационное устройство Онуфриевского братства весьма сход-но с аналогичными пунктами устава старшего Успенского братства, причем не с уставными положениями 1586 г., а с формами внутреннего устройства брат-ства, сложившимися к концу 20 — началу 30-х гг. XVII в. Разница состояла в том, что члены младшего братства должны были держать отчет перед старшим братством и каждое воскресенье и праздничные дни присылать двух человек для помощи во время богослужения в Успенской церкви.
Как и устав Успенского братства, устав младшего Онуфриевского братства лег в основу многих братств Украины. Так, в 1650 г. именно эта форма устава была дана в качестве образца братству села Гувянцы при храме Иоанна Богослова, а в 1689 г. жители местечка Яричев взяли эту форму «з веси Гувянец»1.
Устав Онуфриевского братства не только сообщает сведения об инсти-туте младшего братства, но и позволяет судить об изменениях в устройстве Львовского братства, прошедших со времени утверждения устава организа-ции в 1586 г. Этот устав показывает, что братство полностью принимало новые формы составления уставных документов, получивших широкое распростра-нение в XVII в., что позволяет делать выводы об изменении представлений о сущности своей организации братчиками, развитии уровня их образованно-сти и изменении приоритетов в сферах деятельности братства на разных исто-рических этапах.
Большую роль в истории украинской культуры сыграл устав львовской братской школы. Известны две его редакции. Более ранняя редакция уста-ва — «Правила поведения для учителей и учеников и программа обучения новооснованной братской школы» и датирована 8 октября 1587 г. Этот ис-точник сохранился в двух списках: на украинском и греческом языках2. Более поздняя редакция — «Порядок школьный» 1592 г. — помещена в книге копий всех важнейших документов братства3. Впервые попытку текстологического анализа этих двух редакций устава Львовской братской школы предпринял Е. М. Медынский4. Он считал, что братские школы Украины и Белоруссии ока-
1 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 1. Библиотека НТШ. Ед. хр. 15. Л. 16 об.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 87. Опубл.: DS. Р. 21—29.3 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». С. 446—445. Опубл.: DS. Р. 30—34; Головацкий Я. Ф. Порядок школьный или устав Ставропигийской греко-русской школы во Львове 1586 года. Львов, 1863.
4 Мединський Є. М. Братські школи україни і Білорусії в XVI—XVII століттях. Київ, 1958. С. 156—166.
233§ 1. Уставные документы Львовского братства
зали существенное влияние на педагогическую систему Яна Амоса Коменского. Эту мысль он подтверждал многочисленными параллелями между пунктами уставов братских школ, главным образом устава Львовской братской школы, и трудами великого чешского педагога и просветителя1. Я. Д. Исаевич полагал, что такое сходство объясняется тем, что братские школы представляли обще-европейское направление развития педагогической мысли эпохи Гуманизма2.
Устав состоит из четырех частей: преамбулы, правил для учителей и учени-ков и основных направлений программы обучения в школе. В преамбуле го-ворится об основании школы при братстве и о необходимости образования и просвещения для человека и общества. Очень строгие требования предъявля-лись к учителям, которые должны были быть примером для учеников во всем: в науке, в прилежании, в повседневном поведении. Учитель, по определению устава братства, — это не только человек, дающий знания и помогающий по-стичь азы наук, но прежде всего человек сильный духом и красивый душой.
Основную часть школьного устава составляют правила поведения и обя-занности учеников. Особо сказано о приеме детей в школу: всякий желающий отдать своего сына или родственника в школу (обучались в школе дети всех сословий, но только мальчики), должен был взять с собой одного или двух сви-детелей, «да при усте двою и триех сведетелей станет всяк глагол», и прийти к школьному руководству, состоящему обыкновенно из двух членов братства «дозорцев школьных» и ректора школы. Поступающих в школу детей знако-мили с уставом («порядками»), который они должны были неукоснительно со-блюдать. Приходить в школу ученики должны были точно в положенное вре-мя: в летние месяцы к 9 часам утра, а в зимние — позже, причем приходить в школу нужно было дважды в день — утром и после обеда. Начинались занятия с чтения молитвы, после чего учитель делал перекличку учеников и, если заме-чал отсутствие кого-либо, посылал узнать о причине неявки в школу. В случае если ученик «забавил, ин-де игравем, или дома ся обленил или над потребу спал», то такого ученика немедленно приводили в школу и наказывали, что-бы «тих страхом и нуждею спасал». Собравшиеся в классе ученики должны были занимать места, предназначенные для них учителем в соответствии со знаниями и успехами в учебе. Каждый ученик должен был сидеть на своем месте, «назначенном ведле науки», причем «котрый больше умеет, сидhти будет вышше, бы и барзу нищи был, котрый менше умети — будети на подлhйшим мhстци седhти маети»3. В школе дети всех сословий были рав-ны, учителю особо наказывалось оценивать детей только по их старанию и
1 Мединський Є. М. Братські школи україни і Білорусії в XVI—XVII століттях. Київ, 1958. С. 99—108.
2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 154—155.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 87. Л. 3 об. — 5.
234 Глава 3
по знаниям, а не по происхождению и семейному достатку. Также говорилось и ученикам, что выделяться друг перед другом они могут «только самою на-укою». Воспитанники школы должны были соблюдать тишину и вниматель-но слушать учителя. В Луцком школьном уставе, в основу которого был поло-жен Львовский школьный устав, это положение уточняется: ученики «мают в час приходити з тихостию вшелякою, без розмов и шептов, мигов и до себе прихажок»1. Начинался урок с проверки пройденного, каждый ученик должен был дать ответ по заданному ему уроку: «наперве, по молитвах, мают мовити кождый вчерашнюю науку свою и письмо свое, што дома писал». Нерадивые ученики должны были наказываться, но при этом учителям следовало «карати не тирански, но учительски, не вышше, но по силh». Заканчивались занятия, как и начинались, молитвой, а субботний день был определен как день повто-рения всего пройденного за неделю материала. Ученики должны были по оче-реди дежурить в школе: убирать, топить печь и «котрыи выходят и входят о всhх вhдати».
Религиозное воспитание занимало в школе значительное место. В воскресе-нье все ученики рано утром собирались в школе, где наставники объясняли им значение того или иного праздничного дня, затем шли к литургии в церковь. После обеда ученики опять собирались в школе, где учителя толковали смысл прочитанных во время богослужения отрывков из Библии.
Четвертая часть устава школы содержит краткое изложение программы школьного обучения, которая состояла из трех уровней. Начиналось обучение со «складови литер», то есть учились читать, и «при том же и церковному чину учати: читаню, спhваню». Постепенно овладевая знаниями наук тривиума, ученики приступали «до больших наук» — к диалектике, риторике и «иные философские письма належачие»2.
Устав Львовской братской школы не только иллюстрирует внутренний рас-порядок жизни школы, механизм организации учебного процесса, требования братства к учителям и учителей к ученикам, но и дает возможность проследить, как достижения педагогики гуманизма были приспособлены для решения кон-кретных задач, выдвигаемых обстоятельствами жизни украинского народа. Положения школьного устава построены на высоконравственных христиан-ских принципах. Они отличаются от правил иезуитских школ того времени и сходны с правилами школ братьев-пиаров (Fratres scholarum piarum), которые занимались просвещением бедных детей. Своим общедоступным характером братская школа была непохожа на другие современные учебные заведения, не уступала она им и по качеству образования.
Устав братской школы дает нам представление о педагогических идеа-лах горожан конца XVI—XVII вв. Посредством этих источников мы имеем
1 ПКК. 1898. Т. 1. С. 86.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 87. Л. 8 об.
235§ 1. Уставные документы Львовского братства
возможность существенно расширить представления о системе ценностей, общественных и личностных идеалах как членов Львовского братства, то есть купцов и ремесленников, так и интеллигенции того времени, поскольку школьный устав был продуктом их совместного творчества. Ведь какими хо-тели видеть в будущем своих детей члены братства, таким они хотели видеть и будущее вообще — будущее своего города, нации. Какие методы воспита-ния и образования братчики хотели использовать применительно к своим де-тям, такие же формы взаимоотношений в обществе между людьми им пред-ставлялись самыми лучшими, необходимыми и желанными. Главной ценно-стью, по школьному уставу, является человек, самостоятельно завоевываю-щий свой авторитет, свое значение как личность. Только старания человека достичь знаний и умений своим кропотливым трудом, умом могут поставить его на высшую ступеньку общественной иерархии. Не богатство денежное украшает человека, а богатство духовное, не происхождение открывает две-ри к вершинам общественного бытия, а знания и высокий профессионализм. Но значение личности мыслилось в неразрывной связи с тем обществом, в котором человек жил. Ведь совершенствовать себя нужно для того, чтобы приносить пользу, радость и благо другим членам сообщества. Под этим со-обществом понималось, прежде всего, национальное сообщество, главной отличительной особенностью которого считалось вероисповедание, принад-лежность к определенной религиозной традиции, которая рассматривалась как историческая связь со своими предками, со своей культурой. Поэтому особое внимание к религиозному воспитанию имело главной целью воспи-тание национально-культурное. Характерно, что детям старались привить не слепое или формальное исполнение религиозных обрядов и обычаев, а рацио-налистически объяснить смысл и назначение каждого религиозного текста, обряда, символа. Исходя из этого, можно сказать, что общественный идеал украинских горожан конца XVI—XVII вв. виделся ими как хорошо образо-ванная личность, профессионал, человек милосердный и добродетельный, который все свои знания, умения, душевное тепло и любовь отдает для со-зидания общего блага, преумножения национально-культурного достояния своего сообщества.
Устав Львовской братской школы, как и устав братства, послужил основой для уставов многих братских школ Украины, Белоруссии и Литвы. Школы, ко-торые возникали при многочисленных братствах в местечках и селах, сыграли большую роль в развитии национальной культуры. В основном они могли дать детям только начальное образование. Однако воспитание детей на идеалах гу-манизма и украинского национально-культурного возрождения позволило не только сохранить, но и преумножить национальную культуру в сложных социально-политических условиях XVII—XVIII вв.
Уставы братств и братских школ дают нам ценные сведения о внутренней жизни братств как организаций, о главенствующих задачах, которые они пе-
236 Глава 3
ред собой ставили. Но при этом следует учитывать, что с течением времени изменялась организационная структура, сферы деятельности и требования, предъявляемые к братчикам, поэтому уставы конца XVI в. не вполне соот-ветствовали функционированию и организационной структуре братства в XVII—XVIII вв.; кроме того, многие сферы деятельности братств никогда не оговаривались в уставных документах по самым разным причинам. Очевидно, что с течением времени изменялись не только задачи и функции братства, но и взгляды на философский смысл уставных положений.
§ 2. списки членов братства
Для более глубокого понимания роли Львовского братства в истории не-обходимо знать, какие именно люди были членами братства, каков был ко-личественный и социальный состав братства, как он изменялся на про-тяжении всей истории братства. Впервые эти вопросы поднимали львов-ские историки братства. Первым списки основателей братства опубликовал Д. И. Зубрицкий1. Я. Ф. Головацкий осуществил первую попытку публикации основного источника, сохранившего наиболее полную информацию о членах братства на протяжении всей его истории: «Album czyli Ksęga wpisujących się do Instytutu Stauropigialnego członków» («Альбома или книга вписывающихся членов Ставропигийского Института»)2. И. И. Шараневич опубликовал един-ственный сохранившийся в своем роде источник: «Терминал вступующих до братства» с записями имен новопринятых членов братства и размером «вступного» — вступительного взноса, или «датка», за 1586—1609 гг.3, второе издание этих списков членов братства предпринял А. С. Крыловский4. Первое исследование количественного и национального состава Львовского братства принадлежит Ф. Срибному, который впервые обозначил источниковую базу данной проблематики5. Аннотированный список всех известных членов брат-ства и Ставропигийского Института составил В. Р. Ваврик6. Большое значение
1 ПКК. 1852. Т. 3. С. 59—60.2 Головацкий Я. Ф. Хронологическая роспись вписных братий прежде братства Львов-
ского Успения Пресвятыя Богородицы, ныне же Института Ставропигийского // ВСИ. 1864. С. 81—91.
3 Шараневич И. И. Першии члены Ставропигийского братства и деятельность их от року 1586 до 1609 // ВСИ. 1875. С. 139—145.
4 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 3—6.5 Срібний Ф. Студії над організацією Львівської Ставропігії від кінця XVI до полов.
XVII ст. // ЗНТШ. Львів, 1911. Т. 106. С. 25—40; 1912. Т. 108. С. 5—38; 1913. Т. 114. С. 25—56; Т. 115. С. 29—76.
6 Ваврик В. Р. Члены Ставропигиона за 350 лет (1586—1936) // Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 2. // Временник: Научно-литературные за-
237§ 2. Списки членов братства
вопросам количественного, национального и социального состава Львовского братства уделял Я. Д. Исаевич. Однако из-за фрагментарности сохранившихся источников по этому вопросу и разнородной информации, которую они со-держат, в исследованиях до сих пор сохраняется много неточностей и оши-бок. Только скрупулезное изучение корпуса источников позволяет уточнить вопросы количественного и социального состава Львовского братства на про-тяжении всей его истории.
Можно выделить несколько разновидностей сохранившихся списков чле-нов братства:
1) список фундаторов (основателей) братства;2) список «вписных» членов братства, содержащийся в «Альбоме Ставропи-
гийского Института»1;3) список вступающих в братство «Терменал реестра до братства всту-
паючих з датком» за 1586, 1590, 1591, 1597, 1600, 1601, 1609 гг.2; 4) списки членов братства, составленные для сбора годовых членских
взносов («реестры выбраня пhнязей рочных») или ежемесячных («братя з датком»)3;
5) списки распределения должностей между членами братства на элекциях (по протоколам заседаний братства XVIII в.).
Наиболее полную реконструкцию количественного состава членов брат-ства мы можем провести лишь для периода конца XVI — первой половины XVII вв., так как только за этот период сохранились наиболее полные сведения о членах братства. Нам известны три редакции списка фундаторов братства, которые различаются друг от друга, а также «Терминал реестра до братства вступаючих з датком року Божого нароженя 1586», который существенно отличается от предыдущих трех редакций. Все редакции этого списка были опубликованы. Сравнение этих трех редакций позволяет максимально точно установить имена людей, которые находились у истоков основания братства. В представленной таблице (см. табл. 2) показаны совпадения и различия по из-вестным трем редакциям, опубликованым в разных изданиях. Для сопостав-ления предлагается «Терминал реестра до братства вступаючих», сведения из которого приводятся из текста оригинала, так как при его публикации было допущено много ошибок и неточностей.
писки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 62—143.1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». 2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 82. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 3—6; Шара-
невич И. И. Першии члены Ставропигийского братства и деятельность их от року 1586 до 1609 // ВСИ. 1875. С. 139—145; ВСИ. 1892. С. 213—215.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 8, 12, 16, 18, 20 об., 21 об., 33; 1061. Л. 1—1 об., 14—15, 20, 28—29 об.
238 Глава 3
Таблица 2редакции списков фундаторов (основателей) львовского братства
№п/п
аЮзр. ч. 1. т. 12. с. 3—4.
Реестр строения братского
«альбом»
пкк. киев, 1852. с. 59—60.
Список замечатель-
ных лиц
Цгиа украины во львове. ф. 129. оп. 1.
Д. 82. л. 1.Терминал реестра до братства вступаючих
1 Афанасевич Фома
Афанасевич Фома Андреевич Иоанн
2 Бабич Фома Бабич Фома Бабич Фома Афендикович Яней
3 Богатирец Иоанн
Богатырец Иоанн Баба Фома*
4 Бруханский Иоанн
Бруханский Иоанн Бруханский Иоанн
5 Гдешицкий Василий
Гдешицкий Василий
Гдешицкий Василий Василевич Лука
6 Губа Лука Губа Лука Губа Лука Губа Лука
7 Зенькович Иоанн
Зенькович Иоанн Драбик Федор
8 Корнякт Кон-стантин Ерос Иоанн
9 Красовский Димитрий
Красовский Димитрий
Красовский Дмитрий Зенькович Иоанн
10 Красовский Иоанн
Красовский Иоанн
Красовский Иоанн Корнякт Константин
11 Малечкий Алексей
Малецкий Алексей
Малечки Алексей Кравец Максим
12 Маринетос Фанис
Маринето Манолис Красовский Димитрий
13 Мороховский Стефан
Мороховский Стефан
Мороховски Стефан Красовский Иоанн
14 Рогатинец Иоанн
Рогатинец Иоанн Лукашевич Николай
15 Рогатинец Юрий
Рогатинец Юрий
Рогатинец Юрий Мадзапета Манолис
16 Саприка Дорофей
Саприна Дорофей
Саприка Дорофей Малечкий Алексей
17 Шпанель Андрей Маринетос Манолис
18 Матфеевич Федор19 Итого — 12 Итого — 15 Итого — 14 Михайлович Евстафий
239§ 2. Списки членов братства
№п/п
аЮзр. ч. 1. т. 12. с. 3—4.
Реестр строения братского
«альбом»
пкк. киев, 1852. с. 59—60.
Список замечатель-
ных лиц
Цгиа украины во львове. ф. 129. оп. 1.
Д. 82. л. 1.Терминал реестра до братства вступаючих
20 Подвоев Андрей21 Пятницкий Иоанн22 Рогатиней Иоанн23 Рогатинец Юрий24 Саприка Дорофей25 Сахнович Иоанн26 Устианович Иосиф27 Федорович Прокопий
* Курсивом отмечены братчики, являвшиеся действительными основателями братства в 1586 г.
Можно предположить, что редакция «Списка замечательных лиц, впи-савшихся в книгу Львовского братства со времени основания сего братства Антиохийским патриархом Иоакимом» (ПКК) является более поздней, так как содержит имя Константина Корнякта, который являлся не действительным, а почетным членом братства. Этот состоятельный купец греческого происхо-ждения оказывал постоянную материальную поддержку братству, за что его имя в знак благодарности и признательности навеки было вписано в «Реестр братства»1. Два списка («Альбом», ПКК) содержат имя Манолиса Афраниса Маринетоса, который, так же как и Корнякт, был греком по происхождению. Он, вероятнее всего, был действительным членом братства, однако не был в числе основателей братства, его имя впервые в списках членов братства встре-чается в 1601 г. Можно сделать вывод, что список, который содержит имена людей, ставших в 1586 г. основателями братства, состоит из 12 имен «заме-чательных лиц». Интересно, что в заголовке к этому списку нет указания на то, что основателем братства был антиохийский патриарх: «Реестр строения братского». Приведенный здесь «Терминал реестра до братства вступаю-чих», содержащий 27 имен членов братства, был составлен, вероятнее всего, в середине 90-х гг. XVI в. Многие братчики из этого списка значатся по другим реестрам принятыми в братство в 1590 г., например Федор Драбик, Андрей Подвоевожий, Иван Пятницкий и др. Если сравнить этот список с первой ре-
1 [Головацкий Я. Ф.] Константин Корнякт (1517—1603) // ВСИ. 1867. С. 60—66; Срібний Ф. Студії над організацією Львівської Ставропігії від кінця XVI до полов. XVII ст. // ЗНТШ. Львів, 1913. Т. 114. С. 56; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 51.
240 Глава 3
дакцией («Реестром строеня братского»), то совпадения этих двух списков составляет всего восемь имен (См. табл. 2), что свидетельствует о его более позднем составлении, но по аналогии со списком 1586 г.
Самым полным из всех сохранившихся списков членов братства, позволя-ющим получить «роспись» братчиков практически на протяжении всей исто-рии организации, является «Альбом». Этот источник использовали многие историки братства. Однако без учета особенностей, характерных для данного источника, во многих исследованиях нередко делались ошибочные выводы о социальном и количественном составе братства.
При работе со списками членов братства и «Альбомом» в особенности пре-жде всего следует различать действительных («вписных») и почетных чле-нов. Действительные члены братства — это собственно львовские горожане, которые вели реальную работу в организации. Почетные члены братства — это, как правило, влиятельные люди своего времени, которые оказывали со-действие материальное или моральное братству, а также простые горожане Львова и других городов и местечек, также оказавшие братству какую-либо поддержку. Все почетные члены братства «вписывались» в специальный брат-ский реестр, который сохранился под названием «Альбом Ставропигийского Института», содержащий автографы многих известных людей начиная с конца XVI и до XX вв. Не учитывая эту особенность «братского реестра», некото-рые историки утверждали, что членами братства были киевский митрополит Михаил Рогоза, дерманский архимандрит Геннадий, новогрудский воевода Федор Скумин-Тышкевич, Богдан Сапега, Ипатий Потий, Адам Вишневецкий, Роман Ружинский, Павел Тетеря и др.1 Однако их имена, часто вписанные «собственноручно», свидетельствовали об их расположении к братству, а иногда вносились лишь как имена почетных гостей братства. Впервые на та-кую особенность списка членов братства, помещенного в «Альбоме», указал Я. Д. Исаевич2. Однако его замечания относились только к представителям ду-ховенства и шляхты, вписанных в «Альбом». Но если роль таких известных исторических фигур, как Лаврентия Древинского, Адама Киселя, Павла Тетери и др., в деятельности Львовского братства можно установить по другим сохра-нившимся источникам (письмам, финансовым документам братства и пр.), то выявление почетных членов братства из числа простых горожан Львова или других городов и местечек, также занесенных в «братский реестр», представ-ляет значительные трудности.
1 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1849. № 5—6. Ч. 62. С. 32; Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. С. 45; Вав-рик В. Р. Члены Ставропигиона за 350 лет (1586—1936) // Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 2 // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 76—79.
2 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 47, 48.
241§ 2. Списки членов братства
При изучении комплекса сохранившихся списков членов братства конца XVI — начала XVII в. обращает на себя внимание значительная разница чис-ленности братчиков по разным спискам (см. табл. 3).
Таблица 3Численность членов братства по спискам из разных источников.
Год 1601 1604 1608 1609 1611 1612 1613Число членов
братства58 34 24 53 29 29 21
Источник (ЦГИА
Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1.)
Д. 82. Л. 4.
Д. 1043. Л. 8.
Д. 1043. Л. 12.
Д. 82. Л. 4—5.
Д. 1043. Л. 16.
Д. 1043. Л. 18.
Д. 1043. Л. 20 об.
Максимальная разница в численности братства по источнику (Д. 1043) между двумя последующими списками составляет 10 человек (1601 и 1608 гг.). В то же время списки по источнику (Д. 82) значительно превышают числен-ность членов братства по другому источнику, и разница составляет 24 (1601 и 1604 гг.), 29 (1608 и 1609 гг.) и 24 (1609 и 1611 гг.). Такое существенное коле-бание численности членов братства по разным спискам позволяет сделать вы-вод о том, что принципы составления этих списков различна, хотя их предна-значение одинаково — регистрация сбора денег. Однако списки, содержащие меньшее число членов братства, содержатся в книге протоколов заседаний и составлялись для регистрации уплаты годовых взносов членами братства по-сле элекционного собрания. Списки, содержащие рекордно большое число членов, хотя и называются «реестрами до братства вступаючих з датком», видимо, составлялись как сводные списки всех «вписавшихся» в братство. Элекционные списки включают имена вдов умерших членов братства, кото-рые продолжали вносить «рочное» в братскую казну. В списке за 1608 г. сре-ди вдов значатся Лукашевая Губиная, Евстафиевая Прокоповна, Ивашковая Зеньковичка, Касияновая, Юрковая Рогатинцовая1. В списке 1609 г. находят-ся имена всех этих членов братства, в том числе и Константина Корнякта, умершего в 1603 г.2 Это обстоятельство позволяет сделать вывод, что досто-верными о численности братства в начале XVII в. являются сведения из так называемых элекционных списков, что позволяет опровергнуть утверждение Я. Д. Исаевича, будто в начале XVII в. в Львовском братстве было более 50 чле-нов3. Списки, на основании которых исследователь делал этот вывод, содер-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 12. 2 Там же. Д. 82. Л. 3 об.3 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 54.
242 Глава 3
жат недостоверную информацию. Самым многочисленным Львовское брат-ство было в 1590 г., когда в него было принято 32 новых члена, а общее число братчиков составляло 41 или 42 человека. В 1604 г. в братстве состояло 34, а в 1633 г. — 36 членов. Но чаще всего количественный состав братства варьи-ровался в пределах 21—29 членов (в 1647 г. — 20 братчиков, в 1650 г. — 22)1. Известно, что в 1656 г. членами братства было 17 человек, правда, в этом же году было принято 4 новых2. В XVIII в. количественный состав Ставропигии не превышал 15 — 18 человек3.
Сопоставление всех списков затрудняет то обстоятельство, что один и тот же член братства мог называться в каждом списке по-разному. Это объясня-ется тем, что в конце XVI — начале XVII в. еще не устоялась единая схема обо-значения личных имен. Чаще всего горожанина называли по имени и отче-ству, причем отчество служило в качестве фамилии, но часто рядом с именем и отчеством стояло и прозвище, либо унаследованное от отца, либо служащее определением ремесленной или географической принадлежности. Например, в одном списке указан антропоним Александр Стефанович, а в другом его полное имя — Александр Стефанович Сафиан; в одном списке — Алексей Григорович из Великих Лук, а в другом — Алексей Григорьевич Великолук. Но наиболее трудно идентифицировать братчиков, чьи имена, отчества и род занятий являются присущими и другим членам братства. Например, один и тот же человек назван в разных списках: Федор Конашевич Кушнир, Федор Кунашевич, Федор Кушнир Мацковоичов, Федор Кушнир; или Василий Степанович Мрославский, Василий Стефанович Рогатинцув зять, Василий Стефанович, Василий Рогатин цув зять. Постоянным в разнообразии вари-антов является только имя братчика. Проследить динамику изменения чле-нов братства даже на протяжении небольшого отрезка времени в этой свя-зи представляется чрезвычайно трудным, при условии что некоторые списки содержат недостоверную информацию (имена умерших членов братства). Сегодняшние технические возможности позволяют детально изучать списки членов братства при помощи специально разработанных компьютерных про-грамм, дающих возможность сопоставлять все имеющиеся информационные данные по определенным признакам. Разработка аналогичных компьютер-ных программ для изучения персоналий других социальных групп поможет глубже узнать проблемы и переживания каждого конкретного человека из от-даленной от нас большим временным промежутком эпохи. Только при по-мощи специально разработанных компьютерных программ можно получать максимально полную информацию из таких источников, как Реестр складчин львовских горожан на приезд во Львов в 1621 г. королевича Владислава, где со-
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 1032 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1061. Л. 14—15.3 Там же. Д. 1169. Л. 1 об. — 2, 37; 1187. Л. 2—3.
243§ 2. Списки членов братства
держатся 20 мужских имени, 6 женских, одно коллективное имя («Стецковны в Ринку»), и приветствие короля Сигизмунда III (20 имен, в том числе одно женское)1; реестр складчин 1625 г. на судебный процесс с райцами Львова по делу об освобождении от налогов (содержит 33 имени)2 и др., которые вклю-чают не только имена членов братства, но и имена членов их семей и других жителей Львова и предместий.
В конце XIX в. среди львовских историков развернулась дискуссия о роли греков в истории Львовского братства. В. Лозиньский выдвинул предполо-жение, что Ставропигия не могла представлять украинскую часть городского населения Львова в органах городского самоуправления, потому что среди ее членов были «чужеземцы»3. Это утверждение в значительной степени опро-верг Ф. Срибный, на основании актового материала показавший значитель-ную роль в организации ассимилировавшихся во Львове греческих купцов, которые не только не мешали всем начинаниям украинских братчиков, но и активно способствовали защите интересов украинского населения горо-да4. Спад активности братства 20-х гг. XVII в. связывал с увеличением числа греков среди львовских братчиков Я. Д. Исаевич5. В «Альбоме» встречаются 20 имен членов братства греческого происхождения, которые «вписались» в братство в 1601—1712 гг. Наибольшее число греков (7 человек) среди членов братства значится в списке 1633 г., включающем 36 братчиков6. В XVII в. поня-тие о национальности отождествлялось в первую очередь с религией. Греки, как и украинцы, были православными. И украинцы, и греки рассматривали себя преемниками византийской религиозно-культурной традиции («веры кгрецкой»). Поэтому греческие купцы, по каким-либо причинам оставившие свою родину и обосновавшиеся во Львове, видели в украинцах, исповедовав-ших такую же религию, как и они, своих собратьев. Вопрос о разнице между членами братства по национальному признаку ни разу не встречается в доку-ментах. Видимо, этой проблемы не существовало для самих членов братства. Интересно также, что довольно большую общину львовских армян, тоже пра-вославных, но принадлежавших к иной религиозно-культурной традиции, ни украинцы, ни греки не воспринимали как своих единомышленников. Для украинских членов братства греки скорее представляли связующее звено в историко-культурных традициях, соединивших некогда могущественные го-
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 54.2 Там же. С. 57.3 Loziński W. Patrycyat i mieszczaństwo Lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwów, 1892. S. 308.4 Срібний Ф. Студії над організацією Львівської Ставропігії від кінця XVI до полов.
XVII ст. // ЗНТШ. Львів, 1912. Т. 108. С. 5—38.5 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст.
С. 53, 223.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 33.
244 Глава 3
сударства Киевскую Русь и Византию, народы которых оказались в зависи-мом положении от государств с иной, чуждой религиозно-культурной систе-мой ценностей.
Особого внимания заслуживает вопрос о женщинах, чьи имена внесены в «братские реестры». Можно выделить две категории женщин, значащихся в списках членов братства: вдовы братчиков, которые значатся в элекцион-ных списках для уплаты «рочных» взносов в братскую казну, и «вписанные» в «Альбом». Если первая категория женщин не вызывала никаких разногласий среди историков Львовского братства, которые не рассматривали их финансо-вую поддержку братства даже после смерти их мужей как членство в органи-зации, то вписанных в «Альбом» многие историки считали членами братства1. В «Альбоме» содержатся пять имен женщин: в 1610 г. вписана была Татьяна Мафеевна Малинская, в 1611 г. — Пелагия Сеньковая Ковалевая, в 1630 г. — княжна Домна-Анна Могилянка-Прерембская, в 1741 г. — Мария Алуизе-Бенуэ и З. Балатовая. Женщины не могли быть членами братства, устав Львовского братства о женщинах даже не упоминает. Однако стремление многих женщин содействовать начинаниям братств, оказывать им посильную помощь и под-держку привело к тому, что в уставах многих братств особо была оговорена возможность женщин принимать участие в деятельности братства. Например, в уставе Могилевского братства содержится такой пункт: «Сестры братства церковного в братстве заседати не мают, так же теж при справах головных и малых бывати не повини (кроме на погребу повинны быти)». Единственное право, которое женщины имели в братстве, — уплата денежного взноса («по-винности»): «А пришедши до братства, и отдавши повинность свою, мает отити», причем личное присутствие женщины при передаче денег было не обя-зательным: «А может теж и прислати пред кого повинность до братства»2. Именно в качестве дарительниц, пожертвовавших братству значительные сум-мы денег, были вписаны в «Альбом» все пять женщин, причем и свои дары они присылали братству «през» кого-либо и вписаны в «реестр братский» были заочно. И все же роль женщин — жен членов братства — в организации была ощутима. Они высупали организаторами сбора пожертвований на восстанов-ление Успенской церкви в 1592 г.3; во время отсутствия в городе своих мужей исполняли их обязанности, в том числе связанные с финансовыми делами4. Так, Анастасия Лясковская, жена члена братства Ивана Лясковского, пять лет, с 1676
1 Крыловский А. С. Предисловие // АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 17; Он же. Львовское Ставропи-гиальное братство. С. 45.
2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 618.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1037. Л. 2, 3.4 Там же. Д. 1076. Л. 4 об.; Шустова Ю. Э. Реестры продажи книг Львовского Успенского
братства 40—60-х гг. XVII в. как источники по истории книги // Книга в пространстве куль-туры. Вып. 1 (3) 2007. М., 2007. С. 53.
245§ 2. Списки членов братства
по 1680 гг., исполняла обязанности продавца книг типографии братства и вела реестр для финансовой отчетности перед братством1.
Большой интерес представляют списки учеников, вступающих в братскую школу. В архиве братства сохранились такие списки только за 1587—1596 гг.2 Это — уникальные источники, позволяющие определить не только количе-ственный и социальный статус учеников братской школы, но и почерпнуть сведения об их родителях. Обязательным элементом списка были сведения о родителях, чаще всего указывалось имя отца, но иногда — имя матери, их род занятий. Многие православные священники и диаконы отдавали своих детей в братскую школу (Вознесенской, Николаевской церквей). В школе учились дети членов братства: два сына Ивана Красовского, сын Ивана Рогатинца и др. Иногда в списках указывалось имя поручителя детей-сирот: «През пана Красовского Тимко сирота з Яворова, его отдалы и на науку»3. Список со-ставлялся с целью фиксирования сведений о вносимой плате за обучение. Характерно, что размер оплаты не был жестко регламентирован и зависел от материального положения родителей. По списку 1588 г. размер оплаты за обу-чение колебался от 6 до 12 грошей, что составляло довольно умеренную плату, доступную даже бедным людям.
Несмотря на фрагментарную сохранность списков членов братства и уче-ников школы, отсутствие единообразной формы этого вида источников, что значительно усложняет их использование, эти материалы могут дать много ценной и разнообразной социальной информации о людях XVI—XVIII вв., по-зволяют представить не только взаимоотношения между членами братства, но и глубже понять стремления и чаяния каждого братчика. При решении всех важнейших вопросов для Львовского братства главенствующим был автори-тет того или иного коллектива, организации, корпорации. Это говорит о дли-тельном сохранении среди мещанства средневековых традиций отношения к личности и индивидуальности. Безусловно, что в состав братства на протяже-нии его длительной истории входили яркие, незаурядные личности, весомый вклад которых в украинскую культуру отмечают все историки братства. Но для самих членов братства шкала ценностей измерялась в понятиях аноним-ности отдельной личности во имя авторитета той или иной корпорации, объ-единения людей по тому или иному признаку (религиозному, профессиональ-ному, социальному и др.). Поэтому так мало сведений сохранилось о жизни и
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1103. Л. 1—7 об.; Д. 1104. Л. 1—8. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 607—611, 616—619; Шустова Ю. Э. Продажа книг типографии Львов-ского Ставропигийского братства по реестрам Анастасии Лясковской (1676—1680 гг.) // Вестник РГГУ. Сер. Ист. науки. М., 2010. № 4 (в печати).
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 91. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 57—60.3 АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 58.
246 Глава 3
деятельности отдельных членов братства, причем это относится в равной сте-пени и к руководителям братства, и к рядовым его членам, даже в том случае, когда их деятельность была связана с решением самых важных для братства вопросов.
§ 3. Протоколы заседаний
Уникальными в своем роде являются протоколы заседаний Львовского Ставропигийского братства. Источники этого вида сохранились только в ар-хиве Львовского братства, о существовании аналогичных протоколов в других крупных братствах Украины, таких как Луцкое, Киевское и др., нам ничего не известно. Протоколы заседаний братства относятся к группе источников, пред-назначенной исключительно для самих членов братства. Ни их наличие, ни их форма не подчинялись каким-либо нормативам делопроизводства извне, как и не предназначались для какой-либо формы отчетности. Составление про-токолов заседаний было не типично для средневековых корпораций вообще и для братств — в частности. Поэтому можно сказать, что ведение протоколов заседаний было вызвано личной инициативой членов братства, исключитель-но для себя самих, «для памяти». Рассматривая дошедшие до нас протоколы, можно проследить, как вырабатывался стиль ведения протоколов, их форму-ляр, какие вопросы, обсуждаемые на «сессиях» братства, подлежали протоко-лированию. Только протоколы дают возможность исследователю окунуться во внутреннюю жизнь братства как организации, понять не только круг во-просов, наиболее волновавших братчиков на протяжении всего его существо-вания, но и приоткрыть завесу корпоративности братства, его «коллективной психологии», и увидеть отдельных людей, членов братства, с их проблемами, горестями, успехами, недостатками и достоинствами. Только протоколы засе-даний дают возможность «услышать», как именно разговаривали между собой члены братства, потому что только протоколы запечатлели многочисленные тексты на самые разные темы, написанные «живым», разговорным языком и тем языком, который был ближе всего членам братства на разных этапах его существования.
Протоколы заседаний братства — довольно сложный в использовании вид источников. Все протоколы заседаний дошли до нас в составе книг, сшитых и переплетенных в более позднее время, чем составлялись сами документы. В первую очередь это относится к протоколам XVII в. Протоколы заседаний всегда записывались в специально предназначенную книгу, но иногда писарь вел записи на отдельных листах, а потом переписывал их в книгу, что приводи-ло не только к частому нарушению последовательности записей, но и к потере многих протоколов. При использовании этих источников необходимо обра-щать внимание на хронологию записей. Непоследовательность расположения
247§ 3. Протоколы заседаний
записей возникнуть либо по вине писаря (секретаря) братства или из-за того, что книга была неправильно сшита при обработке архивных материалов брат-ства архивариусами Ставропигийского Института в XIX — начале XX вв.
При использовании сохранившихся книг протоколов заседаний братства нужно учитывать то, что они разнообразны и по своему характеру, и по со-держанию. Главная их особенность состоит в том, что они не являются «про-токолами» в современном понимании этого слова. Ни один протокол не по-зволяет полностью реконструировать ни проведение собрания братства, ни ход и характер дискуссии. Можно выделить два типа протокольных записей: 1) чаще всего это сведения об уже принятых решениях, обсуждавшихся на со-брании, причем не всех, а только главных (какие вопросы являются главными, решал обычно сам писарь или старшие братчики); 2) реже — заранее состав-ленный список вопросов («артикулов»), которые предполагалось обсудить на собрании. Для вопросов, требующих дополнительных сведений, писарь остав-лял небольшой пробел, чтобы потом внести принятые решения, но часто при-ходилось переписывать такие заготовленные заранее протоколы либо потому, что принятое решение кардинально отличалось от предполагаемого, либо из-за того, что некоторые вопросы не обсуждались или вместо них рассматри-вались другие. Особенностью протоколов XVII в., когда делопроизводством братства еще не были выработаны требования к ведению такого рода доку-ментов, является то, что рядом с собственно протоколами заседаний братства вносились записи иного характера, которые мы бы отнесли к другим видам источников. Это — исходящая корреспонденция, финансовые счета, записи о продаже книг братской типографии и др. Каждая из сохранившихся книг содержит разные сведения о такого рода «справах братства». Внесение этих записей в протокольные книги, с одной стороны, зависело от писаря (секрета-ря) братства, так как ему принадлежало право выбора, что на данный момент является наиболее важным в жизни организации, а с другой — наличие та-ких сведений рядом с протоколами сессий и элекций позволяет выделить круг проблем, которые были наиболее значимыми в жизнедеятельности братства в разные исторические периоды его существования.
Почти все протоколы Львовского братства XVII в. были опубликованы А. С. Крыловским, но при использовании этих публикаций необходимо учиты-вать, что текст в них часто не точно транскрибирован, что приводит не только к филологическим ошибкам, но и к фактическим, отдельные записи опущены публикатором без каких-либо оговорок. Поэтому с целью избежания неточ-ностей и ошибок при анализе этих источников были использованы архивные материалы. Протоколы братства XVIII в. до сих пор не опубликованы.
До нашего времени сохранилось восемь книг записей протоколов заседаний:
«Реестр электовый» за 1599—1650 гг.;1. «Книги справ братства Ставропигийского…» за 1607—1610 гг.;2.
248 Глава 3
Книга протоколов братства за 1647—1687 гг.;3. «Справы братства за лета 1656—1666…»;4. «Plantatio porządku y elektiey…» за 1686—1725 гг.;5. Книга протоколов братства за 1733—1758 гг.;6. «Книга сессиональна (Acta Sessionum)» за 1758—1785 гг.;7. «Protocolla Sessionum» за 1732—1813 гг.8.
Можно утверждать, что сохранился основной корпус записей протоколов заседаний. Говоря о хронологических рамках дошедших до нас протоколов, необходимо сделать несколько замечаний. Первый сохранившийся протокол элекционного собрания относится к 1599 г. Вероятнее всего, это первая в своем роде книга протоколов заседаний братства, никаких указаний на существова-ние аналогичных записей ранее не встречается, и по характеру первоначаль-ных записей в этой книге можно предположить, что это — первые опыты веде-ния такого рода документации в братстве. Протоколы заседаний, относящиеся к последним годам существования организации как братства, составляют на-чало большой по объему книги протоколов заседаний Рады Ставропигийского Института, что позволяет утверждать, что дата ликвидации братства является условной в истории Львовской Ставропигии, организация продолжала свое существование, лишь изменив название, но сохраняя свой статус и специфику деятельности.
Первая известная книга протоколов — «Реестр электовый» — содержит за-писи за период с 1599 до 1650 гг.1 Это — кодекс в переплете, выполненном, ве-роятно, при систематизации братского архива Д. И. Зубрицким, на титульном листе его рукой указаны хронологические рамки книги: «Od roku 1599 do 1650». Книга содержит решения братства, принятые на сессиях (текущих собраниях), и материалы элекционных собраний. Она начинается записью от 26 августа 1599 г. о решении членов братства упорядочить проведение своих заседаний. По-видимому, члены братства не считали обязательным приходить регулярно на собрания. Установить дисциплину в организации попытались двумя мера-ми: приданием всем мероприятиям братства ритуального характера, что по-зволяло братчикам ощутить себя членом особой группы, наполненной неким возвышенным духовным смыслом, и установлением строгих наказаний за на-рушение дисциплины организации. Только в этой книге можно встретить ука-зание на братскую цеху, которая и послужила символом объединения братства «всех веспол». На сессии 26 августа все члены братства единогласно «постано-вили и умоцнили и прирекли», чтобы цеха братская, которая посылалась чле-нам братства с целью оповещения о предстоящем собрании, «держана была». В последующих записях о решениях, принятых на сессиях, часто встречается фраза «при загаеное цhсе», что означало, что на собрании рассматривались
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 58—163.
249§ 3. Протоколы заседаний
особо важные вопросы, которые имели исключительное значение не только для братства, но и для всего «народу руського», например, «о вольности русь-кие и утиски великие от ляхов» и др. А если бы кто-либо из членов братства «за цhхою, то есть за знамением братским до братства прийти не хотел», то должен был быть подвергнут наказанию («декретован быти мает ведлуг фундушу, права, привилеию и статуту братского»); чаще всего наказывали сидением на колокольне или штрафовали воском, который шел на церковные свечи, причем провинившиеся старшие братчики наказывались суровее, чем «молодшие»1. Упоминание о братской цехе встречается в записях протоколов только до 1614 г. Об использовании цехи для сбора членов братства на собра-ния и о проведении собраний «при цhсе» в последующем времени сведений не встречается.
Записи о сессиях братства в этой книге велись довольно нерегулярно, часто от случая к случаю. Основными вехами внутренней жизни братства были элек-ции. Сведения об элекционных собраниях можно считать наиболее полными. Хотя по уставу элекции должны были проводиться раз в год, но фактически они проводились намного реже. Можно предположить, что в книгу были вне-сены записи о всех элекциях братства за период 1599—1644 гг. Здесь содержат-ся протоколы элекций с указанием, на какие должности были избраны члены братства, и списки членов братства, составленные для сбора годовых членских взносов («реестры выбраня пhнязей рочных»). Элекции братства проводи-лись в 1599, 1604, 1608, 1612, 1633, 1641, 1642, 1644 гг.2
На ежемесячных собраниях братства рассматривались самые разные во-просы, касающиеся всех сторон его деятельности, начиная с хозяйственных проблем (отремонтировать печь в госпитале, «поднести муров» для расшире-ния школы) и заканчивая выработкой инструкций посланникам «до Люблина на трыбунал в справе церковной» или выработкой стратегии братства в деле борьбы за уравнивание в правах украинского и польского народов и снаряже-ния посольства на сейм «для обороны Речи Посполитое». Иногда здесь мож-но встретить самую неожиданную и интересную информацию, позволяющую представить отдельные картины из жизни украинских горожан первой поло-вины XVII в.
Например, на одно из заседаний братства в 1600 г. пришла «пани Купцовая», вероятно, вдова одного из членов братства, «со двома человеки», которые мог-ли за нее поручиться, с просьбой принять ее «на манастыр в старости» и раз-решить построить на свои деньги при братском Онуфриевском монастыре ке-лью для «перемешкованя так вдов альбо и сирот». Члены братства, рассмотрев эту просьбу, дали разрешение на постройку кельи при монастыре и назначили
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 1—2.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 1, 7—8, 11—12, 15—16 об., 18—19,
30 об., 53, 59 об. — 60., 62—62 об.
250 Глава 3
одного из братчиков помогать вдове1. Такая же по форме запись встречается в другой книге протоколов: в 1607 г. с аналогичной просьбой обратилась к брат-ству вдова одного из его основателей «пани Лукашевая Крамарка», и в каче-стве одного из поручителей выступал братчик Стефан Сокальский2. В то время проводить остаток дней одиноким людям при монастыре, в молитве и смире-нии, считалось лучшим способом подготовить себя к жизни вечной. Завещая свои незначительные сбережения на Онуфриевский монастырь и госпиталь, эти женщины вносили свою посильную лепту в богоугодное дело (на содер-жание сирот и больных). С просьбой проживать при монастыре «в старости своей» к братству обращались не только вдовы. Один из первых руководите-лей братства Иван Красовский в 1619 г. обратился к братству, чтобы ему позво-лили вместе с женой «вhки доживати» в монастыре3. Такие просьбы братство рассматривало как «миле слушные» и оказывало посильную поддержку столь пожилым уважаемым людям.
Это — лишь один из многочисленных вопросов, поднимавшихся на собра-ниях братства, на основании которых можно реконструировать самые разные стороны жизни горожан того времени. Но все же одним вопросам члены брат-ства уделяли большее внимание, а другие рассматривали как отдельные, мало-значащие эпизоды их повседневной жизни. Безусловно, что для современных историков такие свидетельства о «повседневности» городской жизни XVII в. имеют огромное значение. Возвращаясь к анализу книги протоколов заседа-ний братства, необходимо выделить те темы, которым отдано предпочтение самими членами братства, тот круг проблем, которые они считали наиболее значимыми для себя самих и для своей организации.
Особенность книги протоколов 1599—1650 гг. состоит в том, что в ней большое внимание отдано внутренней жизни: становлению организационно-го устройства, формированию определенных традиций существования брат-ства в городском сообществе того времени и членов братства — в рамках своей корпорации. Это — решения братского суда по разным внутренним делам, о поведении отдельных членов братства в организации и их взаимоотношени-ях между собой, о формах приема новых членов, о присяге (обете) при всту-плении в братство, о братской казне, способах формирования статей доходов и расходов, становлении определенных традиций (ритуалов) при открытии братских «скрынек» и подсчете денежных сумм. В книге протоколов получи-ли достойное освещение все стороны и направления деятельности братства, но особое внимание здесь уделено общественно-политической деятельности.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Л. 10 об.2 Там же. Д. 1045. Л. 2.3 Науковый сборник, издаваемый литературным обществом Галицко-русской Матицы.
Львов, 1868. Вып. 3—4. С. 342—343; Капраль М. Актові матеріали до біографії Івана Кра-совського // Україна в минулому. Київ; Львів, 1993. Вип. 4. С. 126—127.
251§ 3. Протоколы заседаний
Только в этой книге можно найти информацию о способах содержания брат-ством школы (приглашение учителей, прием учеников, форма оплаты труда учителям и плата за обучение учеников и др.).
«Реестр электовый» включает в себя два периода в истории братства: 1599—1620 гг. и 1633—1650 гг. За 1620—1632 гг. записи в этой книге отсутству-ют. Я. Д. Исаевич высказал предположение, что записи протоколов заседаний братства за этот период вносились в другую книгу1. Но именно на 20-е гг. XVII в. приходится спад в деятельности братства. С начала 30-х гг. XVII в. полностью обновился состав братства и наступает новый период деятельности органи-зации, который начинается с реформирования и обновления организацион-ных форм деятельности братства, о чем свидетельствуют записи о решениях, принятых на собраниях 1633 г.2 В 1633 г. был утвержден новый текст «обhта» при вступлении в братство, установлена строгая периодичность проведения собраний (раз в месяц) с обязательной уплатой ежемесячных взносов в отли-чие от практиковавшихся ранее годовых, установлена специальная скрынька «для непослушенства», в которую каждый провинившийся в чем-либо перед братством братчик обязан был внести штраф. Но в 30-е гг. элекционные со-брания больше не проводились. Только в 40-х гг. элекции проходили согласно уставу, с периодичностью раз в год. Эта книга заканчивается сведениями об элекции 1644 г.
Как дополнение к «Реестру электовому» можно рассматривать книгу про-токолов заседаний братства за 1607—1610 гг. Этот кодекс дошел до нас в ориги-нальном кожаном переплете, но не полностью3. Его страницы были пронуме-рованы, вероятно, при систематизации архива братства в XVIII в., нумерация арабскими цифрами. Сохранились страницы 1—6 (современная нумерация — Л. 1—4 об.), 27—33 (Л. 5—8), 39 (Л. 9), 49—82 (Л. 10—26 об.). Книга имеет ори-гинальный заголовок «Книги справ братства Ставропигийского Успения пре-святыя Богородица Леополите и отвираню пушки, которую Андрей Галас но-шовал» и подзаголовок более позднего происхождения «Regula a Confraternitte Stauropygiana Leopoli, Confraternitti Constantinopoliensi». Эта книга, в отличие от предыдущей, была предназначена не для записей решений элекционных со-браний или других решений братства, имеющих важное значение. Тематику записей в ней можно обозначить как решения братства по финансовым во-просам. Здесь есть решение об утверждении ряда должностных лиц братства («поборцов»), которые должны были собирать деньги на различные нужды, начиная со сбора пожертвований «на ратунок и оброну народу руському» и
1 Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму XVI—XVIII ст. Київ, 1972. С. 27.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 30—33 об.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 297—339.
252 Глава 3
заканчивая сбором пожертвований на Успенскую церковь и Онуфриевский монастырь1. «Поборцы» должны были ходить со специальными «тяблицами» или «пушками» (урнами), на которых указывалась цель проводимого сбора пожертвований. В одном из реестров описи имущества Успенской церкви име-ется указание, что таких «таблиц и тябличок офhрованых сребрных» (для по-жертвований) насчитывается 100 штук2.
На сессиях братства «пушки» (урны для пожертвований) открывались, под-считывались собранные суммы денег и принимались решения, на какие цели их истратить. Именно такого характера записи содержались в рассматриваемой книге. Среди записей есть чрезвычайно интересные сведения о том, как члены братства умножали свой капитал. В 1608 г. старший братчик Иван Демидович Красовский дал перед братством «зуполный рахунок» (полный отчет) с сум-мы, которую пожертвовал на строительство Успенской церкви, школу и ти-пографию братства царь «Дмитрий Московский». Пустив деньги в торговый оборот, Иван Красовский значительно увеличил первоначальную сумму, за что «панове братя так за стараня его, яко и приробок подяковали и зе всей сумы квитовали и вольным с тое сумы учинили»3. Члены братства, которые были опытными купцами и ремесленниками, часто прибегали к такому спосо-бу увеличения братской казны, что было выгодно и братству, и самим членам, которые получали за свои старания от приумноженной суммы определенный «квит» (вознаграждение).
Среди записей в этой книге находится ценный реестр «Народа нашего руського», то есть список всех «домов в самом мhстh Львовh в мурh толь-ко», составленный с целью сбора денег среди украинского населения города «на ратунок и оброну народу руському до права посполитого» в 1609 г. Это уникальный в своем роде реестр, позволяющий представить количественный и социальный состав украинского населения города, начиная с самых бога-тых, которые, вопреки запрету Магистрата Львова, имеют дома на централь-ной городской площади («в Рынку над богатыми крамами домы дедичные»), и заканчивая украинскими горожанами, которые «наемным делом» живут, а также списком вдов4. Сбор средств проводился не только среди горожан, но и среди предмещан, но аналогичного реестра жителей предместий Львова не составляли. В результате проведенной «складки посполитое» братство выдало посланникам в Варшаву на Сейм «на право з ляхами» 143 злотых и 7 грошей — очень большую сумму по тем временам5.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 5—5 об.2 Там же. Д. 1069. Л. 24 об.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 3 об.4 Там же. Л. 6—7 об.5 Там же. Л. 9.
253§ 3. Протоколы заседаний
В рассматриваемой книге протоколов содержится «Епистолия, которую братство Ставропигион Успения пресвятыя богородица панове мещане львов-ские року 1609 мещаном Новаго Константинова послана»1. Это уникальное произведение, которое хотя и имеет форму послания и конкретного адресата, относится не к эпистолярному виду источников, а является интереснейшим литературным памятником, где изложены основные принципы и идеи брат-ского движения, цели и задачи организаций такого типа. Автор «Эпистолии» излагает философское осмысление роли братств в современном ему обществе. Несмотря на то что это произведение было опубликовано в 1904 г., оно до сих пор остается малоизвестным и малоизученным. Первую и единственную по-пытку его анализа предпринял М. С. Грушевский2. Причины такого невни-мания исследователей к «Эпистолии» можно объяснить тем, что это литера-турное произведение просто «затерялось» среди источников совсем другого плана, которые вошли в том «Архива Юго-Западной России» с подзаголов-ком «Протоколы и другие деловые бумаги Львовского Ставропигиального братства». Но вероятнее всего, первоначально «Эпистолия» не входила в со-став протоколов заседаний братства. Она написана на отдельной тетради, на первой странице красиво выписано само слово «Эпистолия» и имеются три инициала. Такое оформление текста не характерно для записей протоколов за-седаний братства. Скорее всего, тетрадь с «Эпистолией» была переплетена с книгой протоколов в более позднее время.
Книга протоколов заседаний, хронологические рамки которой — 1647—1687 гг.3, содержит протоколы месячных сессий и элекционных со-браний за 1647—1656 гг. Книга дошла до нас не полностью. Сохранились страницы 7—86, 385—408. Но в первой записи этой книги есть указание, что это — «новый реестр», то есть новая книга для записей протоколов заседа-ний братства. По-видимому, утрачены записи об элекции 1647 г., поскольку запись на странице 7 начинается словами: «По елекции…» и содержит спи-сок всех членов братства, составленный специально для «складок месячных до скрыньки братской». При составлении записей протоколов заседаний в этой книге писарь братства большое внимание уделял ведению учета за упла-той месячных взносов членами братства. Это было связано с решением, при-нятым на «схадке» 19 февраля 1647 г., на которой «спорядили недбальство», вызванное тем, что члены братства не платили взносы с 1645 г. Был установ-лен размер взноса — 6 грошей, и каждый член братства обязан был заплатить задолженность за прошлые годы или месяцы4.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 10—26 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 305—339.
2 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 2. С. 266—280.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1061.4 Там же. Л. 2—2 об.
254 Глава 3
Книга содержит материалы элекций братства за 1648 и 1656 гг. Протокол элекции 1648 г., составленный писарем братства Василием Корендовичем, можно назвать лучшим из всех дошедших до нас протоколов элекций брат-ства XVII в. Здесь указаны все должности, которые существовали в органи-зации в то время, и имена членов братства, которые на эти должности были выбраны. В период между элекциями три члена братства умерли, о чем сде-ланы пометы в протоколе напротив имен этих братчиков (старший братчик Андрей Стрелецкий «преставися под Люблином, погребен у Львовh року бо-жего 1650»)1.
По материалам сессий братства за 1647—1652 гг. можно определить сле-дующий круг вопросов, которые выносились на обсуждение: составление инструкции и снаряжение посольства на Коронационный Сейм 1649 г.; сбор средств для выплаты контрибуции, наложенной на Львов войсками Богдана Хмельницкого; прием новых членов братства; отстаивание прав на издание книг в братской типографии и другие вопросы, связанные с традиционными сферами деятельности корпорации.
Выплата контрибуции в октябре 1648 г. легла на Львовское братство тя-желым бременем: «Под час обляженя страшнаго мhста Львова оддалисмо остатным разом еще позосталого сребра церковного выборного злоцесто-го — гривен сhмдесят и лутов 11. Из бhлого срhбра выборного ваги до-брой — грывен осмдесят и шhсть и лутов 3, которое в рахунку братском положили по зл. 24 грывну обое, сумма чинит зл. 3 888». Серебро брат-ства принимал писарь гетмана Иван Выговский, который обещал «име-нем гетманским таковое сребро назад привернути, кды покой станет»2. Наибольшую ценность среди заложенных вещей для братчиков представля-ли серебряные лампы, купленные по завещанию вдовы молдавского госпо-даря Иеремии Могилы на сумму 24000 злотых. Однако вернуть заложенное имущество братству не удалось.
Кроме собственно протоколов заседаний братства, данная книга содержит материалы, относящиеся к другим видам источников:
1) список привилеев братства, которые были даны его депутатам на Сеймо-вую коронацию короля Яна Казимира 1649 г.3;
2) инструкция депутатам от братства на Коронационный Сейм 1649 г.4;
1 Там же. Л. 3—3 об.2 Шараневич И. И. Николай Красовский (Миколай Красувський) от года 1686 до года
1692 писарь управления, а от г. 1692 до г. 1697 — старейшина Ставропигийского братства во Львове. Исторический очерк с прибавкою современных записок из сессийных книг и регестов Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1895. С. 14—15.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1061. Л. 6. Опубл.: Шараневич И. И. Нико-лай Красовский. С. 16—17.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1061. Л. 6 об. — 7.
255§ 3. Протоколы заседаний
3) исходящая корреспонденция братства за 1649, 1651, 1657, 1659, 1682—1687 гг.1
Копии исходящей корреспонденции братства за 1657 г. и аннотации писем за 1682—1687 гг., вероятно, первоначально входили в состав другой книги, а к этой книге были подшиты в XVIII или XIX вв. Рядом с копиями писем братства иногда содержатся интересные сведения об обстоятельствах написания, вру-чения того или иного послания. Например, рядом с копией письма братства 1651 г. киевскому воеводе Адаму Киселю помещена такая помета: «Которий то посланец, ничего не справивши, повернулся в Гошчы, зоставивши лист написаный при самой ей м-ти панюй воеводины, которая мhла зараз до его милости пана воеводы през посланника своего послати до обозу…»2. Нужно отметить, что письма братства духовным лицам (киевскому митрополиту, Львовскому епископу, игумену монастыря), а также в Молдавию написаны на украинском языке, а письма «светским лицам» — по-польски. Пометы писаря рядом с копиями писем 40—50-х гг. написаны по-украински, а резюме писем братства 80-х гг. составлены по-польски. Эти языковые особенности позво-ляют проследить механизмы вытеснения во второй половине XVII в. в среде украинского городского населения родного языка польским.
Следующая книга, содержащая протоколы заседаний братства, дошла до нас не в первоначальном виде, а представляет собой конволют, составленный в XIX в. из фрагментов не сохранившихся полностью книг братства и озаглав-ленный «Справы братства за лета 1656—1666». Записи в книге весьма разно-родны по содержанию и расположены не в хронологической последовательно-сти. Книга содержит протоколы элекционных собраний за 1656 и 1657 гг.3 и сес-сий братства за 1656, 1657, 1659, 1664—1666 гг.4 На сессиях братства, главным образом, обсуждались вопросы о продаже напечатанных в братской типогра-фии книг, о братском госпитале при Онуфриевском монастыре, о выплате зар-платы священникам Успенской церкви и школьным учителям, о недвижимом имуществе братства и других внутренних и финансовых делах. Протоколы сессий за 1664—1665 гг., видимо, составляли отдельную книгу, в отличие от за-писей протоколов сессий братства за 50-е гг. они написаны преимущественно по-польски. Одновременно с переходом на польский язык делопроизводства в братстве происходит полный переход на арабские цифры, очень редко встре-чается употребление кириллических букв при обозначении даты проходившей сессии.
Помимо собственно протоколов заседаний, книга «Справ братства» содер-жит материалы ревизий складов изданных в типографии братства книг и выдачи
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1061. Л. 9—11 об., 34—43 об.2 Там же. Л. 10.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1069. Л. 2—3, 51—52 об.4 Там же. Л. 6—12, 14—23 об.
256 Глава 3
их для продажи Павлу Прокоповичу и Василию Григоровичу в 1656—1657 гг.1, инвентарное описание сокровищницы Успенской церкви, составленное по ре-зультатам ревизии 1658 г., и ревизии «склепа дольного под звоницею» и сокро-вищницы при нем2, приходо-расходную книгу за 1658 г.3, материалы ревизии склада бумаги для типографии братства4, начало книги, в которой предполага-лось вести записи о подарках братства разным лицам («що ся кому и далеко и яковым персонам даровало от братства») и подарках братству (сохранились записи о подаренных братством капеллану гетмана Богдана Хмельницкого отцу Иоанну Чоловскому книгах, изданных в типографии братства, и подарен-ных Чоловским книгах для Успенской и Онуфриевской церквей)5.
Одной из немногих сохранившихся в первоначальном виде делопроиз-водственных книг Львовского братства является «Plantatio porządku y elektiey Prawosławnego bractwa Lwowskiego Stawropigion…», или «Плянтацийная кни-га». Она была заведена специально для записей протоколов заседаний брат-ства в 1686 г.6 На содержание и палеографические особенности этой делопро-изводственной книги обратил внимание И. И. Шараневич7, который считал, что большинство записей было сделано в ней Николаем Красовским. Как яв-ствует из записей этой книги, он в 1686—1692 гг. был писарем, а с 7 апреля 1692 по 1697 гг. — старейшиной братства.
Отличительной особенностью этой книги по сравнению с предыдущи-ми является предисловие, составленное, вероятно, писарем братства, кото-рое можно считать первой попыткой изложить историю организации. В нем говорится об основании братства в 1586 г., о его целях и задачах и его исто-рическом значении для украинского народа. Говоря о правах братства, автор предисловия ссылается на документы, где идет речь о наделении организа-ции теми или иными правами. Интересна последовательность перечисляемых привилеев братства: в числе первых приводятся привилеи польских королей (вопреки сложившейся традиции считать главнейшими привилеи восточных патриархов), документы церковных соборов, привилеи патриархов, киевских митрополитов и львовских епископов8. Но особый интерес представляет опи-сание событий, очевидцем которых был автор этого предисловия. Он пишет
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1069. Л. 4—5 об., 53—57.2 Там же. Л. 24—25, 44 об. — 50.3 Там же. Л. 27—36 об., 58—59.4 Там же. Л. 41—43 об.5 Там же. Л. 44.6 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II,
2125. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 164—352.7 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 120—162.8 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II, 2125. Л. 2 об.
257§ 3. Протоколы заседаний
о «несчастиях, начавшихся для христианского народа в 1648—1672 годах». Особенно ярко описана осада Львова турецкими войсками 1672 г. Город в те-чение нескольких недель «каждый день и каждую ночь обстреливался», в ре-зультате чего сильно пострадала колокольня Корнякта, делались подкопы под городские стены. Турки согласились прекратить штурм Львова с условием вы-купа «в сумме 80 000 битых талеров». В сборе средств существенную помощь оказало братство. Однако город не мог выплатить этой суммы, поэтому были взяты заложниками представители всех наций до полной уплаты выкупа («in pignus temuż nieprzyjacielowi z narodów religionum miasta tego per binos cives pro obsidibus wydano od Kamieńca Podolskiego w zatrzymavie pohancom aż do wykup-na»). В Каменец-Подольский заложниками отправились старейшины и «луч-шие представители» («sellectissimos») братства Стефан Лавришевич и Петр Афендик1. Только через восемь лет они вернулись из турецкого плена.
В связи с бедственным для всего города положением в военные годы, как сообщает автор предисловия, элекционные собрания в братстве не проводи-лись, не фиксировались финансовые операции, была приостановлена деятель-ность типографии, и только в 1686 г. проводится первая элекция после боль-шого перерыва. Автор предисловия указывает на назначение этой книги: для записей протоколов элекционных собраний, «рахунков», то есть приходов и расходов братства2. Интерес представляет и язык, которым написано пре-дисловие. Это своеобразное смешение украинского, польского и латинского языков, причем автор употребляет не только разноязычные фразы и слова в тексте, но и при написании отдельного слова использует две разные азбуки («… но духом с вами есми радуюcta», «…do tego psalmographią swoią z krolow krol opiewarąc cенне что добро и что красно, iako еже жити братии v купе y dlя tegoż godni wspomnienia niesmertelnojci starozytni Bractwa tego ktitorovie… maią ac profitendo…»)3. Автор предисловия польским языком владел лучше, чем родным украинским. Украинские слова он употреблял в основном во фразах, касающихся церковно-религиозного содержания (плоть, дух, чин, утвержде-ние веры, братия, благочестие, патриарх и т. п.). Основное содержание изложе-но на польском языке, но с употреблением устоявшихся в делопроизводствен-ной практике того времени латинских штампов.
«Плянтацийная книга» содержит протоколы элекций братства за 1686—1700 гг., а также счета приходов и расходов братства, материалы ревизии братской кассы и книжных складов, счета продажи книг в братской лавке за 1687—1720 гг. Особый интерес представляют копии входящей корреспонден-ции братства, особенно письма братству из Рима за 1725 г., и реестр наиболее крупных пожертвований в пользу братства («Origo y Fundacia poboznych ludci
1 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II, 2125. Л. 2 об.2 Там же. Л. 4—4 об.3 Там же. Л. 1 об.
258 Глава 3
cerkwie Brackiei Stawropigialney Lwowskiei Успения Пресvятои Богородицы y Swiętego Onofria na predmeiscui lwowskim dędęcej»), составленный членами братства по архивным материалам1.
Протоколы заседаний в «Плянтацийной книге» отличаются своей об-стоятельностью. Здесь подробно фиксировались отчеты членов братства и результаты выборов на соответствующие должности с указанием обязан-ностей, которым должен был следовать каждый избранный, чтобы на сле-дующей сессии держать перед братчиками отчет. На сессии, состоявшейся 19 июня 1690 г., были зафиксированы не только результаты выборов, но и подробно расписаны все обязанности и круг вопросов, который входил в ведение каждого братчика. На собрании избрали четырех старейшин, обя-занности которых были следующими: Стефану Лавришевичу были вверены ключи от домов братства («гмахув сессийных»), как главный среди старших братчиков он должен был «сессию складати в справах церковных», то есть ведать всеми делами братства; Петру Афендику были поручены ключи от со-судохранительницы, чтобы «красотой всей» Успенской церкви «завhдовал и порядки тримал»; Георгию (Юрию) Папаре отдавались ключи от домов «горних и дольних», где находились книги для продажи, чтобы он их вы-давал братчику, который «книги продает на грунте церковном» или кому-либо, кто хотел купить их; Григорию Русяновичу вверялись ключи от кас-сы братства, где «всh гроши з уторгованых книг и иных приходов церков-ных» он должен был в кассу собирать и бережно хранить. Кроме того, два старших братчика были назначены провизорами (Лавришевич и Афендик), а в их отсутствие или «ежели бы того великая потреба была» — два других старейшины (Папара и Русянович). Асессорами избирались также четыре братчика (Николай Михалевич, Яков Лавришевич, Киприан Кисельницкий и Петр Куртович), в обязанности которых входило заведывание школой и госпиталем. К. Кисельницкий как «шафар» (ключник) должен был деньги из братской казны выдавать на все нужды с согласия всех братчиков, а счета по каждой сумме отдавать писарю. Писарем был избран Николай Красовский, а его субститутом (заместителем) — Петр Симеонович. Также продавцом книг «упросилисмо пана Крассувского, а в небытности его» — П. Симеоновича. Дозорцами типографии были Петр Куртович и Сте фан Лясковский. «На ратуш» были делегированы («депутованые») четыре братчика (Николай Михалевич, Яков Лавришевич, Стефан Лясковский и Ян Ми колаевич), чтобы они «пильнували, з мhстца своего не отступовали»2.
Большой интерес представляют материалы, касающиеся книгоиздатель-ской деятельности братства. Среди различных финансовых записей о прода-
1 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II, 2125. Л. 108—110, 129—131.
2 Там же. Л. 34.
259§ 3. Протоколы заседаний
жах книг, как и собственно в реестрах продажи, встречаются ценные сведе-ния о подарках книг, которые осуществлялись, как правило, с согласия стар-ших братчиков. Часто эти сведения дублируются в соответствующих реестрах продаж книг, а иногда содержат более полную информацию, например, за-пись о том, что отцу архимандриту сербского монастыря Св. Саввы 15 января 1688 г. был подарен Октоих1, а 27 марта 1700 г. по просьбе львовского епископа Иосифа Шумлянского были подарены Апостол, Служебник и Шестодник отцу епископу Мармарошскому2.
На заседаниях братства обсуждались ответы на те или иные письма. В част-ности, интерес представляет весьма эмоциональное обсуждение 13 февраля 1688 г. письма Виленского братства, в котором содержалась просьба помочь их типографии книгами (видимо, необходимыми в качестве образцов). Следует отметить, что это письмо не сохранилось в архиве братства. В решении по это-му вопросу говорится, что «мы не можем быть бесчувственными и бессердеч-ными», поэтому немедленно следует выслать Виленскому братству «w textach» Евангелие, Октоих, Апостол, Триодь цветную, Требник и Служебник3.
Также в «Плянтацийной книге» в записи от 27 декабря 1688 г. говорится, что львовскому епископу Иосифу Шумлянскому было заплачено, согласно догово-ренности, за его типографию. Типографию Шумлянский основал в 1687 г., из-дав свою книгу «Метрика албо реєстр…» — пособие для священников со спе-циально оставленными пустыми листами для ведения метрических записей. В 1688 г. эта книга была переиздана. Тогда же вышло последнее издание этой типографии — Псалтырь4. Печатал все эти книги типограф братства Василий Ставницкий. Братство не хотело конкуренции в книгоиздании и поэтому все-ми средствами старалось сохранить свое первенство. Под давлением братства Иосиф Шумлянский был вынужден продать ему типографию за 5000 злотых, выплатив 2400 деньгами и 600 — книгами5.
Многие записи касаются разных аспектов книгоиздательской деятельно-сти братства. Здесь можно встретить: сведения о покупке бумаги для той или иной книги (например, Николай Красовский в 1691 г. купил для типографии большую партию бумаги в Гданьске, 7 сентября 1694 г. Петр Семинович сде-лал калькуляцию расходов на закупку бумаги в Гданьске6, покупка бумаги во Вроцлаве и др.), о тираже отпечатанных книг (22 июля 1694 г. у типографии
1 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II, 2125. Л. 8.2 Там же. Л. 79.3 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 130—131.4 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог. Львів, 1981. Кн. 1.
№ 641, 648, 644.5 Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002.
С. 286—291.6 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II, 2125. Л. 50.
260 Глава 3
Симеона Ставницкого был получен тираж новоизданного Трефологиона, от-печатанного тиражом 1496 экземпляров)1.
В «Плянтацийной книге» содержатся записи о различных расходах брат-ства, которые часто дублируют сведения приходо-расходных книг за этот пе-риод, однако некоторых сведений в расходных книгах нет, например, записи от 28 ноября 1691 г. о денежной помощи в размере 10 злотых некоему архи-мандриту греческому, а также о помощи сыну греческого купца, умершему во Львове, взяв у него в залог лисьи меха).
Очень важными для изучения истории архитектуры Львова являются за-писанные в «Плянтацийной книге» решения от 17 мая 1695 г. о реконструк-ции колокольни Корнякта, которая пострадала во время турецкой осады 1672 г. Реконструкцию должен был проводить надворный архитектор поль-ского короля Яна III Собесского Петр Бебер, с которым был заключен дого-вор2. П. Бебер изменил внешний вид трехъярусной колокольни с шатровым покрытием, надстроив четвертый ярус и перекрыв его барочным завершением с четырьмя спиралевидными пирамидами по граням. Также говорится о реше-нии, принятом 13 августа 1695 г., по инициативе и на средства братчика Петра Симяновича поставить алтарь в часовне Трех Святителей3 и изготовить сере-бряный оклад для иконы Богородицы (решение от 7 июля 1697 г.)4.
Обряды являлись весьма существенной стороной жизни организации. В конце XVII в. братство вводит новые важные традиции, касающиеся поми-новения умерших братчиков. С одной стороны, это — продолжение средневе-ковых корпоративных традиций, а с другой — в них привносятся современные черты жизни организации во второй половине XVII в., когда коммерциализа-ция и экономическая составляющая деятельности организации играли весьма существенную роль. В «Плянтацийной книге» мы как раз находим постановле-ния, вводящие новые обряды. 21 сентября 1695 г. членами братства было при-нято решение, что четыре раза в год монахи, живущие при Успенской церкви и в монастыре Св. Онуфрия, должны были служить парастаз (поминальное богослужение) со звоном во все колокола по умершим членам братства, чтобы память о них «сегодня и последующие времена не пресекалась»5. Уточнения к этому решению были приняты 9 января 1699 г., где говорится: «et in perpe-tum postanowili», чтобы по каждом «умершем брате нашем, среди нас in vita остающемся», спустя неделю после смерти отправлять соборное богослужение
1 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 137.2 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II, 2125. Л. 62. Опубл.:
ЮИЛСБ. Т. 1. С. 16.3 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II, 2125. Л. 65.4 Там же. Л. 62.5 Там же. Л. 63.
261§ 3. Протоколы заседаний
со звоном во все колокола дважды, а днем ранее — парастаз1. 18 июня 1699 г. было принято решение, освобождающее членов братства платить «позвон-ный» взнос в память об умерших братчиках и членах их семей в братскую каз-ну, за исключением 1 злотого, который идет на содержание школы. При таком «тарифе» полагалось звонить 12 раз в колокола, а по младенцам — 6 раз. За все другие удары следовало платить по 3 злотых2.
В «Плянтацийной книге» помещен рассказ Степана Лясковского о захвате Львова в 1704 г. шведскими войсками и наложении королем Карлом XII контри-буции на город в размере 400 000 битых талеров (сниженную до 300 000), зна-чительную часть которой должно было выплатить братство3. Практически все серебряные и золотые вещи ушли на выплату контрибуции, включая переплеты книг, которые варварски отрывали, и даже наугольники и жуковины перепле-тов. Многие вещи представляли собой предметы искусства, находившиеся в со-судохранительнице Успенской церкви с XVI в. Золотые вещи шведы забрали, а серебряные переплавляли в тиглях и потом «в землю между кирпичей, как будто был этот металл хуже олова, выливали». Все изъятые у братства золотые и се-ребряные вещи оценивались по самой минимальной стоимости. Контрибуция и случившееся вслед за войной моровое поветрие существенно подорвали силы братства. На заседании 1705 г. присутствовало всего шесть человек.
По протоколам заседаний можно заметить, что после принятия унии брат-ством в 1708 г. греки не входили в состав братства: их подписей под решения-ми не встречается.
«Плянтацийная книга», хронологические рамки которой составляют записи с 1686 по 1725 гг., является одним из самых полных летописных свидетельств о жизни братства за почти сорокалетний период, составленным самими чле-нами братства. В ней зафиксированы разные, и часто драматические страницы жизни как самой Ставропигии, так и города Львова.
В своем первоначальном виде сохранилась книга протоколов заседаний братства за 1733—1758 гг. «Sub cuius tutela et Protectione Confraternitas hostra Stavropygiana Leopoliensis Ritus Graece-Rutheni uniti»4. Она является прямым продолжением записей «Плянтацийной книги». Начинается она также с пре-дисловия, в котором сообщается, что с 1704 до 1733 гг. элекции в братстве не проводились, протоколы заседаний не велись. В отличие от предыдущих книг протоколов, она содержит исключительно записи протоколов сессий и элек-
1 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 147.2 Там же. С. 148.3 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II, 2125. Л. 83—84.
Впервые этот рассказ опубликовал Д. И. Зубрицкий: Zubrycki D. Kronika miasta Lwowa. Lwów, 1844. S. 455—459.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1169.
262 Глава 3
ций братства, причем все записи сделаны в строгом соответствии с определен-ными требованиями к такого рода документам. Отличается и язык этой кни-ги. Здесь уже не встречается употребление украинских и церковно-славянских слов и выражений. После принятия братством унии и подчинения Папской нунциатуре ведение документации предполагалось на латинском языке, но тексты протоколов представляют из себя своеобразное смешение польского и латинского языков, причем по-латыни писались выражения-штампы, устояв-шиеся обороты деловой речи, а основное содержание обсуждаемых на заседа-ниях вопросов передавалось на польском языке.
В книге содержатся протоколы элекций братства за 1733, 1741, 1749, 1751 гг., особое внимание здесь уделено обязанностям каждого из членов братства, который занимает ту или иную должность1. Например, на сессии 20 апре-ля 1733 г. были избраны четыре сеньора братства: первый сеньор Андрей Демьянович получил право созывать и вести сессии братства, второй сеньор Яков-Андрей Русянович отвечал за надзор над шпиталем, третий сеньор Юрий Ильяшевич — за надзор над «sklepom» (лавкой-складом), в котором сложены были книги в секстернах для продажи, четвертый сеньор Иван Чесноковский отвечал за продажу книг. Также были избраны четыре асессора: Павел Янович отвечал «за пропитание» школы и госпиталя, Дейме Ковасиле вверялись клю-чи от кассы с обязательством точно вести все счета в присутствии первого се-ньора, Юрию Коцу поручалось отвечать за сосудохранилище; также асессором был избран Михаил Горошко. Михаил Лясковский назначался «нотарем», или писарем, которому отдавался ключ от шкафа с документацией2. Должность нотария была введена на заседании 17 декабря 1732 г. с годовым жалованием 12 чер вон ных злотых3.
На сессиях братства рассматривалась его корреспонденция, обсуждались ответы на письма корреспондентов из Рима, Варшавы и др. Копии прислан-ных братству писем помещались к книге протоколов рядом с копиями ответов братства на них. Для этого периода истории Львовского братства такие сведе-ния имеют особо ценное значение, поскольку объем других сохранившихся документов о деятельности братства в середине XVIII в. значительно меньший, чем за более ранний период. Поэтому интерес представляют не только копии писем братства, но и копии входящей корреспонденции, оригиналы которой не сохранились.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1169. Л. 1 об. — 2 об., 29 об. — 30, 37—38 об., 42—43 об.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1169. Л. 1 об. — 2 об.3 Шараневич И. И. Юрий Ельяшевич (Георгий Ильяшевич) от 1720 г. член и в 1722—1735
годах один из сениоров Ставропигийского братства во Львове. Исторический очерк с при-бавкою списка современных счетоводных книг и сессийных протоколов Львовского став-ропигийского братства. Львов, 1895. С. 14.
263§ 3. Протоколы заседаний
По материалам книги протоколов заседаний братства за 1733—1758 гг. мож-но выделить следующий круг основных вопросов, поднимавшихся на сессиях братства:
1) ведение тяжбы братства с Магистратом Львова по делу о нарушении прав украинского населения города;
2) ведение переговоров с Коллегией кардиналов в Риме по поводу реализа-ции проекта основания архимандрии при Онуфриевском монастыре;
3) заключение контрактов с печатниками на издание книг в своей типогра-фии;
4) решение вопросов, связанных с работой типографии и продажей книг;5) составление финансовых отчетов братства, связанных с содержанием ду-
ховенства, церковных служб, школы, госпиталя и пр.;6) ведение различных тяжб, в том числе с типографиями Уневской и По-
чаевской.Как дополнение к этой книге протоколов можно рассматривать отдельные
листы с записью протоколов сессий братства за 1732, 1733, 1735, 1756 и 1757 гг., оказавшиеся в книге «Protocolla Sessionum at 1732 ag 1813» (Книга протоко-лов заседаний Рады Ставропигийского Института)1. Эта книга готовилась к публикации, но так и не была издана2. К этой же группе можно отнести еще не-сколько сохранившихся в отдельности протокольных листов братства за 1738 и 1762 гг.3 Среди основных тем, затронутых в этих протоколах, можно выделить следующие: вопросы, связанные с деятельностью типографии, изданием книг, в том числе «Грамматики»; о торговле книгами, изданными в типографии, в том числе о командировании Василия Корницкого с книгами в Унев; о защите ин-тересов братства на судебных процессах с Магистратом Львова и Почаевским монастырем; о принятии учителя в братскую школу; о выплате «квартальной» платы священникам Успенской церкви и о содержании священников-монахов при Онуфриевском монастыре; о финансовых делах братства.
Аналогичной книге протоколов 1733—1758 гг. по своей форме, языковым и палеографическим особенностям является последняя книга протоколов за-седаний братства за 1758—1785 гг. «Acta Sessionum»4. Интересно, что на ко-жаном переплете тиснением написано: «Книга сесс¿wнална» — единственное украинское слово, встречающееся в этой книге. Книга содержит два протоко-ла элекций за 1758 и 1780 гг.5 В соответствии со своим названием в книге за-писывались протоколы в основном сессионных заседаний братства. Сквозной
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1167. Л. 1—9.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 2. Д. 802.3 Там же. Оп. 1. Д. 946, 990.4 Там же. Д. 1187.5 Там же. Л. 1—3, 43 об. — 48.
264 Глава 3
темой на сессиях братства в этот период была деятельность типографии. Здесь содержится подробная информация о ведении тяжбы братства с Почаевским монастырем по поводу нарушения последним исключительного права, пожа-лованного братству королями Польши, на издание церковных книг, а также об издании новых книг в типографии братства и продаже напечатанных из-даний. Кроме того, на сессиях рассматривался круг вопросов, связанных с со-держанием Онуфриевского монастыря и госпиталя; поднимались вопросы, связанные с пожаром 1779 г., уничтожившим часть библиотеки и книжных складов братства; решались финансовые и имущественные дела; обсуждались ответы на корреспонденцию братства. Эта книга, по сравнению с предыдущи-ми книгами протоколов заседаний братства, содержит весьма незначительное количество документов, не являющихся собственно протоколами заседаний. В ней имеются копии декретов 1771 г. короля Станислава Августа о решении тяжбы с Почаевской типографией в пользу братства1, оригиналы которых со-хранились в архиве организации2; копии писем братству, связанных с судеб-ным процессом с Почаевским монастырем3. Здесь же помещен реестр приви-леев братства, подтверждающих права типографии, составленный его члена-ми4. Особый интерес представляет «Информация о статусе братства» (Liberae Informationsis de Status Confraternitatis), написанная на основе документов из его архива Василием Илляшевичем5, которую можно рассматривать вместе с аналогичными документами как первые попытки членов братства осмыслить историю своей организации.
Последняя запись в этой книге протоколов датирована 1785 г. Это практи-чески совпадает с датой реорганизации братства. С 1788 г. Ставропигийский Институт продолжит традицию ведения протоколов заседаний, основанную братством еще в конце XVI в.
Анализ этого вида источников показал, что протоколы заседаний братства являются весьма информативными источниками, содержащими сведения о политических, экономических отношениях, по истории церкви, культуры, образования, типографского и книгоиздательского дела. При использовании этих источников необходимо учитывать, что многие вопросы, поднимавшие-ся на заседаниях, не записывались в протокол. Это касается в первую очередь самых повседневных проблем жизни братства и его членов, которые казались им несущественными для того, чтобы быть зафиксированными в такого рода документах. Особо секретные и чрезвычайные вопросы, которые обсуждались на собраниях братства, также не фиксировались в протоколах с целью сохра-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 2. Д. 802. Л. 27 об. — 30 об.2 Там же. Д. 1007, 1008.3 Там же. Д. 1187. Л. 25 об. — 26.4 Там же. Л. 37.5 Там же. Л. 35 об. — 36 об.
265§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
нения секретности. Можно отметить, что протоколы XVII в. отличаются более разнообразной информацией, позволяющей реконструировать многие карти-ны из жизни братства и его членов, наполненные эмоциями поистине «живых» людей. Протоколы XVIII в. отличаются шаблонностью, за их строгими форму-лярами, сухим канцелярским языком все труднее представить, о чем спорили члены братства на заседаниях, что их волновало более всего, какие чувства ис-пытывали они в связи с той или иной ситуацией. Протоколы заседаний брат-ства являются источниками, которые могут дать ответы на самые актуальные вопросы современной гуманитарной науки, обращенной прежде всего к из-учению Человека, его самосознания. Источники такого вида, как протоколы заседаний общественной организации, сохранившиеся практически за весь двухвековой период ее существования, могут помочь понять мотивы поступ-ков отдельной личности, мироощущение социальной группы, членом которой является каждый конкретный человек.
§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
Историческая антропология, исследование ментальности, коллективной психологии — новые и активно развивающиеся направления исследований в современной исторической науке. Однако для изучения подобных тем необ-ходимо опираться на определенный круг источников, позволяющих ответить на вопросы о психологических особенностях людей далеких эпох, которые су-щественно отличаются от психологии современного человека. Изучение столь «тонкой материи», как психологические мотивы, которыми руководствуются люди при совершении тех или иных действий, как правило, не находит прямо-го отражения в источниках. Поэтому при постановке таких вопросов необхо-димо исходить из следующих моментов:
1) поиск социальных структур, социальных феноменов, которые могут ре-презентировать ценностную систему социума, основные общие для него моти-вационные действия;
2) поиск источников, главным образом видов источников, информацион-ный ресурс которых может позволить ответить на вопросы об истории систем ценностей, культурных форм, символик, социально-культурных мифов.
Разработка теоретических вопросов изучения ментальности активно ве-дется в мировой исторической практике с 60-х гг. ХХ в. (Ж. Дюби, А. Дюпрон, Р. Мандру, Ж. Лефевр, Ж. Ле Гофф, М. Ферро, Э. П. Томпсон и др.). Однако следует отметить, что методы реализации подобных исследований, как пра-вило, основываются на поиске фактов если не исчерпывающих, то насколько возможно протяженных1. Такая эвристическая задача не должна решаться бес-
1 Dupront A. Problèmes et méthodes d’une histoire de la psychologie collective // Annales E. S. C. 1961. № 1.
266 Глава 3
системно. Источниковедческий подход, в основе которого лежит представле-ние об источнике как продукте реализованной человеческой деятельности, и о видах источников, которые имеют общую цель создания и единую форму (формуляр, жанр) при ее реализации, делает такие поиски, во-первых, систе-матическими, а во-вторых, позволяет максимально использовать информаци-онный ресурс каждого вида.
Для понимания любого сообщества, объединения, корпорации важно знать основные причины, побуждающие людей совместно заниматься чем-либо. Но кроме решения тех или иных задач, которые ставит перед собой каждая орга-низация, важно знать, какие именно чувства и мысли владели ее членами, что именно связывало членов этой организации между собой. Чрезвычайно важ-ным фактором для любого объединения людей является не только практиче-ская, содержательная часть определенной деятельности, но не менее значимой является и «внешняя окраска», отличающая одно объединение от другого, соз-дающая неповторимую индивидуальность организации. Это все то, что пред-ставляет организацию, но не при помощи тех или иных нормативных докумен-тов, а языком символов, образов. Чем глубже смысл, заложенный в таком ино-сказательном языке, выражающемся посредством особых традиций, обрядов, церемоний, тем долговечнее эта корпорация. Что именно создает этот особый язык-символ организации? Это — совокупность определенных обрядов, кото-рые становятся важными и, главное, периодически повторяющимися в жизни каждого объединения. При характеристике тех или иных организаций истори-ки часто забывают или игнорируют именно эту сторону жизни их членов. А ведь такие обряды или ритуалы характеризуют не только определенную корпо-рацию, но и ту эпоху, в которой она функционирует и которую представляет.
Изучение обрядов и ритуалов как особого языка или Текста сопряжено с рядом трудностей, главная из которых состоит в том, что этот Текст не одно-родный, он включает в себя элементы самых разных текстов, которые тради-ционно изучают разные науки и дисциплины. Это — и интерьер, и одежда, и утварь, и музыка, и определенная последовательность действий, и различные знаковые символы (знамена, гербы, печати, эмблемы и т. п.), и собственно тек-сты (молитвы, присяги, песни, стихи, чтение определенной литературы и пр.). Изучение обрядов возможно не в рамках одностороннего, а только при по-мощи полидисциплинарного подхода к проблеме. К сожалению, для более от-даленных от нас эпох полная реконструкция тех или иных обрядов (Текстов) невозможна из-за отсутствия сведений о многих звеньях этой цепочки. Ведь чаще всего это составляло норму жизни, передавалось из поколения в поко-ление. Поэтому для корпораций Средневековья и Нового времени часто такие сведения можно получить только посредством косвенных источников, ведь формы «сценария» в те времена еще не существовало.
В рамках данного исследования представляется целесообразным опреде-ление источниковой базы для изучения обрядовой формы существования
267§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
Львовского братства. Такая работа должна включать в себя два этапа: опреде-ление круга проблем или действий, которые можно рассматривать как особый ритуальный Текст, и выявление круга источников, которые позволяют макси-мально реконструировать существовавшие обряды, ритуалы, традиции, «не-писаные законы».
В жизни Львовского братства можно выделить следующие обряды или ри-туалы, которые имели особое значение для организации и всех ее членов:
1) церемония вступления в организацию;2) церемония проведения собраний братства;3) организация и проведение храмового праздника;4) похороны умершего члена братства.С одной стороны, сохранившиеся источники не позволяют полностью ре-
конструировать картину каждого из этих Текстов, но с другой стороны, на примере Львовского братства можно получить представления о наиболее по-пулярных или распространенных формах обрядности в корпорациях того вре-мени в силу того, что в архиве братства в разноплановых источниках сохрани-лись многочисленные сведения об обрядах и традициях, которые соблюдались и бережно хранились всеми членами братства.
Церемония вступления в братство была торжественной. Члены братства придавали ей особое значение, ведь принимаемый в организацию должен был стать новым надежным товарищем всем «братиям», а для вступающего в братство начиналась новая жизнь, когда он должен был считаться со свои-ми «собратиями», разделять их беды и радости, а главное — совместно уча-ствовать во многих делах братства. Полностью восстановить всю церемонию вступления в братство довольно трудно, однако многие источники позволяют представить, как это было, хотя бы по содержанию.
В братство принимали в присутствии всех членов братства, в торжествен-ной обстановке. Сначала вступающему читали устав («правила»), который он должен был соблюдать. Но членом братства этот человек становился только после того, как давал «обhт» (клятву или присягу). Текст присяги имел осо-бый, сакральный смысл, ибо символизировал не только приобщение человека к реальной организации, но и к миру возвышенному, духовному, божественно-му, непостижимому. Человек был связан не только со всеми присутствующи-ми братьями, но и с умершими. Неслучайно «обhт» давался при зажженных свечах, которые несут в православном богослужении большую смысловую и эмоциональную нагрузку. После произнесения клятвы новый член братства должен был поцеловать крест («чесной крест»), всех членов братства, а потом дать вступительный взнос — «вступное» или «подарок»1.
До наших дней сохранились три текста «обhта» или «вступовного до брат-ства». Впервые упоминание о такой форме приема в организацию новых чле-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 26.
268 Глава 3
нов и сам текст встречаются в «Эпистолии» 1609 г. — письме Львовского брат-ства новооснованному братству в Новоконстантинове1. В уставе 1586 г. ни-чего не сказано о присяге. Первое письменное свидетельство о присяге при вступ лении в братство находится в уставе Виленского братства2. Сейчас слож-но установить, существовал ли этот обычай во Львовском братстве с самого начала существования организации или он впервые был заведен виленскими братчиками и у них позаимствован львовскими.
Первая редакция присяги отличается особой торжественностью и сурово-стью. Текст присяги сегодня известен в трех списках. Один из них отличается своим роскошным оформлением, и по «степени зачитанности» листа можно судить, что он использовался довольно часто. Текст располагался на отдельном листе, который, видимо, позже был вклеен в начало так называемого «Альбома Ставропигийского Института» — книгу, в которую заносили самые важные для братчиков документы. Заголовок присяги украшен вязью и инициалом, здесь помещено также изображение креста с орудиями страстей и надписью «Иисус Христос Ника» и буквами «М. Л. Р. Б.»3, которые следует читать как «молитва раба Божия». Тот же текст, написанный скорописью, вписан в «Альбом»4, еще один текст сохранился среди записей протоколов заседаний братства5.
Новый член братства обещал «всею душею моею, чистым же и цhлым умыслом моим, быти в братстве сем,… яко един от верных братий, даже до моего послhднего часа, не отступуючи и ниже сопротивляючися в вся-ких повинностях его, но и противником сопротивлятися»6. Соблюдение всех норм и «повинностей» организации должно было стать залогом снисхожде-ния на братчика, а также на весь его «дом» (семью, род) Божией благодати, милости и мира: «Да придет на мя, и на увесь дом мой благодать Божия, мир и милость, и благословение данное братству сему в вhчныя роды»7. Но от-ступление от братства, несоблюдение его правил, оскорбление братии должно было повлечь чрезвычайно суровое наказание — отлучение от церкви. Кара рапространялась не только на самого провинившегося, но и на всю его семью: «А если бым мhл отступити, или похулити, или сопротивитися сему закон-ному Братству, да прийдет на мя, и на увесь дом мой, Гнев Божий, отлуче-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 25 об. — 26. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 338—339.
2 Голубев С. Т. Петр Могила. Приложения. Т. 2. С. 239.3 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». С. III.4 Там же. С. 17.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 25 об. — 26.6 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». С. III, 17.7 Там же.
269§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
ние же и запрещение, и клятва на таковых реченная в братстве сем, даже до совершеннаго моего покаяния»1. Если же нарушивший клятву братчик уми-рал без покаяния, то это наказание не снималось с умершего («да буду и по смерти не раздрhшен, яко преступник закона Божия»2). После произнесе-ния клятвы братчик должен был поцеловать крест и всех членов братства, что должно было символизировать любовь к Богу и всей братии.
Такая форма наказания в обществе того времени воспринималась как самое тяжелое, вызывавшее панический ужас у глубоко верующих людей и особенно членов братства, для которых религиозная жизнь имела первостепенное значе-ние. На некоторых людей это производило чрезвычайно сильное впечатление и приводило к случаям отказа принять «обhт и вступоване до братства»3. Поэтому люди, которые давали такую клятву и возлагали на себя добровольно многочисленные заботы, знали, что отступления назад быть не может, вызы-вают особое уважение и восхищение.
Однако такое суровое наказание, как пожизненное отлучение от церкви, входило в компетенцию высшей церковной иерархии. Наверное, это обстоя-тельство вызвало резкое осуждение константинопольского патриарха Тимофея. В 1620 г. он подверг строгой критике столь строгую форму наказания «проклят-ства окрутне страшного». Патриарх снял наказание со всех живых членов брат-ства и тех, кто «в том грехе» умерли, и ликвидировал («касуем й в нивеч обе-ртаем») этот обет как «глупо учиненое», с условием, чтобы такой обет больше не употреблялся, а на отступника от этого решения патриарх, в свою очередь, накладывал такое же наказание, применение которого осуждал4. Возможно, по-сле осуждения этого обряда патриархом клятву при вступлении в братство не давали. Но вскоре этот обычай решили возобновить. На элекции 1633 г. все чле-ны братства должны были дать «обhт», после чего имя братчика должно было быть вписано в новый «братский каталог». По-видимому, текст клятвы был взят с проклятием отступника. На элекции 1644 г. обсуждался вопрос о фор-ме обета при вступлении в братство: «стародавний, от продков отправований, страшливе строгий обет» или «последнеший, скорочений и зносниший, през теразнейшую братию отправований». Было принято решение об использова-нии сокращенного варианта присяги, без строгого проклятия. С 1645 г. «цело-вание креста» проводилось уже без столь тяжелого наказания5.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 25 об. — 26. 2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 25 об. — 26; ЛИМ. Отдел фондов
(собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. III, 17.3 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 62—63.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 481. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское
Ставропигиальное братство. Приложения. № 33. С. 71—73.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 68—50. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 147—148, 155.
270 Глава 3
Но, кроме снятия страшного проклятия, в тексте присяги появились но-вые детали, характеризующие изменения, произошедшие в обществе за 40 лет. Как одно из главных обязательств члена братства была оговорена привер-женность к православию («исповедуя вся артикули веры святыя греческо-кафолическия»). Это было особенно важным условием существования брат-ства в условиях насаждавшейся греко-католической унии. Интересно также замечание о том, что вступающий в братство должен не только не нарушать «право» организации, но и «доходом» ее ничего не «делати». Особо оговари-валось, что «обязанности … на мя уложенныя, всегда верно и точно исполня-ти буду»1. Такая форма присяги просуществовала до 20-х гг. XVIII в.
После принятия унии братством в 1708 г. форма присяги, видимо, оставалась прежней. Члены братства не ощутили сразу каких бы то ни было изменений в форме организации жизнедеятельности своей организации после перехода под юрисдикцию папы римского. Братство еще какое-то время оставалось, по сути, православным. Но с такой независимой, никому не подчиняющейся ор-ганизацией в новых условиях никто мириться не хотел, и началось постепен-ное давление на братство с целью ограничения его прав. Главной мотивацией попыток вмешиваться в дела братства и пытаться их контролировать было ис-коренение «схизматических», то есть православных, традиций. В 1725 г. ко-миссия Папской Нунциатуры в составе викария Феликса Шанявского, львов-ского каноника Томаша Юзефовича, архимандрита, василианского монастыря Иннокентия Пихтовича после ознакомлением с деятельностью братства под-готовила для рассмотрения Конгрегацией по распространению веры предло-жения о подчинении братства львовскому епископу (предоставление епископу права визитации братства), аннулировании «схизматических» привилеев, сме-не формы присяги братчиков, уравнивании братства в правах с другими като-лическими братствами и др.2 Братству удалось отстоять свою независимость от епископа, добиться признания действительными всех привилеев восточных патриархов, сохранить во многом исключительное положение по сравнению с католическими братствами, более ограниченными в правах и возможностях. Но форма присяги была изменена. Главным стало изменение символа веры, подтвержденного и принятого на Замойском поместном церковном соборе в 1720 г., и языка, на котором давалась присяга. Это был не родной украинский язык, а латинский, принятый в церковном делопроизводстве. В архиве брат-ства сохранились две редакции латинского текста присяги — 1725 и 1751 гг.3 Но в XVIII в. обет при вступлении в братство уже не играл столь значительной
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 1. Опубл.: DS. P. 1—2.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 868. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Львов, 1936. Ч. 1. № 72. С. 112—113.
3 Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. С. 114—115.
271§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
роли по сравнению с XVII в. Скорее, это стало уже данью сложившейся тради-ции, приобретало более формальный характер; значительную роль в таком от-чуждении от главного обряда играло, несомненно, и изменение языка прися-ги, который делал его не родным и близким по духу, а привнесенным, взятым извне, хотя в XVIII в. некоторые члены братства даже не знали украинского языка. Второй причиной изменения отношения к обряду был сам XVIII век с его рационализмом и прагматизмом, лишенный возвышенного религиозного мистицизма.
Проведение собраний братства было подчинено определенным правилам и традициям. Помимо основных требований, которые были изложены в уставе, касающихся взаимоотношений членов братства друг с другом, младших бра-тий со старшими, постепенно вырабатывались и особые ритуалы и нормы. В традициях своего времени собрание братства начиналось общей молитвой. Со временем была выработана, особая молитва, которой начиналось собра-ние именно Львовского братства. Такими специальными речами сопровожда-лись на сессии все важные моменты. Сами братчики называли их «предмова» (предисловие, слово предшествующее). Предмовы представляли специальные краткие ритуальные тексты, составленные в форме молитвы. Известно не-сколько таких текстов:
при открытии заседания братства;1. при открытии братской казны;2. при закрытии братской казны;3. при закрытии заседания братства.4.
Все эти тексты были вписаны в «Альбом Ставропигийского Института» как особо ценные документы1. Тексты ритуальных речей были составлены между 1587 и 1596 гг. Такой вывод можно сделать на основании того, что в двух «пред-мовах» (при открытии заседания братства и при открытии братской казны) упоминается имя константинопольского патриарха Иеремии II Траноса и в первой из них — имя польского короля Сигизмунда III. Также при произне-сении обеих этих «предмов» следовало упоминать еще одно имя, однако оно было тщательно вымарано чернилами, так что в первом случает прочитать что-либо не представляется возможным, а в «Предмове при отвираню скрин-ки братскиа» все-таки можно прочитать: «и преосвященаго кир Михаила ар-хиепископа митрополита Киевского и Галицкого и всея Росии». Видимо, по-сле Брестской унии 1596 г. имя Михаила Рогозы, поддержавшего ее, было брат-чиками вымарано из ритуальных текстов. Это свидетельствовало о позиции братства по отношению и к унии, и к иерархам, которые ее поддержали.
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 13, 19—20.
272 Глава 3
Формуляр «предмовы» при открытии заседания братства состоит из трех частей. В первой приводятся цитаты из Библии, которые должны были напом-нить о любви к ближнему, уважении к братчикам: «Аще любов друг ко другу имhти будете, ибо и в ветсhм законh реченно есть, возлюбиши Господа Бога твоего от всея душа твоея, и от всего сердца твоего, и от всhх сил твоих, а ближнего своего, яко сам себе»1 (Лк. 10:27). Во второй части перечислялись («со призыванием») имена церковных иерархов и польского короля, причем с произнесением их титулов: «Святитhля великого, святейшаго господина отца и пастыра нашего Иеремеи божиею благодатию со вышше данною ему архиепископа Костантинополя Новаго Риму и вселенскаго патриарха», «Со позволением так же и утвержением сеймовне наяснеишого короля польского и великого кнежати литовскаго, росского, прусого… Жикгимонта 3-го, пана и пана пана, и господара нашего милостиваго и всего Сенату его»2. В третьей части обращение адресовалось непосредственно к каждому члену братства с напоминанием о главных вопросах, которые выносились на обсуждение и о которых каждый братчик обязан был доложить всем присутствующим на со-брании: «За волею тыж и призволением всего братства нашего, на сей час тую то сесию альбо засhдание спокойне фундуем и закладаем, и покуй всhм сповhдуем. И кто бы што вhдал належного быти братству, абы оповhл. А кто бы теж повинен был отдати вину или доход який братский, тот абы об-ложил, во имя Божие кто если што мает справу яковую до братства или до кого, аби и отправовал»3. Вторая часть формуляра «предмовы» должна была со временем меняться, однако текстов с указанием последующих константи-нопольских патриархов и польских королей в архиве братства не сохранилось. Также сложно сказать, как долго в организации соблюдался ритуал произнесе-ния этого слова перед началом сессий братства.
Слово, которое произносилось при закрытии собрания братства, по своей форме соответствовало молитве. Произносили его именно как молитву, о чем говорит и заголовок этого текста: «Молитва и благодарение при завираню сесии альбо зхажки братской»4. Сама же молитва наполнена словами благо-дарности.
Особое внимание при решении всех своих дел братство уделяло финансо-вым вопросам. Братская казна хранилась в специальном сундучке, причем сам сундучок был у одного братчика, а ключ от него — у другого. Открывали казну на общем собрании и решали, какую сумму и на что можно выделить. Открытие и закрытие казны сопровождались соответствующими словами «предмовы».
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 19.
2 Там же. С. 19—20.3 Там же. С. 20.4 Там же.
273§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
В тексте «Предмовы при отвираню скриньки братскиа» слова благодарения произносились в соответствии с церковным каноном. Тот же лейтмотив и в «предмове» при закрытии казны: «Благодарим тя Господи Вседержителю Боже отец наших даровавый нам таковым дары, суд, милость, веру. Тhм же тебh славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, нынh и присно и во вhки вhком. Аминь»1. О важности этих небольших по объему ритуальных текстов в жизни организации свидетельствует тот факт, что они помещены в особую книгу — «Альбом», где были собраны тексты всех важнейших доку-ментов братства.
Обычай давать присягу при вступлении в братство, произносить специ-альные молитвы во время заседаний говорит о сохранении в ментальности горожан средневековых представлений о клятве как обязательном условии, объединявшем людей в сообщество равных для осуществления общих целей в противовес установившимся в обществе вертикальным, вассальным отноше-ниям. Братство рассматривалось как объединение равных по духу людей, что не вступало в противоречия с неравенством экономическим и подтвержда-лось сбором денег на общие нужды пропорционально возможностям членов братства. Без понимания сакрального смысла присяг и ритуальных молитв, их значения для братчиков невозможно осознание значимости членства в орга-низации людей и связующих их взаимообязательств и доверия друг другу.
Меньше всего сведений сохранилось о проведении храмового праздника членами братства. Видимо, этот праздник был важен для братства так же, как для любого прихожанина важен праздник его приходской церкви. В ре-естрах приходов и расходов братства статьи расходов на праздник Успения Богородицы мало чем отличаются от расходов на другие важные церковные праздники. Например, запись 14 августа 1652 г.: «На праздник Успения пречи-стыя Богородица купилем воску на свhчи церковный камень еден и фунтов два, за котрый далем 18,18 зл. От роботы свhч черницям 4,15 зл. На самый праздник Успения Богородица отцум нашим духовным яко на хлhб, на рыбу, на корhня, на мед далем 6,2 зл.»2. Во время праздника братство раздавало всем нуждающимся милостыню. Такие же суммы и такие же статьи расходов братства были в связи с праздниками Рождества, Пасхи и др. Поэтому можно говорить, что этот праздник был важен для братства прежде всего возмож-ностью пригласить на свое празднество многих друзей организации. В каче-стве гостей приезжали члены других братств, священники, епископы, митро-политы. В конце XVII в. гостем братства бывал русский резидент (посланник) в Польше.
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 13.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1067. Л. 8.
274 Глава 3
С 20-х гг. XVIII в. храмовый праздник и некоторые другие церковные празд-ники (Св. Троицы или «Зеленые свята», Свв. апп. Петра и Павла) сопровожда-лись концертами. Для участия в концерте специально приглашался капель-мейстер доминиканского собора с капеллой, также выступал регент Успенской церкви со школьным хором. Концерт проходил на колокольне Корнякта («grali i spiewali na wieży»). Звучали в том числе и хейналы (hejnały) — специальные песни, исполняемые трубачами на колокольне. Вечером колокольню украшали иллюминацией, что производило особый эффект. Часто также устраивались факельные шествия. Все это вызывало протест львовского епископа Афанасия Шептицкого. Он направил в Рим послание с жалобой на братство, а организа-тора и вдохновителя подобных празднеств Юрия Иляшевича иронично назвал «трубачем»1. Однако такая форма праздника продолжала существовать и далее.
* * *Особое значение для понимания психологии братства, людей XVII—
XVIII вв., имеют вопросы, связанные с организацией похорон члена братства, с представлениями о смерти. Эти вопросы были чрезвычайно важными не толь-ко для членов Львовского братства, но и для всего общества. Похоронная про-цессия играла в жизни горожан XVI—XVIII вв. особое значение. Ограничения на проведение похоронных процессий впервые оговаривались в декрете короля Сигизмунда I от 28 июня 1521 г.2: украинцам не разрешалось идти с зажженны-ми свечами, звонить в колокол и петь прощальные песнопения за пределами своего квартала3. Это ограничение вызвало сильное возмущение украинских горожан и было одним из главных факторов, способствовавших социально-политической и национально-религиозной активизации львовского городско-го украинского населения, которое привело к образованию братства.
В уставе братства был специальный пункт, где оговаривалось, как долж-ны относиться к умершему члену братства: «А котрый бы брат хрисиянский преставился с того свhта, мают его вси братя отпровадити ко гробу, к тои церкви, которои был парафhи при мhстh и свhча братская мает быти в церкви, и теж свhчи братскии мают быти ку отпроваженю тhла мертвого до гробу»4. Сложилась традиция сопровождать всем братством тело не толь-ко умершего члена, но и его жены. Братство считало своим долгом помогать материально вдовам членов корпорации и сиротам. Ставропигия всегда забо-тилась о достойной организации похорон всех людей, которые так или иначе были связаны с ней: работников разных специальностей, которые выполняли для братства различные одноразовые заказы; работников постоянных (кухар-
1 Шараневич И. И. Юрий Ельяшевич. С. 21—22.2 MCS. P. 2—4.3 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1926. С. 7.4 MCS. P. 116; Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. С. 502.
275§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
ки, прачки и др.), обслуживавших госпиталь, школу, типографию. Особо за-ботились «о погребе» священнослужителей Успенского храма, Онуфриевского монастыря. Всегда выделяли средства на организацию похорон людей, прожи-вавших в братском госпитале, и всех «нищих и убогих». Наиболее полные све-дения о представлениях членов братства о смерти нам дают сохранившиеся в его архиве помянники.
Такой вид источников, как помянники — списки людей для поминания во время церковного богослужения, — заслуживает особого внимания. Источники этого вида вызывают особое внимание у историков, так как они помогают иссле-довать такие наиболее актуальные в современной исторической науке проблемы, как восприятие смерти, потустороннего мира, связей между живыми и мертвы-ми, изучение которых позволяет существенно углубить понимание многих сто-рон социально-культурной действительности минувших эпох. Проблематика смерти становится темой многих отечественных и зарубежных исследований1. Как отметил А. Я. Гуревич, проблема восприятия смерти является составной ча-стью более общей проблемы ментальностей, социально-психологических уста-новок, способов восприятия мира2. Круг источников, имеющихся в расположе-нии исследователей, относительно стабилен, поэтому необходимо вырабаты-вать новые подходы к уже известным памятникам, познавательный потенциал которых не был по достоинству распознан и оценен ранее.
В связи с этим в последнее время возрос интерес источниковедов к таким источникам, как помянники3, в том числе помянники украинского происхо-ждения4. Помянники Львовского братства существенно отличаются от обыч-ных помянников, широко распространенных на Украине в XVII—XVIII вв.
1 Гуревич А. Я. Смерть как проблема исторической антропологии // Одиссей. М., 1989. С. 117—135; Он же. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. С. 299—263; Stein-dorff Ludwig. Memoria in Altrussland. Untersuchungen zu den Formen christlichte des ostlichen Europa. Stuttgart, 1994; Левинсон К. А. История ментальности в Европе. Очерки по основ-ным темам / Под ред. П. Динцельбахера (Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen / Hrsg. von P. Dinzelbacher. Stuttgart, 1993) // История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996. С. 106—108; Скрынников Р. Г., Алексеев А. И., Л. Штейндорф. Поминание усопших в Древ-ней Руси: Исследование форм христианской заботы о мертвых. Штутгард, 1994 // Отече-ственная история. 1997. № 2. С. 201—203.
2 Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». С. 230.3 Дергачева И. В. Типология Синодиков в русской письменности XV—XVII вв. М., 1990;
Сазонов С. В. К ранней истории синодичных предисловий // Сообщения Ростовского му-зея. 1991. Вып. 1. С. 8—24; Он же. О видах синодика-памятника // История и культура Ро-стовской земли. Ростов, 1993. С. 110—112; Конев С. В. Синодикология: Ч. 1. Классификация источников // Историческая генеалогия. Вып. 1. Екатеринбург, 1993.
4 Hilandar Research Library. Ohio State University. Columbus, Ohio, USA. Collection of Manuscripts on Microform. Sinai. 9 B. «Vraverio, или книга имен» — помянник 1630 г.
276 Глава 3
В них получили отражение представления о смерти и об умерших, которые были характерны для людей, объединенных в особую корпорацию. Братство представляло собой организацию средневекового типа, которая сохраняла основные категории средневекового мировосприятия в течение всей своей истории. В то же время в своей деятельности братство использовало ряд прин-ципов, выработанных Реформацией. Во многом осознать феномен сохранения основополагающих принципов эпох прошедших в обыденном сознании горо-жан, живущих в эпоху Нового Времени или Модерна, помогают помянники.
Помянники «помнички» для богослужений в Успенской церкви составля-ли сами члены братства, поэтому на основании внесенных в них имен цер-ковных иерархов, польских королей, русских царей, молдавских господарей и многих «ктиторов и фундаторов» братства можно судить о его связях с разны-ми странами, магнатами, купцами, об отношении к братству людей разного социального и общественного положения, разного вероисповедания и пр. Но главное — помянники содержат ценные, часто уникальные сведения о жизни самих братчиков, их семьях, роде занятий, должностях, которые они занимали в разных городских учреждениях. Иногда помянники содержали подробные сведения об упоминаемых в них людях, в некоторых помещены краткие исто-рические очерки о тех или иных деятелях.
К сожалению, помянники Львовского братства и семейные помянники чле-нов братства практически не сохранились. Это объясняется тем, что «помнич-ки» хранились, как правило, дома у членов братства, принадлежали к катего-рии часто используемых документов, поэтому, как и все бумаги, хранившиеся в личных архивах горожан XVII—XVIII вв., были утрачены. 28 мая 1695 г. в типографии Львовского братства был опубликован «Анамнисис, альбо при-поминаня в молитвах церковных иерейских имен, вѣкуистои памяти годных зешлых в вѣре православной… Преведеное з помничка писанного около року 1604 старанням тих же их милостей пп. братства»1. До наших дней сохранился всего один экземпляр «Анамнисиса»2. Текст этого Помянника опубликован3. Важность «Анамнисиса» как памятника исторической мысли XVII в. отмечали И. И. Шараневич4 и Я. Д. Исаевич5.
An Ortodox Pomjanyk of the Seventeenth-Eigtheenth Centuries (Saint Catherine’s Monastery, Mount Sinai) / Ed. by M. Altbauer, I. Ševčenko, B. Struminsky. Cambridge (Mass.), 1989.
1 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, ви-даних на Україні. Львів, 1981. Кн. 1. № 695.С. 108.
2 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 77. А. С. Петрушевича. Со-брание церковно-славянских рукописей. Ед. хр. 116.
3 Зоря Галицкая. 1851. № 67—72; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 470—511.4 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 26—34.5 Ісаєвич Я. Д. Українська археографія в XVII—XVIII ст. // Історичні джерела та їх вико-
ристання. Київ, 1964. С. 182—183.
277§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
Помянник 1604 г. был составлен, вероятнее всего, кем-либо из членов брат-ства, как это и отмечалось при его издании в 1695 г. Написан он был в соот-ветствии с нормами составления помянников, однако сведения о внесенных для поминовения людях значительно дополнены фактами их земной, светской жизни, что говорит о том, что автор этого Помянника не был человеком из духовного сословия и для него имели большое значение не только забота о душе поминаемого человека, но и память о нем среди живущих. Помянник Львовского братства представляет собой смешение двух типов помянников — синодиков, в которые вписывались имена церковнослужителей и благотво-рителей храма, и частных помянников, в которые вносились имена умерших дома (рода) или семьи1. Это говорит о том, что члены братства ощущали себя неразрывно связанными со своим храмом, со своей организацией. Поэтому и семья, и братство, и храм — все это составляло единую целостность мировос-приятия братчиков, вне которой они не мыслили себя и которую воспринима-ли как единственно возможную форму существования. Отступление от цер-ковного канона объясняется, с одной стороны, влияниями идей Реформации, и особенно идеи значимости каждого человека перед Богом и перед Страшным судом. Но с другой стороны, это объясняется тем, что, возложив на себя пол-ностью заботу о храме, и в том числе, получив право выбора священнослужи-телей в своей церкви, братство как бы заняло место ктиторов и фундаторов, имена которых могли вписываться в синодики.
«Анамнисис» является произведением авторов двух разных периодов. В его основу был положен Помянник Успенской церкви 1604 г., существенно расши-ренный и дополненный в 90-х гг. XVII в. Отдаленность авторов друг от друга временем сказалась только на некоторых фактографических ошибках, но ни-как не отразилась на мировосприятии их авторов. Помянник состоит из не-скольких частей. Начинается он молитвами по усопшим, включающими также «стихиры по вся дни»2. После текстов поминальных молитв следует собствен-но помянник. В соответствии с церковным каноном поминовения начинались с перечисления имен патриархов. В помяннике указаны имена константино-польских патриархов, которым подчинялась Киевская митрополия; список составлен выборочно, в него вошли только выдающиеся, по мнению автора, патриархи. Большой интерес представляет включенная в помянник «Повесть короткая о патриархах»3, которую можно рассматривать как попытку осмыс-лить роль отдельных патриархов в истории. «Повесть…» не лишена чисто фак-тических ошибок, таких, к примеру, как сообщение о том, что Русь приняла крещение во времена константинопольского патриарха Сергия, в то время как
1 Булгаков С. В. Православие: Праздники и посты. Богослужение. Требы. Расколы, ереси, секты… М., 1994. С. 236.
2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 470—478.3 Там же. С. 479—480.
278 Глава 3
крещение Киевской Руси происходило при патриархе Николае II Хрисоверге (984—996 гг.). Патриарх Тимофей назван здесь «Лукариа», хотя Лукарисом на-зывался патриарх Кирилл I. Большой интерес представляет сообщение о па-триархе Иеремии, который «был ту, в Польщи нашой, и фундуши на брат-ства становил, за позволеням св. памяти короля Стефана, року 1589». Такая ошибка (в 1589 г. королем Польши был не Стефан Баторий, а Сигизмунд III, правивший страной в 1586—1632 гг.) говорит о том, что «Повесть…» была на-писана специально для готовившегося к печати в 1695 г. «Анамнисиса», и ее не было в Помяннике 1604 г., так как такая ошибка в 1604 г., во времена правления Сигизмунда III, не могла быть сделана.
Далее в Помяннике перечислены имена киевских православных митропо-литов, причем интересно, что первым назван Иов Борецкий — первый пра-вославный киевский митрополит после введения унии в 1596 г. и принятия унии киевским митрополитом Михаилом Рогозой. В помяннике приводятся имена киево-печерских архимандритов и львовских епископов. Особый инте-рес представляют «имена годние св. памяти пресветлых благочестивых ца-рей и наяснейших королей Польских», в который включены имена не только польских королей, но и московских царей, а также имена православных кня-зей, воевод и господарей «земле Молда-Влахийской, ктиторов и фундаторов Св. храма». Интересно, что молдавский господарь Константин Дука в своем письме братству в 1694 г. просит, чтобы имена его умерших родителей и пред-ков были вписаны в Помянник Успенской церкви1. Для поминания на церков-ных службах включены были такие царственные особы Московского госу-дарства, как Иоанн (IV) Васильевич, Федор Иоаннович, Дмитрий Иванович (Лжедмитрий I, пожертвовавший братству большую сумму на строительство Успенской церкви), царица Ирина, царевна Феодосия, царица Марфа, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Алексей Алексеевич, Федор Алексеевич, Иоанн Алексеевич. Внесение в помянник имен московских царей было свиде-тельством взаимоотношений братства с Москвой и благодарности за помощь, которую оказали цари братству.
Любопытно то, что русские резиденты в Польше во время пребывания во Львове и посещения литургии обратили внимание на то, что поминание имен русских царей производится не по принятым в России нормам. После литургии 3 октября 1686 г. русский посол говорил игумену Феодосию, отправлявшему службу, что «они о здравии и о спасении благочестивейших великих госуда-рей наших царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича молят господа Бога и о том они, великие и полномочные послы благодарству-ют». Но посланники указывали, что надобно молить Бога «о здравии и о спа-сении и о всем их царского величества дому». Через несколько дней русский
1 [Письма из Молдавии Львовскому Ставропигийскому братству о помощи в востанов-лении Успенской церкви] / Петрушевич А. С. // ВСИ. 1883. С. 175—176.
279§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
посланник прислал письмо, в котором подробно описывалось, каким именно образом упоминать имена «великих государей царей», «государынях цари-цах», «государынях царевнах», патриарха московского и всея Руси Иоакима и о «всей полате и о воинстве»1. Сведений о том, выполнили ли братчики просьбы русских послов, не сохранилось. Однако в «Анамнисисе» были сде-ланы приписки киноварью красивым полууставным почерком, с упоминани-ем имени Емельяна Игнатьевича Украинцева, бывшего в то время послом в Польше. Во время пребывания его во Львове в 1708 г. он встречался с братчи-ками, и в знак расположения к нему имена его и семи членов его семьи были внесены для «припоминания»: «Род и дом пресвятhишого государя царя Петра Алексеевича самодержца Всероссийскаго, его величества министра вельможного господина Емилиана Игнатиевича Украинчкова, року 1708 ме-сяца марта 22 дня, когда его милость был во Львове послом и комисаром у Речипосполитой»2. Поскольку вскоре после этого, отправившись в Венгрию, Е. И. Украинцев умер, рядом с его именем была сделана приписка: «убиеного», означавшее поминание его имени при поминовении усопших, чьи имена зна-чились в «Анамнисисе».
Особую ценность представляет помянник вписных братчиков, который вклю-чает имена членов братства, членов их семей, а также фундаторов и благодетелей братства. «Анамнисис» состоит из фамильных или семейных «помничков» чле-нов братства конца XVI—XVII вв.3 Видимо, это была вторая попытка объеди-нить все семейные помянники членов братства в один, которая была впервые предпринята в 1604 г. Члены братства должны были вписывать для поминовения всех своих родных (умерших и живущих), поэтому в них содержатся обширные родословные списки «род и дом». В «Анамнисисе» описано 52 фамилии (рода) львовских украинских горожан. Помянники являются уникальными источника-ми по генеалогии купеческих и мещанских родов. Большой интерес представля-ют сведения о профессиональной деятельности братчиков, о должностях, кото-рые они занимали в различных городских и государственных учреждениях.
Единственный сохранившийся экземпляр изданного в типографии братства Помянника дополнен рукописным «помянником» членов братства. Видимо, из-данные помянники предназначались в первую очередь для самих членов брат-ства, которые их впоследствии сами дополняли. Экземпляр, который положил в основу публикации А. С. Крыловский, был дополнен родовым помянником Евстафия Михайловича «Род и дом в Богу великого славетного п. Еустафия Михайловича, обивателя Львовского, року Божого 1698 месяця ноеврия 8 дня»4. В «Анамнисис» продолжали вносить записи в течение всего XVIII в. как
1 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1686—1687. Кн. 227. Л. 55—57.2 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 33.3 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 486—488.4 Там же. С. 496.
280 Глава 3
с указанием «рода и дома» членов братства, священников Успенской церкви, так и людей, помогавших и сотрудничавших с организацией1. К своим фа-мильным помянникам члены братства относились очень бережно, писались они на бумаге высокого качества или на пергамене. Например, включенный в «Анамнисис» «Род и дом славетного пана Киприяна Кисельницкого, обыва-теля львовского року 1693 месяца августа 7 дня»2 сохранился как отдельный помянник, написанный на пергамене3.
Сохранившиеся помянники Львовского братства являются ценными ис-точниками по генеалогии, дают много интересной информации о братчиках и членах их семей. Особенность этих источников состоит в том, что они по-зволяют изучать многие актуальные для современной науки проблемы, такие как феномен коллективной психологии членов корпорации большой истори-ческой длительности, отношение к смерти, восприятие человека как личности, осознание человека в истории, роль семьи в обществе и др.
* * *Изучение обрядов и ритуалов невозможно без изучения символики, кото-
рая играла важную роль во всех корпорациях средневекового типа. Символика Львовского Успенского Ставропигийского братства представляет до-вольно сложную и не вполне поддающуюся четкому определению систему. Символические изображения братство использовало на своих печатях и в типо-графских марках. В литературе по истории Львовского братства часто встреча-ется понятие «герба» организации, что не вполне корректно, так как символи-ческие изображения варьировались в своем художественно-композиционном воплощении и не имели статуса герба. Однако символика для членов братства имела важное значение и воспринималась самими членами корпорации имен-но как герб, что может быть подтверждено использованием символических композиций в печатных книгах Ставропигийской типографии, причем часто сопровождаемых геральдическими стихами, в которых употребляется само слово «герб»: «Вежу герб свой выстрихненый мает»4; «Братству Львовскому льва и вежу за герб дано»5.
Вся символика братства (печати, «гербы» и типографские знаки) были осно-ваны на двух основных изображениях: колокольни братства и иконографиче-
1 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 33—34.2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 505—506.3 Петров Н. И. Указатель церковно-археологического музея при Киевской духовной Ака-
демии. Изд. 2. Киев, 1897. С. 207; Ісаєвич Я. Д. Українська археографія в XVII—XVIII ст. С. 183. Оригинал: Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского. Отдел рукописей. Собра-ние Киево-печерской Лавры. № 542; ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 134.
4 Октоих. Львов, 1639. Тит. л. об.5 Триодь цветная. Львов, 1663. Тит. л. об.; 1668. Тит. л. об.
281§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
ского изображения Успения Божией Матери. В основу «герба» братства был положен герб Ивана Федорова (рис. 1.).
Типографское воспроизведение герба братства, встречающееся в ряде изда-ний его типографии, представляет собой точную копию типографской марки (герба) Ивана Федорова, заменена была только одна деталь: вместо змейки со стрелкой с инициалами Ивана Федорова (рис. 2, 3) было помещено изображе-ние колокольни при Успенской церкви (рис. 4, 5). Колокольня являлась симво-лом братства, и ее изображение использовалось на братской печати (рис. 6), а также при оформлении изданий типографии братства (рис. 7). Интересно, что типограф братства Иван Кунотович использовал свою типографскую марку — оттиск с доски Ивана Федорова из Нового Завета с Псалтирью (Острог, 1580), где его инициалы «IФ» заменены инициалами Ивана Кунотовича «IК» (рис. 8).
Рис. 1. Герб (типографская марка) Ивана Федорова. Апостол. Львов, 15 февр. 1574
282 Глава 3
Рис. 2. Герб города Львова и типографская марка Ивана Федорова. Азбука. Львов, 1574
Рис. 3. Типографская марка Ивана Федорова. Новый Завет и Псалтирь. Острог, 1580
283§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
Рис. 4. Герб (типографская марка) Львовского Успенского братства. Иоанн Златоуст. О воспитании чад. Львов, 29 июля 1609
284 Глава 3
Рис. 5. Герб (типографская марка) Львовского Успенского братства. Анфологион. Львов, 26 окт. 1638
285§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
Рис. 6. Печати Львовского Успенского братства. 1591 г.
Рис. 7. Типографская марка Ивана Кунотовича. Октоих. Львов, 14 сент. 1639
286 Глава 3
Дискуссию в историографии вызывает так называемая «цеха» или «знаме-ние братское». Все текущие дела братства решались на совместных собрани-ях «схажках» или «сессиях». Их проведение было подчинено особым нормам, правилам, традициям. О предстоящем собрании каждый член братства дол-жен был быть специально информирован. В уставе братства дважды сказа-но, что собираться («сходиться») члены братства должны были раз в месяц или, при необходимости, чаще, «за обсиланем знамене братского», «будет братство знамением обсылано»1. Этот обычай был заимствован братством у ремесленных цехов, члены которых извещались о предстоящем собрании ма-стеров специальным цеховым знаком, так называемой цехой2. В документах братства встречается название «знамение братское» и «цhха».
Что из себя представляла братская «цhха», нам точно не известно. Исто-риками были выдвинуты две гипотезы. А. С. Крыловский считал, что это оттиск с изображением Успения Пречистой Богородицы — герба братства3, которое братство использовало в качестве своего типографского знака. Я. Д. Исаевич предполагал, что братская «цhха» была не в виде типографского оттиска на бумаге, а изготовленной из металла или дерева4. Именно такой была «цhха» у ремесленных цехов. Например, известна цеха львовских скорняков 1596 г., вы-полненная в форме городских ворот с тремя башнями, которые защищает на-тянутая между дверными стойками шкурка горностая, по бокам цехи надпись: CKCHA • RUSKA • CECHU (латинскими буквами записаны украинские слова: цха руска цеху); сохранилась медная цеха львовских сапожников, на которой изображены инструменты и изделия цеха: в центре — сапог, по бокам — ин-струменты для обработки кожи, внизу — два башмака и год — 16205. Здесь под цехой понимали специальный жетон с изображением символики ремесленно-го цеха; этот знак, как правило, использовался в печатях и гербах корпора-ций. Под «цехой» иногда понимали и собственно символику, которая прежде всего ассоциировалась с гербом. Например, в городской приходо-расходной книге 1597—1604 гг. между записями о расходах 19 января 1599 г. сохранилась запись об изготовлении филиграней для открывающейся в Брюховичах, под Львовом, бумажной мельницы: «за цехи или точнее городские гербы, которые дали делать для обозначения бумаги для бумажной мельницы выдано 2 золо-
1 MCS. P. 115, 116. Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. С. 501, 502.2 Грушевський М. С. Історія України—Руси. Львів, 1907. Т. 6: Життя економічне, культур-
не, національне XIV—XVII вв. С. 111—112.3 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. С. 59—60.4 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. Київ,
1966. С. 63.5 Гавриленко В. Символіка цехового шкіряного промислу міста Львова // Шоста наукова
геральдична конференція. Львів, 1997. С. 16, 18.
287§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
тых 12 грошей»1. Здесь под «цехой» подразумевалось прежде всего символиче-ское изображение герба города Львова; поскольку схематическое изображение городских ворот и геральдического льва, изготовленных из проволоки, соб-ственно гербом назвать составитель этой записи не мог, поэтому он употре-бляет слово «цеха» с последующим разъяснением.
Во многих изданиях братской типографии на обороте титульного листа помещался герб с изображением льва и колокольни, а также изображение Успения Богородицы, причем это изображение встречается в различных вари-антах, изготовленное разными мастерами-граверами2. Подписи под этим изо-бражением называют его «знамением братским»: «Пречестое знамение брат-ства Стаvропiгион Львовскаго Успение пречистыя Богородица Присно Девы Марiа»3.
В некоторых книгах, изданных в братской типографии, встречаются сти-хотворные формы «знамения» братства:
Благо здh пречестному знаменiю трвати,И небом небес, Матер Божiю всhм знати.
Под тым, все ктиторство старожитность мает.И иле ку хвалh еи належит, скланяет4.
Здесь слово «знамение» следует понимать как «символ», так как именно при церкви, посвященной Успению Богородицы, было организовано братство, а не «знамение братское» как «цhха», которая посылалась для сбора членов братства на собрания. Возможно, на братской «цhхе» было одно из изображе-ний, считавшихся гербом братства. Но возможно также, что «цhха» не имела какого-либо материального воплощения, а означала оповещение в установлен-ной форме о предстоящем собрании братства. Если бы «знамение братское» имело какую-либо материальную форму (типографский оттиск, изображение на дереве или металле), то сохранились бы если не сама «цhха» или хотя бы ее описание это записи об ее изготовлении или описание среди имущества брат-ства. Вероятно, в конце XVI — начале XVII вв. с «цhхой» братской ходил кто-либо из членов братства, позже братство с этой миссией посылало мальчика-подростка, чтобы он «с цhхой ходил»5, возможно, кого-либо из учеников брат-ской школы, за что он получал определенную плату.
1 Мацюк О. Я. Папір з гербом міста Львова // Третя наукова геральдична конференція. Львів, 1993. С. 55—56.
2 См.: Подробный словарь русских граверов XVI—XIX вв. / Сост. Д. А. Ровинский. СПб., 1895.
3 Анфологион. Львов, 26 окт. 1638. Тит. л. об.4 Там же.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1044. Л. 4 об.
289§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
Рис. 9. Успение Богородицы. Октоих. Львов, 1686. Титульный лист, оборот
291§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
Во второй половине XVII в. упоминаний о «цhхе» в документах братства не встречается. Вероятно, этот обычай не прижился. Поскольку все члены брат-ства жили в «мурах» города, очень близко друг от друга, то просто не было необходимости в таком особом приглашении на братское собрание, и более прагматичные по сравнению со своими предшественниками члены братства во второй половине XVII в. отказались от такого ритуала.
Символика братства активно использовалась на страницах издаваемых в его типографии книг. В этом братство следовало уже устоявшейся в Западной Европе традиции сопровождения печатных книг геральдическими компози-циями. Но вероятнее всего, что книгоиздатели следовали принципам оформ-ления кириллических книг, заложенным Иваном Федоровым.
Во время пребывания в Остроге Иван Федоров помещает в конце изданий свой герб. Дискуссия о происхождении этого герба до сих пор остается от-крытой. Ряд историков (И. Ходыницкий, В. К. Лукомский, Е. Л. Немировский) склонны считать герб первопечатника восходящим к дворянским корням (шляхетскому роду Рагоз), чем объясняется внешнее сходство с гербом «Шре-нява»1. Но более убедительно, на мой взгляд, суждение, высказанное в рабо-тах В. Лозиньского и Я. Д. Исаевича, о генетическом сходстве «герба» Ивана Федорова с гмерками (домовыми знаками) городских ремесленников и куп-цов2. После его смерти типографское обрудование Ивана Федорова выкупило Львовское Успенское братство и продолжило дело первопечатника.
В первой книге, вышедшей в типографии Львовского братства — Адель-фотесе 1591 г., был помещен герб города Львова в сопровождении геральдиче-ских стихов (рис. 11):
Знамение тезоименитого князя Льва град сей мает,Его же имя по всей Европhи российский род знает.В митрополии Киево-Галицкой славно пребывает,Его же вся окрестная страна обогащает.
Лев царствует безсловестным звhрем в начало.Словесным же образ Христово царство нам ся показало.Мужайся, многоплеменный росский народе,Да Христос начало крhпости в тебh буде.
1 О типографской марке Ивана Федорова см.: Лукомский В. К. К вопросу о родопроис-хождении Ивана Федорова // Иван Федоров первопечатник. М.; Л., 1935. С. 167—175; Коля-да Г. I. Друкарський знак Iвана Федорова // Українська книга. Київ; Харкiв, 1965. С. 185—193; Гусева А. А. Символика в орнаментике изданий Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстис-лавца // Книга. Исследования и материалы. М., 1993. Сб. 66. С. 125—130; Немировский Е. Л. Издательский знак Ивана Федорова // Мир этикетки. М., 2002. № 9. С. 52—56.
2 Iсаєвич Я. Д. Першодрукар Iван Федоров; винекнення друкарства на Українi. Львiв, 1983. С. 58—59.
292 Глава 3
В другом издании за этот же год (Просфонима) стих помещен с некото-рыми изменениями (рис. 12): вместо слова «Знамение» употреблено более точное «Герб». Геральдические стихи на городской герб в изданиях братской типографии подчеркивали значимость Льва — основной геральдической фи-гуры, а понимание этого образа как царя зверей переносилось на роль горо-да (основанного князем Даниилом Галицким и названным им в честь своего сына Льва Даниловича) в жизни украинского населения, а в начале XVII в. подчеркивалось первостепенное значение города в национально-культурном возрождении:
Лев есть паном, и срокгость му з очию походитИ жаден ся звhр ровня ему не находит
Именем тым с посчатку Львов, с княжат названыйИ в князьтвh том, Головою мhстом поданый1.
В 1609 г. впервые были напечатаны стихи на «герб» братства, в основу ко-торого была положена типографская марка Ивана Федорова. Графическое воспроизведение герба братства, встречающееся в ряде изданий, представ-ляет собой точную копию марки Ивана Федорова, на щите которого справа был помещен герб Львова, а слева — типографский знак Федорова «змейка со стрелкой». В гербе братства заменена была только одна деталь: на левой по-ловине щита было помещено изображение колокольни Успенской церкви — символа возрождающейся православной веры украинского населения в сущ-ности уже польского города:
Як лев срокгий над всhми звhряты панует,Так Львов, над всh мhста, в князтвh Руском продкует.
В котром то ся Братство милости закрhсльнулоИ на герб свой, вежу тую так выстрыхнуло2.
1 Иоанн Златоуст. Книга о священстве. Львов: Тип. братства, 1614. Тит. л. об.2 Иоанн Златоуст. О воспитании чад. Львов, 29 июля 1609. Тит. л. об.
293§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
Рис. 11. Адельфотес. Львов, 1591. Титульный лист, оборот
295§ 4. Источники по истории обрядов и ритуалов
Члены братства в геральдических стихах подчеркивали основную задачу своей организации как одной из важнейших религиозно-духовных корпора-ций древнерусского города:
Лев есть паном, и срок гость му з очiй походит,И жаден ся звhр, ровня ему не находит.
Именем тым с початку Львов, с Княжат названый,И в Княжиствh том Головою мhстом поданый.
В котором братство, от патриархов есть надано,И от кролев вhчне упривилиевано.
Котрое вежу, Герб свой выстрихненый мает,И о добрем цереви, пилне промышлевает1.
Львов Мhсто таких собh продков быти знает:Княжати Льва имя и Герб власный мает.
Роксоляном зась Вежу там же за Герб дано:Чулыми в хвалh Божой быти приказано.
Котрие при том Гербh значне Церковь выставляют:И покармом духовным вhрных посиляют2.
От Лва граде, твоя тя слава именует,И в храмh сем Лев чулый покой отримует.
Слынеш благочестiем, Крестом огражденный,Прiйми от Христа Бога, вhнец сей спасенный.
Матер его, Марiю, Дhву Пречестную,В пhнiях святых чтуще благословенную3.
Задачи национально-культурного возрождения виделись членам братства прежде всего сквозь призму возвращения к подлинным образцам православ-ной церкви, через подлинное понимание религиозных обрядов, через возвра-щение к первоначальным текстам религиозных книг, что должно способство-вать сохранению веры, а значит и национально-культурной самобытности:
От Льва Граде, Твоя тя именует слава,И в храмh сем Льва бодра первенствует Глава,
От храма си, и Братства, Крестом огражденна,Прийми сия красныя пhсни, здh почтенна.
1 Иоанн Златоуст. Книга о священстве. Львов, 30 июля 1614. Тит. л. об.2 Часослов полууставный. Львов, 1642. Тит. л. об.; 1692. Тит. л. об.3 Октоих. Львов: 1686. Тит. л. об.; 1700. Тит. л. об.
296 Глава 3
Матерь Богу, и Господь оградят тя славно,Молися токмо Богу, сам узриши явно1.
Свhт Воскресенiа, всhм вhрным днесь облиста,Крестоносно же Братство свhтлhти не преста.
Кгдыж от патрiархов свет отческо надано,И от кролев ясне всhх, упривильевано.
Сличне ввhк, Вежу герб свой выстрихненый маhт,Бо ласкою Бога, о Церкви промышляhт2.
Свhтом из гроба твоего воскресенияХристе: просияша повсюду учения
Евангельских вhщаний: и всhх просвhтишаСвhтом познания, в вhрh утвердиша.
Тhм Боже даждь Крестоносному Братству свhтлhти:В заповhдех ти, непорочным пребыти.
Мирно безмятежну жизнь здh препроводити,И паки грядуща тя в славh видhти3.
Только во второй половине XVII в. в стихах «на герб» братства появляется истолкование геральдической символики, причем Лев уже не воспринимает-ся, как в стихах первой трети XVII в., символом города, ставшего центром украинского национально-культурного возрождения в конце XVI — начале XVII вв., но утратившего это значение уже к середине века. Он становится символом самого братства, поэтому подчеркивается не символика льва как царя зверей, а прежде всего его сила и мужественность. Меняется и воспри-ятие колокольни, которая теперь выступает не символом стойкости веры, а символом добродетелей, что отражает изменение статуса и характера дея-тельности братства:
Братству Львовскому Льва и Вежу за Герб дано,Вежу — в добродhтель, льва - в мужество признано.
В добродhтелех писма хранити требаЧин побожности: кождый тым доступит неба4.
Если в конце XVI — начале XVII вв. члены организации ставили перед со-бой задачи общественно-политические и религиозно-культурные в борьбе за
1 Октоих. Львов, 1739. Тит. л. об.; 1765. Тит. л. об.2 Октоих. Львов, 14 сент. 1639. Тит. л. об.3 Евангелие. Львов, 25 мая 1644. Тит. л. об.; 11 июня 1670. Тит. л. об.4 Триодь цветная. Львов, 1663. Тит. л. об.; 9 янв. 1688. Тит. л. об.
297§ 5. Контракты
права украинского населения города и края, то во второй половине XVII в. мас-штаб деятельности братства значительно уменьшился, члены братства уделя-ли значительное внимание благотворительным делам, что во многом способ-ствовало сохранению авторитета организации и позволяло успешно решать поставленные еще в конце XVI в. задачи.
Интересно, что геральдические стихи на герб Львовского братства, которые помещались в изданиях братской типографии и сочинялись членами братства или учениками братской школы, не только объясняли значение организации, но и содержали панегирические мотивы:
Валечных богатыров клейнот знаменитый,В дhлности, моци, славh, чулости обфитый.
Кгды в цнотах сами го пhстуют пристойне:Тым же своих потомков надто здобят гойне1.
Символика Львовского братства должна рассматриваться как визуально-вер бальная информация, дополняющая друг друга. Гербы, типографские мар-ки, печати и эпиграммы, геральдические стихи — это единый взаимосвязан-ный комплекс источников, содержащих информацию о символах и их интер-претации, изучение которого может способствовать более глубокому пони-манию психологии, способов восприятия действительности и системы цен-ностей прошлого в динамике изменений восприятия символов во времени. Геральдические стихи — это единственные в своем роде источники, которые сохранили нам объяснение символики, использовавшейся в гербах, печатях, типографских знаках в таких формах и представлениях, как их понимали, вос-принимали и трактовали современники.
§ 5. Контракты
Контракты (договоры) братства с различными мастерами при заключении определенной сделки или соглашения на проведение каких-либо работ являют-ся многоплановыми источниками. В городах с прочными цеховыми традиция-ми контракты имели особое значение: во-первых, они подтверждали сам факт соглашения двух сторон (заказчика и исполнителя работ, совершения имуще-ственной сделки и т. п.), во-вторых, они имели значение гаранта оплаты труда по указанным в договоре условиям, в-третьих, контракт обеспечивал право-вую защищенность в случае несоблюдения одной из сторон своих обязательств и на его основании можно было отстаивать свои права через суд. Как прави-ло, контракт (договор) составлялся при заключении сделки, которая предпо-
1 Часослов полууставный. Львов, 1642. Тит. л. об.; 1692. Тит. л. об.
298 Глава 3
лагала большой объем работ, была высокооплачиваемой и требовала наивыс-шего качества исполнения. С мастерами-ремесленниами, которые выполняли нетрудоемкие, низко квалифицированные и мало оплачиваемые работы, как правило, заключалось устное соглашение. В расходных книгах братства сохра-нилось большое число записей о расчетах с такими мастерами: «Шкляреви, що в школе оболоны направил далем злотый»1, «Тесли далисмо злотых поль-ских 34, що паперти, и школу, и дах против школы и над фурою подбил и направил, и ворота все в новой церкви и на поповскум дому»2, «Гончарови за уфорованье пьеца и пьецка далем грош. 25;... Столяру за трое рам дубо-вых з лесками до школьных окон — злот. 6»3, «Малярчиком Федковым, ко-трые образы громом пошпецоные направляли — грош 8»4, «Коменником от комhну у школh и где отцеве мешкают далем 20 грош»5. Контракты заклю-чались с мастерами-«магистрами» своего дела: архитекторами, художниками, скульпторами, книгоиздателями и др. Составлялись контракты, как правило, по выработанному ранее формуляру. Особый интерес представляют виды и формы работ, которые перечислялись и особо оговаривались в контрактах, обязательства каждой стороны, способы оплаты труда. Эти источники помо-гают не только реконструировать механизм выполнения тех или иных видов работ, но часто являются единственными источниками, позволяющими узнать имена многих выдающихся мастеров XVII—XVIII вв., чьими произведениями искусства мы восхищаемся до сих пор.
Сохранившиеся в архиве братства контракты можно разделить на следую-щие тематические группы:
а) контракты, связанные со строительством, украшением и реконструкцией ансамблей Успенской церкви и Онуфриевского монастыря;
б) контракты, связанные с деятельностью типографии братства;в) контракты с различными мастерами-ремесленниками;г) контракты (договоры) братства на аренду недвижимости.В XVI в. Успенская церковь была дважды уничтожена в результате по-
жара. Отстроенный в конце 50-х гг. XVI в. храм простоял чуть более деся-ти лет. Восстановление Успенской церкви было одной из первостепенных за-дач, стоявших перед Львовским братством, тем более что для православного населения Львова и его окрестностей Успенская церковь являлась не только религиозно-духовным символом, но и олицетворением национально-куль-турного единения.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1047. Л. 2 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 340—356.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1047. Л. 6 об.3 Там же. Д. 1052. Л. 4. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 373—386.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1052. Л. 5.5 Там же. Д. 1067. Л. 8 об.
299§ 5. Контракты
Для восстановления одного из древнейших храмов города члены Львовского братства приглашали лучших мастеров. Самым ранним контрактом, сохранив-шимся в архиве братства, является договор от 2 марта 1591 г. с выдающимся ар-хитектором ХVI в. Павлом Доминичи из Рима, вошедшим в историю как Павел Римлянин1. Договор был составлен «в дому братском, при бытности все куп-но... братий», с одной стороны, и «славетным паном Павлом Римлянином, муляром львовским» — с другой. В контракте четко оговорены обязательства сторон, «певное учинили постановеня». Братство выступает в роли заказчика, перечисляет все виды предполагаемых работ, размеры и способы их оплаты, количество необходимых рабочих, способы доставки строительных материа-лов. Архитектор должен представить братчикам составленный в соответствии с их требованиями проект строящейся церкви («визерунок») и следить за ка-чеством поставляемого камня «ведлуг которого визерунка» (согласно проек-ту) и качеством работ. Братство ведет расчет непосредственно с архитектором, а он сам должен платить мастерам и подмастерьям, также он должен достав-лять камень для строительства «от горы Красова, своим коштом зготовати и вывезти на месце назначеное, то есть до места, на кгрунт, где ся будет муровати церковь выше реченая». Братство оговаривает цены, по которым будет вести расчет с Павлом Римлянином, «заплата» зависит от сложности и качества работ. Договор был скреплен печатями братства и архитектора. На этом же договоре имеется расписка Павла Римлянина в получении от братства денег (причем он собственноручно расписался в получении от братства 80 зло-тых) на латинском языке, а ниже следует перевод по-украински. Такие распи-ски в контрактах о получении денег от братства встречаются практически на всех аналогичных документах.
Продолжали строительство Успенской церкви другие архитекторы. После смерти Павла Римлянина, 7 октября 1597 г. братство заключило контракт на продолжение строительства Успенской церкви с его зятем Войтихом Капи-носом2, а 14 ноября 1598 г. — с Амвросием Прихильным3. Именно Амвросию Прихильному было суждено воплотить в жизнь замысел строительства Успен-ской церкви Павла Римлянина4. В течение всей своей истории братство посто-янно заботилось о храме, обновляло его, реставрировало, о чем также свиде-тельствуют сохранившиеся контракты. Например, в 1690 г. братство заключило «действительный и неизменный контракт» с «магистрами ремесла бляхов-ничего» (кровельного) евреями Давидом Абрамовичем, Даниелем Марковичем
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 159. Опубл.: ЮИЛСБ. Т. 1. № 3. С. 5.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 315. Опубл.: ЮИЛСБ. Т. 1. № 4. С. 6.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 324. Опубл.: ЮИЛСБ. Т. 1. № 5. С. 7. 4 Антонович Д. Хто був будівником братської церкви у Львові // Записки Українського
Історично-філологічного товариства у Празі. Прага, 1926. Т. 1. С. 191.
300 Глава 3
и др. на ремонт бани над алтарем в Успенской церкви1. В 1717 г. братство за-ключило договор с Францишком и Иосифом Фубжецким и (Fubrzecki) на соз-дание «Гробу Божего в церкве, согласно абрису»2.
Для создания внутреннего убранства церквей братство приглашало извест-ных мастеров. В 1637 г. оно подписало контракт на оформление интерьера вос-становленной церкви с художником-иконописцем Николаем Петрахновичем3. 24 апреля 1697 г. оно заключило контракт с иконописцем Александром Лане-вичем на изготовление Деисуса Успенской церкви («весь Деисус в церкви»). Интересно, что в документе перечислены все элементы Деисуса, которые сле-довало написать «мастеру малярского дела», и указаны иконы, которые писать не нужно, так как они уже были в храме: «exepto наместный образ Спасителя и Пречистой Девы». За эту работу «маляр» должен был получить от братства 800 злотых, причем 200 злотых Ланевич получал в качестве аванса, еще 200 — поз-же, а всю оставшуюся сумму — по окончании работы4. 8 октября 1697 г. было за-ключено дополнительное соглашение, по которому художник получал 1000 зло-тых. Об этом контракте сохранилось только упоминание в виде приписки на первом договоре от 24 апреля 1697 г., где имеются собственноручные расписки художника в получении денег от братства. В 1702 г. братство заключило контракт со скульптором (резчиком по дереву) Симеоном (Самуэлем) Путятицким на из-готовление деревянной части Деисуса в новопостроенной церкви Св. Троицы при Онуфриевском монастыре. За работу братство обязывалось заплатить 800 злотых, как и художнику Александру Ланевичу за Деисус в Успенской церкви. Кроме того, поскольку Симеон Путятицкий жил не во Львове, то братство брало на себя обязательство доставить мастера во Львов («наша фура и кошт»).
В архиве братства сохранились два контракта с литейщиками меди на из-готовление большого колокола. Контракт между львовским литейщиком меди Франке Андреем и братством был подписан 15 мая 1656 г.5 Этот колокол был разбит шведами во время военных действий в 1709 г., и контракт с литейщи-ком меди Петром Гнатовским о переливке большого колокола, причем «в такой же пропорции, как есть сейчас», братство заключает 14 июля 1709 г. В случае если после отливки обнаружится какой-либо дефект, то устранить и перелить колокол вторично за свой счет должен был «сам пан Петро меделитейник, а не... панове братство»6. Интересно, что это единственный контракт братства с
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 10 — 10 об.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 30.3 Там же. Д. 538.4 Там же. Д. 742.5 Там же. Д. 613. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. При-
ложения. № 72. С. 155—156.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 781. Л. 1. Опубл.: Історія Львова в докумен-
тах і матеріалах. Київ, 1986. С. 92—93.
301§ 5. Контракты
мастером, который не умел писать. Вместо подписи Петр Гнатовский и два его помощника поставили «знак святого креста», так же они подписывались при получении денег за работу от братства1.
Все эти контракты являются важными источниками по истории искусства конца XVI — начала XVIII вв. Это интереснейшие свидетельства создания мно-гих великолепных памятников культуры, которые были созданы украинскими мастерами и в большинстве своем сохранились до наших дней. Эти памятни-ки — украшение современного Львова, и достояние мировой культуры. Не ме-нее интересной является правовая и экономическая стороны жизни общества конца XVI—XVIII вв., получившая отражение в этих источниках.
* * *Самое большое число сохранившихся контрактов относится к деятельно-
сти типографии братства, которая работала полностью по контрактной си-стеме. Братство заключало договоры с печатниками (типографами), набор-щиками, мастерами по изготовлению шрифтов, граверами. Это — докумен-ты, позволяющие с максимальной полнотой реконструировать работу типо-графии XVII—XVIII вв. Основными источниками по истории издательского дела этого периода являются сами издания типографии. Благодаря же сохра-нившимся в архиве братства документам мы можем восстановить практиче-ски все этапы издательского дела, начиная от замысла печатать ту или иную книгу и заканчивая особенностями технологического процесса. Контракты братства с типографами являются уникальными источниками, позволяю-щими реконструировать тиражи изданий. Информацию о тиражах старо-печатных кириллических изданий Украины, имеющую важное историческое значение, сохранили только источники по истории типографии Львовского братства.
Комплекс дошедших до нас контрактов в составе архива Львовского брат-ства относится не ко всему периоду деятельности Ставропигийской типогра-фии. Не сохранилось ни одного контракта братства с типографами первой по-ловины XVII в. Это объясняется тем, что по выполнении всех пунктов дого-вора обеими сторонами контракт уже не представлял интереса и его могли либо отдать мастеру, либо он мог быть затерян среди текущей документации братства; на некоторых сохранившихся документах имеются пометы: «Этот контракт уже выполнен»2.
В архиве братства сохранились контракты за 1668—1767 гг., причем основ-ной комплекс этих документов содержится в специально заведенной книге кон-трактов организации с типографами, где помещены договоры за 1680—1757 гг. Число сохранившихся контрактов, составленных на отдельных листах, срав-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 781. Л. 2.2 Там же. Д. 1106. Л. 2 об.
302 Глава 3
нительно невелико1. Отдельные контракты братства с типографами, в част-ности с Михаилом Слёзкой, можно обнаружить среди материалов Львовского гродского суда2.
Контракты, относящиеся к деятельности типографии, можно разбить на три тематические группы:
a) контракты с типографами;б) контракты с граверами, изготовителями шрифтов;в) контракты о доставке бумаги в типографию братства.Один из первых сохранившихся контрактов братства с типографом — до-
говор между «провизорами братства» со Стефаном Половецким, «маги-стром друкарским», в котором оговорены условия издания «Евангелия» и «Акафистов». По условиям договора, братство обязуется обеспечивать типо-графа всеми необходимыми для издания книг материалами и платить за ра-боту, согласно установленным таксам (ценам) на книги. Типограф должен не использовать в качестве образца книги других типографий, а печатать толь-ко в соответствии с выданным образцом. Отпечатанные книги следовало сда-вать братству строго по реестру. Договор скреплен собственноручной под-писью типографа «Stefan Polowecky, zycer» и его печатью3. Евангелие было издано в 1670 г.4, а Акафисты Стефаном Половецким, вероятно, напечатаны не были. Контракт на издание «Акафистов» братство заключило с Симеоном Ставницким 26 мая 1683 г.5, но и это издание не сохранилось6.
* * *Единственной в своем роде является книга контрактов братства с типо-
графами, словолитцами и другими мастерами, выполнявшими хозяйствен-ные заказы братства. Значительная часть этой книги была опубликована А. С. Крыловским7. Книга контрактов представляет собой рукописный кодекс in folio в бумажном переплете, состоящий из 43 листов, хронологические рам-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 664, 709, 896, 955.2 Там же. Д. 379. С. 2016—2021.3 Там же. Д. 664. Л. 1—2, 3.4 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 487, 604—612; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового
мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. Львів, 1981. Кн. 1. С. 83. № 468; Украин-ские книги кирилловской печати XVI—XVIII вв.: Каталог изданий, хранящихся в Гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина. М., 1990. Вып. II. Ч. 2. С. 34. № 250.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 709. Л. 2.6 Описание издания: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 362, 365, 381; Львівські видання XVI—XVIII ст.:
Каталог / Уклав Я. Д. Ісаєвич. Львів, 1970. № 73; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книж-кового мистецтва. Кн. 1. № 612.
7 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 379—437. См.: Шустова Ю. Э. Книга контрактов Львовского Став-ропигийского братства с типографами (1680—1757): проблемы источниковедческого ис-следования // Вестник РГГУ. Сер. Ист. науки. М., 2009. № 4. С. 108—123.
303§ 5. Контракты
ки записей которого — 26 июня 1680 — 26 октября 1757 гг. На титульном ли-сте — заглавие, которое, по всей видимости, книга получила в начале своего существования: «Xęga kontrahtów z drukarzami. A° 1680» (Книга контрактов с печатниками. 1680 г.). На титульном листе сохранились два инвентарных но-мера, обозначенных на небольших наклеенных ярлычках. Более ранний «992», возможно, отражающий номер единицы хранения в братском архиве в конце XVIII — начале XIX вв., и более поздний, написанный почерком XIX в. на рус-ском языке: «Y 455 Контракты с типографами 1680—1757»1.
Книга велась на польском языке. Она содержит лишь одну фразу, написан-ную кириллицей на украинском языке — подпись печатника Семена Став-ницкого: «Симеонъ Ставницкiй, типографъ, рукою». В текстах повсеместно встречаются слова и выражения на латинском языке, что было характерно для многих делопроизводственных документов Львовского братства или же поло-низированных латинских слов (bez errorów).
Книга содержит 61 контракт за 1680—1752 гг., а также записи о текущих хозяйственно-финансовых вопросах, возникавших при взаимоотношениях печатника с братством. Основная часть контрактов была заключена с печат-никами. Причем в эту книгу записывались контракты только с постоянно со-трудничавшими с братством печатниками, которые издавали богослужебные книги. В течение этого периода с братством работали Симеон Ставницкий (1680—1696), Василий Ставницкий (1697—1725), Иван (Ян) Грозевский (1741—1757). Опубликованными являются контракты с Симеоном и Василием Став ницкими (Л. 1—34 об.). Контракты с Иваном (Яном) Грозевским за 1728—1752 гг. (Л. 37 об. — 41 об.) остаются не опубликованными. Договоры с Иваном Грозевским снабжены заголовками, написанными отличным от руки писца текста соглашения почерком: «Контракт на Каноник», «Контракт на Акафистик», «Контракт на Часословец», «Контракт на издание Казань». Однако в книгу заносились не все контракты на издания книг в типографии братства. Контракты на издание книг за 1730—1740 гг. не сохранились, имена типографов восьми книг, изданных за этот период2, нам не известны.
Кроме контрактов, книга содержит записи о выдаче «литер» (шрифтов) на издание книг («Одебране литер псалтырных», «Оддано октаиовых литер на друковане Требника»3); о выдаче бумаги братством (например, в 1686 г. на складе («склепе дольном») после издания Октоиха осталась бумага гданьская «ризы сто и 14», которую было решено выдать для издания Триоди цветной4); расписки о получении денег типографами; записи о расчетах братства с типо-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 1.2Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог. Львів, 1984. Кн. 2.
Ч. 1. № 1140, 1217, 1308, 1314, 1339, 1340, 1343, 1360. 3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 7 об., 9, 9 об., 14, 15 и др.4 Там же. Л. 8.
304 Глава 3
графами согласно реальному тиражу (например, 13 февраля 1704 г. братство заключило контракт на издание Часословцев малых тиражом 1190 экземпля-ров, запись от 16 апреля 1704 г. сообщает, что издано Часовничков малых было «штук 1290», а разницу «сверх контракта братство заплатило»1); записи о выдаче досок с гравюрами (например, в 1688 г. для издания Триоди пост-ной были выданы доски «Ева», «Блудный сын», «Мария Египетская», «Иоанн Лествичник», «Благовещение», «Фарисеи», «Успение великое» и др.2).
После первого договора «Книги контрактов» с Симеоном Ставницким от 13 июля 1680 г. на издание Служебника имеется помета: «Этот контракт уже выполнен»3.
Из 61 контракта данной книги 14 контрактов было заключено с Симеоном Ставницким, 34 — с Василием Ставницким, 7 — с Иваном Грозевским, 4 — со словолитейцами (гисарами) и 2 — на ремонтно-строительные работы. По фор-ме контракты можно разделить на три группы:
1) договоры, составленные от имени самого типографа;2) договоры, инициатором сделки в которых выступает Львовское Успенское
(старшее) и Онуфриевское (младшее) братства;3) договор-обязательство типографа, согласно которому он обязуется вы-
полнять работу в соответствии с требованиями заказчика.Третий тип контрактов, часто используемый при составлении соглашения
между братством и типографом, напоминает по форме скорее обязательство или гарантийное письмо с обязательствами мастера выполнять работу на опре-деленных условиях. Этот контракт составлялся самим типографом, с которым братство сотрудничало ранее. Начинался такой контракт словами: «Я, нижепод-писавшийся магистр дела типографского, этим моим добровольным и неиз-менным записом с братством...», далее называлась книга, которую должен был печатать типограф, ее размер, тираж, определялись условия, на которых будет работать типограф и которые предварительно были согласованы с братством.
Коннотации договоров имеют четыре формы, начинающиеся следующими фразами: «Я, нижеподписавшийся… добровольно признаю этой своей запи-сью, что обязуюсь перед [братством] печатать книгу…»; «Между… братством Ставропигиальным… и паном…, типографского искусства (kunsztu) маги-стром, заключен неизменный, ниже означенный контракт и постановление»; «Anno Domini… С паном…, печатником, было принято решение о печати кни-ги…», «Anno… был заключен настоящий контракт между братством… и па-ном… на to ratione печатание книги…».
Типографы в коннотациях контрактов чаще всего именуется магистрами типографского искусства. Симеон Ставницкий именуется в некоторых доку-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 23 об., 24 об.2 Там же. Л. 7 об.3 Там же. Л. 2 об.
305§ 5. Контракты
ментах «славетным» или «нашим» типографом. В договоре за август 1694 г. впервые встречается имя Василия Ставницкого. Договор заключен от имени Симеона Ставницкого: «Я, нижеподписавшийся Симеона Ставницкий, и с сы-ном моим Василием…»1. 26 мая 1695 г. с Василием Ставницким, «сыном», был заключен контракт на изготовление литер псалтырных2.
Сами контракты представляют собой копии документов, оригиналы до-говоров, по-видимому, оставались у типографов. В большинстве случаев в текстах, написанных рукой делопроизводителей братства (почерки меняются практически с каждой новой записью документа), обозначено место печати: «m. p.». Но под каждым договором стоят собственноручные подписи типогра-фа и других мастеров, с которыми заключалось соглашение. В одном случае мастер Францишек Зубрицкий, с которым заключен договор на строитель-ство Гроба Господня в Успенской братской церкви, поставил вместо подписи крест3. Подписи уполномоченных членов братства практически не встречают-ся, поскольку сама форма документа является гарантом соблюдения со сторо-ны братства («панов братий») своих обязательств. Типографы себя называли чаще всего «друкарь» или «типограф». Симеон Ставницкий в одном контрак-те подписывается как «типограф Львовский» («typograph Leopolitaneneos»). Василий Ставницкий и Ян Гро зевский обычно подписывались, указывая свое имя и фамилию.
Печатать книгу надлежало с экземпляра, который братство выдавало ти-пографу, «без единых ошибок (omylek), но слово в слово, как есть»4. Братство предъявляло высокие требования к качеству издаваемых книг, а особенно сле-дило за исправностью текстов, поэтому в контрактах эти требования специ-ально оговаривались. В договоре 1692 г. на издание Трефологиона от Семена Ставницкого требовалось печатать книгу согласно данному ему экземпля-ру «слово в слово, не пропуская, не добавляя, не заменяя ни одного самого небольшого слова, точки, буквы, знака, без каких-либо опечаток»5. Однако опечатки все же случались. Например, «Анфологион, сиреч Цветослов или Трифолог» 1651 г., изданный Михаилом Слёзкой, содержит список опечаток: «Исправлениа поползновений во книзе сей»6, также и Устав молитвенный, из-данный в 1670 г. Степаном Половецким7.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 15.2 Там же. Л. 16.3 Там же. Л. 304 Там же. Д. 1106. Л. 4—5.5 Там же. Л. 14—14 об.6 Цит. по: Украинские книги кирилловской печати XVI—XVIII вв.: Каталог изданий,
хранящихся в Гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина. Вып. II. Ч. 2. № 178.7 Львівські видання XVI—XVIII ст. № 61; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового
мистецтва. Кн. 1. № 474; Украинские книги кирилловской печати XVI—XVIII вв. № 195.
306 Глава 3
Иногда в контракте определялась последовательность работы типографа при выполнении контракта. В контракте на издание Октоиха in folio и Триоди цветной 1685 г. типографу указывалось, что сначала ему следует печатать на двух прессах Октоих, который должен быть издан тиражом «в номерах штук 200».
В контрактах оговаривалось и художественное оформление книги, и какими красками делать оттиски, на какой бумаге. Расчеты с типографом производи-лись, как правило, исходя из цены на книгу, и братство платило определенную цену с каждого экземпляра тиража. Например, в упомянутом выше контракте 1685 г. за каждую книгу Октоиха Семену Ставницкому братство должно было заплатить по два злотых, а общая сумма за работу, исходя из предполагаемого тиража в 200 экземпляров, должна была составить 400 золотых, но с этой сум-мы «сам пан Симеон должен себе покупать материю и потребы к типографии належачие», а также питание (strawu) и жалование («заплату») челяди (в типо-графии работало от трех до шести челядников — пилкари, которые покрывали типографские формы краской, и играсари, которые печатали тираж).
Все расходы на типографию типограф должен записывать в свой реестр, а дозорец типографии от братства — в свой, ведя список расходов «каждый сво-ей рукой, чтобы по тем счетам ни одной утечки не было». Сверх установленной оплаты братство (ad rutione), как правило, давало для распространения неко-торую часть отпечатанных книг, с условием, что продавать их будут по ценам не выше установленных братством: «для уконтрактованя, как пану Симеону, так и челяди позволяем выдать... книг 40..., от которых платить (братство. — Ю. Ш.) не должны будут», причем стоимость бумаги будет вычтена из жалова-ния типографа. Распоряжаться этими книгами должен был Семен Ставницкий, «он сам, согласно годности каждого (из челяди. — Ю. Ш.), яко считать будет должен» распределить книги между работниками типографии1. Таким спосо-бом братство давало возможность дополнительного заработка типографу, а особенно «челяди», а также способствовало более быстрому распространению своих книг.
Еще одним из обязательных условий договора, составленным членами брат-ства, было указание типографу, что он «бумагу и литеры церковные и челядь не должен укрывдить (портить, обижать. — Ю. Ш.)». По окончании работы типограф должен был вернуть братству все материалы по реестру, «чтобы ни-чего не делал на стороне на матрицах церковных»2. Типограф отвечал за обо-рудование типографии и все типографские материалы, он должен был следить за тем, «чтобы челядь не брала бумагу, чтобы не было разногласий потом в реестрах»3.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 4 об. — 5.2 Там же. Л. 5.3 Там же. Л. 8 об. — 9.
307§ 5. Контракты
Жалование типографа могло включать в себя и оплату продовольствия и все мелкие расходы по типографии или эти расходы братство не оплачивало. Например, в контракте 1680 г. с Семеном Ставницким на издание Служебника сказано, что братство должно обеспечить печатника типографским оборудо-ванием, литерами и бумагой, а когда книга будет напечатана — заплатить по одному золотому с каждого экземпляра тиража, а в контракте 1682 г. — «долж-на быть моя работа и мой уклад»1. Под этим контрактом обязательна была соб-ственноручная подпись типографа. Такая форма договоров использовалась при необходимости допечатать тираж книги2.
Иногда в контракт включались требования к соблюдению правил поведе-ния. Например, Семен Ставницкий в контракте 1680 г. обязуется сам, равно как и его «челядь», быть трезвым в типографии и на кладбище церковном, не кричать, не шуметь, вести себя достойно и спокойно, без всякой ругани и скан-далов3. В контракте с Василием Ставницким за 1699 г. выдвигается требование, чтобы в типографии не бывала его жена, под угрозой лишения его всей при-читающейся за работу суммы денег4.
Контракты заключались в обязательном порядке на каждое издание, хотя братство сотрудничало с одним и тем же типографом в течение десятилетий и условия работы в основном оставались неизменными. Начиная сотрудничать с новым типографом, братство готовило обстоятельные контракты, в которых скрупулезно описывались все детали и условия будущей работы, ее оплаты, наказаний в случае невыполнения какого-либо пункта договора. Со своими постоянными мастерами братству не было необходимости подробно оговари-вать условия соглашений, ставшие нормой их сотрудничества. Поэтому часто в сокращенных редакциях контрактов оговаривались только главные момен-ты нового соглашения, такие, как название нового издания, размер книги, ти-раж, какая книга должна была служить в качестве образца и размер оплаты за работу.
Ценные сведения, которые дает «Книга контрактов» о типографах, об их взаимоотношениях с владельцами типографии, о технологии книгопроизвод-ства, о профессиональной этике, о самих книгах, изданных за этот период, го-ворят о большом информационном потенциале этого источника.
* * *Интерес представляет контракт братства с типографами Яковом
Паславским и Михаилом Яблонским от 28 октября 1765 г.5 Это последний из
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 2 об., 3 об.2 Там же. Л. 8.3 Там же. Л. 2.4 Там же. Л. 21.5 Там же. Д. 999.
308 Глава 3
сохранившихся контрактов, благодаря которому мы можем узнать имена ти-пографов, сотрудничавших с братством. Контракт на издание «Каноника, in 12» был составлен в соответствии с принятыми традициями оформления та-кого рода документов, за исключением того, что не был указан тираж издания. Особо подчеркивались в контракте требования братства к качеству работы «чтобы дефектов не было», а в случае обнаружения брака «дефекты даром доработать должны будут». Также в контракте отмечается, что типографы не должны печатать «прикладки» то есть книги сверх оговоренного тиража для себя, так как за «прикладки сурово были бы наказаны»1. Имена этих типо-графов не указаны в каталогах старопечатных изданий2. Такой текст контрак-та позволяет сделать вывод, что соглашение с этими типографами братство подписывало впервые. На этом же листе есть приписка от 11 марта 1767 г., что на таких же условиях и «под теми же обязательствами» Яков Паславский и Михаил Яблонский начали печатать Полуустав, который был издан 16 февра-ля 1768 г. под заглавием «Молитвослов, содержащий часы правления на всяк день»3.
Некоторые контракты содержат сведения о не сохранившихся до наших дней изданиях братской типографии. Например, согласно записям типогра-фа Семена Ставницкого в контракте от 3 июля 1677 г., он закончил печатать «Часословник» тиражом в 2000 экземпляров в 1677 г.4 Это издание не сохра-нилось, но на основании источников из архива Львовского братства было включено в каталоги старопечатных книг Я. Д. Исаевичем5. Сохранившиеся контракты и другие документы о деятельности типографии братства по-зволили реконструировать перечень книг, изданных во второй половине XVII — первой половине XVIII в. Это такие не дошедшие до нас издания, как Молитвенничек 1696 г.6; Полуустав in quarto, изданный тиражом 1500 экзем-пляров в 1701 г.7; Часослов, тираж 2000 экземпляров, 1701 г.8; Грамматика,
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 1.2 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 2. № 2412.3 Там же. № 2496.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 709. Л. 1—2.5 Львівські видання XVI—XVIII ст.: Каталог / Уклав Я. Д. саєвич. Львів, 1970. № 67 (Ис-
точник: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 363); № 551.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 18; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 405, 274.
Львівські видання XVI—XVIII ст. № 100; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 1. № 704.
7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 21 об. — 22; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 411, 412. Львівські видання XVI—XVIII ст. № 114; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжко-вого мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 765.
8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 22 об.; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 412. Львівські видання XVI—XVIII ст. № 113; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 769.
309§ 5. Контракты
тираж 6000 экземпляров, 1701 г.1; Часослов малый, тираж 1290 экземпляров, 1704 г.2; Молитвенничек, тираж 2000 экз., 1705 г.3; Часослов малый, заказан-ный типографу тиражом 1500 экземпляров, а изданный тиражом 2995 экзем-пляров в 1710 г.4; Полуустав, тираж 2000 экз., 1711 г.5; Триодь цветная, тираж 2000 экз. 1714 г.6; Молитвенничек малый, тираж 1920 экз., 1716 г.7; Часослов, тираж 2985 экз., 1719 г.8; Полуустав, тираж 2000 экз., 1720 г.9; Каноник и акафи-сты in octavo, тираж 1000 экз.10; Часословец in octavo, тираж 1200 экз., 1752 г.11; Часословец, тираж 2500 экз., 1752 г.12
В книге контрактов содержатся сведения еще о двух изданиях братской типографии, не известных современной библиографии. 12 июля 1704 г. брат-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 22 об.; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 413. Львівські видання XVI—XVIII ст. № 112; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 763.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 24 об.; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 415, 416. Львівські видання XVI—XVIII ст. № 121; Максименко Ф. П. Кириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у львівських збірках (1574—1800). Львів, 1975. № 67; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 800.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 25; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 417. Кара-таев И. П. Хронологическая роспись славянских книг, напечатанных кирилловскими бук-вами: 1491—1730. СПб., 1861. № 1232; Львівські видання XVI—XVIII ст. № 123; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 811.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 26 об.; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 420. Львівські видання XVI—XVIII ст. № 131; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 863.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 27; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 421. Львівські видання XVI—XVIII ст. № 132; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 866.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 27 об.; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 328, 334, 422. Львівські видання XVI—XVIII ст. № 134; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжко-вого мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 897.
7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 28; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 424, 425. Львівські видання XVI—XVIII ст. № 137; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 913.
8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 30 об.; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 429. Львівські видання XVI—XVIII ст. № 142; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 956.
9 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 32 об.; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 432. Львівські видання XVI—XVIII ст. № 146; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 974.
10 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 37 об. Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 1396.
11 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 39 об.; Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Кн. 2. Ч. 1. № 1796.
12 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 40 об. — 41.
310 Глава 3
ство заключило контракт с типографом Василием Ставницким на издание «Псалтирки малой in 12» тиражом 1500 экземпляров. Книга была отпечатана в 1705 г. тиражом 2000 экземпляров1. Контракт на издание «Грамматики» или Букваря тиражом 6000 экземпляров был заключен с Василием Ставницким 4 мая 1723 г.2 Это были одни из самых популярных изданий, которые братство часто переиздавало, причем довольно большими тиражами, предназначенных для обучения детей. Эти книги продавались по небольшой цене и не залежи-вались на книжных складах и в книжных лавках братства.
Одной из важнейших частей технологии изготовления книги являются шрифты. Братство внимательно следило за сохранностью своих шрифтов, которые выдавало строго по счету или по весу. Шрифт был разных размеров (письмо схоластичное, охтайное, триодное и др.). Время от времени шрифты переливались в литейной мастерской при типографии братства3. С мастерами по изготовлению шрифтов братство заключало контракт, но до наших дней со-хранилось только несколько таких договоров. Это — контракт братства c «ма-гистром kunsztu gisarskego» Станиславом Вурбо на изготовление «письма, на-зывающегося Трефолоя» от 20 марта 1721 г.4 и контракты с жовковским сло-волитцем «старозаконным» Ароном Давидовичем на изготовление шрифтов 1730, 1731 и 1733 гг.5 В контракте оговаривались размер необходимого шрифта (название) и плата за работу.
Большое значение братство придавало художественному оформлению из-даваемых книг. Для изготовления заставок, концовок, рамок, иллюстраций приглашались лучшие мастера. По подсчетам И. П. Крипьякевича, в 1671 г. в типографии братства было 1022 доски для печатания гравюр6. При издании книги использовались и ранее изготовленные гравюры, например, некоторые доски Ивана Федорова к концу XVII в. выдержали по 50—60 тысяч оттисков. Но особое внимание братство уделяло изготовлению нового иллюстративного материала, и во второй половине XVII в. по заказу братства было изготовле-но 375 новых досок7. К сожалению, до наших дней дошел лишь один контракт
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 24 об.2 Там же. Л. 34 об.3 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст.
С. 182.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 33 об.5 Там же. Д. 919. Л. 1—2, 3—4; Д. 1106. Л. 37.6 Крип’якевич І. П. До історії львівської гравюри в XVII в. // Бібліологічні вісті. 1927. № 1.
С. 81.7 Гусева А. А., Полонская И. М. Предисловие. // Украинские книги кирилловской печати
XVI—XVIII вв.: Каталог изданий, хранящихся в Гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина. Вып. II. Ч. 2. С. 5.
311§ 5. Контракты
братства с выдающимся гравёром своего времени, активно сотрудничавшим с братством, — монахом Креховского монастыря Никодимом Зубрицким от 5 февраля 1691 г., чтобы он «фигуры новые делал» для Служебника, издан-ного 23 сентября 1691 г.1 Сохранилось письмо братству монаха Креховского монастыря гравера Дионисия Сенкевича от 8 декабря 1691 г. с напоминанием о необходимости выплатить деньги граверу Никодиму Зубрицкому, согласно контракту, за изготовление ксилогравюры2.
Значительной группой контрактов, относящихся к издательской деятель-ности братства, являются договоры с купцами о доставке бумаги для изда-ния книг и контракты с владельцами бумажных мельниц. Сохранились та-кие контракты за период 1680—1770 гг. Братство чаще всего само посылало кого-либо из своих членов покупать бумагу. Обычно братство покупало бу-магу в Гданьске3, ее привозили водным путем по Висле и Сану на собствен-ных судах4. В 1700 г. братство добилось разрешения беспошлинного провоза бумаги из Гданьска5. Но братчики не всегда имели возможность доставлять бумагу для нужд типографии. В таких случаях братство заключало контракты с польскими купцами, которые должны были купить бумагу и доставить ее во Львов. Бумага, купленная купцами, обходилась братству значительно дороже. Сохранились контракты с гданьским купцом Гергольдом Готфридом (1680, 1693 гг.) на доставку бумаги и его расписки в получении денег6 и контракты с купцами из Вроцлава Иоганном Либшвагером 1721 г., Яковом Китом 1726 г., Маеровичем 1743 г.7
Особый интерес представляет единственный в своем роде контракт меж-ду братством и владелицей бумажной мельницы в селе Зашково Агнешкой Тучинской от 1 февраля 1770 г. Особенность этого контракта в том, что он составлен от имени сына Агнешки Тучинской львовского викария Викентия Тучинского. В соответствии с условиями соглашения на зашковской бумаж-ной мельнице должна была быть изготовлена белая бумага высшего качества «согласно показанной пробе» в количестве 300 риз, причем заказ должен был быть выполнен в течение двух месяцев («после пасхальных праздников вы-давать обязуется»). За каждую ризу бумаги братство обещало заплатить по 10 злотых, причем было оговорено, что в ризе должно быть 20 книг (liber), а в книге — 25 листов, а «если будет много дефектов, либо листов испорченных,
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 11 об.2 Там же. Д. 760.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 736, 914.4 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст.
С. 182.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 751.6 Там же. Д. 1107.7 Там же. Д. 807, 880, 958.
312 Глава 3
за то, в рамках договора, Тучинская другой дать должна»1. Этот контракт яв-ляется еще одним ярким свидетельством высоких требований, которые брат-ство предъявляло к себе и ко всем мастерам, принимающим участие в изда-тельстве книг братской типографии.
Изучая контракты братства с типографами и другими мастерами, сотруд-ничавшими с типографией, можно узнать технологию издательского дела, по-лучить уникальную информацию о типографах, граверах и других работниках типографии, а также об условиях и размерах оплаты труда, истории создания отдельных изданий. Контракты позволяют получить сведения о тиражах изда-ваемых книг, дополнить каталоги старопечатных книг информацией о не сохра-нившихся до нашего времени изданиях, узнать имена типографов, стараниями которых были отпечатаны те или иные книги в типографии Львовского брат-ства. На основании контрактов можно проследить пути поступления бумаги для печатания книг, условия доставки и оплаты, оговариваемые братством при заключении договоров с купцами. Необходимо отметить, что весь комплекс сохранившихся контрактов, связанных с деятельностью типографии, написан на польском языке. Это является интересной особенностью именно в связи с данной группой контрактов, так как в типографии братства издавались книги исключительно на церковно-славянском языке, а предисловия, послесловия, посвящения к этим изданиям писались на украинском. Лишь изредка в тексте контракта название книги было написано кириллицей. Это говорит о том, что со второй половины XVII в. польский язык постепенно вытеснял украинский язык из повседневного обихода, хотя часто в текстах украинские слова записы-вались польскими буквами или на польский манер.
Интересны договоры братства с ремесленниками. Такие контракты состав-лялись, как правило, в тех случаях, когда заказывалась большая партия товара или большие по объему работы. Например, в 1698 г. был заключен контракт между братством и гончарами Станиславом Новаковичем и Иваном Грушецким на изготовление черепицы2. Контракты с ремесленниками и купцами часто являлись основными документами в возникавших конфликтах между сторо-нами или их посредниками3. Особый интерес представляет комплекс судеб-ных материалов 1780—1794 гг. по делу о нарушении Юрием Пеньком контрак-та с братством о покупке медной жести со сгоревшей колокольни Корнякта4. Эти контракты являются не только ценными источниками по истории реме-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1002.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 748.3 Там же. Д. 1211.4 Там же. Д. 1018. Л. 1—8.
313§ 5. Контракты
сел, торговли, экономических отношений в обществе, но и свидетельствуют о высоком уровне правовых отношений среди горожан в XVII—XVIII вв.
В архиве братства сохранился комплекс контрактов, связанных с покупкой и сдачей в аренду недвижимого имущества. Братство имело большой автори-тет у народа, его деятельность во многих сферах пользовалась поддержкой сре-ди украинского населения, поэтому многие состоятельные люди считали делом чести пожертвовать братству довольно крупные суммы денег, чтобы поддер-жать те начинания и те дела, которыми занимались члены братства. Завещали братству не только денежные суммы, но и недвижимость, которая могла слу-жить постоянным источником дохода. Часто члены братства сами вкладывали деньги в покупку недвижимости. В результате таких дарений, завещаний, при-обретений организация стала собственником нескольких земельных участков, фольварков и каменных домов в черте города. Сохранился комплекс контрак-тов о сдаче в аренду собственности братства в основном XVIII в. Эти контрак-ты — ценные источники по истории братства как земле- и домовладельца, а также интереснейшие источники по истории быта, взаимоотношений людей, особенностей городской жизни в XVIII в.
Интерес представляет заключенный 12 июня 1732 г. «контракт и неизмен-ное постановление» между «шляхетным братством Ставропигийским и про-визорами монастыря Св. Онуфрия» и Станиславом Своровским на аренду сада при Онуфриевском монастыре. Кроме оговоренной платы, в контракте как основное требование к арендатору отмечается, что «урожай должен соби-рать аккуратно, не ломая деревьев»1. Сведения о саде имеются с середины XVII в., когда в нем выращивали яблони. Огород при Онуфриевском монасты-ре известен с XVI в. Сохранились привилеи короля Сигизмунда I от 10 июля 1522 г. и 18 сентября 1524 г. на уменьшение арендной платы от огорода2, под-твержденные 4 февраля 1649 г. королем Яном Казимиром3. Возможно, уже с этого времени здесь выращивали плодовые деревья. Однако только с начала XVIII в. сад приобретает свою ценность именно как специально возделывае-мый садовый участок, в котором растут разные, часто весьма редкие и даже экзотические для того времени деревья, приносящие существенный доход. Известно, что модным для начала XVIII в. садоводством увлекался Юрий Илляшевич. Он был весьма состоятельным человеком и мог себе позволить такое увлечение. Он покупал по весьма высокой цене — 1 злотый — саженцы слив, яблонь, груш, абрикосов, черешен и даже грецких орехов (плоды послед-них ценились весьма дорого и продавались поштучно), сажал деревья в соот-ветствии с последними достижениями в садоводстве того времени, и вскоре
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 927.2 Там же. Д. 3, 4. Опубл.: MCS. P. 4—5, 6—7.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 587.
314 Глава 3
сад стал приносить прибыль. В 1724 г. одна из культур принесла 150 злотых1. Это объясняется тем, что фрукты ценились очень дорого и были доступны только состоятельным людям. Поэтому к саду в XVIII в. братчики относились как важной статье доходов и старались сохранить то, что было сделано Юрием Иляшевичем.
Такой же по своей форме и значению, как договор на аренду сада, — кон-тракт на аренду пруда 1713 г. в с. Выжняки. Пруд также приносил существен-ную прибыль братству. Сохранился, однако, лишь черновик соглашения2.
Но наиболее активно в аренду в XVIII в. братство сдавало свою недви-жимость в черте города. Сохранились контракты о сдаче в аренду кварти-ры в братской каменице (1750 г.); о трехлетней аренде Иолем Мейерковичем «Балабановской» каменицы «и квитанции об уплате арендной платы за 1778—1787 гг.»3; об аренде помещения для склада земских актов, перевезен-ных из Люблина во Львов4. Условия контрактов с арендаторами помещений в братских каменицах содержатся в книге прибылей от камениц, веденной в 1725—1730 гг.5, и в одной из приходно-расходных книг за 1758—1779 гг.6, в ко-торых записывались полученные от арендаторов суммы по каждой каменице, принадлежащей братству.
Особую группу составляют контракты о покупке недвижимого имущества братством и его членами. Сохранились договоры между прокурором епископ-ской курии Антоном Левинским и Бернацким о купле-продаже части фольвар-ка «Габриелевка» 1752 г.7, о покупке братством в 1765 г. у Анны и Павла Яковичей «Русяновичевской» или «Лавришевичевской» каменицы8 и др. Интересно, что в архиве братства сохранились контракты о купле-продаже домов бывшими вла-дельцами недвижимости. Это — документы о покупке священником Иваном Пясецким двора «Бродова» у супругов Зайдельшвертов за 1770—1772 гг., тогда как двор стал собственностью организации только в 1795 г.
Весь комплекс контрактов (договоров, трудовых соглашений) является ин-тереснейшим, весьма разносторонним по своей тематике видом источников. Контракты отличаются лаконичностью формы и точностью излагаемых в них фактов. Это вид источников, содержащий интересную информацию по эконо-мической истории, истории искусства, архитектуры, ремесел, торговли, быта, развитии правовых отношений в конце XVI—XVIII вв.
1 Шараневич И. И. Юрий Ельяшевич. С. 22—23.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1218.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1016. Л. 1—34.4 Там же. Д. 995.5 Там же. Д. 1160.6 Там же. Д. 1186. Л. 1—22.7 Там же. Д. 964.8 Там же. Д. 997.
315§ 6. Финансово-отчетные документы
§ 6. Финансово-отчетные документы
Значительную часть архива братства составляют реестры приходов и рас-ходов. Это один из самых сложных в использовании видов источников по истории братства и в то же время один из самых информативных. Члены братства с особой скрупулезностью следили за состоянием своей казны, по-этому все источники поступлений в казну и статьи расходов тщательно фик-сировались, вплоть до самых мелких и незначительных сумм. Сохранились реестры приходов и расходов практически за весь период деятельности брат-ства. Особенность источников этого вида состоит в том, что в них получили отражение практически все стороны жизнедеятельности братства и город-ского сообщества конца XVI—XVIII вв. Феномен приходно-расходных книг Львовского братства заключается в том, что они являются яркими свидетель-ствами повседневной жизни людей — ведь в многочисленных самых разных по своему характеру и тематике записей получили отражение многочислен-ные повседневные заботы людей. В скрупулезных финансовых записях этих документов можно проследить динамику политической, общественной, рели-гиозной, культурной жизни горожан XVII—XVIII вв., почувствовать, как на смену праздникам приходили будни, чем отличались заботы горожан в лет-ний период от зимних, и многое другое. Особенность этих источников состо-ит еще и в том, что они обладают высокой степенью достоверности, так как велись для себя, для отчетности перед своими товарищами, без стремления исказить или завуалировать что-либо, в них фиксировались действительные цифры, факты, события.
Интересно, что первый историк Львовского братства Д. И. Зубрицкий, буду-чи архивистом, который впервые систематизировал Ставропигийский архив, не придавал этим источникам большого значения. В заголовках к этим докумен-там он часто отмечал: «Записки историчне без вартости», «Без вартости», «Без исторической вартости»1, но для некоторых реестров вердикт был более мяг-ким: «Записки небезинтересни»2. Другой историк Львовского братства и член Ставропигийского Института И. И. Шараневич высоко оценил значение источ-ников этого вида. Он готовил к публикации четвертый том «Юбилейного изда-ния в память 300-летнего основания Львовского Ставропигийского братства», где предполагалось опубликовать «счеты и сессийные протоколы»3. Однако осуществить этот проект Шараневичу не удалось. В качестве приложений к очеркам о деятельности членов Львовского братства Николая Красовского и Юрия Илляшевича Шараневич опубликовал выдержки из приходо-расходных
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1062, 1065, 1080.2 Там же. Д. 1067.3 Шараневич И. И. Николай Красовский. Львов, 1895. С. 10.
316 Глава 3
книг братства и реестров продажи книг, чтобы «подать примеры культурной и исторической важности тех записок»1.
Публикацию приходо-расходных книг Львовского братства осуществил А. С. Крыловский2. Однако в них имеются большие пропуски текстов доку-ментов, которые объяснялись так: «Следуют подробные записи расходов, ко-торые по не важности опускаются»3. Попытку источниковедческого анализа приходо-расходных реестров как одного из основных видов источников по истории общественно-политической и культурной деятельности братства предпринял Я. Д. Исаевич4. Однако комплексное источниковедческое исследо-вание реестров приходов и расходов Львовского братства с целью вовлечения в научный оборот этих чрезвычайно информативных источников до сих пор не проводилось.
Как правило, приходо-расходные книги вели старшие братчики или «скарб-ники» для финансового отчета перед братством. Такие реестры носят всеобъ-емлющий характер и в них содержится информация о самых разных сферах деятельности братства. Приходо-расходные книги составляли также «дозор-цы» или «провизоры», в ведении которых была одна из сторон деятельности братства: «дозорцы» следили за строительными работами, «провизоры» — госпиталя, школы, Онуфриевского монастыря, продавцы книг отвечали за вырученные от продажи книг денежные суммы и часто за текущие расходы братства, и «провизоры» отвечали за ведение дел в типографии братства. Чаще всего братчик, на которого были возложены обязанности, связанные с финан-совыми операциями, вел свою книгу, где записывались полученные в его рас-поряжение суммы и нужды братства, на которые они были потрачены. Эти за-писи являлись основной формой отчетности на элекционных собраниях. Такие книги велись либо регулярно, то есть записи в них производились после каж-дой финансовой операции, либо составлялись на основании черновых запи-сей перед собранием, на котором давался отчет перед членами братства, и эта книга передавалась братству на хранение. Вот как об этом говорится в одном из реестров: «Року 1649 дня 16 ап реля п. Андрей Стрелецкий учынил раху-нок публичный пред пп. братиями з шафованы суммы церковнои ведле того поданого реиестрику, рукою их подписаного, з того рахунку тако и Андрееви Стрелецкому на що и котры дали. А реестр тот зоставели до секвестру»5.
В истории братства было несколько случаев, когда братчик, заведовавший финансовыми делами, умирал, не оставив финансового отчета о вверенных
1 Шараневич И. И. Юрий Ельяшевич. С. 11.2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11, 12.3 Там же. Т. 11. С. 689, 691.4 Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму XVI—XVIII ст.
Київ, 1972. С. 30—31.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1062. Л. 12 об.
317§ 6. Финансово-отчетные документы
ему денежных суммах, и тогда на основании его черновых записей составляли отчет о его деятельности. В 1663 г., после смерти Матвея Федоровича, на осно-вании его черновиков «касса, и прыходы, и росходы, и мембрамы, и церогра-фы, и вhдеркавфи, и мурованя госпиталя... и заставы» по общему решению членов братства было принято решение о подготовке финансового отчета: «реiестр одберhмо, зревhдуймо, злhквhдуймо, такы прыходов, яко и рос-ходов, и домов»1. Все записи Матвея Федоровича были упорядочены старшим братчиком Павлом Лавришевичем2. После смерти Петра Семяновича реестры приходов и расходов братства за 1716—1719 гг. восстановил его сын3. В 1779 г. были восстановлены финансовые счета за 1762—1779 гг., оставшиеся у наслед-ников покойного провизора Василия Иляшевича4.
Члены братства добросовестно относились ко всем обязанностям и особен-но к делам, связанным с братской казной. Держать отчет перед «всеми пана-ми братиями» было делом чести для каждого. За всю историю братства было только два случая, когда члены братства пытались уклониться от финансовой отчетности. В 1644 г. старший братчик Роман Стрилецкий отказался от отче-та перед братством. Братство возбудило против него судебное дело, обвинив его в злоупотреблении своим положением5, и даже прибегло к вмешательству короля Владислава IV, выдавшему специальный мандат Магистрату Львова, которому следовало указать сеньору Роману Стрилецкому отчитаться о прихо-дах и расходах за период ведения им кассовых книг братства6. Судебное разби-рательство тянулось несколько лет и закончилось в 1648 г.7, но еще до вынесе-ния окончательного решения городского суда братство снова доверило Роману Стрилецкому заниматься финансовыми делами8. В 1723 г. братство возбуди-ло судебное дело против самовольного присвоения звания сеньора Степаном Лясковским, злоупотребления им своим положением и самовольных реше-ний в финансовых делах организации9. Протестация братства рассматрива-лась специально созданной для расследования финансовых споров братства
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1083. Л. 1—1 об.2 Там же. Д. 1079. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 459—467.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1153.4 Там же. Д. 1192.5 Там же. Д. 565.6 Там же. Д. 567. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. При-
ложения. № 62. С. 125—127.7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 578. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 552—561.8 Там же. Д. 1062.9 Там же. Д. 828. Л. 1—28. Опубл. (частично): Юбилейный сборник в память 350-летия
Львовского Ставропигиона: Материалы, относящиеся к истории Львовского Ставропигио-на в 1700—1767 гг. Львов, 1936. Ч. 1. № 57—61. С. 57—67.
318 Глава 3
и Лясковского комиссией Папской нунциатуры в Варшаве1 и Львовской епи-скопской курией2. Львовская Консистория приняла решение об отлучении от церкви Степана Лясковского3, которое было оспорено. Комиссия Папской нун-циатуры отстранила Степана Лясковского от ведения дел в братстве4. Эта тяж-ба имела для братства серьезные последствия. До сих пор никто не имел права вмешиваться в его внутренние дела. Братство было полностью самостоятель-ным, не подчинялось ни церковным, ни городским, ни государственным орга-нам власти. В 1725 г. Папская нунциатура в Варшаве издала декрет, согласно ко-торому организации надлежало подавать отчеты о финансово-хозяйственной деятельности в нунциатуру5. Несмотря на протесты братства против этого ре-шения, нунциатура неоднократно проверяла его финансовую отчетность6. Во второй половине XVIII в. реестр расходов подавался комиссарам нунциатуры на ревизию, проверенный реестр подписывал комиссар, после чего «провизор» братства начинал «новую калькуляцию»7. Это позволило католической церк-ви предпринимать попытки вмешательства во внутренние дела братства, но оно как никогда ранее отстаивало свое право ставропигии, подтвержденное папским бреве, и не позволяло никому контролировать какую-либо из сторон своей деятельности.
Записи в финансовых реестрах братства носят повествовательный харак-тер. Обычно в начале книги приводился перечень доходов или сумм, которые выдавались братчику из братской казны. Доходы братства в основном состав-ляли прибыли от продажи книг, издаваемых в братской типографии, от сдачи в аренду недвижимости, пожертвования, доходы от церковных обрядов, особен-но «позвонов». Иногда «провизоры» указывали, какая сумма им была выдана из братской казны. В архиве сохранилась специальная книга за 1758—1774 гг., где провизоры расписывались о получении денег из кассы, которой заведовал вице-сеньор8. Каждая запись включала в себя указание даты поступления или расхода определенной денежной суммы (как правило, с точностью до месяца),
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 829, 830, 833, 834, 836-838, 842, 844, 850, 877, 882, 883, 888, 894. Опубл.: № 60—64, 80. С. 64—72, 132—133.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 845—847, 851, 852, 862, 867, 887. Опубл.: (ча-стично): Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. № 69, 70. С. 79—92.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 841. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. № 65. С. 72—73.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 874. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. № 76. С. 125—126.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 872. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. № 73. С. 115—120.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 871, 922, 942, 1199.7 Там же. Д. 1186. Л. 25 об., 26.8 Там же. Д. 1188.
319§ 6. Финансово-отчетные документы
обозначения, кому и в связи с чем была выдана сумма и ее размер, иногда в конце страницы указывалась итоговая сумма («на сей страницh сумм зло-тых...», «summariusz»), а следующая страница начиналась с указания преды-дущей итоговой цифры. Подсчет баланса приходов и расходов производился, как правило, раз в году; если элекции в братстве проводились реже, то и под-ведение баланса тоже откладывалось. Формуляр реестров оставался практи-чески неизменным в течение всей истории братства. Для примера — отрывок из одного из ранних реестров «выдання на тр¿hбу монастырскую и госпи-тальную» 1594—1595 гг.: «За кадило до церкви далем грош 5. За огорки до госпиталя далем грош 5. С чиншовых пhнязей далем попови монастырскому овцу и одну пол золотого. Далем до госпиталя за соль грошей пяти.»1. Также составлялась приходо-расходная книга за 1654—1656 гг.: «Выдаток п. Павла Прокоповича на протестацию гды мы заносили в замку напрод от сукцепты, то есть от принятия протестации до кзот — 2-12 (2 злотых 12 грошей — Ю. Ш.). Подпискови, що писал протестацию и выписал з кзот далось 3. От печати тых протестаций — 1-24. Выдаток до дверей до школы мулярем напрод за сто цеглы з перевозом — 2-28.». Во второй половине XVII в. все реестры, как и другие делопроизводственные документы, составлялись на польском языке. В XVIII в. названия книг и заголовки к рубрикам писались на латинском, а основной текст — на польском языках; часто эти языки смешива-лись — например: «Regestra Percepty y Expensy ad pana Bielawskiego prowisora dobr cerkwi Stauropigialney Lwowskiey 1783—1788 podana... 5 obris 1783 Anno na rożne reparacyę tak stanciy do cerkwi Stauropigię Lwowskiey należących, jako też y szpitalu S.Onofrego. Na drwa y legomine dla bursy 7 obris 1783 Anno»2.
Классифицировать реестры приходов и расходов братства довольно слож-но, так как, несмотря на общую цель, ради которой составлялись эти доку-менты, каждый новый автор документа решал по-своему способы фиксации информации. Можно сказать, что проблемы авторства для источников этого вида наиболее актуальны. Однако реестров с указанием имени братчика, кото-рый их вел, сохранилось намного меньше, чем реестров «безымянных» (при-мерно из 130 сохранившихся реестров приходов и расходов «авторские» книги составляют 50 ед. хр.). Реестры отличаются не только манерой ведения запи-сей, стилистикой, но главным образом — тематикой или кругом вопросов, за которые отвечал тот или иной братчик (должностями, которые он занимал). В связи с тем что один и тот же человек часто совмещал в братстве несколько должностей, реестры расходов, которые он вел, также отражали разные сферы деятельности братства. Например, финансовая книга братства за 1646—1685 гг. содержит реестры доходов от продажи книг братской типографии и расходов на содержание школы и церкви, в том числе выплаты «квартальной» платы
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1041. Л. 1 об.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1197. Л. 1, 5 — 5 об.
320 Глава 3
священникам1; книги прибылей от продажи книг и расходов на школу, типо-графию и Успенскую церковь за 1700—1704 гг.2; книга приходов и расходов, которую вел Степан Лясковский, содержит записи о доходах от продажи книг за 1713—1721 гг., хозяйственные расходы на церковь, расходы на разные по-сольства братства, реестры выдачи бумаги на издание книг и расходы на типо-графию 1715—1718 гг.3
Весь комплекс сохранившихся реестров приходов и расходов можно услов-но разделить на группы:
1) реестры, содержащие записи наиболее общего характера;2) реестры, в которых записи имеют целевое назначение (расходы на госпи-
таль, типографию, церковь и т. п.). Все приходо-расходные книги братства можно классифицировать по соста-
ву финансовых записей в реестрах:1) реестры, содержащие записи о приходах в братскую казну и расходах;2) реестры, содержащие записи только о расходах братства;3) реестры, содержащие записи только о доходах братства.Доля записей о расходах существенно преобладает как в общей массе рее-
стров, так и в отдельно взятой приходо-расходной книге.Наиболее удобной для источниковедческого анализа этих документов пред-
ставляется тематическая классификация. Однако нужно учитывать, что такой принцип классификации достаточно условен, так как тематика записей в рее-страх часто пересекается. Из всего комплекса сохранившихся реестров можно выделить следующие тематические группы:
1) общие реестры приходов и расходов;2) реестры приходов и расходов на ремонтно-строительные работы;3) реестры приходов и расходов на содержание Онуфриевского монастыря,
госпиталя и школы;4) книги продажи книг, изданных в типографии братства, и расходов.Реестры приходов и расходов, которые можно отнести к общим расходам
братства, являются самыми сложными в использовании. Часто в них можно найти разнообразные сведения, отражающие практически все сферы деятель-ности братства и общества XVII—XVIII вв. Реестры XVI в. не сохранились, до нас дошел только титульный лист одной из таких книг, датированный 1592 г.: «Сия книга братства храма Успения Пречистыя Богородица гражан львов-ских милостыне ради, да всях подаястую милостыню напишется книгах сих в вечную память и сего ради печать братства нашего в уверение приложиле мы и подписалися месяца июня року 1592»4. Вероятно, это была книга сбора
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1060.2 Там же. Д. 1145. Л. 1—17; 1146. Л. 1—12.3 Там же. Д. 1152. Л. 1 об., 2—5, 5 об., 6 об. — 10.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1 Д. 1038. Л. 1.
321§ 6. Финансово-отчетные документы
пожертвований на восстановление Успенской церкви и заведена она была не с целью фиксации финансовых поступлений, а как памятная книга «фундато-ров», внесших свою лепту в восстановление храма.
Общий реестр приходов и расходов, сохранившийся полностью, — кни-га за 1605—1607 гг. В начале книги помещен «реестр приходу церковного» 1605—1606 гг.1, после чего «с тых грошей, що колвек приходит тот есть расход»2. Такую структуру имеет большинство реестров. В этом реестре со-держатся сведения о расходах на ремонтные работы Успенской церкви, коло-кольни Корнякта, Онуфриевского монастыря, дома священника. Перечислены в том числе расходы на изготовление церковной утвари, например, мирницы: «Дали зробити фляшку срhбрную на мvро святое, срhбра церковного дробно-го так з кгдукатов як и з цяток и иншого дробязку. Того было сребра гривна 1 и лутов 3, а тая фляшка важит гривен две и лутов 5»3. В этом реестре содер-жатся важные сведения о ведении делопроизводства в братстве («Писарчиком, що листы росписовали, дали грошей 12»), об отправке корреспонденции брат-ствам в разные города («До Виленского братства курсорови лист посылаючи, дали му грошей 6», «Выросткови от писаня листов до Волох — грошей 15»4).
С середины XVII в. реестры приходов и расходов назывались соответственно «Regestr Percepty» и «Regestr Expensy». В 1733 г., согласно декретам Конгрегации по распространению веры и Папской нунциатуры, братству предписывалось подавать отчеты о финансовой деятельности комиссии Папской нунциатуры в Варшаве. Специально для этого была подготовлена книга, которая впоследствии получила название «Генеральная книга приходов и расходов Ставропигийского братства» («Liber cassae in quo generales Introitus... In quali Summa, a quo percepti, et cui dali conotari Debent et inscribi Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis Ritus Graeco Rutheni Uniti»5). Красивым почерком в ней были расписаны назва-ния всех рубрик — основные источники доходов и расходов братства. Братство не хотело попадать в финансовую зависимость от церковных властей и ока-зывало всяческое сопротивление любым попыткам нарушения его прав. Оно сумело отстоять свою финансовую независимость, и в 1733 г. предполагаемый финансовый отчет составлен не был, поэтому «Генеральная книга приходов и расходов» так и осталась заполненной только наполовину. Однако это очень интересный источник по истории братства, который позволяет максимально точно установить все источники доходов и расходов братства по состоянию на 1733 г., так как все другие реестры дают часто фрагментарные и разрознен-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1044. Л. 1—2.2 Там же. Л. 3—6.3 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 11.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1044. Л. 5—5 об.; Шараневич И. И. Николай
Красовский. С. 12.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1171. Л. 1—36.
322 Глава 3
ные сведения. Согласно «Генеральной книге», основным и первостепенным ис-точником дохода братства были деньги от продажи книг, изданных в типогра-фии братства (prżedania xiąg), постоянные статьи доходов братства составля-ли прибыли от «позвона» или за церковные обряды (Introitus z podzwonnego), прибыли от сдачи в аренду городской недвижимости братства (Introitus z dobr, albo kamienic cerciewnych), доход от сдачи в аренду сада при Онуфриевском монастыре и других источников дохода (Introitus z rożnych Przychodow). Среди основных статей расхода братства выделены средства на содержание институ-та священнослужителей в Успенской церкви (настоятель, два викария и диа-кон), школы, госпиталя, Онуфриевского монастыря, расходы на различные братские нужды, на содержание «добр церковных», то есть камениц, торговых и складских помещений (kpamów y sklepów), содержание типографии. Но прак-тика составления такого генерального реестра приходов и расходов не закре-пилась, и реестры вел отдельный братчик, отвечавший за определенную сфе-ру деятельности своей организации, например, реестр прибылей от камениц и расходов 1725—1730 гг.1, прибылей от «Саввичевской» каменицы и расходов 1737—1753 гг.2, реестр прибылей от церковных обрядов 1783 г.3 и др.
Сохранились реестры с указанием автора, то есть братчика, который вел записи в книге. Это — реестры Андрея Стрелецкого за 1619—1633 и 1648—1649 гг.4, Григория Лангиша за 1633—1637 гг.5, Павла Лавришевича за 1656—1659 гг.6, Степана Лавришевича за 1659—1671 гг.7, Матвея Федоровича за 1659—1663 гг.8, Михаила Слёзки за 1664—1666 гг.9, Семена Лавришевича за 1684—1685 гг.10, Григория Русяновича за 1692—1704 гг.11, Николая Красовско-го за 1695—1697 гг.12, Юрия Папары за 1695 г.13, Степана Лясковского за 1713—1722 гг.14, Юрия Иляшевича за 1724—1730 гг.15, Якова Русяновича за
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1160.2 Там же. Д. 1173.3 Там же. Д. 1181.4 Там же. Д. 1049, 1052, 1062. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 357—386.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1054. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 392—411.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1074.7 Там же. Д. 1076, 1088. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 564—581.8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1078, 1079. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 459—467.9 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1087. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 467—488.10 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1112.11 Там же. Д. 1128, 1129, 1130.12 Там же. Д. 1134.13 Там же. Д. 1135.14 Там же Д. 1151, 1152.15 Там же. Д. 1155.
323§ 6. Финансово-отчетные документы
1724—1730 гг.1, Антона Левинского за 1753—1777 гг.2, Якова Гавендовича, Михаила Лясковского и Андрея Дзёковского за 1758 г.3 и Евстафия Белявского за 1783—1788 гг.4 Обычно братчик, которого выбирали на определенную долж-ность и в обязанности которого входили какие-либо операции, заводил спе-циальную тетрадь (реестр), где вел записи, чтобы потом отчитаться перед «панами братиями». Часто заголовки к этим реестрам являются очень инте-ресными источниками о внутренней жизни братства; вот как начинает свой реестр Степан Лавришевич: «Божиим благословением и з зезволением всhх панув братий станула елекция згодная в року 1659 мhсяца юлия дня пя-того, на которую елекцыи зезволили панове братия мhнh, Стефанови Лаврышевичеви, яко брату еспул з ними будучому, книги братскhе скарбу церковного продавати, так теж и шафарску тех, то есть на посреду цер-ковные пhнязh отдавати, котрый то книги яком одбирал од панув старших таковый реестр того нижый и пhняси, так теш и продажа ведлуг таксу и выдаткh ведлуг потребу и росказаня панув старших за благословением Божым...»5. Но иногда заголовки были предельно краткими, с указанием сфе-ры деятельности братства, за которую отвечал братчик, и периода ведения книги: «[Ra]chunek [Sosudo]chranytelny ab Anno 1692 ad Annum 1698 17 April pana Hrego Russianowiczogo»6.
Для многих дел, особенно таких, которые требовали больших материаль-ных затрат со стороны братства, часто вели отдельные или специальные рее-стры. Таких специальных книг, фиксирующих поступления в казну братства, сохранилось немного. К ним можно отнести реестр 1660 г. сбора денег у укра-инского населения города на приезд во Львов короля Яна Казимира7. Визит короля во Львов состоялся 15 сентября 1660 г., и Магистрат обязал братство выплатить налог «duple» (от названия монеты «дуплон» или «дублон» — на-лог на недвижимое имущество) в размере 3000 злотых, которые разрешено было собрать братству «z nacyiey swoiey» (со своей нации). Налог собирать поручили Павлу Лавришевичу и Василию Русяновичу. Наибольшие суммы внесли зажиточные члены братства Василий Григорьевич Афендик, Алексей Балабан, Павел Лавришевич, Кириак Исарович, Андрей Алвизий, Семен Лавришевич, Матвей Федорович, Николай Михалевич и др. Однако они не смогли собрать столь большую сумму. Запись от 17 сентября 1661 г. свиде-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1157.2 Там же. Д. 1179, 11913 Там же. Д. 983.4 Там же. Д. 1197.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1076. Л. 1.6 Там же. Д. 1130. Титульный лист.7 Там же. Д. 1081.
324 Глава 3
тельствует, что долг братство выплачивало еще спустя год после приема ко-роля Магистратом города1.
Особый интерес представляет реестр приходов от уплаты арендной пла-ты братству и выплаты квартальной оплаты в 1692—1723 гг. священнослу-жителям Успенской и Онуфриевской церквей, которых братство избирало из числа монахов Онуфриевского и Креховского монастырей2. Чаще всего братчики составляли специальные реестры расходов на судебные тяжбы и на отправление различных депутаций от братства. Такие реестры вели депута-ты от братства на сеймы и сеймики, на разные судебные заседания. По этим реестрам депутация отчитывалась о своих расходах перед организацией. Это — чрезвычайно интересные и многоплановые источники. Составлялись они практически всегда по одному формуляру. Как правило, фиксировались все дорожные расходы посланников, проживание в городе, затраты на судеб-ные процедуры, неформальные затраты (подарки чиновникам канцелярий и судьям). Это — уникальные источники, которые позволяют взглянуть на су-допроизводство XVII—XVIII вв. в Речи Посполитой не сквозь призму тра-диционно используемых историками источников, отложившихся в резуль-тате деятельности судебных учреждений, а увидеть судебный процесс глаза-ми противоположной стороны, узнать такие факты, которые не могут най-ти отражение в судебных протоколах, решениях и других документах. Один из самых ранних сохранившихся реестров этого типа — записи расходов на судебное дело братства по выполнению завещания Константина Корнякта в Люблинском Коронном трибунале в 1618 г. Старший братчик выдал депута-там значительную сумму в 55 злотых. В дорожные расходы братчиков вошли ямские расходы («фура до Люблина»), затраты на питание и обувь («буты на дорогу»). Большую часть судебных расходов составляла оплата различным чиновникам, писарям и переписчикам за внесение показаний в актовые кни-ги («wpisanie w regesty sprawy»), получение извлечений из судебных книг, вне-сение декретов (судебных решений) и их переписка. Все расходы составили 46 злотых3. Сохранились реестры расходов братчиков на судебный процесс с Магистратом Львова, который рассматривался в Варшаве в 1750 г.4, на вне-сение протестов братства против введения светского духовенства в братскую церковь вместо черного духовенства (василиан) в 1754—1756 гг.5, на дорогу в Варшаву и Почаев по делу о споре братства с Почаевской типографией в 1770—1772 гг.6
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Л. 7.2 Там же. Д. 1132. Л. 1—71.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1048.4 Там же. Д. 1177.5 Там же. Д. 1180.6 Там же. Д. 1191.
325§ 6. Финансово-отчетные документы
Реестры расходов на судебные процессы XVIII в. отличаются от реестров XVII в. более детальными описаниями всех трат. Помимо затрат на судопро-изводство, особо интересными представляются статьи расходов, связанные с бытом. Эти источники позволяют максимально точно воспроизвести жизнь горожан XVIII в., их особенностью является то, что они позволяют сопостав-лять различные виды услуг по указанным расценкам. Например, согласно рее-стру расходов на поездку на суд Нунциатуры в Варшаву в 1725 г., проживание (питание) в столице обходилось в 30 злотых, а ночлег — всего в 3,54 злотых. Услуги переписчика документов стоили 6,12 злотых, переводчика с польско-го на латинский — 8 злотых, а услуги нотариуса обходились в 28,36 злотых1. Особый интерес представляют «дорожные» реестры расходов, составленные старшим братчиком Степаном Лясковским. Он принимал участие в пяти по-сольствах братства: в Варшаву в 1713, 1714 и 1718 гг. на Королевский Задворный суд по делу о споре братства с Магистратом Львова об уравнивании в правах украинского и польского населения города, в Замостье в 1720 г. на церковный Собор, ставший эпохальным в истории греко-католической церкви, в Варшаву в 1720 г. на Сейм. Записи Лясковского отличаются скрупулезностью и точно-стью, особенно важным для истории братства является то, что он указывает всех участников той или иной поездки, сумму денег, выданную братством, по результатам всех записей подводился баланс. Как правило, часть из выдан-ных средств оставалась неизрасходованной и возвращалась в казну братства, но в 1714 г. сумма затрат превысила размеры выданной братством (выдано 4000 злотых, а потрачено 5364,27 злотых). В таких случаях на основании пред-ставленного реестра участникам посольства братство возвращало деньги, ко-торые им пришлось внести на ведение дел.
К этой же группе источников можно отнести уникальный в своем роде ре-естр 1631—1638 гг. расходов на урегулирование наследных дел умершего во время пребывания по купеческим делам в итальянском городе Бари братчика Хомы (Фомы) Добрянского2. Реестр вел отец умершего Михаил Добрянский с целью вернуть на родину имущество Хомы на содержание его вдовы, сына Ивана и других детей-сирот. Для этого в Бари посылались родственники Добрянского. Реестр содержит в том числе расходы на похороны, которые со-ставили весьма значительную по тем временам сумму — 178 злотых, что гово-рит о богатстве умершего братчика. За серебро и движимое имущество Хомы Добрянского была выручена огромная сумма — 1937 злотых, после уплаты всех расходов на ее получение чистыми деньгами выходило 1544 злотых и 13,5 грошей, однако с этой суммы следовало уплатить довольно значительные долги купца.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1159. Л. 3, 4.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1053. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 387—392.
326 Глава 3
Рассматриваемый документ представляет большой интерес как интерес-ный источник по истории быта знатного купца, члена Львовского братства, по истории повседневной культуры. На важность этого источника, который дает представление о том, как одевались знатные украинские горожане, как они себя украшали, какие вещи имелись в их личном хозяйстве и о ценах на них, обратил внимание И. И. Шараневич1. Он также отмечал, что это первая приходо-расходная книга, написанная полностью на польском языке и, таким образом, свидетельствующая о переходе членов братства в повседневной жиз-ни на польский язык2.
В реестре 1631—1638 гг. перечислены многие вещи домашнего обихода и предметы повседневной и парадной одежды, в которой ходили знатные львов-ские горожане в середине XVII в. Среди многочисленных вещей, как предметов первой необходимости, так и предметов, подчеркивающих статус и богатство львовского купца, находящегося далеко за пределами родины, особое внима-ние привлекает то, что с собой он взял славянскую библию. И хотя это — един-ственная книга, отмеченная в реестре вещей умершего братчика, видимо, это была книга, которую он взял с собой для постоянного чтения. Вероятнее всего, речь идет об экземпляре Острожской библии (1581 г.), за которую после про-дажи выручили 20 злотых. Из одежды заслуживают внимания дорогие пояса, в том числе шелковые; три делии (верхняя одежда типа плаща, подбитая ме-хом) — зеленая, синяя и коричневая, серебряные пуговицы для них и отдельно меховая подкладка для делии; доломан; два летника; красный бархатный кол-пак. Были у Хомы Добрянского меха соболя, куницы, рыси. Среди украшений в реестре значатся золотое обручальное кольцо, оцененное за 90 злотых, брас-леты — за 107 злотых, перстень с белым камнем — за 9 злотых, перстень с пе-чатью, а также золотые перстни с сердоликом, бирюзой, рубином и др. Также имелись различные дорогостоящие ткани, в том числе шелковые, серебро и старые монеты, жемчуг и кораллы. Отдельно указано 15 ковров, за которые было выручено 165 злотых. Из предметов домашнего обихода — серебряные ложки, кубок, чарки, ножницы, медные миски, котелок, а также постельное бе-лье (наволочки, простыни, подушки, одеяло, перина, покрывала). Привлекает внимание и коляска (экипаж), украшенная литыми и коваными элементами декора3. Указанные в результате оценки имущества цены на самые разные предметы повседневного обихода состоятельного горожанина позволяют луч-ше ориентироваться в ценах на самые разные товары того времени.
Некоторые книги реестров приходов и расходов содержат источники дру-гих видов или сами включены в книги, предназначенные для записей другого
1 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 35—38.2 Там же. С. 35.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1053. Л. 1—12.
327§ 6. Финансово-отчетные документы
рода. Например, реестр приходов и расходов 1654 г. помещен среди инвента-рей Успенской церкви, ее сокровищницы и библиотеки братства1, реестр при-ходов от «позвона» 1691—1704 гг. также включен в книгу инвентарных запи-сей2, реестр расходов 1655—1658 гг. содержится в книге протоколов заседаний братства3. Книга приходов и расходов 1648—1649 гг. содержит список пожерт-вований на Успенскую церковь4, реестр расходов 1695 г. — перечень долговых обязательств братству5.
Особую тематическую группу приходо-расходных реестров Львовского братства составляют реестры приходов и расходов на строительство. Это важ-ные источники для изучения истории культуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, а также интереснейшие источники по истории реме-сел, орудий труда, быта.
Во второй половине XVI в. Успенская церковь дважды была уничтожена пожарами. Поэтому начальный период истории братства тесно связан с ее восстановлением. Сохранился комплекс реестров расходов на строительство Успенской церкви. Их вели, как правило, «дозорцы», которые избирались спе-циально для наблюдения за ходом строительных работ. Самый ранний из со-хранившихся реестров расходов на строительство Успенской церкви датиро-ван 1591 г., его вели «дозорцы» Лукаш Губа, Иван Красовский, Исаия [Фомич] и др. Среди записей этого реестра особый интерес представляют списки повин-ностей братчиков на строительство церкви, которые заключались либо в ока-зании материальной помощи строительству (кто сколько мог пожертвовать), либо в личном участии в строительных работах6. Книга расходов на строитель-ство 1592 г. состоит из понедельных записей (покупка и доставка строитель-ных материалов, обеспечение мастеров и ремесленников всеми необходимыми материалами и оплата их труда) с подведением суммарных итогов всех выплат. Значительную часть реестра составляют записи о доставке строительных ма-териалов; так, часть каменных «штук» с Красова (основного места разработки известкового камня) поставлял сам архитектор Павел Римлянин «з привозом и тесаням», но кроме него заготовкой камня занимались и братчики, «горни-ки» Петр Сах, Мысько, Станислав Мытура, Андрий поставляли неотесанные камни «орлици» (от немецкого Urziegel) из Лычакова и Головска, «мулярские» подмастерья отесывали камни, изготавливая «тритии» (каменные плиты). Имеются записи о поставках извести Павлом Кожухом и Петром с Головска,
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 18—25 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 7—28.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1127. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 52—61.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1069. Л. 27—36 об., 58—59.4 Там же. Д. 1062.5 Там же. Д. 1135.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1036.
328 Глава 3
Мартином Гендликом, кирпичей — Елеником и Андреасом1. Этот реестр со-держит записи о снятии каменного пола сгоревшей церкви и сведения об имев-шихся в подполье гробницах2. Интерес представляет книга за 1592—1598 гг., где, кроме общих записей о расходах на строительство, содержатся записи о расчетах с архитекторами Павлом Римлянином и Войтихом Капиносом за доставку камня для строительства3. В преамбуле этой книги содержится под-робное описание строительных работ, а также оговариваются принципы веде-ния записей в данном реестре4. Реестр расходов на строительство Успенской церкви 1595—1601 гг. представляет особый интерес для истории архитекту-ры, здесь содержатся рисунки всех видов отесанных камней, предназначенных для строительства храма, причем особо оговаривается, какие отесанные камни предназначены для строительства («мурованя») стен, а какие «на окна храму Бога», а также указаны расценки всех видов строительных работ, имена масте-ров и расчеты с Войтихом Капиносом5.
Особый интерес представляет приходо-расходная книга за 1627—1631 гг., которую вел Роман Стрилецкий6. Этот реестр описывает завершающий этап строительства Успенской церкви и ее освящение архимандритом Киево-Печерской лавры Петром Могилой.
На восстановление Успенской церкви жертвовали крупные суммы молдав-ские господари, о чем свидетельствуют также многочисленные письма из Мол-давии. Но сохранился только один реестр, который показывает, как именно братство расходовало пожертвованные суммы. В преамбуле книги кратко опи-сывается вклад в строительство львовского храма («от 35 лет начатый») мол-давских господарей, о «здравии и спасении» которых братство будет «всег-да молити, и всhх служащых и послужившых любезно поминати». В реестре представлены расходы с пожертвований, которые сделал «благочестивый и христолюбивый» Ион Мирон Бернавский Могила, воевода и господарь земли Молдавской. Интересно, что начинается реестр словами 113 псалма: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу о милости твоей и истиннh твоей, да некогда рекут языцы: где есть Бог их. Бог же наш на небеси и на земли, вся елика восхотh сотворити»7 (Пс. 113:9—11). Это — единственный случай цитирования Библии в хозяйственно-финансовых документах брат-ства, что говорит об образованности автора реестра — Романа Стрилецкого, который долгое время был старшим братчиком. Реестр «приходный» содержит
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1037. Л. 36, 37, 40, 77.2 Там же. Л. 80.3 Там же. Д. 1039. Л. 3—13.4 Там же. Л. 2—2 об.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1042.6 Там же. Д. 1051. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 636—648.7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1051. Л. 1 об.
329§ 6. Финансово-отчетные документы
сведения о способах отправления денег из Молдавии во Львов и о трудностях, которые препятствовали с большей выгодой продать тот или иной товар (чаще всего жертвовали крупные суммы в товарах, так как таким способом можно было преумножить начальную сумму) или извлечь пользу из определенных по-литических условий («про войну Густава Шведского в Прусех», «за неславно-стью цара турецкого»). Реестр «росходный» состоит из трех частей: расходов на покупку необходимых материалов, которые «куплено на торзе», расходов на «заплату» мастерам-строителям и на освящение храма в 1631 г.
В «строительных» реестрах отдельно записывались выплаты «муралю» (ар-хитектору), мастеру, отвечающему за всю работу, подмастерьям («товарышам» или «челядникам») и помощникам. На строительстве церкви в 1592 г. было за-нято 3—6 челядников, 2—3 ученика, 26—29 помощников, за работой которых «дозирали» члены братства. «Дозорцы» сменяли друг друга каждую неделю1. На строительстве в 1627 г. работал один мастер, 3—4 товарища, 3—5 помощ-ников, всего на строительстве в течение недели работало от 5 до 10 человек. Мастер Адам был постоянным работником, остальные работали по несколь-ко дней: товарищи Ян Головецкий, Ян Львовчик, Адам Старый, Ян Шафранец, хлопец Петр, помощники Лукаш, Войтек, Грыцко, Илько. Расплачивались с рабочими в конце недели из расчета количества отработанных дней и уста-новленного размера оплаты «на день». Так, мастер получал 3 злотых за неде-лю, товарищ — по 20 грошей в день, хлопец — по 16 грошей, помощник — по 8 грошей. При расчете обязательно выплачивались премиальные: «На лазню (баню) и на пиво всhм», «За пиво през тыждень (неделю) и за горhлку», «За пиво, горhлку и на лазню»2. В реестрах также содержатся сведения о сборе средств на строительство Успенской церкви, которые, как справедливо отме-тил Я. Д. Исаевич, наиболее ярко свидетельствуют об огромном вкладе членов братства в сооружение крупнейшего памятника архитектуры XVII в.3 Члены братства проводили постоянные сборы пожертвований среди православного населения не только Речи Посполитой, но и соседних стран, сами «на ярмар-ках просили Крамаров», и даже жены братчиков Ивана Красовского, Ивана Зиньковича, портного Яроша Омельяновича и Манолия собирали среди жен-щин деньги и покупали строительные материалы (гвозди и «бляхи для покры-тя бани») во Львове и Перемышле4.
Чрезвычайно важными представляются реестры расходов на строитель-ство и реставрацию братских камениц. К 80-м гг. XVIII в. братство являлось
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1037. Л. 44—45; Д. 1039. Л. 11, 44.2 Там же. 1051. Л. 3 об., 4, 4 об.3 Ісаєвич Я. Д. Джерельні матеріали з історії мистецтва XVI—XVIII ст. в архіві Львів-
ського братства // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Друга секція. Київ, 1968. С. 106.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1037. Л. 2, 3.
330 Глава 3
собственником нескольких камениц в городе: «Балабановской», «Лав ри-шевичевской», «Гулинской» или «Лясковской», «Мезапетинской» или «Горош-ковой» и «Саввичевской»1, которые находились в центре города на площади Рынок, а также целого комплекса камениц при Успенской церкви, в которых располагались комната для заседаний братства, библиотека, архив, типогра-фия, книжная лавка и складские помещения. Во внутренний двор («кладови-ще») вели широкие ворота с козырьком, покрытым черепицей, а весь ансамбль окружала каменная ограда2.
Реестры расходов на строительство и ремонт камениц позволяют просле-дить этапы создания ансамбля Успенской церкви как яркого образца укра-инской архитектуры конца XVI—XVIII вв., отличительной чертой которого является широкое использование декоративной резьбы по камню с украин-ским народным орнаментом. При строительстве и реконструкции домов чле-ны братства часто давали архитекторам и строителям указания о характере отделки зданий в соответствии с собственными вкусами и представлениями об архитектуре. В 1593 г. братчики заказали одному греку изготовить три окна в «поповском» доме, а известному архитектору Павлу Римлянину — еще одно окно «в сенях» и колонны между окнами «с базою и капителем». Рядом с за-писями о расходах на реконструкцию дома священников имеются схематиче-ские рисунки объектов. По всей видимости, Иван Рогатинец, который вел ре-естр, с помощью этих рисунков уточнял заказы мастерам. Павлу Римлянину заплатили за колонну «з роботою, з камнем, з привозом» 4 злотых и 6 зло-тых за окно, а греку за изготовление трех окон — 9 злотых3. Однако источни-ков о строительстве и реконструкции камениц, по сравнению с другими ре-естрами, сохранилось немного. Интересна книга расходов на строительство каменицы Якова Лавришевича 1699—1700 гг.4. Сохранились расписки Ивана Прокоповича и Войтиха Зычливого 1699 г. о получении денежных сумм на строительство каменицы5. К этому же виду источников можно отнести до-несения священника Ивана Горбачевского Галицкому губернатору о ремон-те Успенской церкви и камениц братства после пожара 1779 г., уничтожив-шего библиотеку и значительно повредившего комплекс зданий ансамбля Успенской церкви6.
Реестры расходов на строительные работы в Онуфриевском монастыре позволяют проследить становление и развитие архитектурного ансамбля мо-настыря. Реестр расходов на ремонт церкви Св. Онуфрия, поврежденной по-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1056, 1186. Л. 2—19.2 Там же. Д. 503; АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 185—186; Т. 11. С. 700.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1037. Л. 75, 76, 77.4 Там же. Д. 1142. Л. 1—23. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 676—677.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1143.6 Там же. Д. 1019.
331§ 6. Финансово-отчетные документы
жаром в 1611 г., сохранился фрагментарно1. В 1683—1682 гг. был полностью обновлен корпус монастырских келий; реестр расходов на строительство вели Семен Лавришевич и Киприян Кисельницкий2. Сохранилась книга расходов на реставрацию церкви Св. Троицы при Онуфриевском монастыре в 1702 г., ко-торую вел Зот Исарович3. Ремонтно-реставрационные работы Онуфриевского монастыря проводились в 1726—1732 гг.4 Сохранился реестр расходов брат-ства на строительство госпиталя при Онуфриевском монастыре 1592 г.5 Госпиталь постоянно ремонтировался и обновлялся6. Во время военных дей-ствий 50-х гг. XVII в. он был практически разрушен, и братству пришлось за-ново его отстраивать, о чем подробно сообщает реестр расходов, который вел Иван Захаркевич в 1662—1663 гг.7
Особого внимания заслуживают реестры расходов на содержание госпи-таля и Онуфриевского монастыря. Часть реестров опубликована8, однако эти материалы не привлекали внимание исследователей, хотя являются важны-ми источниками по истории быта, так как в них получили отражение прежде всего повседневные хозяйственные расходы: покупка продуктов питания, обеспечение дровами, кухонной утварью, покупка и починка хозяйственно-го инвентаря, забота о саде — посадка саженцев («яблонь до саду»), уход за деревьями и пр. Такие сведения дают представление о повседневных заботах горожан в XVII—XVIII вв. и, как правило, отражены весьма скудно в источни-ках. По этим реестрам можно получить представление об основных продук-тах питания горожан: это — хлеб, в основном ржаной, мука ржаная и гречне-вая, крупы, горох, из которого готовили «мацю», соль, солонина (мясо), сало, растительное масло, молочные продукты, капуста, огурцы, ягоды. Из приправ в реестрах упоминается только пастернак. Кружки в госпитале и монастыре были медными, а ложки деревянными9. Конечно, быт монастыря и госпита-ля отличался от быта даже членов братства, но эти источники сообщают о том, что составляло основу быта, повседневной жизни, причем по реестрам мы имеем возможность проследить основные тенденции изменения бытовых
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1038.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1109. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 668—675.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1149.4 Там же. Д. 1161.5 Там же. Д. 1040.6 Там же. Д. 1041, 1063, 1070, 1105.7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1082.8 Там же. Д. 1055. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 679—689; ЦГИА Украины во Львове.
Ф. 129. Оп. 1. Д. 1124; ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 Оссо-линских. Ед. хр. II, 2125. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 164—352.
9 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1041. Л. 1—9; 1063. Л. 2— 6 об.; 1070. Л. 2 об. — 6; 1080. Л. 1—7; 1105. Л. 1—4; 1133. Л. 1—36; 1186. Л. 23—52.
332 Глава 3
условий, отношения людей к вещам. Например, в реестрах начала XVII в. часто встречается статья расходов «на прошака» (странника), которому давали «на буты» (сапоги), в середине XVII в. братство дает «прошакови за кожух, и об-раня бhлое, и шапку подшитую»1.
Как правило, в реестрах расходов на госпиталь и на Онуфриевский мона-стырь содержатся записи и о расходах на школу братства2. Это — важнейшие сведения, так как документов о заведовании братством школой отложилось чрезвычайно мало. Однако нужно учесть, что эти данные относятся только к хозяйственным сторонам содержания школы (ремонтные работы, обеспече-ние дровами, расходы на содержание учеников и организацию праздничных обрядов), сведений об организации учебного процесса во второй половине XVII—XVIII вв. практически не сохранилось.
В последней трети XVII—XVIII вв. значительный доход приносила плата, получаемая братством за «позвонное». Сохранилось несколько реестров, ко-торые фиксировали записи об уплате «позвонного» горожанами Львова. Это реестры, которые вели Григорий Русянович в 1692—1704 гг.3 и Яков Русянович в 1724—1730 гг.4 Эти прибыли расходовались «адресно»: две трети шли на нужды школы и треть — на церковную службу и потребности Успенской церкви. За каждый звон взималась плата в размере 3 злотых. Звонарем при-глашали человека, который, как правило, многие годы служил в этой долж-ности. В конце реестра прибылей от «позвона», которую вел Яков Русянович, он писал, что скончался звонарь Стефан Кремский — «zasłużony sługa Bogu i miejscu świętemu», который «верно служил братству в послушании» 25 лет (1704—1729)5. На его место был принят новый звонарь с таким же жаловани-ем, какое получал прежний, — 15 злотых ежеквартально и «accidensa», то есть дополнительные доходы. Также в колокола звонили ученики братской шко-лы, певчие («diszkanisty, pulsanty»). Суммы, которые собирали с «позвонного», были весьма существенными и с каждым годом возрастали. Так, в 1724 г. доход составил 253 злотых 27 грошей, в 1726 г. — 255 злотых, в 1727 г. — 327 злотых 12 грошей, в 1729 г. — 458 злотых 24 грошей. Такой доход обеспечивало то, что заказывали звонить в колокола по умершим членам своей семьи или по какому-либо другому поводу не только члены братства и прихожане Успенской церк-ви, но и представители других конфессий. Звонить с колокольни Корнякта, особенно в колокол «Кирилл», было престижно6. Например, 18 февраля 1726 г.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1063. Л. 5.2 Там же. Д. 1044, 1060, 1105, 1124, 1133, 1145, 1146, 1147.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1128, 1129, 1136.4 Там же. Д. 1157.5 Там же. Д. 1157. Л. 15.6 Шараневич И. И. Юрий Ельяшевич. С. 23.
333§ 6. Финансово-отчетные документы
звонили по краковскому каштеляну, гетману великому коронному Адаму-Николаю Синявскому, за что было заплачено 94 злотых. 23 июля 1726 г. звони-ли по умершему королевичу польскому Константину Владиславу Собесскому (сыну Яна III Собесского), за что было уплачено 7 злотых 14 грошей. За звон по великому гетману коронному Станиславу Жевусскому было получено 100 зло-тых1. Но такие «позвонные» были все же исключением.
* * *Особую тематическую группу приходо-расходных книг братства состав-
ляют реестры записей о продаже книг, изданных в братской типографии. Эти источники позволяют изучать спрос на книги, механизмы их распростране-ния, особенности книжного рынка XVII—XVIII вв., степень доступности книг, круг читательских интересов и многие другие вопросы, связанные с историей книги. Эти источники до сих пор широко не использовались исследователями, хотя часть этих реестров была опубликована А. С. Крыловским2. Однако даже издатель не смог по достоинству оценить информационное богатство этих ис-точников, значительно сокращая их содержание, отмечая при этом, что на це-лых страницах следуют подробные записи «сколько и за сколько продавались «Трефолои», что, по мнению Крыловского, не имеет исторического значения, поэтому он тексты документов опускал, сообщая только итоговые записи3. Большое значение этих источников отметил Я. Д. Исаевич4. Он выделил не-сколько их разновидностей: реестры выдачи книг со склада в книжные лавки под отчет продавцам книг, реестры продажи книг и реестры расходов с выру-ченных от продажи книг денег.
Книготорговля была основным и постоянным источником дохода Львов-ского братства. Выручка от продажи книг, напечатанных в братской типогра-фии, была довольно большой, так как книги издавались значительными тира-жами и быстро расходились. Реестры доходов от продажи книг сохранились с середины XVII в., когда книгоиздание для братства приобрело явно выражен-ный коммерческий характер. Как правило, записи в реестрах вели продавцы книг, специально избираемые на эту должность. Сохранились книги Матвея Федоровича 1643—1645, 1651—1654 гг., Павла Прокоповича 1645—1655 гг.5,
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1157. 2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1072, 1075, 1102, 1103. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1.
Т. 11. С. 559—561, 564—581, 604—607.3 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 539, 544, 546.4 Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму XVI—XVIII ст.
Київ, 1972. С. 32—33.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1058, 1066, 1072. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 539—544, 551—561.
334 Глава 3
Степана Лавришевича 1659—1664 гг.1, Ивана Захаркевича 1663—1665 гг.2, Яния Мазараки 1674—1676 гг.3, Анастасии Лясковской 1676—1683 гг.4, Гри-гория Русяновича 1688—1690 гг.5, Николая Красовского 1690—1696 гг.6, Петра Семяновича 1692—1696 гг.7, Степана Лясковского 1705—1721 гг.8, Ивана Чесноковского 1733—1741 гг., Христофора Деймы 1752—1775 гг., Михаила Лясковского 1756—1758 гг.9
Отпечатанный тираж книги передавался на хранение в складские помеще-ния. При передаче книг из типографии составлялась специальная «калькуля-ция» или «реестр книг одбираня», согласно которым проводился подсчет ре-ального тиража, часть книг («прикладки») отдавалась типографу и работни-кам типографии в качестве зарплаты или премии. Например, 12 апреля 1643 г. типограф Андрей Скольский завершил издание Трефологиона10. 25 мая 1643 г. состоялась «калькуляция», из которой узнаем, что типографу было заказано 1250 экземпляров книги, но тираж составил 1360 экземпляров, 9 из которых были забракованы, часть отдана печатнику в качестве «прикладок», а на склад братства поступило 1330 книг11. Братство располагало несколькими складски-ми помещениями: «в дольном доме заседаний», «в другой избе побочной», «в дольном доме в избе», «в алхизу при той же избе». Периодически братство проводило ревизии книжных складов12 с целью выяснения спроса на книги, чтобы знать, какие книги следует издавать и каким тиражом. Книги со скла-да передавались продавцу книжной лавки строго по реестру. Сохранилось не-сколько специальных реестров выдачи книг со склада для продажи13. Братство продавало книги в трех лавках («склепах»): главная лавка располагалась при колокольне Успенской церкви, под библиотекой братства, лавка «под сессио-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1075, 1076. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 564—581.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1084, 1085. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 585—595.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1102. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 604—607.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1104.5 Там же. Д. 1115, 1116. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 622—625.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1118, 1119, 1120, 1126, 1136.7 Там же. Д. 1131.8 Там же. Д. 1150, 1151 Л.1 об.9 Там же. Д. 1170, 1182, 1184.10 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, ви-
даних на Україні. Львів, 1981. Кн. 1. С. 64. № 313.11 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1057. Л. 1, 2.12 Там же. Д. 1101. Л. 1; 1141. Л. 1; 1185.13 Там же. Д. 1085; 1101. Л. 1 об. — 4; 1147.
335§ 6. Финансово-отчетные документы
нальной избой» и «под Ратушей»1. Книги продавались по ценам, которые устанавливались на собраниях братства, регулировались цены в зависимости от спроса на ту или иную книгу. Продавец должен был продавать книги стро-го по установленной «таkе», «над которую продавца не мает витягати» ни гроша. В архиве братства сохранился интересный документ: «Таkа поданая на проданя кних над которую продавца не мает витягати ани тежъ жадному през яки заводъ нижей продавать не повинен, которая уставленая ест року ¨ ах͠оа (1671) дня à апреля», в котором указаны цены на 14 изданий братской типографии2. Это — первый известный торговый каталог книг Львовского братства. Впервые на значимость источников этого вида обратил внимание С. И. Маслов3. О важности книготорговых каталогов Львовской Ставропигии как источников, имеющих особое значение для истории книги, говорится в ис-следовании Н. Рыбчинской4, которая считает, что книготорговая библиогра-фия как особый вид источников начала складываться в середине XVIII в., когда впервые были изданы «Таксы книг» Львовского братства5, Почаевской Лавры6 и «Табель цены книг» Киево-Печерской Лавры7. Однако о формировании тор-говых каталогов книг можно говорить с середины XVII в. на примере «Таксы... на проданя книг» 1671 г. и других указателей цен на книги братства, которые чаще всего содержатся в реестрах продажи книг.
Первый книготорговый каталог представляет особый интерес, поэтому не-обходимо подробно проанализировать его содержание как исторического ис-точника. «Таkа поданая на проданя книхъ»8 — документ, написанный на укра-инском языке, в котором указаны цены на 14 изданий братской типографии, скрепленный печатью братства и содержащий собственноручные подписи пяти братчиков. Интересно, что трое — Василий Корендович, Иван Мазараки и Семен Лавришевич — подписались по-украински, правда, с использованием некоторых латинских букв («Василий Корендоvичъ, Jwан Мазараки, Семеwн
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1194. Л. 1, 1 об., 8—9.2 Там же. Д. 1100.3 Маслов С. I. Етюди з iсторiï стародрукiв. Киïв, 1928. Вип. 11—12. С. 25—51.4 Рибчинська Н. Книготорговельні каталоги Львівської Ставропігії XVIII — початку
XX ст. в контексті західноукраїнської торговельної бібліографії // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 81—84.
5 Taksa ksiąg w seksternach jako i oprawnych w drukarni uprzywilejow. Konfraternii Stauropigia-néj Lwowskiéj będącéj, d[nia] 24 m[iesąca] Lipca r[oku] 1761 sessionaliter uczyniona. Lwów, 1761.
6 Такса книг в Типографии святая обители Почаевския обретающихся. Почаев, 16 марта 1760 (сохранился в единственном экземпляре в РНБ — шифр VI.9.106). Опубл.: Маслов С. I. Етюди з iсторiï стародрукiв. Киïв, 1928. Вип. XII. С. 34—40.
7 Табель цены книгам печатным в Типографии Киевопечерския Лавры. Киев, февр. 1774. Маслов С. I. Етюди з iсторiï стародрукiв. Киïв, 1928. Вип. XII. С. 41—51.
8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1100.
336 Глава 3
Лаvришоvич»), Зот Афендик — по-польски, «Ziow Affendyk», а Николай Альви-зий — по-гречески. Это говорит о наиболее привычном для тех или иных чле-нов братства языке повседневного общения, хотя братство объединяло укра-инцев и греков православного вероисповедания, для которых национальная идентичность не имела столь важного значения, как православное вероиспо-ведание («вера греческая»).
Весьма любопытна запись на корешке документа (in dorso). Это — заголовок (резюме) документа, которые писались для удобства нахождения документов в архиве, где они хранились в сложенном виде. Запись сделана по-украински: «Таkа на проданя книг такою ценою подани в року 1671 дня 1 априля в не-делю четворътую по пасхе»1. Датировка вызывает явное недоумение, так как в 1671 г. Пасха приходилась на 23 апреля по юлианскому календарю, и указа-ние на четвертую неделю после Пасхи не только не соответсвует действитель-ности, но и невозможно в принципе. Эта запись была составлена позже, воз-можно, спустя несколько лет после написания документа, когда на ежегодных собраниях братства, которые проводились в первый месяц после Пасхи, при-нимались наиболее важные для братства решения. Видимо, поэтому появи-лась на корешке и запись: «З книг ж з братских виписаний»2, то есть о том, что это — выписка из протоколов заседаний братства. Однако в сохранившихся протокольных книгах записей подобного содержания нет, и документ с печа-тью и собственноручными подписями говорит о том, что это — оригинал и документ, имеющий особо важное значение. В архиве сохранилась копия до-кумента, составленная в конце XVII — начале XVIII вв. по-польски, причем с переведенными архивными пометами in dorso3.
Важно отметить некоторые палеографические особенности документа. Он написан четкой украинской скорописью середины XVII в. В качестве буквы «я» во всех случаях пишется «йотированная а», в начале слова используется буква «от». Часто вместо кириллической буквы «веди» используется латин-ская «v». Все цифры указаны кириллическими буквами.
«Такса…» содержит указание цен на книги, поступавшие в продажу в двух видах: в переплете («оправные», «увязанные») и «в секстернах» (в тетрадях, то есть непереплетенные). Цена за книгу в переплете была, естественно, больше. Так, Евангелие «увязованое» продавалось за 25 злотых, а в секстернах — за 20 злотых, Служебник в переплете стоил 8 злотых, а в секстернах — 7, Псалтырь — соот-ветственно 3 злотых 15 грошей и 2 злотых 21 грош. Важно отметить, что богос-лужебные книги продавались переплетенными и в секстернах, а учебные книги (часословы и буквари) в переплете никогда не продавались. Так, в этом доку-менте читаем: «Часовничок школьный для науки» продавался за 1 злотый 6 гро-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1100. Л. 2.2 Там же.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1100. Л. 3—4.
337§ 6. Финансово-отчетные документы
шей и «Граматичка» — за 12 грошей. Самой дорогой книгой в рассматриваемой «Таксе…» был Трефологион, который продавался за 44 злотых в переплете и 41 — в секстернах, а самой дешевой — указанная «Грамматичка» (Букварь).
К сожалению, «Такса…» не содержит указания на год издания указанных книг. Впрочем, это относится ко всем книготорговым документам из архива братства, в которых год издания книги никогда не фиксировался, равно как и указание на число переиздания той или иной книги. Это в некоторой степени затрудняет атрибуцию указанных книг. Но если исходить из того, что решение о переиздании книги принималось только тогда, когда тираж предыдущего из-дания был практически распродан, можно с достаточной долей уверенности атрибутировать указанные в документе книги. Но нужно иметь в виду, что по указанным ценам могли продавать не только книги нового тиража, но и не-которые оставшиеся на складе книги предыдущего издания. Можно говорить, что в представленном документе указаны книги, издававшиеся в типографии за последние двадцать семь лет. Самая ранняя из них — Октоих 1644 г. Самыми поздними являются Часослов школьный 1669 г. и «Граматичка», которую можно атрибутировать как изданный в 1671 г. «Букварь языка славенска»1 или «Грамматичку» 1662 г.2 Здесь также указаны цены на Анфологион 1651 г., Евангелие 1670 г., Триодь цветную 1663 г., Триодь постную 1664 г., Апостол и Служебник 1666 г., Требник, Полуустав большой, Псалтырь и Шестодник 1668 г. Не возможно точно атрибутировать «Полуставец малий». Это может быть Часослов малый (1665)3. Но, вероятнее всего, речь идет о другом изда-нии, не известном библиографии, т. к. только рядом с этим наименованием книги в «Таксе…» значится: «нововидани». Возможно, речь идет об издании, вышедшем из печати незадолго до составления рассматриваемого докумен-та, — в 1670 или 1671 гг. Рассматриваемый документ содержит основные бо-гослужебные книги, которые представлены были вторыми или третьими из-даниями в типографии к 1671 г.
«Такса проданая на проданя кних, над которую продавца не мает витя-гати ани теж жадному през яки завод нижеи продавать не повинен которая установленная ест року 1671 дня 1 априля», устанавливавшая минимальную цену за книгу (по более высокой цене книгу продавать разрешалось), показы-вает цены на основные богослужебные и учебные книги во второй половине XVII в. и является важным источником по истории кириллического книгопе-чатания и истории книги.
1 Iсаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам΄ятки книжкового мистецтва. Кн. 1. № 487. С. 86.2 Там само. № 408. С. 74.3 Там само. № 425. С. 77.
338 Глава 3
Таблица 4Цены на книги в каталоге 1671 г.
Наименование книги
Год из-дания
Цена книги в переплете (зло-
тый, грош)
Цена книги в секстернах (зло-
тый, грош)
Тираж кни-ги (кол-во экземпля-
ров)Октоих 1644 22 зл. 20 зл. —*
Анфологион 1651 44 зл. 41 зл. —Триодь цветная 1663 20 зл. 17 зл. 20 грош. 860Триодь постная [1664] 16 зл. 13 зл. 20 грош. 914
Полуустав малый 1665 8 зл. 6 зл. 20 грош. 1275Апостол 1666 16 зл. 14 зл. 10 грош. —
Служебник 1666 8 зл. 7 зл. 1289Полуустав большой 1668 10 зл. 8 зл. 20 грош. 400
Требник 1668 11 зл. 9 зл. 20 грош. 1200Псалтырь 1668 3 зл. 15 грош. 2 зл. 21 грош. —
Шестодник 1668 8 зл. 7 зл. 400Часослов школьный 1669 — 1 зл. 6 грош. 1540
Евангелие 1670 25 зл. 20 зл. 1503Букварь
(Грамматичка) [1671] — 12 грош. —
* Тираж книги неизвестен.
При типографии братства работали переплетчики («интролигаторы»), при-чем братство устанавливало «таксу» или «заплату от каждой книги» и опре-деляло список книг «для увязованя»1. Так, в 1645 г. за переплет Апостола пере-плетчик получал по 38 грошей, а в — 1669 г. по 1 злотому 20 грошей за каждую книгу, за Анфологион (Трефологион) в 1645 г. — по 2 злотых, за Полуустав в 1669 г. — 1 злотый 10 грошей2.
В реестрах фиксировались не только данные о количестве проданных книг и вырученных от продажи суммах, но и сведения о подаренных братством книгах. Как правило, всем своим гостям братство преподносило подарок в виде одной или нескольких книг: это был очень дорогой подарок в то время. Решение о подарке принималось на общем собрании братства или по решению старших братчиков: «Отцу Крhховскому панове старшии казали дати увязо-ваных, даровал 1 (Октоих. — Ю. Ш.), и тым отцу Лукашовскому протопопh также даровали, казали дати Охтаи,... Псалтыр... дати увязаную 1», «Року
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1065. Л. 14. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 546—550.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1059. Л. 13; Д. 1097. Л. 9.
339§ 6. Финансово-отчетные документы
1662 даровали панове до Берестя Литовского в секстернах 1 (Октоих. — Ю. Ш.), казали выдати... За росказаням панови старших до Берестя выда-лем в секстернах 2 [Мhсяцословы], даровали»1. Согласно этому решению, продавец книг выдавал из лавки нужные книги и обязательно делал соответ-ствующую запись в реестре, так как ему нужно было отчитаться за каждый эк-земпляр, полученный со склада, и предоставить денежную выручку согласно количеству продаж. Некоторые продавцы вели отдельные реестры подарен-ных книг, например, в 1669 г. такой реестр вел Степан Лавришевич. Согласно его записям, всего в этом году было подарено 66 книг на сумму 468 злотых 24 гроша2.
Братчики не только сами продавали свои книги, но и охотно давали их для распространения другим людям; чаще всего это были работники типографии, переплетчики, священники или настоятели монастырей. Непременным усло-вием при выдаче книг для продажи не членам братства и особенно людям из других городов было обязательство не продавать книги дороже, чем это де-лалось братством. В своих книжных лавках братство продавало, кроме своих книг, книги киевской печати3, в том числе Требник Петра Могилы (1646), сбор-ник «казань» (проповедей) Лазаря Барановича «Меч духовный» (1666)4 и др.
Интересно, что во время отсутствия в городе продавца книг, который вы-езжал из Львова, продажа книг не прекращалась. Книги продавали жены брат-чиков, о чем свидетельствуют записи в реестрах Степана Лавришевича: «В року 1662 в небытности мою малжонка моя з росказаня панув старшых отдала чернцим до Светой Горы Евангелие увязованое злотыстое»5. Особый инте-рес представляет «Реестр книг одебраня пани Якова Ласковска» — это един-ственный реестр, который вела в течение длительного времени (1677—1679 гг.) женщина, жена братчика Якова Лясковского, Анастасия Лясковская, причем интересно то, что записи в реестре велись на польском языке, а подписывалась Анастасия по-украински: «Настаси" Л"шкувска"»6.
Среди реестров продажи книг можно выделить две разновидности: соб-ственно реестры продажи книг7 и книги, включающие записи о расходах. Вырученные от продажи книг средства шли на содержание типографии8, при-чем часто составлялись отдельные реестры расходов на издание каждой книги,
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1076. Л. 11, 11 об., 12, 13.2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 600—604.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф.129. Оп.1. Д.1066, 1091. Опубл.: АЮЗР. Ч.1. Т.11.
С. 551—559.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1097. Л. 2, 7 об.5 Там же. Д. 1076. Л. 4 об.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1104. Л. 1—8.7 Там же. Д. 850, 1059, 1093, 1121, 1156, 1164, 1176, 1190.8 Там же. Д. 1065, 1094, 1110, 1145.
340 Глава 3
на изготовление шрифтов, закупку бумаги и т. п.1 Но чаще всего доходы от про-дажи книг шли на самые различные нужды братства, поэтому расходная часть этих книг практически ничем не отличается от обычных реестров расходов братства2. Иногда реестры продажи книг включают в себя источники других видов, например, перечни архивных документов, записи протоколов заседа-ний, реестры вещей, оставленных братству под залог, долговые расписки и др.3
Реестры продажи книг являются важными источниками, которые позво-ляют проследить путь каждой книги, издаваемой в братской типографии, от печатного станка до читателя. По реестрам мы можем изучать спрос на книги начиная с середины XVII в.
Сохранившиеся реестры продаж можно разделить на несколько разновид-ностей. Изменение формуляра книг продаж обусловлено, с одной стороны, из-менениями в текущем делопроизводстве братства, а с другой — изменениями характера продаж. Самые первые книги продаж, с середины 40-х гг., сохраня-ли свой формуляр до середины 60-х гг. XVII в. Отличительной особенностью этих реестров является роспись продаж по каждой книге и подведения финан-сового баланса по продаже каждой книги и общей суммы вырученных денег. Сведения о выдаче книги со склада и расходах на переплетные работы и др. являются факультативными. В данной работе впервые предпринимается по-пытка источниковедческого анализа реестров продажи книг за 1643—1665 гг. с целью выявления их информационных возможностей и анализа становления рынка православной книги в Речи Посполитой в середине — второй половине XVII в.
Наиболее ранней из сохранившихся книг является «Reiestr cerkewni na xię-gi przedania»4 за 1643—1645 гг., которую вел Матвей (Матияш) Федорович (на польском языке). В ней сообщается о получении из типографии полного ти-ража Трефологиона — 1358 экземпляров, из которых было 6 дефектных. Это было уже третье издание Трефологиона (Анфологиона), вышедшее из типо-графии 12 апреля 1643 г. После продажи Трефологиона в 1645 г. осталось 572 книги «в секстернах» и 63 — переплетенных, то есть за два года было прода-но 723 Трефологиона. Также в реестре указывается, что из 294 Месяцесловов (1642 г. издания) 13 дефектные, потому что в них нехватает начальной азбуки.
Заслуживает внимания сообщение о том, что киевский митрополит Петр Могила 26 мая 1645 г. передал братству 200 экземпляров Катехизисов, напеча-танных на польском языке, по 15 грошей за каждую книгу5.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1057, 1117, 1174.2 Там же. Д. 983, 1111, 1113, 1165, 1172, 1175, 1183.3 Там же. Д. 1064, 1077, 1113, 1158. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 620—622.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1058. Л. 1—13. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 539—544.5 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 543.
341§ 6. Финансово-отчетные документы
Среди покупателей были члены братства и люди, сотрудничавшие с ним. Некоторые братчики покупали сразу несколько книг, например «п. Константин взял по 5 зл.» пять Часословов. Часослов купили также братчики Габриель Лангиш и Павел Лавришевич, причем покупали они более дорогие книги, в переплете. Типографу Михаилу Слёзке продавали книги чуть дороже, чем чле-нам братства. Так, Часословы в переплете были проданы ему сначала за 6 зло-тых, а позже два экземпляра в секстернах — по 5 злотых. Часослов в секстернах был продан братскому повару за 2 злотых.
В целом продажа книг по этому реестру выглядит следующим образом:
Таблица 5
Роспись проданных книг в 1643—1645 гг. по реестру Матвея Федоровича
Книга, год издания
в секстер-нах,
кол-во, штук
в переплете, кол-во, штук
подарен-ные, кол-во, штук
цена книги (злотый,
грош)
сумма(злотый,
грош)
Трефологион1643
84 * 20 зл. 168070 1484 зл. 18 гр.
61 — —всего
трефологинов 61 154 3164 зл. 18 гр.
Часослов по-лууставный
1642
5 * 6 зл. 30 зл.7 * 5 зл. 35 зл.57 5 зл. 285 зл.5 6 зл. 30 зл.
7+69*** — —34 4 зл. 136 зл.3 2 зл. 6 зл.3 3 зл. 9 зл.1 5 зл. 5 зл.4 4 зл. 15 гр. 18 зл.
всего Часословов 45 74 76 554 зл.
Евангелие1644
12 * 17 зл. 15 гр. 210 зл.10 * 17 зл. 170 зл.1 * 17 зл. 20 гр. 17 зл. 20 гр.3 * 18 зл. 54 зл.5 ** 16 зл. 15 гр. 82 зл. 15 гр.2 ** 17 зл. 34 зл.1 ** 15 зл. 15 гр. 15 зл. 15 гр.
342 Глава 3
Книга, год издания
в секстер-нах,
кол-во, штук
в переплете, кол-во, штук
подарен-ные, кол-во, штук
цена книги (злотый,
грош)
сумма(злотый,
грош)
Евангелие1644
1 ** 16 зл. 16 зл.1 12 зл. 12 зл.
24 14 зл. 336 зл.7 15 зл. 105 зл.4 14 зл. 15 гр. 58 зл.3 14 зл. 24 гр. 44 зл. 12 гр.
всего Евангелий 39 35 — 1101 зл. 2 гр.
* В кожаном переплете.** В «голых досках».***69 книг было выдано типографу Андрею Скольскому за работу.
Всего за 1643—1645 гг. было продано 408 книги трех наименований. Больше всего было продано Трефологионов — 215 книг в переплете кожаном и в сек-стернах.
В реестре Матвея Федоровича сообщаются сведения и о цене переплетов Евангелий. Более дорогой кожаный переплет обходился братству по 2 злотых 15 грошей, а переплет «в голых досках» — 1 злотый 15 грошей1.
Матвей Федорович передал дела по продаже книг Андрею Стрелецкому. Сохранился его реестр продажи книг «Счеты книжные за 1645 г.»2, в котором сообщается о продаже книг к 30 июня 1645 г. В реестре приводятся сведения о продаже семи книг: Трефологиона (1643), Часослова полууставного (1642), Месяцеслова (1642), Псалтыри (1643), Триоди постной (1645), Служебника (1637), Евангелия (1644), Апостола (1645).
В реестре продажи книг Андрея Стрелецкого указываются некоторые поку-патели книг. Например, Трефологион в переплете за 18 злотых (самая низкая цена) купили монахини «под Горохов». По этой же цене купил Трефологион и некий Спиридон3. Отсюда можно сделать вывод, что ценовую политику ча-сто определяли сами покупатели или обстоятельства. Так, частным лицам и более бедным церковным приходам и монастырям нередко делали скидку.
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 543.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1059. Л. 1—13. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 544—546.3 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 544.
343§ 6. Финансово-отчетные документы
Таблица 6
Роспись проданных книг по реестру от 30 июня 1645 г. Андрея Стрелецкого
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в пере-плете, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в
сек-стернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Трефологион1643
50 20 зл. 1000 зл. 4 — * 66 зл. 12 гр.3 18 зл. 54 зл. 4 — * 64 зл.
37 19 зл. 15 гр. 721 зл. 15 гр. 25 16 зл. 400 зл.
2 — * 36 зл.7 18 зл. 126 зл.
29 17 зл. 15 гр. 350 зл.
всего 90 1875 зл. 15 гр. 62 1044 зл.
12 гр.
Часослов с Месяцесловом
1642
2 — * 9 зл. 9 — * 36 зл.6 4 зл. 20 гр. 28 зл. 2 — * 7 зл.2 — * 9 зл. 15 гр.
11 5 зл. 55 зл.5 4 зл. 15 гр. 22 зл. 15 гр.1 4 зл. 25 гр. 4 зл. 25 гр.
всего 27 128 зл. 25 гр. 11 43 зл.
Месяцеслов1642
2 — * 3 зл. 15 гр.2 — * 4 зл.4 — * 7 зл. 15 гр.
всего 8 15 зл.
Псалтырь1643
34 2 зл. 20 гр. 86 зл. 20 гр. 73 2 зл. 146 зл.34 2 зл. 15 гр. 85 зл.1 2 зл. 2 зл.
всего 69 177 зл. 20 гр. 73 146 зл.
Триодь постная1645
3 — * 49 зл.6 — * 99 зл.1 16 зл. 16 зл.1 16 зл. 20 гр. 16 зл. 20 гр.
всего 11 180 зл. 20 гр.
Служебник1637
14 4 зл. 15 гр. 63 зл. 7 — * 24 зл. 15 гр.6 — * 28 зл. 9 — * 30 зл.
всего 20 91 зл. 16 60 зл. 15 гр. **
344 Глава 3
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в пере-плете, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в
сек-стернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Евангелие1644
2 *** — * 32 зл.
7 *** 17 зл. 15 гр. 122 зл. 15 гр.
1 *** 17 зл. 17 зл.9 **** — * 156 зл.
всего 19 327 зл. 15 гр.
Апостол1645 7 11 зл. 77 зл. 3 9 зл. 27 зл.
Всего книг 243 2858 зл. 5 гр. 173 1335 зл.
27 гр.
* В реестре цена не указана.** Так указано в реестре, должно быть 54 зл. 15 гр. ***Переплет в досках («в дощках оправлено»).**** Переплет «под маринес в золото оправные».
Четыре Трефологиона в секстернах и два Часослова с Месяцесловом купил типограф Михаил Слёзка, несколько книг — слуга киевского митрополита Петра Могилы Предремерский: четыре Трефологиона в секстернах и четыре Месяцеслова в секстернах. Двадцать пять Трефологионов в секстернах было продано самому Петру Могиле «на мемрам».
В этом реестре имеется список книг, «котрые кому ся дали розные з по-зволения панов братий»1. В нем указано пять книг, которые были подарены людям, сотрудничавшим с братством. Очень важным свидетельством являет-ся упоминание о дьяке Лазаре, долгие годы преподававшем в братской шко-ле: учил чтению и музыке. Лазарю был подарен Октоих, необходимый ему в профессиональной деятельности. Настоятелю братской Успенской церкви отцу Паисию были подарены Октоих,Часослов с месяцесловом в переплете и Псалтырь в секстернах. Также Псалтырь в секстернах была подарена дьякону Успенской церкви.
Ценными являются сведения о переплетных работах. Всего интролигато-рам (переплетчикам) было отдано в переплет 205 книг. Из реестра видно, что такие книги пользовались большим спросом, и за отчетный период было про-дано 243 переплетенные книги.
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 546.
345§ 6. Финансово-отчетные документы
Таблица 7Роспись цен и стоимости услуг переплетчиков по реестру от 30 июня 1645 г. А. Стрелецкого
Наименование книги
Количество книг, штук
Цена переплета книги
(злотый, грош)
Стоимость всех переплетов
(злотый, грош)
Служебник 20 18 гр. 24 зл.
Псалтырь 110 18 гр. 66 зл.
Апостол 10 38 гр. 12 зл. 20 гр.
Трефологион 55 2 зл. 110 зл.
Часослов с месяцесловом 10 26 гр. 8 зл. 20 гр.
Всего 205 221 зл. 10 гр.
Следующий сохранившийся реестр отражает продажи книг в 1649—1651 гг. и расходы братства на типографию: «Реестр списку книг церковных, щом почав продовати розне року 1649, мhсяца ноеврыя 20 дня»1. В нем зафик-сированы суммы с продажи девяти книг: Трефологиона (1643), Триоди пост-ной (1645), Евангелия напрестольного (1644), Евангелия Учительного (воз-можно, киевское издание 1637 г.), Октоиха (1644), Часослова полууставного и Месяцеслова (1642), Псалтыри (1643) и Требника киевской печати (1646). По сравнению с предшествующим реестром здесь не упоминаются Служебник и Апостол, зато появляются Октоих, Евангелие учительное и Требник ки-евской печати (Петра Могилы). Формуляр реестра такой же, как и у реестра от 30 июня 1645 г. Андрея Стрелецкого, то есть в нем содержатся сведения о количестве проданных книг «увязованых» и «в секстернах», указана цена, по которой продавали книги, и общая стоимость вырученных от продажи денег.
В реестре от 20 ноября 1649 г., так же как и в предшествующих, сообщается о подаренных книгах. Среди них перечислены не только книги собственной типографии (Часослов с месяцесловом, Часослов полууставный, Псалтырь, Октоих, Евангелие), но и «4 книжкы грецкыи»2, подаренные старшими брат-чиками из собрания библиотеки братства.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1065. Л. 1—15. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 546—550.
2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 547.
346 Глава 3
Таблица 8Роспись проданных книг по реестру от 20 ноября 1649 г.
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в перепле-
те, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Трефологион1643
51 20 зл. 1020 зл. 22 18 зл. 396 зл.1 19 зл. 8 гр. 19 зл. 8 гр.
всего 52 1039 зл. 8 гр. 22 396 зл.
Триодь постная1645 2 — * 30 зл.
Евангелие 1644
27 ** 18 зл. 486 8 15 зл. 120 зл.
11 *** 16 зл. 15 гр.
180 зл. 15 гр.
всего 38 666 зл. 15 гр. 8 120 зл.
Октоих1644
8 14 зл. 112 зл. 6 12 зл. 73 зл. ****
2 — * 24 зл.
2 13 зл. 25 гр. 27 зл. 20 гр.
всего 12 163 зл. 20 гр. 6 73 зл.
Часослов с Месяцесловом
164217 5 зл. 85 зл. 8 4 зл. 32 зл.
Часослов полууставный
16421 2 зл. 2 зл.
Месяцеслов1642 1 1 зл. 15 гр. 1 зл.
15 гр.Евангелие
учительное1637
1 20 зл. 20 зл.
1 19 зл. 19 зл.
всего 2 39 зл.
Псалтырь1643
1 2 зл. 13,5 гр. 2 зл. 13,5 гр.
1 2 зл. 10 гр. 2 зл. 10 гр.2 5 зл.
всего 4 9 зл. 23,5 гр.
347§ 6. Финансово-отчетные документы
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в перепле-
те, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Требник(Киев)
1646
4 19 зл. 76 зл. 2 зл. 18 зл. 36 зл.
2 19 зл. 10,5 гр. 38 зл. 21 гр.
всего 6 114 зл. 21 гр. 2 зл. 36 зл.
Всего книг 133 1078 зл. 19,5 гр. 48 660 зл.
15 гр.* В реестре цена не указана.** Переплет «под маренес».*** Переплет в досках («у дощках»).**** Такая сумма указана в реестре.
Книги, напечатанные в типографии братства использовались в братской церкви и Онуфриевском монастыре, и это фиксировалось в отчетах. В рас-сматриваемом источнике это Триодь постная, которую «узяв пан Васили Григорович до церкви нашой»1, и Октоих «до монастыря нашего... месяца октоврия 12 дня у суботу» 1650 г.2
В реестре фиксировались рабочие записи продавца, например, о том, что книгу приобрели в долг: «пан Андрей Стрелецкий един Охтай увязаный — на потребу пана Стефана Нестеровича, за ню мает заплатити»3. Эта запись за-черкнута, что говорит о том, что за книгу долг на момент отчета был уплачен.
Реестр продажи книг, начатый 4 мая 1651 г., написан на польском языке: «Regestr przedazi xiąg roznich cerkewnich porzyna sie od roku Pańskiego 1651, maia 4, także też wydatkow roznych, ktore sie wydawały z roskazania pp. bracy tak młod-szych, iako i starszych». Он содержит сведения о продаже книг в 1651—1654 гг. и расходов на разные нужды4. Начинается реестр сообщением о том, что город Львов находился «под Божиим гневом» — на него обрушилось «поветрие мо-ровое». Многие жители, в том числе и члены братства, разъехались из города, «уходя от гнева Божьего». А когда «Господь Бог умерил гнев свой», никто из членов братства не хотел брать на себя обязательства по продаже книг. Расходы братства были большими, поэтому продавать книги было необходимо, и этим
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 547.2 Там же.3 Там же.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1066. Л. 1—19. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 551—559.
348 Глава 3
занимались разные члены братства, которые по-видимому, вели свои записи, сведенные затем в общий отчет, вероятнее всего, Матвеем Федоровичем.
Расходы у братства действительно в этот период были большими. Помимо текущих трат на содержание Успенской церкви, Онуфриевского монастыря и госпиталя, школы и типографии, король Ян Казимир выдал в 1651 г. привилей Гостынскому хорунжему Станиславу Студзинскому, слуге коронного канцле-ра князя Андрея Лещинского, на типографии Львовского братства и Михаила Слезки. На эти топографии был наложен Магистратом города Львова секвестр, под который попали недвижимое и движимое имущество братской типографии (книги, шрифты, типографские станы1). Братство протестовало против этого решения, и рассмотрение дела дошло до Королевского суда. Благодаря покрови-тельству Киевского воеводы Адама Киселя и маркграфини Анны Мышковской (урожденной Могилы) король в 1652 г. ликвидировал привилей и секвестр от-менил. Однако этот процесс обошелся братской казне в 2 000 злотых2.
В реестре от 1651—1654 гг. имеются записи о продаже всего четырех книг: Трефологиона (1651), Евангелия напрестольного (1644), Октоиха (1644) и Часослова с месяцесловом (1642). Реестр содержит ошибки в подсчете итого-вых сумм продажи за каждую книгу. Возможно, это объясняется как раз тем обстоятельством, что записи о продаже осуществлялись разными людьми, и свести воедино их не удавалось. Только сумма за продажу Часослова с меся-цесловом соответствует росписи проданных книг, остальные три превосходят ту, что получается по записям в реестре. Можно сделать вывод, что записи о продаже еще нескольких книг не зафиксированы в этом источнике.
Таблица 9Роспись проданных книг по реестру 1651—1654 гг.
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в перепле-
те, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в секстер-нах (зло-
тый, грош)
Сумма(злотый,
грош)
Трефологион1651 45 20 зл. 900 зл. 22 18 зл. 396 зл.
Евангелие 1644
35 * 18 зл. 630 зл. 29 15 зл. 435 зл.
1 10 зл. 10 зл. 1 14 зл. 15 гр. 14 зл. 15 гр.
2 — * 27 зл. 4 — * 40 зл.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 599. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 447—449, Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Киев, 1904. Приложения. № 69. С. 136—152.
2 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1926. С. 72.
349§ 6. Финансово-отчетные документы
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в перепле-
те, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в секстер-нах (зло-
тый, грош)
Сумма(злотый,
грош)
Евангелие 1644
2 20 зл. 40 зл. 2 14 зл. 28 зл.
1 ** 19 зл. 19 зл.
3 15 зл. 45 зл.
2 *** 16 зл. 15 гр. 33 зл.
3 17 зл. 51 зл.
1 16 зл. 16 зл.
1 **** 15 зл. 15 зл.
всего 51 866 зл. 36 517 зл. 15 гр.
Октоих1644
11 14 зл. 154 зл. 22 12 зл. 264 зл.
3 13 зл. 10 гр. 40 зл.
9 15 зл. 135 зл.
4 — * 59 зл.
1 12 зл. 12 зл.
1 14 зл. 15 гр. 14 зл. 15 гр.
2 — * 29 зл. 18 гр.
1 15 зл. 10 зл. 6 гр.*****
всего 32 454 зл. 9 гр. 22 264 зл.
Часослов с Месяцесловом
1642
12 5 зл. 60 зл.
1 5 зл. 5 зл.
1 6 зл. 6 зл.
8 4 зл. 32 зл.
всего 22 103 зл.
Всего книг 150 2323 зл. 9 гр. 80 1177 зл.
15 гр.
* В реестре цена не указана.** Переплет «под маренес».*** Переплет в досках.****Переплет «в голых досках».***** Заплатили деньгами 10 зл. 6 гр., а остаток бусами и Полууставом.
350 Глава 3
В реестре несколько раз указывается, что книга была выдана с услови-ем заплатить за нее позже, но обещание осталось невыполненным. Так, за Трефологион в переплете некий Федор Куртый не заплатил 20 злотых; за Евангелие напрестольное стоимостью 10 злотых денег «до сих пор не дали»; один Трефологион в секстернах взял братчик Василий Леонович и не запла-тил 18 злотых «od tych czas», он же взял Октоих в секстернах и «не заплатил»1. Автор реестра зафиксировал, что он сам взял для своих нужд Часослов с меся-цесловом и отметил, что заплатит при подведении расчета2.
В этом реестре имеются сведения о выдаче книг учителям братской школы. Трефологион в переплете и Евангелие напрестольное «в голых досках» дали дьякону Матфею, «который учил детей в школе нашей, при отправлении, когда уходил от нас»; переплетенный Трефологион дали дьякону из Берестечка, «ко-торый учил детей в нашей школе», и обещал заплатить «по приезде», ему же выдан был Октоих в переплете («денег не дал»)3.
Важно отметить, что бедным церковным приходам продавали книги в виде исключения с большой скидкой. Так, Октоих в переплете был продан церкви Честного Креста за 12 злотых («уговаривала убогая парафия»)4.
Дарили книги в эти тяжелые для братства и всех горожан годы не в та-ком количестве, как обычно, насколько это можно судить из записей реестра. Среди подаренных книг отмечены только Евангелие напрестольное в пере-плете, которое дали львовскому епископу Арсению Желиборскому, и в сек-тернах — его архидиакону. Типограф Михаил Слёзка взял четыре Евангелия в секстернах, чтобы преподнести епископу, но братство потребовало от него «заплатить сполна 60 злотых». А вот епископу перемышльскому два Евангелия были проданы за 27 злотых, то есть со значительной скидкой.
Книги использовались для нужд братства. Один Октоих в секстернах был выдан пану Матвею, «который ездил в Варшаву по делам церковным с панами братиями». Книга выдавалась в таких случаях вместо денег с целью ее прода-жи и окупаемости всех подорожных расходов. Один Октоих в переплете был передан Успенской братской церкви. Книги покупали у братства переплетчи-ки. В реестре зафиксированы продажи трех Евангелий в секстернах (два купил переплетчик Иван). Причем если тридцать три книги были проданы по 15 зло-тых, то переплетчикам одну книгу продали за 14,5 злотых, а две по 14 злотых.
Отдельно в реестре приводятся записи о продаже книг «из избы братской», которые продавал Василий [Леонович]5. Здесь продавались книги других наи-менований: Псалтырь (1643), Триодь постная (1645) и Требник киевской пе-
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 551.2 Там же. С. 553.3 Там же. С. 551.4 Там же. С. 553.5 Там же. С. 558.
351§ 6. Финансово-отчетные документы
чати (1646). Также здесь отмечено, что одну Псалтырь подарили портному Ференцу.
Таблица 10Роспись проданных книг по реестру 1651—1654 гг. Василия [Леоновича]
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в переплете,
штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во про-данных книг в секстернах,
штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(зло-тый,
грош)
Псалтырь1643 2 3 зл. 6 зл.
Триодь постная1645 3 18 зл. 54 зл.
Требник (Киев)1646 1 22 зл. 22 зл. 3 18 зл. 54 зл.
Всего книг 3 28 зл. 6 108 зл.
Таким образом, по этому реестру общее количество проданных книг соста-вило 239 томов на сумму 3636 злотых 24 грошей.
Сохранился следующий реестр продажи книг и расходов, начатый в июне 1654 г., который вел Павел Александрович («Pawła Aleksandrowicza oddany re-iestr przedaży xiąg i wydatkow... anno 1654»1). В этом году продавали пять изданий типографии братства: Трефологион (1651), Евангелие напрестольное (1644), Октоих (1644), Триодь постную (1645) и Часослов полууставный (1642).
Таблица 11Роспись проданных книг по реестру Павла Александровича 1654 г.
Наименова-ние книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в перепле-
те, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Трефологион 1651
27 20 зл. 540 зл. 5 16 зл. 80 зл.2 14 зл. 28 зл.
всего 28 568 зл. 5 80 зл.Евангелие
1644 36 18 зл. 648 зл. 7 13 зл. 91 зл.
1 14 зл. 14 зл.всего 36 648 зл. 8 105 зл.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1072. Л. 1—10. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 559—561.
352 Глава 3
Наименова-ние книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в перепле-
те, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Октоих1644
31 14 зл. 434 зл. 4 12 зл. 48 зл.1 15 зл. 15 зл.
всего 32 449 зл. 4 48 зл.Триодь постная
164513 — * 241 зл. 2 — * 33 зл. 15 гр.
Часослов полууставный
164211 5 зл. 55 зл. 4 4 зл. 16 зл.
Всего книг 120 1961 зл. 23 282 зл. 15 гр.
* В реестре цена не указана.
Всего за год (до февраля 1655 г.) было продано 143 книги на сумму 2243 зло-тых 15 грошей.
Реестр содержит сведения о цене переплетных работ1. По реестрам видно, что книги в переплетах пользовались большим спросом, переплетенные книги продавать было выгоднее, а затраты братства на переплеты книг были не столь значительны.
Таблица 12Роспись стоимости переплетных работ по реестру Павла Александровича
1654 г.
Наименование книги Количество книг, штук Стоимость всех переплетов(злотый)
Евангелие 3 9Октоих 12 18
Трефологион 20 40Триодь постная 7 15
Всего 42 82 По записям реестра видно, что цена переплета Евангелия — 3 злотых.
Братство продавало переплетенные Евангелия на 5 злотых дороже, чем в сек-стернах. Цена переплета Октоиха — 1 злотый 15 грошей, продавалась же пере-плетенная книга на 2—3 злотых дороже. При цене переплета Трефологиона 2 злотых основная цена переплетенной книги была на 4 злотых дороже, чем
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 560.
353§ 6. Финансово-отчетные документы
непереплетенной. Видимо, этим обстоятельством объясняется тот факт, что в течение десятилетия продажи переплетенных книг увеличивались, а непере-плетенных — уменьшались.
Реестр проданных и полученных для продажи книг за 1656—1657 гг. вел Павел Прокопович («Roku Pańskiego 1656, reiestr xiąg tak przedanych, iako też i odebranych... dnia maia 19»1). Формуляр этого реестра несколько отличает-ся от предшествующих. Здесь содержатся подробные сведения о получении книги каждого наименования и отчет о количестве проданных и оставшихся книг. Есть пометы о недостаче, например, на момент отчета не хватало шесть Псалтырей в секстернах и двух в переплете2. По реестру зафиксированы про-дажи книг семи наименований: Евангелие (1644), Трефологион (1651), Октоих (1644), Триодь постная (1645), Часослов полууставный (1642), Псалтырь (1643), Требник «большой», то есть киевской печати (1646).
Таблица 13
Роспись проданных книг по реестру Павла Прокоповича 1656—1657 гг.
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в перепле-
те, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в секстернах
(злотый, грош)
Сумма(зло-тый,
грош)
Трефологион 1651
1 15 зл. 15 зл.15 20 зл. 300 зл.
всего 16 315 зл.Евангелие
1644 17 20 зл. 340 зл. 2 17 зл. 34 зл.
Октоих1644 20 15 зл. 300 зл. 2 13 зл. 15 гр. 27 зл.
Триодь постная
16454 20 зл. 80 зл.
Часослов полууставный
16423 5 зл. 15 зл. 1 4 зл. 4 зл.
Псалтырь1643 4 3 зл. 12 зл.
Требник (Киев)1646 1 24 зл. 24 зл.
Всего книг 50 1086 зл. 20 65 зл.
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 561—564.2 Там же. С. 562.
354 Глава 3
По реестру, было продано 70 книг на сумму 1151 злотых. В итоговой сум-ме Павла Прокоповича значатся за проданные книги 1184 злотых «з преказом должку рочного»1, то есть 33 злотых были уплачены за проданные ранее в долг книги. В этом реестре отмечено пять розданных книг: Трефологион в перепле-те, два Часослова полууставных (переплетенный и в секстернах) и две «оправ-ные» Псалтыри. Из них переплетенный Часослов был передан в патронируе-мый братством Онуфриевский монастырь.
Реестр содержит и информацию о переплетных работах:
Таблица 14Роспись цен и стоимости услуг переплетчиков по реестру Павла Прокоповича
1656—1657 гг.2
Наименование книги
Количество книг, штук
Цена переплета книги
(злотый, грош)
Стоимость всех пере-плетов
(злотый, грош)Евангелие 4 3 зл. 15 гр. 16 зл.
Октоих 16 1 зл. 10 гр. 23 зл. 10 гр.Часослов полуустав-
ный 10 1 зл. 6 гр. 12 зл.
Всего 30 51 зл. 10 гр.
Если сравнить цену на переплетные работы в 1654 г. по этому (1656—1657 гг.) и предшествующему (1654 г.) реестром, то видно, что они несколько различа-ются. Так, переплет Евангелия на 15 грошей дороже, а Октоиха — на 5 грошей дешевле, чем в рассмотренном ранее реестре. Это объясняется тем, что пере-плетные работы выполняли разные мастера, и стоимость их услуг устанавли-валась на договорной основе.
Следующий сохранившийся реестр продажи книг — «Счеты с продажи книг и выдатков церковных за час 1659 — 1664» Стефана Лавришевича3. Он существенно отличается от всех предшествующих. Как и другие реестры, он состоит из двух самостоятельных частей: собственно реестра продаж книг и реестра расходов. Первая часть содержит отчет о продаже каждой из семи книг, который включает, в свою очередь, два раздела:
1) реестр «одбираня» книг, то есть получения от старших братчиков книг на протяжении нескольких лет для продажи, где фиксировались даты получения книг, их количество, а также отмечалось, сколько книг осталось в переплете и в секстернах после последнего отчета, то есть к 5 июля 1659 г.;
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 564.2 Там же. С. 563.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1076. Л. 1—33. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 564—581.
355§ 6. Финансово-отчетные документы
2) собственно «реестр продаж», в котором фиксировалось, сколько каких книг продано, отмечалось, кому они проданы, а также кому были розданы книги бесплатно.
Начинается реестр сообщением о выборе Стефана Лавришевича на элекции 5 июля 1659 г. продавцом книг: «зезволили панове братия мене Стефанови Лаврешевичови, яко брату, вспул з ними будучому, книги братскhе скарбу церковного продавати, так теж и шафарство, то есть на потребы церков-ные пhнязh выдавати»1.
Всего по реестру с момента выбора Стефана Лавришевича продавцом книг (5 июля 1659 г.) по 15 сентября 1662 г. было выдано для продаж 127 Евангелий (1644), по 17 сентября 1662 г. — 124 Трефологиона (1651), по 10 января 1662 г. — 51 Триодь постная (1645), по 17 сентября 1662 г. — 97 Октоихов (1644), по 15 июня 1662 г. — 58 Месяцесловов (1642) и по 12 июня 1662 г. — 68 Псалтырей (1643). Всего за это время было выдано для продажи 525 книг.
Таблица 15
Роспись проданных книг по реестру 1659—1664 гг. Стефана Лавришевича
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в пере-плете, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Евангелие1644
1 22 зл. 22 зл. 4 16 зл. 64 *
31 20 зл. 620 зл. 81 17 зл. 1377 зл.
1 10 зл. 10 зл.
всего 31 642 зл. 86 1451 зл.
Евангелие Учительное
16371 23 зл. 23 зл.
Трефологион1651
23 20 зл. 460 зл. 1 17 зл. 17 зл.
22 — ** 440 зл. 1 19 зл. 19 зл.
1 12 зл. 12 зл.
8 17 зл. 24 гр. 142 зл. 12 гр.
36 20 зл. 720 зл.
22 [18 зл.] 396 зл.
1 17 зл. 17 зл.
всего 45 900 зл. 70 1323 зл. 12 гр.
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 565.
356 Глава 3
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в пере-плете, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Триодь постная
1645
4 20 зл. 88 зл. 3 [20 зл.] 60 зл.
2 22 зл. 44 зл. 1 *** 19 зл. 19 зл.
5 — ** 110 зл. 19 20 зл. 380 зл.
14 — ** 308 зл.
всего 25 550 зл. 23 459 зл.
Октоих1644
3 — ** 44 зл. 2 — ** 27 зл.
18 [15 зл.] 270 зл. 2 — ** 24 зл.
2 — ** 32 зл. 1 13 зл. 13 зл.
1 15 зл. 15 зл. 61 13 зл. 15 гр. 823 зл. 15 гр.
всего 24 361 зл. 66 887 зл. 15 гр.
Месяцеслов1642
10 5 зл. 55 зл. 3 4 зл. 12 зл.
15 [5 зл.] 75 зл. 19 — ** 56 зл.
4 — ** 16 зл.
всего 25 130 зл. 26 84 зл.
Псалтырь1643
16 — ** 48 зл. 1 2 зл. 2 зл.
1 3 зл. 3 зл. 17 2 зл. 12 гр. 40 зл. 18 гр.
10**** — ** 30 зл. 2**** — ** 4 зл.
20 2 зл. 27 гр. 57 зл. 15 гр.
всего 27 81 зл. 40 104 зл. 3 гр.
Всего книг 177 2664 зл. 312 4332 зл.
*За одну книгу Павел Вороцовский должен был доложить злотый «и умер, а не дал»1.**В реестре цена не указана.***Дефектный экземпляр.****Книги без молитв.
Всего по реестру было продано 489 книги на сумму 6996 злотых. Среди по-купателей следует отметить епископа перемышльского, который купил два Евангелия в секстернах по 16 злотых, две переплетенных Триоди постных по 20 злотых, три Октоиха в переплете за 44 злотых и два в секстернах за 24 зло-тых. Переплетчик Ян купил Трефологион в секстернах за 20 злотых.
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 566.
357§ 6. Финансово-отчетные документы
Весьма важными сведениями являются записи о том, куда отправлялись книги, а особенно — география подаренных книг. Так, Любельской церк-ви были подарены Евангелие в переплете и Трефологион в секстернах, для Брест-Литовска жена Стефана Лавришевича в его отсутствие выдала в 1662 г. Трефологион в секстернах («даровали пане») и Октоих в секстернах. Дарили книги церковным приходам Збоиска (львовского предместья), Брод, Русской Рясны, Щеплоты, Креховскому монастырю и др.
Книги братской типографии отправлялись не только в близлежащие насе-ленные пункты, но и дарились весьма отдаленным от Львова православным церквям и монастырям. Особое место среди них занимал Афон. В рассматри-ваемом реестре есть сведение о том, что в 1662 г. «в небытности моюй, мал-жонка (жена) моя, з розказаня панув старших, выдала до Св. Горы Евангелие увязаное злоцhстое 1».
Реестр содержит ценные сведения о механизме торговли книгами, установ-лении цен и отчетности за проданные книги. Старшие братчики иногда при-нимали решение о подорожании той или иной книги. Стефан Лавришевич указывает, что в его отсутствие в 1662 г. «панове старшии поднесли таксы на Трефолой по копh, то есть в секстернах казали продавати по двайцят зло-тых». Однако установленная цена на книгу в исключительных случаях сни-жалась.
При недостаче члены братства старались выручать друг друга. Так, Стефан Лавришевич записал, что одного Трефологиона «не достает, за него кладет п. Стефан злотых 17»1.
В реестре есть сведения о неуплате денег в связи со смертью одного из старейшин братства Матвея Федоровича. Он брал книги для разных лиц с условием, что позже деньги вернет продавцу. Но из-за его смерти некоторые долги остались невозвращенными на момент составления итогового отчета. Например, одно Евангелие в секстернах «п. Матияш дал на Збоиска до церк-ви, за которое не заплатил, так и умер», другое — взял и «не дал грошей»2. Также здесь есть записи о том, что старший братчик Матвей Федорович в от-сутствие продавца книг Стефана Лавришевича забирал книги у переплетчи-ков и передавал покупателям: «В небытность моюй в року 1661 п. Матыяш узял у п. Андрея интролигатора Трефолой оправный 1, а той Трефолой не заплатил, а дал до Руской Рясной до церкве», «в року 1662 также в небыт-ности моюи узял од интролигатора оправный 1 (Трефологион) п. Матияш, и той не заплатил»3. Также встречаются записи о том, что братчики взяли кни-гу в долг: «у п. Василия Леоновича 1 (Октоих) на боргу»4. Эти свидетельства
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 567.2 Там же. С. 566.3 Там же. С. 567.4 Там же. С. 568.
358 Глава 3
позволяют представить механизм покупки книг, когда продавец, под чест-ное слово, давал книгу с условием уплатить позднее недостающую сумму или даже всю стоимость книги.
Следует также отметить, что члены братства были активными и постоян-ными читателями и имели дома небольшие библиотеки1. Так, тот же Матвей Федорович взял «собh в дум» Месяцеслов в переплете и Псалтырь в перепле-те («на борг»). Эти книги относятся к числу так называемых «четьих» книг, то есть предназначенных и для душеполезного чтения, и для обучения грамоте. Братчик Петр Афендик купил Трефологион в секстернах за 18 злотых. Это — дорогая богослужебная книга. Ее покупка говорит или о высокой культуре чи-тателя, или о том, что книгу могли взять для перепродажи. Однако братство строго следило, чтобы его книги не продавали дороже установленных брат-ством цен, поэтому можно с определенной долей уверенности утверждать, что книги братчики покупали именно для чтения.
Следующая сохранившаяся книга продажи — «Реестр продажи книг роз-ных церковных в року тисяча шестсот шестдесят третем з скарбу церков-ного паном Василием Леоновичем выданных месяца февраля осмого дня»2. Продавали книги и вели записи Иван Захаркевич и его зять Семен Лавришевич. Реестр 1663 г. содержит записи о продаже семи книг: Евангелия напрестоль-ного (1644), Трефологиона (1651), Октоиха (1644), Часослова полууставного (1642), Псалтыри (1643), Часослова школьного (малого) ([1662]) и Грамматички школьной (Букваря) ([1662]). Из них — новые издания Часослова школьного и Грамматички школьной. Издания Часослова школьного и Грамматички школь-ной до наших дней не сохранились и известны только по документам из архи-ва братства.
Согласно записям реестра, было взято для продажи Евангелий — 50 эк-земпляров, Трефологионов — 100 экземпляров, Октоихов — 50 экземпляров, Часословов полууставных — 50 экземпляров, Псалтырей — 100 экземпляров, в том числе 8 книг с молитвами, Часословов школьных — 277 экземпляров и Грамматички школьной — 200 экземпляров. Нужно отметить, что часть книг оставалась у продавца после предшествующего получения книг и сдачи отчета братству о продажах.
1 О библиотеках членов братства см.: Шустова Ю. Э. Библиотека члена Львовского брат-ства Константина Мадзапеты // Вторые чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева (Москва, 28—29 октября 2004 г.): Материалы. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 139—145; Она же. Библиотека члена Львовского Успенского братства Леська Малецкого // Третьи чте-ния памяти профессора Николая Федоровича Каптерева (Москва, 26—27 октября 2005 г.): Материалы. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 101—104.
2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 581—585.
359§ 6. Финансово-отчетные документы
Таблица 16
Роспись проданных книг по реестру 1663 г.
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в перепле-
те, штук
Цена книги в переплете
(злотый, грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в секстер-
нах,штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Евангелие1644
9* 20 зл. 180 зл. 13 17 зл. 221 зл.
1 20 зл. 20 зл. 3 — ** 54 зл.
12* 22 зл. 164 зл. 1 18 зл. 18 зл.
1* 21 зл. 20 гр. 21 зл. 20 гр. 9 18 зл. 20 гр. 168 зл.
1 22 зл. 1 гр. 22 зл. 1 гр.
всего 24 407 зл. 21 гр. 26 461 зл.
Трефологион1651
13 20 зл. 360 зл. 10 17 зл. 170 зл.
1 20 зл. 12 гр. 20 зл. 12 гр. 11 18 зл. 198 зл.
1 21 зл. 21 зл. 1 19 зл. 19 зл.
19 22 зл. 418 зл. 2 19 зл. 20 гр. 39 зл. 10 гр.
10 19 зл. 20 гр. 196 зл. 20 гр.
1 20 зл. 20 зл.
1 19 зл. 15 гр. 19 зл. 15 гр.
23 — ** 475 зл. 25 гр.
всего 34 819 зл. 12 гр. 59 1138 зл.
10 гр.
Октоих1644
14 15 зл. 210 зл. 3 13 зл. 15 гр. 40 зл. 15 гр.
20 16 зл. 320 зл. 1*** 14 зл. 14 зл.
1 16 зл. 13 гр. 16 зл. 13 гр. 2 — ** 25 зл.
1 15 зл. 25 гр. 15 зл. 25 гр. 1 13 зл. 13 зл.
всего 36 562 зл. 8 гр. 7 92 зл.
15 гр.
360 Глава 3
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в перепле-
те, штук
Цена книги в переплете
(злотый, грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в секстер-
нах,штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Часослов полууставный
1642
16 5 зл. 80 зл. 1 5 зл. 5 зл.
8 6 зл. 48 зл. 12 4 зл. 48 зл.
1 5 зл. 10 гр. 5 зл. 10 гр. 4 4 зл. 15 гр. 18 зл.
всего 25 133 зл. 10 гр. 17 71 зл.
Псалтырь1643
42 3 зл. 126 зл. 6 2 зл. 15 гр. 15 зл.
2 — ** 6 зл. 12 гр. 2 — ** 5 зл.
2 — ** 6 зл. 12 гр. 1 2 зл. 15 гр. 2 зл.
15 гр.
1 3 зл. 10 гр. 3 зл. 10 гр.
4+2**** — ** 13 зл. 13 гр.
12 3 зл. 6 гр. 38 зл. 12 гр.
1 3 зл. 15 гр. 3 зл. 15 гр.
3 — ** 9 зл. 12 гр.
9 — ** 26 зл. 12 гр.
всего 78 233 зл. 8 гр. 9 22 зл.
15 гр.
Часослов школьный
[1662]
100 1 зл. 100 зл. 1 24 гр. 24 гр.
98 1 зл. 2 гр. 104 зл. 16 гр. 25 24 гр. 20 зл.
9 1 зл. 3 гр. 9 зл. 27 гр.
3 — ** 3 зл. 5 гр.
2 — ** 2 зл. 3 гр.
всего 212 219 зл. 21 гр. 26 20 зл.
24 гр.
361§ 6. Финансово-отчетные документы
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в перепле-
те, штук
Цена книги в переплете
(злотый, грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в секстер-
нах,штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Грамматичка школьная
[1662]157 12 гр. 62 зл.
24 гр.
Всего книг 409 2375 зл. 20 гр. 301 1868 зл.
28 гр.* В переплете «под маринес».**В реестре цена не указана.***Книга без канонов повечерних.****4 книги с молитвами, 2 — без молитв.
Всего по реестру 1663 г. было продано 710 книг на сумму 4244 злотых 18 грошей.
В этом реестре, как и в предшествующих, содержатся сведения о покупате-лях и о лицах, кому книги были подарены. Так, монахам из Трембовля были проданы Евангелие в переплете за 20 злотых, Трефологион в секстернах за 17 злотых, Октоих в секстернах за 13 злотых и подарен Трефологин в переплете. Покупал Евангелие в секстернах, Октоих в переплете и Псалтырь в секстернах типограф братства Семен Ставницкий. Девять школьных Часословов купил ти-пограф Дмитрий Кульчицкий и один — дидаскал (учитель) школы Львовского братства1. Переплетчик Андрей приобрел Псалтырь в секстернах, а Данилу за работу было заплачено двумя книгами Псалтыри, общей стоимостью 5 злотых.
Как и в других реестрах, здесь указывается и география покупателей. Книги отправлялись в Галич, Межибож, Зборов, Дубно, Комарно, Теребовль, в Манявский скит. Три школьных Часослова купил епископ сербский. Одно Евангелие в переплете 11 мая 1663 г. было подарено архимандриту «до Св. Горы» (Афон)2.
Реестр продажи книг «Счеты с продажи книг за 1663—1665»3 вел Иван Захаркевич. Реестр написан на украинском языке, за исключением итоговых финансовых записей на польском. Количество книг и цена писались буквен-ной цифирью, а общая стоимость за проданные книги — арабскими цифрами. Эти палеографические особенности говорят о двуязычии православного на-селения в середине XVII в. Члены братства владели и украинским, и польским
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 583.2 Там же. С. 581.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1084. Л. 1—38. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 585—595.
362 Глава 3
языком, причем знали не только устную, но и письменную традицию славяно-кириллического и латино-польского письма. В реестре зафиксированы прода-жи книг десяти наименований: Евангелия напрестольного (1664), Трефологиона (1651), Требника киевской печати (1646), Триоди цветной (1663), Триоди пост-ной (1664), Октоиха (1664), Часослова полууставного (1642), Псалтыри (1642, 1665), Часослова школьного (1662) и Грамматички школьной (1662). Из них — новые переиздания Евангелия, Триоди постной и Псалтыри, а также новое из-дание Триоди цветной.
В реестре имеются сведения о получении со склада книг для продажи. Всего за отчетный период Ивану Захаркевичу было выдано (с учетом остав-шихся у него непроданных книг после предыдущего отчета): 114 Евангелий, 129 Трефологионов, 134 Триодей цветных, 10 Триодей постных, 106 Октоихов, 97 Часословов полууставных, 136 Псалтырей, 547 Часословов школьных, 241 Грамматичка школьная.
Таблица 17Роспись проданных книг по реестру 1663—1665 гг. Ивана Захаркевича
Наименова-ние книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в перепле-
те, штук
Цена книги в переплете
(злотый, грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в секстернах,
штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Евангелие1664
59 22 зл. 1298 зл. 1 18 зл. 15 гр.
18 зл. 15 гр.
1 18 зл. 18 зл.6 20 зл. 120 зл.
30 18 зл. 20 гр. 560 зл.11* 24 зл. 264 зл.
1 21 зл. 18 гр. 21 зл. 18 гр.
1 21 зл. 15 гр. 21 зл. 15 гр.
1 21 зл. 21 зл.
всего 110 2324 зл. 3 гр. 1 18 зл.
15 гр.
Трефологион1651
39 22 зл. 858 зл. 27 19 зл. 20 гр. 531 зл.
9 20 зл. 180 зл. 3 — ** 29 зл.22 24 зл. 528 зл. 1 15 зл. 15 зл.
1 24 зл. 11 гр. 24 зл. 11 гр.
3 23 зл. 2. гр. 71 зл.
2 21 зл. 24 гр. 43 зл. 18 гр.
363§ 6. Финансово-отчетные документы
Наименова-ние книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в перепле-
те, штук
Цена книги в переплете
(злотый, грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в секстернах,
штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Трефологион1651
2 23 зл. 15 гр. 47 зл.1 18 зл. 18 зл.1 20 зл. 20 зл.
всего 80 1789 зл. 29 гр. 31 575 зл.
Требник(Киев) 1646
1 30 зл. 30 зл.
Триодь цветная
1663
18 20 зл. 360 зл. 14 20 зл. 280 зл.61 20 зл. 1220 зл. 6 18 зл. 108 зл.
1 21 зл. 18 гр. 21 зл. 18 гр. 3 18 зл. 15
гр.55 зл. 15 гр.
1 8 зл. 8 зл.1 16 зл. 16 зл.
всего 80 1601 зл. 18 гр. 25 467 зл.
15 гр.
Триодь постная
1664
1 20 зл. 20 зл.2 17 зл. 15 гр. 35 зл.1 17 зл. 17 зл.
всего 4 72 зл.
Октоих1664
51 16 зл. 816 зл. 18 14 зл. 15 гр. 261 зл.
2 15 зл. 18 гр. 31 зл. 6 гр. 1 14 зл. 10 гр.
14 зл. 10 гр.
3 15 зл. 20 гр. 48 зл.1 15 зл. 15*** зл.
4 15 зл. 21 гр. 62 зл. 24 гр.
1 15 зл. 24 гр. 15 зл. 24 гр.
3 15 зл. 15 гр. 46 зл. 15 гр.
1 15 зл. 16 гр. 15 зл. 16 гр.
2 15 зл. 15 гр. 31 зл.
всего 68 1081 зл. 25 гр. 19 275 зл.
10 гр.
364 Глава 3
Наименова-ние книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в перепле-
те, штук
Цена книги в переплете
(злотый, грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в секстернах,
штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Часослов полу-
уставный1642
14 6 зл. 84 зл. 6 4 зл. 15 гр. 27 зл.6 7 зл. 42 зл. 3 4 зл. 12 зл.
5 5 зл. 14 гр. 27 зл. 10 гр. 2 4 зл. 9 гр. 8 зл.
18 гр.
7 5 зл. 20 гр. 39 зл. 20 гр. 3 4 зл. 10 гр. 13 зл.
1 5 зл. 18 гр. 5 зл. 18 гр.1 5 зл. 5**** зл.
7 5 зл. 15 гр. 38 зл. 15 гр.
2 5 зл. 21 гр. 11 зл. 12 гр.
всего 43 253 зл. 15 гр. 14 60 зл.
18 гр.
Псалтырь16421645
61 3 зл. 183 зл. 3 2 зл. 10 гр. 7 зл.1 3 зл. 5 гр. 3 зл. 5 гр. 36 2 зл. 72 зл.
2***** — ** 7 зл. 12 гр. 13***** 2 зл. 15 гр. 38 зл. 15 гр.
2 — ** 9 зл. 9 гр.
6 3 зл. 4 гр. 18 зл. 24 гр.
6***** 3 зл. 20 гр. 22 зл.2***** 3 зл. 25 гр. 7 зл. 20 гр.1 ***** 3 зл. 18 гр. 3 зл. 18 гр.
всего 81 254 зл. 28 гр. 52 117 зл.
15 гр.
Часослов школьный
1662
307 1 зл. 307 зл. 128 24 гр. 102 зл. 12 гр.
11 1 зл. 2 гр. 11 зл. 22 гр. 6 23 гр. 4 зл.
18 гр.
17 1 зл. 1 гр. 17 зл. 17 гр. 10 20 гр. 6 зл.
20 гр.8 1 зл. 1,5 гр. 8 зл. 12 гр.
3 1 зл. 2/3 гр. 3 зл. 2 гр.
всего 346 347 зл. 23 гр. 144 113 зл.
20 гр.
365§ 6. Финансово-отчетные документы
Наименова-ние книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в перепле-
те, штук
Цена книги в переплете
(злотый, грош)
Сумма(злотый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в секстернах,
штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Грамматичка школьная
1662
142 12 гр. 54 зл. 24 гр.
7 10 гр. 2 зл. 10 гр.
12 11 3/7 гр. 4 зл. 12 3/7 гр.
5 10 4/5 гр. 1 зл. 24 гр.
всего 166 63 зл. 10 3/7 гр.
Всего книг 979 7819 зл. 1 3/7 гр. 286 1628 зл.
* Книги «реаловые».**В реестре цена не указана.*** Заплачено было «уртами, шостками и пултораками».****Заплачено было «шостками и оргами»1.***** Книги с молитвами.
Всего по реестру в 1663—1665 гг. было продано 1265 книг на сумму 9447 зло-тых 1 3/7 грошей.
На основании этого источника можно проследить географию продажи книг: Евангелие в переплете продали «до с. Ряснои», Трефологион в секстернах был продан церковному приходу в Головске, Колоденецкой церкви, монастырям Погони и Тригорскому. Триодь цветная подарена монастырям Любарскому, Погони, Св. Троицы «з-за Топорва», Триодь постная — Креховскому мона-стырю, Октоих (в секстернах) и Часослов полууставный (в переплете) — мона-стырю Погони, Часослов полууставный — монастырям Любарскому и Зотонар, Псалтырь с молитвами в секстернах — монастырю Погони. Два Часослова школьных в переплете подарили купцам из Гданьска, которые продавали брат-ству бумагу2.
Книги передавались в Успенскую церковь и Онуфриевский монастырь (Тре фо логионы в переплете, Триоди цветные, Триоди постные в переплете, Псал тырь с молитвами). Дефектный экземпляр Требника киевской печати был
1 «Урты», «орги» — искаж. — орты (польск. — ort, urt) — монета и денежно-счетная единица. Орт был эквивалентным 7,5 грошей и равнялся 1/4 счетного польского злотого.
«Шостки» — шестак, шестигрошевик (польск. — szóstak) — польская серебряная моне-та стоимостью 6 грошей.
«Пулторак» — полторак, полторагрошевик (польск. — półtorak) — польская серебряная монета стоимостью 1,5 гроша.
2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 590.
366 Глава 3
передан в типографию в качестве образца1. Один экземпляр Часослова школь-ного также был передан в типографию.
По более дешевой цене (15 злотых) был продан Трефологион диакону львов-ского епископа Арсения Желиборского. Епископу братчики подарили новоиз-данную Триодь цветную.
Братчики покупали книги или брали в долг: Юрий Папара «взял» Часослов полууставный, Василий Леонович купил за 7 злотых 12 грошей Псалтырь с мо-литвами в переплете, Стефан Павлович «взял» Псалтырь, Петр Афендик — Часослов школьный, Андрей Стрелецкий девять Грамматичек школьных «взял, не платил». Новоизданную Триодь цветную подарили членам братства Петру Афендику и Василию Леоновичу, настоятелю Онуфриевского монасты-ря. А Семен Лавришевич купил книгу в секстернах за 18 злотых.
3 апреля 1665 г. переплетенные Триодь цветная и Триодь постная были по-дарены Афонскому монастырю Св. Павла: «до горы Св. Афонской даровали Панове до обители Св. Павла»2.
Как и реестр 1659—1664 гг. Стефана Лавришевича, реестр Ивана Захаркевича содержит указание на повышение цен на Трефологионы. Если в 1662 г. цена на книгу в секстернах была установлена 20 злотых, то 18 января 1665 г. — 22 зло-тых. Книга в переплете должна была продаваться по 24 злотых3.
Всего в десяти рассмотренных реестрах за 1643—1665 гг. зафиксировано проданных книг 3921 четырнадцати наименований на сумму 38 379 злотых 5 грошей. Однако следует учитывать, что в реестрах не все фактически продан-ные книги учитывались. По рассматриваемым реестрам нельзя сделать точные подсчеты розданных или подаренных книг, так как в них фиксировались толь-ко те книги, которые по просьбе старших братчиков выдавал из книжной лав-ки продавец, и в реестрах также зафиксированы не все случаи дарения. Кроме того, часть книг члены братства дарили непосредственно с книжного склада, и эти подарки не фиксировались ни в каких документах.
На протяжении рассматриваемого двадцатилетия книжные продажи были неравномерными. В 40—50-х гг. XVII в. продажи были не столь большими. Это обусловлено прежде всего военным временем и финансовыми трудностями послевоенного периода, которые испытывало и само братство, и православ-ное население города и восточных земель Речи Посполитой, которое покупа-ло книги. Только с начала 60-х гг. отмечается активизация спроса на книги. Заметно выросло и количество продаж, а это, в свою очередь, позволило акти-визировать книгоиздательскую деятельность. Из типографии в первой полови-не 60-х гг. XVII в. выходит семь книг: Часослов школьный (1662), Грамматичка
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11 С. 587.2 Там же. С. 587, 586.3 Там же. С. 586.
367§ 6. Финансово-отчетные документы
школьная (1662), Триодь цветная (1663), Евангелие напрестольное (1664), Октоих (1664), Триодь постная (1664), Псалтырь (1665).
Быстрее всего продавались школьные книги — Часослов школьный (ма-лый) и Грамматичка (Букварь). Причем количество проданных Часословов за 1663—1665 гг. составило 728 экземпляров.
Видовая структура источников о продаже книг следующего десятилетия несколько отличается от предыдущего периода. Сохранившиеся реестры вто-рой половины 60 — первой половины 70-х гг. XVII в. имеют свою специфику. Видовую структуру «реестров продажи книг» этого десятилетия можно опре-делить следующим образом:
1) ревизии книжных складов;2) реестры выдачи книг для продажи;3) реестры получения книг для продажи.Самым ранним сохранившимся источником, в котором имеются сведе-
ния о проверке наличия книг на складе, является фрагмент книги продажи книг за 1663 — 1666 гг.1 Этот документ озаглавлен: «Rewizyia ksiąg iako wie-le ich» (Ревизия количества книг). Ревизия проходила 25 июня 1666 г. в двух складских помещениях. Первый склад не обозначен, по-видимому, это было основное складское помещение, книги которого описаны «in primus». Второй склад назван «верхним домом» («W gurnim gmachu»). Книги хранились «w stu-sach», то есть стопками или штабелями. Если тираж книги хранился компак-тно в одном месте (стопке/штабеле), его месторасположение не указывалось. Если же тираж хранился в нескольких местах, отмечалось, где именно. Так, Октоих хранился в трех местах: возле стены — 200 книг, возле окна — 288 книг и в малой стопке («w stusiku malym») — 78 книг. В «gurnim gmachu» местора-сположение Трефологиона, хранящегося в шести местах, обозначено следую-щим образом: возле печи 160 книг, в углу за Псалтырями — 90, возле стены колокольной — 19, в углу — 44, за «той же стопкой» — 44 и 48 книг. Триодь цветная хранилась в двух местах: 400 экземпляров в одном месте и «возле две-рей» — 180 книг.
Всего в этих складах хранилось 10 наименований книг общим числом 7048 эк зем пляров.
Результаты ревизии книг 25 июня 1666 г. в двух складских помещениях можно представить следующим образом:
В реестрах о продаже книг не указывался год издания, поэтому не всегда можно корректно атрибутировать упоминаемую в источнике книгу. Для этого были взяты последние на момент ревизии книг издания богослужебных книг. Богослужебные книги, как правило, не вызывают проблем при атрибуции, а учебные книги, которые издавались большими тиражами и быстро расходи-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1093. Л. 1—2 об.
368 Глава 3
лись, идентифицировать довольно сложно. Связано это с тем, что многие та-кие издания не сохранились до наших дней и известны только из косвенных источников, содержащих упоминания о них.
Таблица 18Ревизия книг 25 июня 1666 г.
Склад Наименование книги Количество книг, штук Год издания
Тираж книги (кол-во
экземпляров)
«Первый»
Триодь постная 747 * 1664 914Евангелие 219 * 1644 1065
Октоих 566 1644 — **Часослов 161 1665 1275
Всего — 1693
«Верхний дом»
Трефологион 461 1651 —Триодь цветная 580 1663 860
Псалтырь 966 1665 1417Грамматика 1500 — —Месяцеслов
[с часословом полуу-ставным]
320 1642 1105
Месяцеслов 288 1642 307Апостол 1240 1666 1240
Всего — 5355* В том числе 5 дефектных экземпляров.** Тираж книги неизвестен.
В этом реестре называются три книги, не сохранившиеся до наших дней. Месяцеслов 1642 г. был издан как вторая часть Часослова полууставного ти-ражом 1105 экземпляров, а также как отдельное издание, тиражом 307 экзем-пляров1. Месяцеслов как отдельное издание не известно современной библио-графии2. Не известно сегодня и местонахождение Часослова. Эту книгу можно атрибутировать как Часослов малый3 (в документе книга названа «Часовник»). Книга относилась к учебным, малого формата (in octavo, 8°), ее тираж был до-вольно большим4 и быстро расходился. Однако это может быть и Часословец малый, изданный в 1662 г., в 8°, тиражом 650 экземпляров5. Упоминание о 1500 книгах Грамматики не позволяет считать это издание идентичным опи-
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 541.2 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, ви-
даних на Україні. Львів, 1981. Кн. 1. № 298. С. 63. 3 Там же. № 425. С. 77. 4 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 225, 484.5 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. № 409. С. 74.
369§ 6. Финансово-отчетные документы
санному в каталоге Я. Д. Исаевича и А. П. Запаско Букварю или Грамматичке, изданной в 1662 г. тиражом 650 экземпляров1. Возможно, здесь речь идет еще об одном издании учебной книги. Тираж этой Грамматики, видимо, только по-ступил на склад, поэтому можно предположить, что она была издана в 1666 г. или не ранее 1665 г. В реестре говорится, что 100 книг взял для продажи пан Лясковский2. Также на складе хранился весь тираж новоизданного Апостола, вышедшего из печати в феврале 1666 г. тиражом 1240 экземпляров3 и еще не по-ступавшего в продажу.
В этом реестре называются три книги, не сохранившиеся до наших дней. Месяцеслов 1642 г. был издан как вторая часть Часослова полууставного тира-жом 1105 экземпляров, а также как отдельное издание, тиражом 307 экземпля-ров4. Месяцеслов как отдельное издание не известно современной библиогра-фии5. Триодь цветную следует атрибутировать как издание 1663 г.6, известную сегодня по многим сохранившимся экземплярам. Среди разыскиваемых укра-инских изданий XVII в. А. А. Гусева указывает Триодь цветную 1664 г., упоми-наемую В. М. Ундольским и И. П. Каратаевым7. Как видно из реестров продаж книг, такие большие (in folio, 2º) и дорогие книги реализовывались в течение длительного времени, поэтому просто не могло быть двух изданий, выходив-ших из типографии два года подряд.
Следующим сохранившимся документом, отражающим результаты ревизии книг в складских помещениях, является «Ревизия книг, находящихся в церков-ных домах» («Rewizya ksiąg znachodzących się w gmachach cerkiewnych») от 25 мая 1674 г.8. Если в 1666 г. проводилась ревизия книг в двух складах, то в 1674 г. братчики хранили тиражи изданий в четырех помещениях: «W gurnym gmachu w komurcie gdzie zasiadamy się» («B верхнем доме, где заседаем, в кладовой»), «W drugiey izbie» («В другой комнате»), «W dolnym gmachu w izbie» («В ниж-нем доме, в комнате») и «W alhizu przy nyze izbie» («В пристройке при нижней избе»). Все книги хранились в этих помещениях в секстернах. Тираж книги по-ступал на один из складов, и оттуда они выдавались продавцам («дозорцам»).
Так же, как и в реестре ревизии книг 1666 г. и в других документах о про-даже книг, отложившихся в архиве братства, в рассматриваемом источнике не указано время выхода из печати изданий, что затрудняет атрибуцию книг.
1 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. № 408.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1093. Л. 2.3 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 485.4 Там же. С. 541.5 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. № 298. С. 63.6 Там же. № 413. С. 75.7 Гусева А. А. Идентификация экземпляров украинских изданий кирилловского шрифта
второй половины XVI—XVIII вв.: Методические рекомендации. М., 1997. № 144. С. 130.8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1101. Л. 1.
370 Глава 3
Исходя из практики переизданий книг, предпринимавшихся после распрода-жи предыдущего тиража, для определения книг были взяты последние изда-ния по отношению ко времени проводившейся ревизии. Два издания вызы-вают особенные трудности при атрибуции. Это — учебные книги, изданные довольно большими тиражами, Часовник и Грамматика. Часовник школьный был издан в 1669 г.1 Указанная в источнике Грамматика может быть определена как «Букваръ языка славенска» 1671 г.2
Шестодник можно идентифицировать с изданием 1671 г. Он был предна-значен «для дhтей в школах учащихся» и представлял сокращенный вариант Октоиха для тех, кто «для многих своих забав и трудностей не могут всед-невнаго и великаго пения церковнаго бытии участниками», а также тем, кто не может «коштом своим болшую и достатнейшую мети книгу»3. Следует от-метить, что в «Списке разыскиваемых украинских изданий XVII в.» А. А. Гусева называет еще одно издание Шестодника 1670 г.4, однако представляется, что речь идет об одном и том же издании 1671 г.
Таблица 19Ревизия книг 25 мая 1674 г.
Склад Наименование книги Количество книг, штук Год издания
Тираж книги (кол-во
экземпляров)«W
gurnym gmachu»
Триодь цветная 392 1663 860
«W gurnym
gmachu»
Трефологион 163 1651 —*Служебник 661 1666 1289Часовник 1044 [1669] [1540]
Грамматика 2500 [1671] —*Всего — 4760
«W drugiey izbie»
Апостол 965 1666 1240Часослов полууставный
[без Месяцеслова] 380 1668 400
Месяцеслов 280 [1668] —*Шестодник 650 1671 812
Всего — 2275
1 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. № 459. С. 82.2 Там же. № 487. С. 86.3 Шестоднев. Львов, 1671. Предисловие. Л. 2—4.4 Гусева А. А. Идентификация экземпляров украинских изданий кирилловского шрифта
второй половины XVI—XVIII вв. № 167. С. 132.
371§ 6. Финансово-отчетные документы
Склад Наименование книги Количество книг, штук Год издания
Тираж книги (кол-во
экземпляров)
«W dolnym
gmachu w izbie»
Триодь постная 465 1664 914Полуустав (на толстой бумаге) Устав молитв 1049 1670 1337
Псалтырь (без молитв) 827 1668 —*Всего — 1941
«W alhizu przy nyze
izbie»
Евангелие 13351670 1503Евангелие на
«реаловой»бумаге 46
Октоих 142 1644 —*Требник 742 1668 1200
Полуустав (на тонкой бумаге) Устав молитв 214 1670 1337
Всего — 2479* Тираж книги неизвестен.
Всего в четырех складских помещениях хранилось 15 наименований книг общим числом 11 455 экземпляров. Причем следует отметить, что учитыва-лись особенности двух изданий в зависимости от качества бумаги, на которой были изданы книги. Бумага лучшего качества определяла более дорогую стои-мость книги, поэтому отдельно учтены экземпляры Евангелия на «реаловой» бумаге, а Полуустав, изданный на толстой (более дешевой) и тонкой (более до-рогой) бумаге, даже хранился на разных складах, видимо, чтобы не путать их при выдаче книг для продажи.
В день ревизии книг на складе продавцы книг Яков (Jakub) и Семен Лаври-шевичи вернули не проданные ими книги, которые были ранее взяты со скла-дов для продажи1. Часть книг была в переплетах, которые продавцы заказыва-ли у переплетчиков. На склад было возвращено 11 наименований книг общим числом 791 экземпляр.
Таблица 20Возвращенные на склады не проданные книги Яковом
и Семеном Лавришевичами 25 мая 1674 г.
Наименование книги Год изданияКоличество книг
в переплетах, штук
Количество книг в секстернах,
штукВсего, шт.
Триодь цветная 1663 9 1 10Трефологион 1651 1 — 1Служебник 1666 — 1 1
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1101. Л. 1.
372 Глава 3
Наименование книги Год изданияКоличество книг
в переплетах, штук
Количество книг в секстернах,
штукВсего, шт.
Часовник [1669] 51 1 52Грамматика [1671] — 459 459
Апостол 1666 65 1 66Часослов полууставный
[без Месяцеслова] 1668 27 5 32
Шестодник 1671 9 59 68Триодь постная 1664 30 1 31
Полуустав (на толстой бумаге) Устав молитв 1670 7 19 26
Псалтырь (без молитв) 1668 43 2 45Всего 242 549 791
Реестр возвращенных книг помещен на той же странице, где выше читаем записи о ревизии на складах. Все записи сделаны одним почерком и чернила-ми. Однако не вполне ясно, приведены ли результаты ревизии книг с учетом возвращенных книг или же возврат был после записи результатов проверки наличия книг на складах. Вероятнее всего, возвращенные книги не учитыва-лись при ревизии, поэтому так подробно эти данные приводятся после запи-си о книгах, имеющихся на складах. Кроме того, среди книг во всех четырех помещениях указаны только экземпляры в секстернах. Именно в таком виде издания поступали из типографии на склад. Среди возвращенных книг — до-вольно значительное число переплетенных, что не могло не учитываться при проведении ревизии.
Исходя из этого, можно подсчитать, сколько экземпляров изданий оста-лось нераспроданными по состоянию на 25 мая 1674 г.: Триодей цветных — 402 экз., Трефологионов — 164 экз., Служебников — 662 экз., Грамматичек или Букварей — 2959 экз., Часовничков — 1096 экз., Апостолов — 1031 экз., Шестодников — 718 экз., Триодей постных — 496 экз., Полууставов на тол-стой бумаге — 1075 экз., Псалтырей — 872. Эти данные позволяют проследить скорость реализации тиража книги каждого наименования, а также предполо-жить размер тиража тех книг, о величине которых нам ничего не известно.
Однако в результате таких подсчетов с отдельными изданиями возника-ют определенные трудности. «Часослов без месяцеслова», указанный в спи-ске книг из «другой избы» в количестве 380 экземпляров, мы атрибутировали как издание 1668 г., которое продавалось как с месяцесловом, так и без него1. Книга, согласно контракту с типографом Симеоном Ставницким, была от-
1 Украинские книги кирилловской печати XVI—XVIII вв.: Каталог изданий, храня-щихся в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. Вып. II. Ч. 2.: Львовские, новгород-северские, черниговские, уневские издания 2-й половины XVII в. / Сост. А. А. Гу-
373§ 6. Финансово-отчетные документы
печатана тиражом 400 экземпляров. В перечне книг, возвращенных Яковом Лавришевичем, указан «Часослов». Если считать, что речь идет об издании 1668 г., то после возврата 27 книг в переплетах и 5 в секстернах тираж соста-вит 412 экземпляров. Такая цифра вполне возможна, так как реальные тиражи книг часто превышали оговоренные «круглые» цифры предполагаемого ти-ража согласно контрактам с типографами. Однако за шесть лет после выхода из печати часть тиража должна была быть распродана. Можно предположить, что указанные в источнике Полууставы учитывали еще и часть книг, изданных в 1642 г.1
Динамику продаж книг некоторых наименований можно проследить на основании сравнения данных двух источников одного вида — ревизий книж-ных складов 1666 и 1674 гг. В течение восьми лет продавалось пять изданий бо-гослужебных книг, изданных до 1666 г., атрибуция которых по рассмотренным двум реестрам не вызывает сомнений. Это — Апостол (1666), Октоих (1644), Трефологион (1651), Триодь постная (1664) и Триодь цветная (1663).
Таблица 21Остаток книг на складах по результатам ревизий 25 июня 1666 г.
и 25 мая 1674 г.
Наименование книги Год издания Тираж
Количество книг на складе в 1666 г., штук
Количество книг на складе в 1674 г.*, штук
Количество проданных
книг с 1666 по 1674 гг., штук
Апостол 1666 1240 1240 1031 209
Октоих 1644 —** 566 142 424
Трефологион 1651 —** 461 164 297
Триодь постная 1664 914 747 496 251
Триодь цветная 1663 860 580 402 178
* С учетом возвращенных не проданных книг Яковом и Семеном Лаврише вичами.** Тираж книги неизвестен.
На основании этих данных мы можем проследить динамику продаж не-скольких изданий. С момента издания Апостола 1666 г. за восемь лет было про-дано 16,9 % книг тиража. Интересно сопоставить динамику продаж Триодей постной и цветной с момента издания книг до 1666 г. и до 1674 г. За первые два года было продано 18,3 % книг от общего числа изданных книг, а за последую-щие 8 лет — 24,5 %. В течение первого года после выхода в свет Триоди цветной было реализовано 32,5 % тиража, а с 1666 по 1674 гг. — 20,7 %.
сева, И. М. Полонская. М., 1990. С. 14. № 193; Ісаєвич Я. Д. Запаско Я. П. Пам'ятки книжко-вого мистецтва. № 446. С. 80.
1 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. № 303. С. 63.
374 Глава 3
Диаграмма 1. Интенсивность реализации тиража книг
Можно сделать вывод о том, что богослужебные книги, содержащие тексты изменяемых частей богослужений подвижных церковных праздников пред-пасхального (Триодь постная), пасхального и послепасхального (Триодь цвет-ная) циклов соответственно, продавались неравномерно. Это обстоятельство, видимо, учитывало братство при планировании тиража последующих переиз-даний книг.
Книги со склада выдавались продавцам, которые должны были продавать их по ценам, установленным на собраниях братства. Продавец с разрешения старших братчиков (руководителей организации) мог подарить книги кому-либо или продать по льготной цене.
Книги для продажи выдавались со склада в определенные дни, как прави-ло, большой партией, что фиксировалось в двух реестрах. Один реестр вел тот, кто выдавал книги со склада, а другой — тот, кто получал их для продажи. Продавец книг вел также реестр продажи книг. за рассматриваемый период сохранилось два реестра получения книг для продажи. Первый был заведен 20 июля 1665 г. и содержит записи до 9 мая 1666 г. другой — реестр Яна Ма-зараки, в котором зафиксированы полученные книги с 3 июля 1674 по 14 апре-ля 1676 г. Также сохранились реестр выдачи книг для продажи, который вел с 22 января по 7 июля 1669 г. Степан Лавришевич, и реестр продажи книг, кото-рый содержит записи с 20 июля 1665 г. по 2 июля 1666 г.
Реестр 1665—1666 гг. находится в специально заведенной книге, в которой продавец фиксировал получение книг каждого наименования для продажи, а также продажу каждого издания. Это — книга большого формата, в 2°, в кар-тонном переплете, написанная красивым четким почерком на польском языке1. Она имеет рукописный титульный лист, составленный позже архивистами и от-ражающий скорее историю хранения подобных документов в архиве братства. На нем четким почерком написано: «Reester odebrania y przędaży xsiąg roznych cerkiewnych w roku 1665 iuly 20 dnia. N° 39—40». Этот заголовок был написан на переплете тетради при обработке архива братства, возможно в начале XVIII в.,
1 ЦГИа Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. д. 1091.
375§ 6. Финансово-отчетные документы
о чем свидетельствует делопроизводственный номер 39—40, относящийся к двум реестрам, содержащимся в данной тетради. На этом же листе имеются на-клейки с архивными номерами, присвоенными книге при последующих обра-ботках архива братства. На одной из них читаем: «1068», на другой — «ч. Кат. 281. ч. рег. CXXV. UU. № Consig. 475», на третьей почерком XIX в. — «UU 475 Счеты книжни 1765 — 1766», причем явно ошибочная датировка зачеркнута и ниже почерком ХХ в. на украинском языке написано: «помилка» (ошибка).
Собственно титульных листов в книге два, они составлены для реестра по-лучения книг для продажи и для реестра продажи книг. Они оформлены оди-наково ее составителем для двух частей книги, текст написан четкими больши-ми буквами, содержит одну и ту же дату, а вверху листов помещен четырехко-нечный крест с буквами: «IC XΣ NI KA» (Иисус Христос Ника) (рис. 12).
Рис. 12. Титульные листы реестров получения книг для продажи и продажи книг 1665—1666 гг.ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1091. Л. 1
Реестр получения книг для продажи озаглавлен: «Roku panskigo 1665, iuly m[iesią]ca, dnia 20, w dzien S. proroka Eliasza. Regester odebrania xsiąg roznych ruskich do sprzedania cerkiewnych, roznemi czasy od pp. braci wydanych» («В год господний 1665, июля месяца, дня 20, в день Св. пророка Илии. Реестр полу-чения книг разных русских церковных для продажи в разное время панами братиями выданных»)1.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1091. Л. 1.
376 Глава 3
Реестр был составлен таким образом, что каждый лист предназначался для отдельной книги, причем на лицевой стороне листа фиксировались записи о получении одной и той же книги в переплете, а на оборотной — в секстернах. Указывалась дата получения книг, имя братчика, выдавшего книги, и их коли-чество. Отличительной чертой этого реестра является то, что здесь не указана предполагаемая для продажи цена. Всего в реестре зафиксировано получение для продажи книг десяти наименований1. Основная партия книг выдавалась 20 июля 1665 г. и 23 января 1666 г. Причем для девяти наименований книг ли-сты реестра были оформлены одинаково, возможно, сделаны были в одно вре-мя. Они были расчерчены для упорядоченного ведения записей и содержали однотипные заголовки, начинающиеся с даты первого получения основной партии книг для продажи: «Roku 1665, die 20 iuly odebranie», после чего следо-вало название книги и указание, в каком виде получена партия («oprawnych» или «w sexternach»). На предусмотрительно оставленном пустом листе позже были внесены записи о получении для продажи Апостола, вышедшего из пе-чати, согласно сведениям на титульном листе книги, 10 февраля 1666 г. Причем в отличие от предыдущих записей, на первой странице листа помещен реестр получения книг в секстернах от 20 марта, а на обороте листа — в переплете от 17 апреля2. Это позволяет говорить о том, что здесь зафиксированы самые ран-ние сведения о реализации Апостола, который был выдан для продажи спустя немногим более месяца после выхода из печати. Для изготовления переплетов потребовалось время, поэтому первая партия переплетенных книг была выда-на спустя два месяца после издания.
Среди новоизданных книг, выданных для продажи по этому реестру следу-ет отметить Псалтырь. Предисловие к книге, подписанное членами братства, датировано 24 мая 1665 г.3, а расчет с типографом Симеоном Ставницким был произведен 25 июня 1665 г.4 Спустя месяц книга выдавалась для продажи, в том числе в переплетах.
Поскольку в реестре не указан год издания книги, атрибутировать бого-служебные книги можно исходя из предположения, что речь идет о последнем их переиздании. Учебные книги атрибутировать довольно сложно. Об этом говорилось выше при рассмотрении реестра ревизии складских помещений 25 июня 1666 г. Часовник (Часовничок) может быть изданием 1665 и 1662 г. Атрибутировать издание Грамматики не представляется возможным.
На обороте титульного листа содержится запись о получении для продажи «Требников киевских». Запись датирована 20 июля 1665 г.5 Если пользовать-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1091. Л. 1 — 11 об.2 Там же. Л. 11, 11 об.3 Псалтырь. Львов, 1665. Л. 3.4 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 239.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1091. Л. 1 об.
377§ 6. Финансово-отчетные документы
ся методом атрибуции изданий типографий братства, то ближайшим по отно-шению к указанной дате является издание Требника, изданного в типографии Киево-Печерской лавры в 1652 г.1 Однако в данном случае такой метод не при-меним. Братство, начиная с 1649 г., продавало Требник киевской печати, широ-ко известный как Требник Петра Могилы, изданный в 1646 г.2 Сведения о его продаже имеются в реестрах 1649, 1651—1654, 1663—1665 гг.3 Поэтому мож-но предположить, что и в данном случае речь идет именно о Требнике Петра Могилы, который был вскоре после его выхода в свет привезен во Львов для реализации братством, а не о последующем издании книги.
Всего за период с 20 июля 1665 г. по 9 мая 1666 г. было выдано для продажи 2 831 экземпляров книг, в том числе в переплетах — 1 345 и в секстернах — 1 486 экземпляров.
Таблица 22Роспись полученных для продажи книг по реестру 1665—1666 гг.
Наименование книги
Годиздания
Количество книгв переплете, штук
Количество книг в секстернах, штук Всего
Требник, Киев 1646 2 10 12Евангелие 1644 11 11 22
Трефологион 1651 101 74 175Октоих 1644 73 102 175
Триодь постная 1664 41 48 89Триодь цветная 1663 101 76 177
Месяцеслов 1642 81 107 188Псалтырь 1665 273 410 683Часовник [1665] 328 550 878
Грамматика — 303 78 381Апостол 1666 31 20 51
Всего 1345 1486 2831
Вторая часть реестра имеет заголовок «Roku panskigo 1665, iuly miesiąca, dnia 20, w dzien S. proroka Eliasza. Regester przedaży xsiąg roznych ruskich cerkiewnych zaczоłsię» («В год господний 1665, июля месяца, дня 20, в день Св. пророка Илии. Реестр продажи книг разных русских церковных начатый»)4. Реестр был заве-ден по такому же принципу, как и реестр получения книг для продажи. Каждый
1 Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. № 380. С. 71.2 Там же. № 354. С. 68—69. 3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1065, 1066, 1084; АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 547,
558, 587. Роспись продажи Требника за 1649 и 1651—1654 гг. см.: Шустова Ю. Э. Реестры продажи книг Львовского Успенского братства 40-60-х гг. XVII в. как источники по исто-рии книги // Книга в пространстве культуры: [сб. ст.]: Вып. 1(3). 2007. С. 49, 51—52, 56.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1091. Л. 12.
378 Глава 3
лист предназначался для записей продажи книги одного наименования, причем первая его страница предполагала записи о продаже переплетенных книг, а вто-рая — в секстернах. Однако этот принцип соблюдался только в 1665 г. С 1666 г. записи велись подряд о продаже книг в переплетах и в секстернах, о чем сооб-щалось в подзаголовке, которым начинались записи с января 1666 г. В реестре фиксировались дата продажи, количество продаваемых книг, их цена, сумма вырученных денег. В конце каждой страницы указывались общее количество зафиксированных на ней книг и вырученная за них сумма.
В реестре зафиксирована продажа книг одиннадцати наименований, в том числе одно киевское издание Требника. Всего было продано 1293 экземпляра книг на общую сумму 8762 злотых 25 грошей. Большинство книг в 1665—1666 гг. продавались в переплетенном виде. Книги в секстернах составляют всего 9,7 % от общего числа проданных книг за этот период.
Таблица 23
Роспись проданных книг по реестру от 1665—1666 гг.
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в пере-плете, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(зло-тый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в секстернах
(злотый, грош)
Сумма(зло-тый,
грош)
Евангелие1644
11 22 зл. 242 зл.
1 18 зл.* 18 зл.
3 20 зл. 60 зл.
всего 15 320 зл.
Трефологион1651
63 24 зл. 1512 зл. 4 21 зл. 20 гр. 86 зл. 20 гр.
1 23 зл. 15 гр. 23 зл. 15 гр.
6 22 зл. 132 зл.
1 20 зл. 20 зл.
3 — ** 71 зл. 15 гр.
2 19 зл. 7,5 гр.*
38 зл. 15 гр.
5 19 зл.* 95 зл.
2 18 зл. 36 зл.
6 28 зл. 168 зл.
7 30 зл. 210 зл.
всего 96 2306 зл. 15 гр. 4 21 зл. 20 гр. 86 зл.
20 гр.
379§ 6. Финансово-отчетные документы
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в пере-плете, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(зло-тый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в секстернах
(злотый, грош)
Сумма(зло-тый,
грош)
Октоих1644
2 14 зл.* 28 зл. 1 14 зл. 14 зл.
3 —** 47 зл. 1 14 зл. 15 гр. 14 зл. 15 гр.
10 15 зл. 15 зл. 1 14 зл. 10 гр. 14 зл. 15 гр.
63 16 зл. 1008 зл. 1 13 зл. 13 зл.1 17 зл. 17 зл.
22 18 зл. 396 зл.
всего 101 1511 зл. 4 55 зл. 25 гр.
Триодь постная
1664
3 15 зл. 15 гр. 46 зл. 15 гр. 1 13 зл. 13 зл.
35 16 зл. 560 зл. 2 14 зл. 28 зл.1 15 зл. 15 зл.
всего 39 621 зл. 15 гр. 3 41 зл.
Триодь цветная
1663
1 19 зл.* 19 зл. 2 20 зл. 40 зл.
3 21 зл. 63 зл. 1 20 зл. 10 гр. 20 зл. 10 гр.
1 21 зл. 10 гр. 21 зл. 10 гр. 1 18 зл. 18 зл.
63 22 зл. 1386 зл.1 24 зл. 24 зл.3 20 зл. 60 зл.
всего 50 1573 зл. 10 гр. 4 78 зл.
10 гр.
Месяцеслов1642
3 —** 16 зл. 25 гр. 3 5 зл. 15 зл.
4 5 зл.* 20 зл.46 6 зл. 276 зл.8 7 зл. 56 зл.
всего 61 368 зл. 25 гр. 3 15 зл.
Псалтырь1665
4 —** 13 зл. 21 гр. 1 2 зл. 10 гр. 2 зл.
10 гр.2 3 зл.* 6 зл. 2 2 зл. 15 гр. 5 зл.
380 Глава 3
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в пере-плете, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(зло-тый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в секстернах
(злотый, грош)
Сумма(зло-тый,
грош)
Псалтырь1665
7 3 зл. 21 зл. 20 2 зл. 20 гр. 53 зл. 10 гр.
2 3 зл. 10 гр. 6 зл. 20 гр.
5 3 зл. 12 гр. 17 зл.
183 3 зл. 15 гр. 640 зл. 15 гр.
1 3 зл. 24 гр. 3 зл. 24 гр.
64 4 зл. 256 зл.
всего 268 964 зл. 20 гр. 23 60 зл.
20 гр.
Часовник[1665]
249 1 249 85 24 гр. 68 зл.
3 1 зл. 4 гр. 3 зл. 12 гр.
123 1 зл. 6 гр. 147 зл. 18 гр.
всего 375 400 зл. 85 68 зл.
Грамматика
6*** 6 гр. 1 зл. 6 гр.
52*** 10 гр. 17 зл. 10 гр.
4*** 11 гр. 1 зл. 14 гр.
21*** 12 гр. 8 зл. 12 гр.
Грамматика
1**** 6 гр. 6 гр.
20**** 10 гр. 6 зл. 20 гр.
1**** 11 гр. 11 гр.
43**** 12 гр. 17 зл. 6 гр.
всего 148 52 зл. 25 гр.
Апостол1666
1 13 зл.* 13 зл.
1 13 зл. 13 зл.
3 14 зл. 42 зл.
381§ 6. Финансово-отчетные документы
Наименование книги,
год издания
Кол-во продан-
ных книг в пере-плете, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(зло-тый,
грош)
Кол-во продан-
ных книг в сек-
стернах,штук
Цена книги в секстернах
(злотый, грош)
Сумма(зло-тый,
грош)
Апостол1666
5 16 зл. 80 зл.
3 17 зл. 51 зл.
всего 13 199 зл.
Требник (Киев, 1646) 1 40 зл. 40 зл.
Всего книг 1167 8357 зл. 10 гр. 126 405 зл.
15 гр.
* Заплачено было «pułtorakаmi» («пултораками» — серебряной монетой стоимостью 1,5 гр.).** В реестре цена не указана.*** Издание Грамматики, распроданное полностью в 1665 г.**** Новоизданная Грамматика (после 15 декабря 1665 г. — до 10 января 1666 г.).
В течение рассматриваемого периода произошло подорожание книг. Для большинства изданий, начиная с 10 апреля 1666 г., цена за книги, преимуще-ственно в переплетах, была повышена. Так, Трефологион подорожал на 4 и 6 злотых, Октоих — на 2 зл., Месяцеслов — на 1 зл., Псалтырь — на 15 грошей (0,5 злотых), Часовник — на 6 грошей. Однако подорожание коснулось не всех книг. Так, Триодь постная и Триодь цветная не подорожали.
Данный реестр содержит весьма важные сведения об издании Грамматики. После записей о продаже книги 15 декабря 1665 г. имеется замечание, что рас-продан весь тираж издания. Записи о продаже Грамматики от 10 января 1666 г. предваряются указанием: «Z nowej roboty Gramatyk przedaża»1. Таким образом, мы можем говорить о новом издании Грамматики, которая была издана в кон-це 1665 г. или в начале 1666 г. Возможно, что в данном случае речь идет не о новом издании книги, а лишь о допечатке тиража.
В реестре встречаются записи, позволяющие узнать некоторые допол-нительные обстоятельства продажи книг, как правило, влияющие на их уде-шевление. Часто такие записи маркировались пометой «NB», видимо, чтобы обратить на них внимание при составлении отчета о продаже, который обя-зательно представлялся братству. Иногда в реестре делались записи о пода-ренных книгах или о книгах, продаваемых по льготным ценам, и отмечалось практически во всех случаях, что эти продажи или подарки осуществляются по просьбе старших братчиков.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1091. Л. 24.
382 Глава 3
Если в течение месяца не было продано ни одной книги, это отмечалось в рее-стре. Так, в 1666 г. не было продано ни одной Триоди цветной и Месяцеслова — в феврале месяце1, Грамматики — в марте2, Триоди постной — в мае3.
Также отмечались случаи, когда за книгу платили «pułtorakаmi», то есть се-ребряной монетой стоимостью 1,5 гроша. В том случае, если платили «пулто-раками», книга продавалась несколько дешевле. Так 24 августа 1665 г. «за пул-тораки» было продано Евангелие в переплете за 18 злотых, в то время как оно продавалось за 22 зл.4
На протяжении всего реестра зафиксирована продажа партии книг «его милости отцу митрополиту». В источнике не указано, какому именно ми-трополиту, но вероятнее всего, речь идет о киевском митрополите Антонии Винницком. Он прислал братству письмо с просьбой продать книги. Было принято решение продавать ему книги «osobliwie»5, то есть по льготным це-нам. Первая партия книг была куплена 8 июня 1666 г., а вторая — спустя месяц, 2 июля. Всего митрополиту было продано 56 экземпляров книг десяти наиме-нований на общую сумму 481 злотый.
Таблица 24Продажа книг по льготным ценам
киевскому митрополиту Антонию Винницкому
Наименование книги
8 июня 1666 г. 2 июля 1666 г.
Кол-во проданных книг, штук
Цена кни-ги (зло-
тый)
Сумма(злотый)
Кол-во продан-
ных книг, штук
Цена книги
(злотый)
Сумма(злотый)
Евангелие 1 20 20 2 20 40
Трефологион 2 22 44 3 22 66
Октоих 4 15 60 5 15 75
Триодь постная
1 15 15 —
Триодь цветная
1 20 20 2 20 40
Месяцеслов 3 6 18 2 6 12
Псалтырь 6 3 18 —
Часовник 6 1 6 —
Грамматика 15 ⅓ 5 —
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1091. Л. 19, 20.2 Там же. Л. 24.3 Там же. Л. 18.4 Там же. Л. 13.5 Там же.
383§ 6. Финансово-отчетные документы
Наименование книги
8 июня 1666 г. 2 июля 1666 г.
Кол-во проданных книг, штук
Цена кни-ги (зло-
тый)
Сумма(злотый)
Кол-во продан-
ных книг, штук
Цена книги
(злотый)
Сумма(злотый)
Апостол 3 14 42 —
Всего 42 248 14 233
В случаях когда покупатель приезжал из других городов или земель, эти об-стоятельства также фиксировались. Так, 20 февраля 1666 г. Евангелие было про-дано в г. Каменец1. Монахам из «Нового Скита» (новооснованного Манявского скита) продали 2 февраля 1666 г. по льготным ценам два Трефологиона (в пере-плете за 22 злотых и в секстернах за 20 злотых)2, 12 февраля — Октоих в сек-стернах за 13 злотых3, 20 февраля — Триодь постную в секстернах за 13 злотых4 и две Псалтыри в переплете за 6 злотых5. По льготным ценам продали 10 ян-варя 1666 г. монахиням из Мультян в переплете Октоих за 15 злотых6 и Триодь цветную за 21 злотых 20 марта 1666 г. старшие братчики распорядились пода-рить монахине «z Multach co była» переплетенные Октоих и Триодь цветную7. Также по льготной цене был продан новоизданный Апостол 8 июня 1666 г. мо-нахам из Уневского монастыря.
В реестре иногда отмечалось, кому из членов братства или людей, с ним со-трудничавших, продавалась или дарилась книга. Так, 20 сентября 1665 г. был продан Трефологион в переплете звонарю Лукашу за 24 злотых8. Наборщику («зыцарю») типографии Захарке 15 декабря 1665 г. была подарена Псалтырь переплетенная9. По льготным ценам продавались переплетенные Псалтыри: 20 июля 1665 г. некоему торговцу (kramarzu) было отпущено четыре книги за 13 злотых 21 грош, 4 августа того же года купцу две книги за 6 злотых 24 гро-ша10. Также торговцу реализовано по льготной цене 5 мая 1666 г. три перепле-тенных Часовника за 3 злотых11. Некоему дьякону 8 июня 1666 г. были проданы
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1091. Л. 13.2 Там же. Л. 15 об.3 Там же. Л. 17 об.4 Там же. Л. 18.5 Там же. Л. 21 об.6 Там же. Л. 17.7 Там же. Л. 17 об., 19.8 Там же. Л. 15.9 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1091. Л. 21.10 Там же.11 Там же. Л. 23 об.
384 Глава 3
в переплете Псалтырь за 3 злотых и Часовник за 1 злотый1, Требник киевской печати купил отец Иоасаф, за 40 злотых2. Продавец книг отметил, что 10 янва-ря 1666 г. член братства пан Корендович (Василий) взял две Псалтыри с разре-шения старших братчиков3. По льготной цене были проданы членам братства 10 апреля 1666 г. Грамматика за 6 грошей (Петру) Афендику4 и 8 июня 1666 г. Апостол (Василию) Леоновичу5. Возможно, книги были взяты в связи с делами братства (подарить или продать кому-либо) или же для собственных нужд.
Следует отметить, что по этому реестру не было продано ни одного Евангелия в секстернах. На предназначенной для записей о продаже книг стра-нице имеется запись: «Пан Иван взял в секстернах и дал оправные, только за работу заплатил ему»6. Здесь речь идет о переплетчике, который делал пере-плеты книг для братства. На странице, предназначенной для записи о прода-же Трефологионов в секстернах, имеется только одна запись: «В этом году не продалось ничего»7. Эта запись относится к 1665 г., а из реестра продажи книг за 1666 г. на предыдущем листе отмечена продажа четырех книг в секстернах, что составляет всего 8,7 % от проданных в 1666 г. книг (46 экземпляров) по со-стоянию на 2 июля. Такая же запись имеется на листе о продаже Октоихов в 1665 г.8
Реестр выдачи книг для продажи Степана Лавришевича 1669 г. представля-ет собой чистовую тетрадь в картонном переплете, в четвертую долю листа, на польском языке, имеющую заголовок: «Regestr wydania xiąg do przedania cer-kewnych, tak oprawnych, iak y w sexternach w roku 1669 (z miesiąca ianuary 22 dnia do m. iula 7 dnia)»9. Реестр состоит из трех частей: собственно реестра выдачи книг для продажи, реестра цен за переплеты книг и записей о подаренных кни-гах, которые выдавались Степаном Лавришевичем.
Стефан Лавришевич, купец, член братства, был выбран продавцом книг на элекционном собрании 5 июля 1659 г.10 Продажей книг он занимался пять лет. Сохранились его реестры продажи книг за 1659—1664 гг.11 После этого он от-вечал за общие расходы братской казны, что отражено в приходо-расходной
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1091. Л. 22., 23 об.2 Там же. Л. 25.3 Там же. Л. 21 об.4 Там же. Л. 24.5 Там же. Л. 25.6 Там же. Л. 14. 7 Там же. Л. 16.8 Там же. Л. 17 об.9 Там же. Д. 1097. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 595—600.10 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 565.11 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 975, 1076.
385§ 6. Финансово-отчетные документы
книге 1664—1671 гг.1, в том числе — выдавал книги для продажи и принимал финансовые отчеты продавцов книг. В архиве братства отложились и лич-ные документы Степана Лавришевича. Это его приходо-расходные книги, в которых он вел записи, связанные с его профессиональной деятельностью за 1642—1644 и 1663—1666 гг.2, а также декрет 1681 г. польского короля Яна III об освобождении Степана Лавришевича от всех налогов в связи с его семилетним пребыванием в тюрьме как заложника турок от города Львова3.
По реестру Степана Лавришевича, им выдавалось для продажи в янва-ре — июле 1669 г. в переплетах и секстернах 13 наименований книг. Всего было выдано 53 Евангелия (1644), 90 Октоихов (1644), 68 Трефологионов (1651), 52 Триоди цветной (1663), 17 Триодей постных (1664), 49 Апостолов (1666), 128 Служебников (1666), 67 Требников (1668), 94 Полуустава (1668), 180 Псалтырей (1668), 386 Часовников (вероятно, 1662 г.), 571 Грамматичек (ве-роятно, 1669 г.) и 2 книги «Казань» (проповедей) Лазаря Барановича «Меч ду-ховный» (Киев: Типография Лавры, 1666). Следует отметить, что в 50—60-е гг. XVII вв. братство продавало некоторые издания киевской печати, в том числе Требник 1646 г.
Таблица 25Роспись выдаваемых для продажи книг по реестру 1669 г.
Наименование книги,
год издания
Кол-во книг в
перепле-те, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(зло-тый,
грош)
Кол-во книг в
сек-стернах,
штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Евангелие 1644
13 22 286 30* 20 60010** 18 180
Апостол 1666 19 16 304 30 14 зл. 10 гр. 430
Трефологион1651 8 40 320 60 37 2220
Октоих1644 11 20 220 79 18 1422
Триодь цветная 1663 42 20 840 10 17 зл. 20 гр. 176 зл.
20 гр.Триодь постная
1664 17 16 272
Требник1668 37 11 407 30 9 зл. 20 гр. 290
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1088.2 Там же. Д. 1205, 1208.3 Там же. Д. 717.
386 Глава 3
Наименование книги,
год издания
Кол-во книг в
перепле-те, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(зло-тый,
грош)
Кол-во книг в
сек-стернах,
штук
Цена книги в
секстернах (злотый,
грош)
Сумма(злотый,
грош)
Служебник1666 20 8 160 108 7 756
Полуустав1668 27 7 189 67 5 зл. 20 гр. 379 зл.
20 гр.
Псалтырь1668
80 4 320 100*** 3 зл. 6 гр. 320
196**** 2 зл. 21 гр. 529 зл. 6 гр.
Часовник[1662] 94 1 зл. 6 гр. 112 зл.
24 гр. 292 29 гр. 282 зл. 8 гр.
Грамматичка[1669] 174 12 гр. 69 зл.
18 гр. 397 9 гр. 119 зл. 3 гр.
Меч духовный 1666 2 24 48
Всего книг 544 3548 зл. 12 гр. 1409 7704 зл.
27 гр.* «Реаловых» книг.** «Малых» книг.*** С молитвами.**** Без молитв.
Всего по реестру было выдано для продажи 1953 книги на сумму 11253 зло-тых 9 грошей. Однако в самом реестре итоговые цифры не согласуются с за-писями. Переплетенных книг, по реестру, было выдано на сумму 3548 злотых 12 грошей, что соответствует всем статьям записей в книге. А книг в секстер-нах, согласно записи в реестре, было выдано на сумму 8278 злотых 9 грошей1, что на 574 злотых больше, чем получается по записям в книге. Возможно, при переписывании черновых записей в эту тетрадь некоторые факты выдачи книг были пропущены или была допущена ошибка при подсчете, что маловероятно, так как все промежуточные итоговые суммы, которыми заканчивается каждая страница тетради, подсчитаны безошибочно.
Согласно реестру, довольно большая часть книг продавалась в переплете. Своей переплетной мастерской у братства не было. Переплеты для книг за-казывались разным переплетчикам. Цена переплета зависела от его качества, но, как правило, для рядового покупателя заказывались обычные, не очень до-рогие переплеты. Иногда интролигаторы могли пользоваться инструментами братства, в частности штампами («фигурами мосяжными»)2. В рассматривае-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1097. Л. 8.2 Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002. С. 208.
387§ 6. Финансово-отчетные документы
мом источнике имеются сведения о цене переплетов на книги: «Zapłata intro-ligatorom od kożdey xięgi postanowiona»1. Видимо, оплата услуг переплетчиков согласовывалась между братством и интролигатором, и рассчитывалось брат-ство с ним согласно установленным заранее расценкам. В некоторых реестрах продажи книг 40—50-х гг. XVII в. фиксировались цены за переплетные работы. В таблице 26 приводятся данные из этих реестров, что позволяет увидеть ди-намику изменения цен.
Таблица 26 Стоимость переплетных работ в 1645—1669 гг.
Наименование книги
Цена переплета (злотый, грош)по реестру
1669 г.по реестру
1645 г.3по реестру
1654 г.4по реестру
1656—1657 гг.5
Евангелие 4 зл. 3 зл. 3 зл. 15 гр.Апостол 1 зл. 20 гр. 1 зл. 8 гр.
Трефологион 3 зл. 2 зл. 2 зл.Октоих 2 зл. 1 зл. 15 гр. 1 зл. 10 гр.Триодь 2 зл. 10 гр. 2 зл. 4 гр.
Полуустав 1 зл. 10 гр. 1 зл. 6 гр.Служебник 1 зл. 18 гр.Псалтырь 24 гр. 18 гр.Часовник 7 гр.
Грамматичка 3 гр.
В реестрах продажи книг часто фиксировались сведения о подаренных кни-гах. Многим гостям братство преподносило подарок в виде книги или несколь-ких книг, что свидетельствовало о почтении к тому или иному высокопостав-ленному лицу, например, к церковным иерархам, или носило благотворитель-ный характер (подарки бедным монастырям, церковным приходам, отдельным лицам, в том числе и нищим или странникам). Решение о подарке принималось на общем собрании братства, или по решению старших братчиков. Продавцы книг, которые должны были отчитаться перед членами братства за каждую по-лученную для продажи книгу, отмечали, какие книги и на какую сумму они не продали, а подарили. Часто в реестрах такие записи носят формальный харак-тер, но особенно ценными являются те из них, где подробно оговаривается, какие книги и кому были подарены.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1097. Л. 9. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 599.2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 546.3 Там же. С. 60.4 Там же. С. 563.
388 Глава 3
Степан Лавришевич вел специальный реестр, в котором содержатся подроб-ные записи о «Подаренных книгах панов братий в разные места и разным пер-сонам, оправные и в секстернах, которые для продажи были выданы в 1669 г. от 22 января, из книжной лавки, а не из сокровищницы выдавали»1. Согласно его записям, всего в этом году было подарено 79 книг на сумму 468 злотых 24 гроша2 из числа изданий, поступавших для продажи в книжную лавку. В этот реестр не включены подаренные книги, которые братчики могли брать в других лавках и складах.
Среди записей о подаренных книгах следует отметить самую большую пар-тию книг, которая была подарена в Иерусалим — 50 книг на сумму 362 злотых, все они были в переплетах3. Поскольку стоимость этих книг больше, чем цены на эти же книги в переплетах, обозначенные в реестре выдачи книг, можно сделать вывод, что переплеты для этих книг были заказаны специально и от-личались высоким качеством. Книги братством были подарены «по личной просьбе» иерусалимского патриарха Нектария4.
Таблица 27Список книг, подаренных иерусалимскому
патриарху Нектарию 15 сентября 1669 г.Наименование
книги Кол-во книг, штук Цена книги(злотый, грош)
Сумма(злотый)
Евангелие 2 2224 («реаловое») 46
Апостол 2 16 32Служебник 4 16 64
Требник 4 11 44Октоих 2 20 40
Триодь постная 2 16 32Триодь цветная 2 20 40
Псалтырь с молитвами 10 4 40
Часовничок школьный малый 20 1 зл. 6 гр. 24
Всего 50 362
Любопытным фактом является то, что 60 % отправленных книг составляют учебные (Псалтырь и Часовник). Следует отметить, что в архиве братства со-хранилось постановление, принятое на собрании 1 января 1664 г. о пожертво-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1097. Л. 24. 2 Там же. Д. 1097. Л. 24—25 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 599—600.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1097. Л. 24 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 599—600.4 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 602.
389§ 6. Финансово-отчетные документы
вании иерусалимскому патриарху 270 книг1. Правда, точно не известно, какие книги были тогда отправлены в Иерусалим.
Псалтырь с молитвами в переплете за 4 злотых была подарена «отцу гре-ческому»2, видимо, священнику из числа сопровождавших иерусалимского па-триарха.
Православным монастырям, особенно отдаленным, братство часто дарило разные богослужебные книги. Такие пожертвования зафиксированы и в рас-сматриваемом реестре: 9 мая 1669 г. «реаловое» Евангелие в секстернах было подарено венгерскому скиту, а 12 октября Псалтырь с молитвами в переплете и 2 Часовничка в переплете — монастырю под Яворовом3.
Экземпляр новоизданной книги обязательно поступал в Онуфриевский монастырь, который находился под патронатом братства. В реестре отмече-но, что отцу Гедеону в Онуфриевский монастырь был подарен Служебник за 8 злотых.
Братство часто выражало признательность и оказывало материальную под-держку людям, сотрудничавшим с ним. 21 марта 1669 г. братчики подарили Триодь постную в переплете (за 16 злотых) своему печатнику Семену Став-ницкому. Полуустав в переплете стоимостью 7 злотых был подарен монаху-иконописцу, который писал иконы для Успенской церкви.
Один Часовник в переплете был передан в типографию «на экземпляр». Каждая новоизданная книга передавалась в типографию в качестве образца для использования ее при подготовке следующего переиздания книги.
Благотворительность была одной из основных сфер деятельности братства. Часто оно оказывало помощь не непосредственно деньгами, а дарило книги, которые при необходимости можно было продать. Часто дарили книги от-даленным или бедным монастырям или церковным приходам. 14 мая 1669 г. Псалтырь с молитвами в переплете братство подарило нищему Федору, а 23 июня такая же книга за 4 злотых была подарена отцу умершего священни-ка братской Успенской церкви отца Васиана. Реестр выдачи книг для продажи 1669 г. Степана Лавришевича является важным источником по истории книж-ности. Он содержит богатую информацию о ценах на книги и переплетные работы, о географии распространения книги и круге читателей.
Реестр получения для продажи книг Яна Мазараки является частью рее-стра, который он вел с 3 июля 1674 по 12 февраля 1677 г. В архиве имеется фрагмент тетради, в лист (2°), где записывались разные статьи расходов, что видно из заголовка: «Regestr expensow a die 3-tia iuly 1674 cerkiewnych przez mnie Jana Mazarakiego czynionych, iako tez orde xiąg powziołem z gmachow czy-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 634.2 Там же. Д. 1097. Л. 25.3 Там же. Л. 24 об., 25.
390 Глава 3
nionia ad diem 12 february 1677 tu się znayduią,... które expensa y z pieniędzy z lega-cieij pwziętych, do Grodna przysłanych». Сохранились только реестр получения книг, которые «взял на свой счет из сокровищницы церковной книг каких для продажи» Ян Мазараки с 3 июля 1674 по 14 апреля 1676 г.1, и реестр расходов за 1674 г.2
Ян (Иван) Мазараки, представитель греческого купеческого рода, осевшего во Львове, самый богатый среди греков в городе во второй половине XVII в.3, воспользовался возможностью получить (купить) дворянство. В 1659 г. Сейм нобилитировал Яна Мазараки4. Нобилитация давала право мещанам не под-чиняться Магистрату и не платить пошлин и налогов, предусмотренных для простых горожан. Мазараки был активным членом Львовского братства. В 1648 г. он был избран на должность ключника братской казны, а в 1657 г. — се-ньором (старшим) братчиком.
В реестре 1674—1676 гг. фиксировались книги в переплетах и в секстернах. Всего для продажи было получено 14 наименований книг в количестве 1654 экземпляра на сумму 12411 злотых. Полуустав был издан на бумаге разного ка-чества — тонкой и толстой, что влияло на цену книги (на тонкой бумаге книга стоила на 3 злотых дороже).
Таблица 28
Роспись получаемых для продажи книг по реестру 1674—1676 гг. Яна Мазараки
Наименование книги, год издания
Кол-во книг в
перепле-те, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(зло-тый,
грош)
Кол-во книг в
сек-стернах,
штук
Цена книги в секстернах
(злотый, грош)
Сумма(злотый,
грош)
Евангелие 1670 105 20 2100
Служебник1666 76 8 608 85 7 595
Требник1668 150 9 зл. 20 гр. 1450
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1102. Л. 1—3. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 604—607.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1102. Л. 4—4 об.3 О роде Мазараки см.: Томазов В. Из генеалогии рода Мазараки // Україна — Греція:
історія та сучасність: Тези II міжнародної конференції 22—24 лютого 1995 р. Київ, 1995. С. 128—131; Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, матеріали, карти. Київ, 2000. С. 142—144; Лильо І. М. Нариси з історії грецької громади Львова XVI—XVII століть. Львів, 2002. С. 122—123.
4 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. Київ, 1966. С. 54.
391§ 6. Финансово-отчетные документы
Наименование книги, год издания
Кол-во книг в
перепле-те, штук
Цена книги в
переплете (злотый,
грош)
Сумма(зло-тый,
грош)
Кол-во книг в
сек-стернах,
штук
Цена книги в секстернах
(злотый, грош)
Сумма(злотый,
грош)
Трефологион1651 10 50 500 38 47 1786
Октоих1644 66 22 1452
Полуустав1668
на толстой бумаге
7 8 56 35 7 245
на тонкой бумаге
10 10 100
Полуустав («большой») 1668 16 10 160 20 8 зл. 20 гр. 173 зл.
10 гр.Грамматика
1671 90 12 гр. 36
Триодь постная 1664 25 16 400
Триодь цветная 1663 9 20 180 25 17 зл. 20 гр. 441 зл. 20 гр.
Апостол 1666 10 16 160
Шестодник1671 41 8 328 89 7 623
Псалтырь1668 23 3 зл. 15 гр. 80 зл.
15 гр. 125 2 зл. 21 гр. 337 зл. 15 гр.
Часословец[1669] 599 1 599
Всего книг 307 2508 зл. 15 гр. 1347 9902 зл.
15 гр.
В конце своего реестра получения книг для продажи Ян Мазараки приво-дит список всех книг с указанием их количества1, что полностью отвечает его записям. Однако итоговая сумма отличается от той, которая соответствует указанным в реестре ценам на книги. В реестре записано, что итоговая сум-ма составляет 12 947 злотых, которую Ян Мазараки отдал 20 декабря 1676 г. Семену Лавришевичу. Возможно, записи о полученных книгах не попали в этот реестр, который является беловым текстом, а в черновиках, которыми пользовался автор реестра, все книги и суммы были учтены. В самом реестре зафиксирован итоговый финансовый отчет Мазараки перед братством, кото-рый был одобрен 26 декабря 1682 г.2
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1102. Л. 3.2 Там же. Л. 2 об.
392 Глава 3
Продажи книг на протяжении рассматриваемого периода были неравно-мерными. Самые низкие продажи приходятся на период 1654—1657 гг., что объясняется, прежде всего, последствиями Казацкой войны. Явная тенденция роста количества продаваемых книг в 1659—1669 гг. во многом обусловлена большим количеством проданных книг для школьного обучения (см. табл. 29, диаграмму 2).
Таблица 29продажи книг по реестрам 1643—1676 гг.
реестры продажи книг, гг.
1643—1645 1645 1649 1651—
1654 1654 1656—1657
1659—1664 1663 1663—
1665 1669 1674—1676 Всего
Коли-чество
книг, шт.408 416 181 239 143 70 489 710 1265 1953 1654 7528
Сумма продаж, зл., гр.
4819 зл.
20 гр.
4101 зл.
12 гр.
1739 зл.
4,5 гр.
3636 зл.
24 гр.
2243 зл.
15 гр.
1151 зл.
6996 зл.
4244 зл.
18 гр.
9447 зл.1 3/7 гр.
1125 зл.
9 гр.
12411зл.
51915 зл.
14 гр.
Спад продаж в середине 70-х гг. объясняется опять же военным временем, в результате которого в 1672 г. братству пришлось выплачивать огромную кон-трибуцию, наложенную на город турками, что существенно сказалась и на ма-териальном положении братства; тем не менее, в 1674—1676 гг. братство смог-ло приблизиться к уровню продаж книг конца 60-х гг.
Диаграмма 2. Динамика продаж книг по реестрам 1643—1676 гг.
В соответствии со спадом продаж книг наименьшая сумма вырученных де-нег приходится на период 1656—1657 гг. При сопоставлении динамики количе-ства проданных книг в 1659—1676 гг. можно заметить, что суммы, вырученные от продажи книг, не находятся в прямопропорциональной зависимости. По реестру 1663 г. выручка от продаж резко падает при существенном росте ко-
393§ 6. Финансовоотчетные документы
личества проданных книг. Это объясняется тем, что весьма значительные про-дажи Часословов школьных и Грамматичек не приносили большой выгоды, поскольку это были самые дешевые книги. Однако именно их продажи были залогом будущего роста спроса на книги, а значит, и роста доходов от продажи издаваемых братством книг, их количества и качества. Так же обстоит дело и с вырученными средствами от продажи книг по реестру 1674—1676 гг. На фоне существенного спада количества проданных книг сумма полученных денег су-щественно увеличилась (см. диаграмму 3). Это объясняется увеличением про-даж дорогих книг и повышением цен прежде всего на дорогостоящие издания, например Трефологион.
Диаграмма 3. Динамика полученных средств от продажи книг по реестрам 1643—1676 гг.
По реестрам продажи книг можно проследить динамику цен за рассматри-ваемый период. Цены на книги выросли в среднем на 56,6 %: цены на книги в переплете поднялись на 47,7 %, а в секстернах — на 65,6 %. Больше всего вы-росли цены на Трефологионы: на 150 % подорожали переплетенные книги (с 20 до 50 злотых) и на 193,8 % — в секстернах (с 16,8 до 47 злотых). Существенно
394 Глава 3
выросли в цене Октоихи, в среднем на 73 %. Неизменным покупательским спросом пользовалось Евангелие. Цены на эти книги в среднем увеличились на 47,4 %: на 49,7 % подорожали переплетенные книги и на 45 — в секстернах. Повышение цен связано с ростом покупательского спроса, с одной стороны, и с уменьшением тиража книги — с другой. Оставшиеся в небольшом количе-стве книги резко возрастали в цене. Однако на отдельные книги цены понизи-лись. Это связано в переизданием книги. Так, в 1664 г. была переиздана Триодь постная. Если до 1663 г. цена книги выросла в среднем на 25,5 % (на 34 % в переплете и на 17 % в секстернах), то в 70-х гг. она упала на 37,5 % и 46,3 % со-ответственно. Дешевели и Триоди цветные в секстернах на 6,3 %. В меньшей степени дорожали недорогие учебные книги (см. табл. 30, 31).
Таблица 30
Цены на книги в переплетах по реестрам 1643—1676 гг.
Наимено-вание книг
Реестры продажи книг, гг. Средняя цена за книгу, зл.
Рост цен за 1643—1665 гг.
1643—1645 1645 1649 1651—
1654 1654 1656—1657
1659—1664 1663 1663—
1665 1669 1671 1674—1676
Апостол 16 16 16 —Грамма-
тичка школьная
0,3 0,4 0,4 33 %
Евангелие напре-
стольное16,7 17,2 17,5 17 18 20 20,7 16,9 21,1 22 25 49,7 %
Месяцес-лов 5,2 —
Октоих 13,6 14 14 15 15 15,6 15,9 20 22 61,8 %Псалтырь 2,5 2,5 3 3 3 3 3,1 4 3,5 3,5 40 %Полуустав большой 10 10 —
Служебник 4,5 8 8 8 77,8 %Требник (Киев) 19,3 22 24 30 55 %
Требник 11 11 —Трефоло-
гион 20 20,8 19,9 20 20,2 19,7 20 24 22,3 40 44 50 150 %
Триодь постная 16,4 15 18,5 20 22 18 16 16 16 10 %
Триодь цветная 20 20 20 20 —
Часослов полуустав-
ный5,5 5 5 5,3 5,9 7 8 8 60 %
Часослов с месяцесло-
вом4,7 5 4,6 7 %
395§ 6. Финансово-отчетные документы
Наимено-вание книг
Реестры продажи книг, гг. Средняя цена за книгу, зл.
Рост цен за 1643—1665 гг.
1643—1645 1645 1649 1651—
1654 1654 1656—1657
1659—1664 1663 1663—
1665 1669 1671 1674—1676
Часослов школьный 1 1 1,2 20 %
Шестодник 8 8,7 8,6 %
Таблица 31Цены на книги в секстернах по реестрам 1643—1676 гг.
Наиме-нование
книг
Реестры продажи книг, гг. Средняя цена за книгу, зл.
Рост цен за 1643—1665 гг.
1643—1645 1645 1649 1651—
1654 1654 1656—1657
1659—1664 1663 1663—
1665 1669 1671 1674—1676
Апостол 14,3 14,3 —Грамма-
тичка школьная
0,4 0,3 0,4 33 %
Евангелие напре-
стольное13,8 15 14,4 13,1 17 16,8 17,7 18,5 20 20 20 45 %
Месяцес-лов 1,8 3,2 77,8 %
Октоих 12 12 12 13,5 13,4 13,2 14,4 18 20 22 83,3 %
Полуустав большой 8,6 8,6 —
Псалтырь 2 2,6 2,5 2,2 2,8 2,7 2,7 40 %Служеб-
ник 3,7 7 7 7 89 %
Требник (Киев) 18 —
Требник 9,6 9,6 9,6 —
Трефоло-гион 16,8 18 18 16 18,9 19,2 18,5 37 41 47 193,8 %
Триодь постная 18 16,7 17 19,9 13,6 17 %
Триодь цветная 18,7 17,6 17,6 17,6 -6,3 %
Часослов полуустав-
ный3,6 4 4 4,1 4,3 5,6 6,6 7,6 111 %
Часослов с месяцес-
ловом3,9 4 2,6 %
Часослов школьный 0,8 0,7 0,97 1,2 1 71 %
Шестод-ник 7 8,7 24 %
396 Глава 3
Изучение реестров продаж показало, что, несмотря на бóльшую привлека-тельность в цене книг непереплетенных, книги в переплетах во второй поло-вине 40-х — первой половине 70-х гг. XVII в. продавались в таком же коли-честве, как и книги в секстернах, а часто их продажа значительно превышала продажу непереплетенных книг. Это можно объяснить тем, что братство по-стоянно сотрудничало с переплетчиками, и переплет книги для частного лица обходился ему в конечном счете дороже, чем наценка на переплетенную книгу, купленную у братства. И братству продавать переплетенные книги было более выгодно.
Изучение продаж кириллической книги в один из самых драматичных пе-риодов истории XVII в. позволяет сделать интересные выводы и о динамике цен на основные богослужебные книги, и о том, каким образом братству уда-лось пережить весьма серьезные финансовые трудности, связанные с военным временем, и не только выжить в столь тяжелых условиях, но и в столь корот-кие сроки восстановить свое функционирование и, главное, возобновить ак-тивную книгоиздательскую деятельность. Наметившийся подъем продаж книг повлек за собой и изменение в репертуаре книгоиздания типографии братства. С 1662 г. начинают активно издавать школьную книгу.
Сохранившиеся в архиве братства реестры продаж книг являются важны-ми историческими источниками, позволяющими проследить формирование книжного рынка в Речи Посполитой в середине — второй половине XVII в. Реестры за период 1643—1676 гг. имеют общий формуляр, в них приводятся подробные отчеты о продажах книг каждого наименования. В реестрах отражен механизм ценообразования, география распространения книг. Важнейшими являются сведения о подарках книг, которые подносились как весьма значи-мым персонам или институциям, так и рядовым церковным приходам, бедным монастырям, отдаленным церквям и отдельным горожанам разных профессий и достатка. Важным является и тот факт, что среди покупателей и получате-лей бесплатных книг были члены Львовского братства. Полностью братство снабжало продукцией своей типографии Успенскую церковь и Онуфриевский монастырь, а также их священников и настоятелей.
Со второй половины 70-х гг. XVII в. источники о продажах книг несколько меняются. Они становятся более строгими по форме, менее информативными. Чаще всего в них содержатся перечни выданных для продажи и проданных братчиком книг. Информация о том, кому были проданы книги, встречается редко, также весьма скупы сведения о подаренных книгах. Поскольку прода-жа книг в конце XVII—XVIII вв. становится одним из важнейших источни-ков дохода братства, требования к финансово-отчетным документам возрас-тали. Велись документы каждой из сторон, поэтому сведения об одних и тех же операциях встречаются в разных реестрах, например, в реестрах, которые вел братчик, выдававший книги для продажи, и в реестрах, которые вел по-
397§ 6. Финансово-отчетные документы
лучающий книги для продажи. Сохранились в архиве братства и черновики, дублирующие информацию чистовых реестров. Например, реестры продажи книг за 1700—1702 гг. сохранились в трех книгах. Более ранней из них можно считать книгу с многочисленными зачеркиваниями, исправлениями1. Две дру-гие содержат те же записи, но более упорядоченные2, видимо, составлявшиеся позже, в преддверии элекции, на которой продавец книг должен был предста-вить полный финансовый отчет.
Реестры приходов и расходов являются такими источниками, которые позволяют решать самые актуальные в современной гуманитарной науке проблемы изучения человека, не разделяя различные аспекты деятельно-сти личности, общества, а познавая их в единстве, во взаимодействии всех сторон жизнедеятельности человека, в их соотношении и взаимовлиянии. Именно таким предстает человек в приходо-расходных книгах Львовского братства конца XVI—XVIII вв.
* * *Как особую группу финансово-хозяйственной документации Львовского
братства можно выделить закладные расписки, долговые обязательства, расписки о выплате долгов и возвращении заложенных вещей. Это — ин-тересные источники, которые позволяют судить не только о дополнительных статьях дохода братства, помощи нуждающимся, но и являются важными ис-точниками о взаимоотношениях организации с церковными и светскими, осо-бенно городскими, институтами власти, с другими братствами, монастырями. Это — источники по истории экономических отношений; особенный интерес представляют сведения о торговых ярмарках, проводившихся во Львове и в крае. Также они дают ценные сведения об истории типографского дела, кни-гоиздания и формирования книжного рынка; в них содержится информация о выдающихся деятелях культуры; эти документы могут быть источниками по генеалогии ремесленников и купцов. Но главное — эти источники позво-ляют во многом реконструировать взаимоотношения людей XVII—XVIII вв., понять, на чем основывались связи горожан, какую роль в их жизни играли материальные ценности и что ценилось в обществе более всего. Несмотря на то что частично эти документы были опубликованы, они практически не ис-пользовались исследователями.
Корпус источников о финансовой деятельности братства представлен сле-дующими видами источников:
1) дарственные записи;2) завещания;3) закладные расписки;
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1147.2 Там же. Д. 1145, 1146.
398 Глава 3
4) долговые обязательства;5) расписки о получении денег или вещей.В архиве дарственные записи и завещания имущества или денежных сумм
братству сохранились не полностью. Организация пользовалась большой по-пулярностью среди населения, поэтому, стараясь поддержать братство и его начинания материально, многие люди дарили ему крупные денежные суммы, недвижимость или ценные вещи. Часть дарственных записей оформлена как ведеркаф1 на недвижимое имущество (имения, сельскохозяйственные угодья), так что последующие владельцы этого имущества должны были ежегодно вы-плачивать братству определенный процент годовых с завещанной ему суммы2. В дар братству передавали крупные денежные суммы и каменицы (каменные дома в городе)3. Иногда братской церкви дарили особо ценные подарки, на-пример, в 1669 г. бывший гетман Правобережной Украины Павел Тетеря пе-редал братству мощи Св. Меркурия4. Интересна судьба подаренного в 1664 г. Анной Могилянкой-Потоцкой напрестольного Евангелия в золотом окладе5, которое во время осады Львова в 1704 г. шведским королем Карлом XII было оценено в 1300 червонцев и отдано в качестве контрибуции6. Сохранились све-дения о щедром пожертвовании на братскую церковь русского царя Петра I во время его пребывания под Львовом в 1707 г. Кроме Петра I, пожертвовали братству 300 злотых Александр Данилович Меншиков, 100 злотых — Гавриил Иванович Головкин7. В благодарность за это братство в 1709 г. издало стихот-ворный панегирик А. Д. Меншикову «Венец победы»8. Наиболее часто оформ-ляли дарственные братству на содержание Онуфриевского монастыря9. В архи-
1 Ведеркаф (нем. — wiederkauf) — покупка имений или прибылей с недвижимости в раз-мерах определенной обозначенной в договоре квоты. Ведеркаф можно было откупить при условии возвращения суммы стоимости.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 379, 727, 964, 984; Ф. 9. Оп. 1. Д. 359. Л. 1172—1173, Д. 369. Л. 1172—1173; Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиально-го братства // ЖМНП. 1850. № 5. Ч. 66. Отд. 2. С. 122.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 509, 530.4 Там же. Д. 677.5 Там же. Д. 638; Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji.
Lwów, 1836. S. 90.6 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1850.
№ 5. Ч. 66. Отд. 2. С. 136; [Письма из Молдавии Львовскому Ставропигийскому братству о помощи в востановлении Успенской церкви] / Петрушевич А. С. // ВСИ. 1883. С. 157.
7 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства. С. 137.8 Панегирическая литература петровского времени. М., 1979. С. 204—207; Ісаєвич Я. Д.,
Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог. Львів, 1984. Кн. 2. Ч. 1. № 846. С. 24; Каменева Т.Н. «Венец победы» // Книга: Исследования и материалы. Сб. 32. С. 177—178. М., 1976.
9 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 561, 1060, 1132.
399§ 6. Финансово-отчетные документы
ве сохранился перечень дарственных записей братству на церковь, монастырь, госпиталь и школу за 1603—1679 гг., причем было сделано несколько копий этого документа1. Часто братство само выступало в роли дарителя; сохрани-лись дарственные записи братства на Николаевский, Креховский монастыри и Манявский Скит2.
Завещания братству, как и дарственные записи, делались и на крупные де-нежные суммы3, и на недвижимость4. Причем завещания оформляли как члены братства, так и члены их семей, простые горожане, известные и влиятельные шляхтичи, церковные и государственные деятели. Например, хорошо извест-но завещание гетмана Петра Сагайдачного 1500 злотых на братскую школу5. Следует отметить, что в архиве братства хранились только копии завещаний и дарственных или извлечений из актов львовских гродских судов и город-ских актов, куда официально вносились подобные документы, чтобы иметь юридическую силу. Извлечения из актовых книг города братство делало в тех случаях, когда возникал спор вокруг того или иного завещания, невыплаты денежных сумм, с целью наведения каких-либо справок. В период вхождения Галиции в Австро-Венгрию извлечения из актовых книг по имущественно-финансовым делам братства запрашивал Ставропигийский институт из актов Городской Табули6. Сохранился перечень завещаний, расписок и других фи-нансовых документов, составленный братством для предъявления комиссии Папской нунциатуры в 1724 г.7, на основании которого можно судить о коли-честве и характере завещаний на братство.
Одной из важных статей дохода братства были кредитно-ростовщические операции. Оно давало часто большие суммы денег братчику, который отправ-лялся на торговые ярмарки со своим товаром. Выгодно вкладывая деньги ор-ганизации, братчикам удавалось значительно увеличивать первоначальную сумму и таким образом пополнять братскую казну. На собрании решали, какое именно вознаграждение следует выдать братчику, который преумножил капи-тал организации. Часто братчики обращались к своим товарищам с просьбой одолжить на время некоторую сумму для решения каких-либо своих проблем.
1 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 Оссолинских. Оп. 1. Ед. хр. II, 2125; ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1124. Опубл.: Шараневич И. И. Важнейший из давных тестаментарных легаций (фондацийных записов последной воли) Ставропигийского братства // ВСИ. 1875. 146—148; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 345—351.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 551, 626, 648, 943.3 Там же. Д. 566, 984, 992, 1015.4 Там же. Д. 265, 649. Опубл.: MCS. P. 537—538. 5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 486. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское
Ставропигиальное братство. Приложения. № 25. С. 76—79.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 566, 964.7 Там же. Д. 853. Л. 1—8.
400 Глава 3
На собрании принимали решение об условиях выдачи ссуды: если член брат-ства был беден и нуждался в материальной помощи, ему выдавали деньги без-возмездно; если необходимо было срочно урегулировать какие-либо дела, то деньги давали на определенный срок с возвратом; если братчик хотел с помо-щью ссуды увеличить свои доходы, то ему выдавали деньги на определенный срок под проценты1. Братство часто одалживало деньги сотрудничавшим с ним людям — типографам, скульпторам, художникам, переплетчикам2. Особый интерес представляет свидетельство 1588 г. о выдаче в долг суммы в размере 80 злотых настоятелем Онуфриевского монастыря Леонтием первопечатнику Ивану Федорову: «...зезнал, же тых осмдесят золотых церковных дал был пред тым небожчикови Иванови друкареви без нашей воле на Апостолы. И по смерти Ивана Друкаря узял отец Леонтий 40 Апростолов за тый осем-десят золотых церковных и показал их нам...»3. Это — один из немногих до-кументов, свидетельствующих о последних днях жизни выдающегося деятеля своего времени.
Часто братчики давали отпечатанные в их типографии книги, в долг с усло-вием, что деньги за них будут возвращены, когда представится удобный слу-чай. Например, в 1617 г. ректор Киевской братской школы Иван Борецкий за-платил братству 20 злотых за полученные ранее от братства греко-славянские грамматики «Адельфотес»4. Иногда так складывались обстоятельства, что должники не могли вернуть долг братству, тогда они давали обязательство отработать свой долг5. Также одалживали книги другим братствам, напри-мер в 1622 г. виленский братчик Василий Тваровский получил для нужд своего братства греческую Триодь и две книги Минеи6. Случалось, что даже львовский епископ обращался за помощью к братству. Так, 3 декабря 1641 г. львовскому епископу Арсению Желиборскому во временное пользование были выданы митра и омофор. В расписке дается подробное описание ве-щей: митра — «на аксамитh червоном, срhбрно злоуhстие воколо отливаные квhтки, перлами, и великими, и малыми также туркусиками и иными ка-мычками саженую»; омофор — «адамашку папужого, подшитый китаикою,
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 426, 439, 530, 982, 987.2 Там же. Д. 769, 991.3 Там же. Д. 1034. Л. 2 об. Опубл.: Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на
Україні (XVI — перша половина XVII ст.): Збірник документів. Київ, 1975. С. 7.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 469. Опубл.: Голубев С. Т. Киевский митро-
полит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883. Т. 1. С. 217; Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні. С. 142.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 924, 925, 926.6 Там же. Д. 489. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. При-
ложения. № 37. С. 84—85.
401§ 6. Финансово-отчетные документы
на нем кресты злотоглавые»1. Братство давало кредиты под проценты мно-гим горожанам и организациям2, в том числе и иностранным купцам (гре-ческим и венгерским)3. Казначей братства должен был тщательно следить за своевременным возвращением денежных сумм. Все выданные суммы были подкреплены не только долговыми обязательствами, но и фиксировались в специальных реестрах. Сохранилось несколько книг долговых обязательств братству за 1632—1732 гг.4, на основании которых можно судить о количе-стве кредиторов братства в разные периоды на протяжении целого столетия, о состоянии его казны и о размерах доходов с денежных операций.
Особо крупные суммы денег братство выдавало под залог, позволяющий в случае неуплаты возместить ему убытки; как правило, в виде залога выступали объекты недвижимости5. Часто братство выдавало денежные суммы под веще-ственный залог. Вещи принимались по акту оценки стоимости залога6 и воз-вращались владельцу или его наследникам после уплаты необходимой суммы. В качестве вещей, сдаваемых под залог, были не только фамильные драгоцен-ности, изделия из серебра и золота, но нередко в качестве особо ценных вещей давали книги, что говорит о том, как высоко котировалась книга в обществе и какое значение она имела для их владельцев. Все заложенные братству вещи вносились в специальные книги реестров. Сохранились перечни заложенных материальных ценностей за 1686—1701 гг.7 При получении вещей у братства их владелец давал расписку, в которой указывались, какие вещи, на какую сум-му и когда ему были возвращены8. Брали деньги под залог у братства не только простые горожане, которые отдавали ему часто самые дорогие вещи; напри-мер, в 1590 г. Катерина Выгановская дала под залог золотой перстень9; в 1650 г. князь Иеремия Вишневецкий оставил под залог ценности на сумму 4515 зло-тых10, за материальной помощью к братству обращались львовский епископ,
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 556. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 59. С. 120—121.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 597, 1099.3 Там же. Д. 97, 1071. Опубл.: MCS. P. 157—159.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1135, 1158, 1168; АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 693—703.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 426.6 Там же. Д. 1139. Л. 1—3; 1144. Л. 1—2.7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1113, 1123, 1139.8 Там же. Д. 128. Опубл.: MCS. P. 220—222; Д. 469. Опубл.: Голубев С. Т. Киевский митро-
полит Петр Могила. Т. 1. Приложения. Т. 1. С. 217; ПІФ. С. 142; Д. 471, 473. Опубл.: Крылов-ский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. № 29. С. 65; № 68. С. 135—136; Д. 666, 848, 1108, 1139.
9 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 128. Опубл.: MCS. P. 220—222.10 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 595. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское
Ставропигиальное братство. Приложения. № 68. С. 135—136.
402 Глава 3
молдавский господарь и другие влиятельные и состоятельные люди. Иногда само братство брало деньги под залог, например, в 1614 г. оно одолжило деньги на издание «Бесед Апостольских»1.
Среди заложенных вещей можно встретить как дорогие, так и самые про-стые и дешевые. Круг вещей, закладываемых братству, можно определить сле-дующим образом:
1) украшения (из драгоценных и недрагоценных металлов): серьги, брасле-ты, перстни с бриллиантами, драгоценными камнями и жемчугом, бусы;
2) одежда, преимущественно верхняя;3) пояса, в том числе расшитые золотом;4) предметы домашнего обихода: столовое серебро, ковры и пр.;5) оружие и предметы воинской амуниции;6) конное убранство. Реестры заложенных вещей являются важными источниками по истории
быта и материальной культуры. Здесь встречаются описание и названия пред-метов повседневного быта горожан XVII в. В книге записей заложенных вещей за 1690—1698 гг. можно встретить самые разные предметы, представлявшие за-кладную ценность; среди них и украшения — серебряная шкатулка, перстень с тремя рубинами, бусы из жемчуга и даже одна серьга с рубином, из одежды — кунтуши (голубой, подшитый рысьим мехом, темно-зеленый «хвостиками об-шитый», пурпурный адамашковый, французский, подшитый белым барашком и др.), жупаны (летний белый матерчатый с золотыми цветами, кирпичный с серебряными цветами в поясе и др.), кафтаны, шерстяные платки, юбки («ма-терчатая, пестрая, в поясе подшита брюшками и обшитая хвостиками»). Очень часто закладывали оружие и предметы воинской амуниции. Так, в одном сун-дуке, заложенном 1 июня 1691 г., помимо одежды значились: сабля «черкеш-ка» с отделкой, сагайдак, стрелы и лук, мисюрка (воинская шапка) дамасская с позолоченной маковкой, панцирь (одежда всадника), отделанный красным сукном, седло и попона турецкая красная. 30 июля 1692 г. были заложены «ро-скошное» козацкое седло, сабля «ордынка» позолоченная старинная с шелко-выми пурпурными шнурами, сабля турецкая белая в ножнах с отделкой2.
Ростовщическими операциями занималось не само братство. Оно выступа-ло посредником, прибегая к услугам ростовщиков-профессионалов, чаще все-го евреев, которые составляли расписки преимущественно на родном языке. Встречаются единичные случаи, когда посредник не возвращал ни денег, ни за-ложенных вещей; например, некая Рифца Израилева взяла заложенные вещи «od tak wielu lat» (несколько лет назад), ни залога, ни денег, ни комиссионных
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 454. Опубл.: АОИЗР. Т. 4. С. 434. № 188; ПІФ. С. 141—142.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1.1123; Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 103.
403§ 6. Финансово-отчетные документы
не отдавала1. Процент, который взимался за операцию, составлял в большин-стве случаев 12 грошей со 100 злотых еженедельно. Так же братство и одалжи-вало деньги, получая за это две трети от процента годового роста, а одна треть отдавалась верителю.
Но не следует считать, что братство было своеобразным ростовщиком свое-го времени. Как раз напротив. Оно выступало скорее в качестве организации, которая может прийти на помощь человеку в трудную минуту. Эта сторона деятельности не воспринималась членами братства как важная статья дохода. Пожалуй, большую часть таких операций братство проводило бескорыстно. К нему не раз обращались горожане, настоятели монастырей, другие братства, влиятельные вельможи с просьбой оказать материальную помощь и поддерж-ку, и братство охотно шло им навстречу. Часто оно брало на сохранение у го-рожан ценные документы и драгоценности, давало безвозмездно другим брат-ствам, школам, церквям и монастырям книги, предметы церковного обихода. Сохранился целый комплекс документов с просьбами братства о помощи и рас-писок о возвращении вещей, книг, ценностей, которые давали ему на хранение. Так, после отъезда в Киев в 1616 г. выдающийся деятель культуры своего време-ни Памва Берында передал часть своих вещей на хранение братству2, свои кни-ги хранил у братства архимандрит Онуфриевского монастыря, один из первых руководителей типографии братства Кульчич Пафнутий3. Ценные вещи, книги, документы давали братству на хранение Львовские епископы, Виленское брат-ство4, молдавский господарь Иеремия Могила5 и др. В архиве братства сохра-нились личные документы многих горожан Львова (долговые обязательства, закладные расписки, документы о судебных разбирательствах по вопросам на-следства6), видимо, они также были переданы на хранение братству. Эти доку-менты позволяют существенно расширить представление о взаимоотношениях братства с населением, понять особенности жизни города в XVII—XVIII вв.
Проведенное исследование этих источников позволяет сделать вывод о том, что при использовании источников этого вида следует учитывать тот факт, что сохранилась незначительная часть документов такого рода, так как при завер-шении той или иной операции документы теряли свое значение, и люди не заботились об их сохранности. Источники этого вида могут дать интересные сведения по истории искусства, образования, торговли, ремесла и внутренней жизни братства и других организаций.
1 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 104.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 462. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское
Ставропигиальное братство. Приложения. № 25. С. 48—51.3 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 29. С. 65.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 145. Опубл.: MCS. P. 262. 5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 612, 625.6 Там же. Д. 1204, 1210, 1212, 1219.
Ра зд е л 2
Источники, отражающие отношения львовского братства с государственными, городскими
и церковными властями
§ 1. Привилеи
Привилеи (от латинского privilegium) — вид грамот, широко распро-страненных в Польше, которые давали определенные преимущества
сословиям, корпорациям или частным лицам. По своему содержанию приви-леи были льготными (наделяли определенными льготами), охранными и удо-стоверяющими какие-либо преимущества. Привилеи, полученные Львовским братством, относятся к разновидности этих документов, наделяющих преи-муществами или привилегиями того, кому они адресованы. Для Львовского братства они имели первостепенное значение, так как в первую очередь обе-спечивали юридический статус братства как организации и основных сфер его деятельности. Привилеи, пожалованные Львовскому Успенскому братству, яв-ляются основными официальными источниками для изучения истории брат-ского движения Украины. Сами члены корпорации считали привилеи самой важной и ценной частью своего архива, бережно их хранили, вели их строгий учет, благодаря чему корпус привилеев, пожалованных братству в течение всей его истории, сохранился до наших дней практически полностью. Среди приви-леев, пожалованных братству, можно выделить две основные группы:
1) привилеи, полученные от церковных иерархов (восточных патриархов, киевских митрополитов, львовских епископов, папы римского);
2) привилеи, полученные от органов государственной власти Речи Поспо-литой (королей Польши, львовского Магистрата).
Формально братство имело статус религиозной организации, поэтому юридическим основанием для его деятельности должны были быть приви-леи высших церковных иерархов. Но фактически гарантию законного функ-ционирования организации давали только привилеи короля, которые, по
405§ 1. Привилеи
существу, дублировали права, пожалованные братству патриархами. Такая двойная схема обеспечения юридического статуса создавала особые усло-вия для деятельности братства. С одной стороны, это была религиозная ор-ганизация, принадлежавшая к вероисповеданию, которое преследовалось и ущемлялось в правах в Польском государстве, и подчинявшаяся непосред-ственно константинопольскому патриарху, находившемуся достаточно дале-ко, чтобы фактически контролировать деятельность братства; к тому же сам Константинопольский патриархат переживал серьезный кризис, находясь под властью турецкого султана. С другой стороны, юридический статус брат-ства был закреплен королевской печатью, которая, в свою очередь, формаль-но гарантировала права организации, но в то же время в стране с ограничен-ной королевской властью и в городе, пользующимся Магдебургским правом, не имела реальной силы и не являлась полноправным гарантом соблюдения пожалованных братству прав со стороны органов городского самоуправле-ния. Права братства, пожалованные патриархом и королем, с одной стороны, создавали большие возможности для деятельности братства, но с другой — постоянно нарушались местными церковными иерархами и Магистратом го-рода. Братство, ведя борьбу за соблюдение своих прав как церковными, так и светскими местными властными структурами, фактически было незави-симо в выборе направлений своей деятельности и способов их осуществле-ния. Правда, это относится преимущественно к «православному» периоду его деятельности. После перехода братства под юрисдикцию Ватикана рим-ская церковь систематически вмешивалась во внутренние дела братства, что значительно ограничило возможности его членов в осуществлении многих планов и проектов.
Среди привилеев следует различать собственно привилеи (наделение каким-либо правом) и подтверждение ранее данных привилеев. При смене власти братство всегда старалось подтвердить у нового преемника привилеи, пожалованные организации его предшественниками. Это гарантировало не-изменность юридического статуса организации в обществе при смене церков-ной и государственной властей, создавало ощущение стабильности своего по-ложения; наверное, поэтому братство оказалось очень прочной корпорацией, эволюционировавшей вместе с обществом, составной частью которого оно яв-лялось, и было ликвидировано только в середине XX в., оказавшись в государ-стве, в принципе не принимавшим все иное, самобытное, имеющее глубокие национально-культурные традиции.
Основными документами, регламентирующими принципы деятельности братства как организации, являются привилеи патриархов, полученные брат-ством в конце XVI в. Все последующие привилеи только дополняли и уточняли правовую специфику тех положений, которые были заложены в патриарших привилеях конца XVI в. Первым и главным из них является привилей антио-
406 Глава третья
хийского патриарха Иоакима, утвердившего 1 января 1586 г.1 устав братства и определившего основные сферы его деятельности (заведение школы, типогра-фии, госпиталя) грамотой от 15 января 1586 г.2
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 71; ЛИМ. Отдел фондов (собрание ру-кописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 23—39, 40—47, 250—256. Опубл.: MCS. P. 113—119; ПКК. 1898, Т. 3. С. 1—11; DS. P. 3—15; АОИЮЗ / Петрушевич А. С. С. 101—108; ВСИ. 1869. С. 113—120. Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное брат-ство. Приложения. № 2. С. 14—15; Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. № 1 (170). С. 500—504.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 72. Опубл.: MCS. P. 119—120; АОИЗР. Т. 3. С. 301—302; ЮИЛСБ. Т. 1. С. 57; ПКК. 1898. Т. 3. С. 11—12; ПIФ. С. 82—83; Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. № 2 (171). С. 504—505.
Рис. 13. Константинопольский патриарх Иеремия II
407§ 1. Привилеи
Инициатива в создании этих документов принадлежала самим мещанам Львова, по их инициативе были и изготовлены грамоты, представленные на подпись патриарху1. Но Киевская митрополия находилась под юрисдикцией не антиохийского, а константинопольского патриарха, поэтому братство стре-милось получить подтверждение привилеев от своего патриарха. В 1587 г. кон-стантинопольский патриарх Иеремия подтвердил привилей антиохийского па-триарха Иоакима 1586 г. на основание братства2, а в 1589 г. сделал это вторич-но3. В 1592 г. константинопольский патриарх Иеремия наделил братство пра-вом ставропигии — непосредственного подчинения патриарху, минуя власть митрополита и епископа4. Этот привилей стал основным документом, гаран-тировавшим свободу деятельности братства его независимость на протяже-нии всей истории Львовского братства и его преемника — Ставропигийского Института.
Сношения братства с патриархами были затруднены не только из-за отда-ленности Львовской епархии от Константинополя, но и из-за политических ограничений, препятствовавших связям православных Речи Посполитой, с православными иерархами из других стран. Однако братство старалось по-лучить подтверждение своих привилеев у константинопольских патриархов, а также у глав других восточных церквей, которые проезжали через Киевскую митрополию по своим делам. Подтверждение своих прав и привилеев брат-ство получило в 1611 г. у александрийского патриарха Кирилла, который в 1614 г. особо подтвердил право братства на издание книг в своей типографии5; в 1626 г. Кирилл, будучи уже константинопольским патриархом, подтвер-дил привилей о праве ставропигии6. В 1620 г. братство обратилось к Памве Берынде с просьбой о подтверждении своих привелеев у иерусалимского па-
1 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 33—34.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 90; ЛИМ. Отдел фондов (собрание руко-писей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 49—54. Опубл.: DS. P. 35—38; АОИЮЗР. Т. 2. С. 110—112; ВСИ. 1869. С. 122—124; Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. № 3 (172). С. 506—508.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 121; ЛИМ. Отдел фондов (собрание руко-писей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 57—63, 111—118. Опубл.: DS. P. 62—67, 98—102; ПКК. 1898. Т. 3. С. 16—19; ВСИ. 1869. С. 124—127; Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. № 4 (173). С. 509—513.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 210; ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукопи-сей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 91—96. Опубл.: MCS. P. 393—396; DS. P. 87—90; Привiлеї нацiональних громад мiста Львова. № 7 (176). С. 517—520.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 431, 452. Опубл.: Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила. Т. 1. Приложения. С. 203—205; ВСИ. 1880. С. 143—145.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 495. Опубл.: Голубев С. Т. Киевский митро-полит Петр Могила. Т. 1. Приложения. С. 287—290.
408 Глава третья
триарха Феофана, находившегося в Киеве, и такое подтверждение было по-лучено1. Подтверждение привилеев на основание братства и его права ставро-пигии братство получило от константинопольских патриархов Мафвея в 1599 и 1600 г.2 и Парфения — в 1640 г.3 Это был последний привилей, полученный братством от патриархов, так как дальнейшие сношения с патриархией стали практически невозможны и даже опасны.
Привилеев от киевских митрополитов братство получило только два. Пер-вым в 1591 г. Михаил Рогоза защищал братство в его борьбе против львовско-го епископа Гедеона Балабана и подчинил братство непосредственно власти митрополита4. Но уже через год этот привилей стал недействительным в связи с пожалованием братству права патриаршей ставропигии. В 1645 г. киевский митрополит Петр Могила выдал привилей на основание младшего братства при Онуфриевском монастыре5. Братство стремилось получить подтвержде-ние привилеев патриархов у киевского митрополита, особенно в период про-тивостояния братства и львовского епископа, который оспаривал не только право ставропигии, но и права братства на патронат над Онуфриевским мо-настырем и др. В связи с этим в 1589—1590 гг. киевский митрополит Михаил Рогоза выдал братству подтверждение привилеев патриархов, в частности на права на Онуфриевский монастырь, школу и типографию6. Киевскими митро-политами Михаилом Рогозой и Петром Могилой было подтверждено право братства избирать священников-монахов в Успенскую церковь и назначать игумена Онуфриевского монастыря7.
Несмотря на право ставропигии, которое было получено братством от па-триарха, быть полностью независимым от епископов ему не удавалось, и все же братство стремилось утвердить свой статус и получить подтверждение всех своих прав у львовского епископа. После многолетней тяжбы с еписко-пом Гедеоном Балабаном, который постоянно вмешивался во внутренние дела братства и не мог смириться с существованием сильной религиозной органи-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 480. Опубл.: АОИЗР. Т. 4. С. 508—509; ПIФ. С. 143—144.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 344, 346. Опубл.: MCS. P. 832—835.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 548. Опубл.: DS. P. 119—122; Голубев С. Т.
Киевский митрополит Петр Могила. Т. 2. С. 182—184.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 153; ЛИМ. Отдел фондов (собрание ру-
кописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 136—138. Опубл.: MCS. P. 267—269; ЮИЛСБ. Т. 1. С. 60; АОИЮЗ / Петрушевич А. С. С. 146—149.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 569. Опубл.: Голубев С. Т. Киевский митро-полит Петр Могила. Т. 2. Приложения. С. 309—311.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 123, 127, 137. Опубл.: MCS. P. 210—213, 218—220, 237—239; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 520—522.
7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 124, 126, 570. Опубл.: MCS. P. 213—214, 216—217; Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила. Т. 2. Приложения. С. 311—312.
409§ 1. Привилеи
зации, имеющей право контролировать даже епископа, Львовское братство, получившее право голоса наравне с духовенством при выборе епископа, пред-ставило в 1608 г. требование новому кандидату на замещение кафедры львов-ского епископа Иеремии Тисаровскому, заявив, что оно поддержит его кан-дидатуру при условии полного признания и документального подтверждения с его стороны всех прав и привилеев братства. Новый епископ выдал брат-ству грамоту с подтверждением его прав1. В 1630 г. Иеремия Тисаровский дал братству отдельно подтверждение королевских и патриарших привилеев, на право книгопечатания2. В 1641 г. такие же переговоры с новым кандидатом на Львовскую епископскую кафедру братство вело с Андреем Желиборским. В архиве организации сохранился черновик подтверждения всех прав и при-вилеев организации, составленный членами братства до выборов епископа3. После хиротонии новый львовский епископ Арсений Желиборский офици-ально выдал такую грамоту4. Подтверждения своих прав были получены брат-ством от епископа Афанасия Желиборского в 1666 г.5 С последним львовским православным епископом Иосифом Шумлянским братство вело постоянную борьбу, направленную в первую очередь против его политики введения унии во Львовской епархии. Поэтому имеющим силу можно считать только при-вилей Иосифа Шумлянского 1684 г., признающий право выбора священни-ков и диаконов из Манявского Скита, Креховского и других монастырей для Успенской и Онуфриевской церквей6. Подтверждение всех прав организации, выданное Иосифом Шумлянским в 1704 г.7, после судебного процесса с брат-ством, нельзя назвать ни имеющим реальную юридическую силу, ни свиде-тельством примирения двух враждующих сторон. Со стороны епископа это была очередная уловка, направленная на то, чтобы сломить последний оплот православия в Львовской епархии, которая к этому времени уже перешла под юрисдикцию Ватикана. Политика Шумлянского увенчалась успехом, и брат-ство в 1708 г. приняло унию. Ни один униатский епископ не подтверждал прав братства, а, напротив, старался полностью подчинить его своей власти, еще более ограничить его права, которые и так были значительно урезаны по срав-нению с православным периодом истории братства.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 419.2 Там же. Д. 507. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. При-
ложения. № 45. С. 102—103; ПIФ. С. 150—151.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 554.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 555. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 184—185;
Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 58. С. 118—120.5 Там же. Д. 647.6 Там же. Д. 720.7 Там же. Д. 773. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 607—631.
410 Глава третья
При принятии унии для членов Львовского братства было важно сохранить свою независимость, и одним из главных условий его перехода под юрисдик-цию католической церкви было требование дальнейшего использования пра-ва ставропигии. Католическая церковь не имеет аналогичного права, тем не менее братство настаивало на том, чтобы оно подчинялось непосредственно папе1, в противном случае, как сообщал префект папской коллегии Стефан Тромбетти, братство «готово вернуться к патриарху»2. Условия братства были приняты, и 5 апреля 1709 г. папа Климент XI издал бреве об освобождении Львовского братства и Онуфриевского монастыря от епископской власти и подчинении их непосредственно папе и Конгрегации распространения веры3. Это бреве папы Климента XI можно рассматривать как подтверждение приви-лея константинопольского патриарха Иеремии от 1592 г. о наделении братства правом ставропигии. Этим правом братство активно пользовалось в течении всего XVIII века, отстаивая свою независимость от Львовского епископата.
Ко второй группе привилеев, относятся привилеи и подтверждения ранее полученных привилеев, пожалованные братству, государственными инсти-тутами власти. Эта группа включает в себя привилеи, полученные от коро-лей Польши и от органов городского самоуправления (Магистрата Львова). Получение привилеев и подтверждений привилеев у королей Польши было очень важно для братства, так как только эти документы могли гарантиро-вать полноправное функционирование его как организации. Собственно привилеев, то есть документов, жалующих какие-либо права братству, коро-ли Польши братству не давали. Сигизмунд III 15 октября 1592 г. подтвердил привилеи патриархов на основание братства и на его право заведовать шко-лой, типографией и госпиталем4. Подтверждение этого привилея было важ-ным для братства; в архиве сохранилось несколько вариантов проекта этого документа, составленного самими членами братства5. Тем же числом дати-рована вторая грамота, подтверждающая права Онуфриевского монастыря и закрепляющая за братством право патроната (администрирования) мона-стырей6. Эта грамота, в свою очередь, была составлена на основании преж-
1 Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона: Материалы, от-носящиеся к истории Львовского Ставропигиона в 1700—1767 гг. / А. Копыстянский. Львов, 1936. Ч. 1. С. 7—8, 11—12, 14—16.
2 Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 14—16.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 780. Опубл.: Петрушевич А. С. Дополнения
ко сводной галицко-русской летописи с 1700 по 1772 г. Львов, 1896. С. 84—86; ВСИ. 1925. С. 213—215; Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 23—25.
4 MCS. P. 389—391; ВСИ. 1884. С. 146; ПIФ. С. 108—109.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 206, 248.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 205. Опубл.: MCS. P. 385—386.
411§ 1. Привилеи
них королевских привилеев, в частности привилеев Сигизмунда I 1522 и 1524 гг. Онуфриевскому монастырю на освобождение его от уплаты налогов1. Подтверждение прав братства, закрепленное в грамотах Сигизмунда III, ста-ло основанием добиваться у всех последующих королей Польши признания этих документов.
Первой специальной акцией организации, направленной на получение подтверждений всех своих прав и привилеев у короля, можно считать де-путацию братства на Коронационный Сейм 1633 г. Братство к этой поездке в Краков, скрупулезно составляло документы, собирало деньги, без которых получить подтверждения прав было практически невозможно. В основу но-вого правого документа были положены не только привилеи Сигизмунда III, подтверждающие права братства и Онуфриевского монастыря, но и привилей Сигизмунда II от 20 мая 1572 г. украинскому населению города Львова на урав-нивание его в правах с польским населением города2. Новоизбранный король Польши Владислав IV подтвердил все эти привилеи и закрепил за братством право избирать священников из монахов для Успенской и Онуфриевской церквей3. Братство отправляло своих депутатов на каждый коронационный сейм. Значительные суммы денег, дорогие подарки, которые давались начи-ная низших чиновников королевской канцелярии и заканчивая королем, по-зволяли братству всегда получать желаемые подтверждения своих прав. В 1649 г. такие грамоты были подтверждены Яном Казимиром4, а в 1653 г. брат-ство получило от него вторичное подтверждение своих привилеев5. В 1669 г. подтверждение прав и привилеев Львовского братства, украинского населе-ния Львова и Онуфриевского монастыря было получено от короля Михаила Корыбута Вишневецкого6, в 1676 г. — от Яна III Собесского7, в 1697 г. и вторич-но в 1700 г.8 — от Августа II в 1730—1754 гг. — от Августа III9 и в 1766 г. — от Станислава Августа Понятовского10.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 3, 4. Опубл.: MCS. P. 4—5, 6—7.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 47. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 42—48;
MCS. P. 63—64.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 516, 517, 523.4 Там же. Д. 584, 585, 586, 587.5 Там же. Д. 606. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. При-
ложения. № 71. С. 153—155.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 669, 671, 672, 673, 674.7 Там же. Д. 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 707.8 Там же. Д. 754..9 Там же. Д. 917, 939, 970, 971. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львов-
ского Ставропигиона. Ч. 1. С. 162—164, 175—177; Т. 2. С. 160—163.10 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1001. Опубл.: Юбилейный сборник в па-
мять 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 267—274.
412 Глава третья
Привилеи, полученные братством от городских властей Львова, касались в основном налогообложения его недвижимости. В 1616 и 1636 гг. львовский староста Станислав-Бонифатий Мнишек выдал братству привилеи, освобож-дающие его дом при Успенской церкви от военных стоянок и госпиталь — от всех налогов и повинностей1. Подтверждения этих привилеев братство до-билось у королей в 1622 и 1637 гг.2 Привилеи львовского старосты Адама-Николая Синявского, освобождающие братство от постоя войска в его домах, были получены в 1707 и 1713 гг.3 Хотя эти привилеи были незначительными уступками городских властей, все же в тяжелое для братства военное время они помогали ему сохранить свою финансовую независимость, но главное — это были такие весомые аргументы, которые обнадеживали членов братства в возможности признания Магистратом прав не только братства как одной из равных корпораций города, но и равенства прав украинского населения Львова с польским.
Анализ привилеев и документов, отражающих историю их создания и по-лучения, показывает, что ни церковные, ни государственные власти по соб-ственной инициативе никаких прав и привилеев братству не давали, братчи-ки сами путем долгих стараний, часто подкупая городские и государствен-ные власти, добивались утверждения тех или иных прав и привилеев. Один и тот же более ранний привилей часто служил поводом для получения под-тверждения какого-либо одного права братства, получение которого было актуально для его членов. Например, на основании подтверждения королем Сигизмундом III патриаршего привилея, где говорилось о его праве заведо-вать типографией, королями выдавались привилеи на исключительное пра-во братства издавать книги кириллическим шрифтом на украинских землях Речи Посполитой. В Польше, стране с ограниченной властью короля, королев-ские привилеи часто игнорировались многими властными структурами, осо-бенно городов Магдебургского права, да и сами короли нередко подписывали противоречащие друг другу привилеи братству и его противникам. Поэтому братству приходилось вести затяжные судебные процессы, отстаивая свои «давние» права.
Привилеи и их подтверждения являются важными источниками при изу-чении изменений юридического статуса и прав братства в течение его двух-сотлетней истории, трансформации во времени того или иного права, а также показывают механизм взаимоотношений братства с церковными (православ-ными, а позже католическими) и государственными институтами власти.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 461, 631.2 Там же. Д. 487, 535. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство.
№ 55. С. 114—115; Д. 536.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 776, 790.
413§ 2. Материалы судебных процессов
§ 2. Материалы судебных процессов
В архиве сохранился корпус источников, связанных с судебными процесса-ми, которые вело братство. При использовании этих источников следует иметь в виду, что основные материалы судебных процессов, в которых участвовало братство, содержатся в фондах тех судебных учреждений, где проходило слу-шание дела. Выявление этих материалов позволит шире и всесторонне изучить тот круг проблем, который члены братства пытались решить посредством су-дебных тяжб. Однако источники, сохранившиеся в архиве братства, могут рас-крыть не только характер основных судебных разбирательств, но, главным об-разом, помочь глубже понять мотивы, заставлявшие членов братства возбуж-дать судебные тяжбы, тратить на суды огромные средства. А главное, по со-хранившимся источникам, отражающим судебные разбирательства братства, можно узнать, что было наиболее ценным и дорогим для этих людей, что они стремились более всего защитить и сохранить, что они были готовы отстаи-вать, не щадя ни сил, ни средств.
В системе делопроизводства судебных учреждений Польши важную роль играли так называемые актовые книги, куда заносились копии докумен-тов, заверенных земскими, гродскими судами, магистратами и ратушами. Официально во всех судах актовые книги были введены Литовским статутом в 1529 г. В них наряду с решениями судов записывались для памяти правитель-ственные акты — королевские грамоты, постановления сеймов, сеймовые кон-ституции, универсалы гетманов и т. п., а также разнообразные частноправовые акты — протестации (жалобы), заявления, завещания, акты купли-продажи и т. д.1 Актовые книги являлись официальным источником для получения раз-ного рода информации, справок. Для начала судебного дела нужно было по-дать протестацию с изложением обвинений и причин возбуждения судебного разбирательства. С одной стороны, занесение протестаций в актовые книги предпринималось с целью возбуждения судебного дела по какому-либо во-просу, а с другой — часто использовалось в роли своеобразной трибуны, кото-рая позволяла донести до общественности определенные взгляды, социальную позицию подающего протестацию.
Для того, чтобы заносить протестации в актовые книги, нужно было иметь особое право. Такое право братство получило почти сразу после своего юриди-ческого оформления как одной их корпораций города. Занесение протестаций в актовые книги производилось за определенную плату. В приходо-расходных книгах братства часто встречаются статьи расходов в связи с занесением про-тестации в актовые книги, получением извлечения из них подтверждающим этот факт. Например, в приходо-расходной книге за 1616 г. записано: «Возному
1 Левицкий О. И. Об актовых книгах, относящихся к истории Юго-Западного края и Малороссии. М., 1900.
414 Глава третья
и шляхте от протестации, що еи ввожено до замку далем злотый; писареви от принятя протестации - грошей 20; прокураторови, що с протестациею вступовал з нами далем грошей 15; за мhнуту протестации, которуюсмо выняли з замку далисмо злотый и грошей 6»1. Среди расходов на 1654 г. есть запись: «Подпискови, що писал протестацию и що выписал з актов грошей 3. Од печати тоей протестации 1 злотый 24 грошей»2.
Как видно из этих записей, занесение протестаций было делом не только хлопотным, но и дорогостоящим, за каждую процедуру приходилось платить всем, начиная от переписчика и заканчивая прокуратором. Но особенно доро-го обходились протестации, которые братство вносило в актовые книги дру-гих городов, чаще всего в Варшавские гродские акты: «Посланцеви, кгды по протестацию ходил до Варшавы... далем злотых пулста»3. Процедура занесе-ния протестации включала в себя составление текста протестации, исправле-ние при необходимости текста, внесение его в актовые книги и заверение про-куратором; при необходимости, по просьбе братчиков, выдавали заверенное извлечение («за мhнуты протестации щосмы выняли»)4. Заносить протеста-ции братство считало одной из главных своих задач в борьбе за гражданские и религиозные права украинского населения. Так как гродские суды заседали практически круглый год, то записи в актовых книгах часто выступали в роли современной прессы — оказывали влияние на общественное мнение. В архив-ном заголовке на одной из протестаций писарем братства отмечено: «Два чер-ны из Унева манастыря у книг земских зознали, иж без всех братии воли игумен их Симон Борисовский выдал манастир святого Онофрия владице Гедиону Балабану»5. О значительной роли протестаций в сфере общественной деятельности братства говорит большое число извлечений из актовых книг с вносимыми текстами протестаций, сохранившимися в архиве братства. В про-тестациях братство затрагивает те основные проблемы общества, которые поднимались в современной украинской публицистике. Источниковедческий анализ протестаций, которые вносили братчики от своего имени и от имени всего украинского населения города, позволяет понять роль, которую играло Львовское братство во взаимоотношениях горожан с властями города, право-славных граждан с католиками, коренного этнического сообщества с правя-щими польскими властями и другими этносами, проживающими в крае, во взаимоотношениях братства с разными церковными институтами.
В данной работе рассматриваются только те протестации, которые сохра-нились в архиве братства, — это извлечения из Львовских, Владимирских,
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1047. Л. 8. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 340—356.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 22. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 7—28.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1047. Л. 8 об.4 Там же. Л. 9.5 Там же. Д. 106. Опубл.: MCS. P. 176—177.
415§ 2. Материалы судебных процессов
Варшавских гродских актов, а также извлечения из актов Львовской консисто-рии и Папской Нунциатуры в Варшаве и Риме. Работа по выявлению оригина-лов протестаций Львовского братства в актовых книгах ряда городов только начинается и может стать предметом специального исследования.
При определении видовой структуры источников по истории Львовского братства Н. П. Ковальский как самостоятельный вид выделяет протестации братства против национального и религиозного угнетения украинских мещан. Безусловно, протестации имеют свои особые характеристики и могут рассма-триваться как самостоятельный вид источников, если учитывать их особую роль в общественной жизни того времени, но мне представляется целесоо-бразнее рассматривать их в комплексе всех судебных материалов, неотъемле-мой частью которых являются и протестации наряду с другими подвидами ис-точников. Корпус источников, отражающих участие братства в судебных про-цессах и отложившихся в его архиве, имеет следующую видовую структуру:
1. Протестации, которые вносило братство в актовые книги с целью воз-буждения судебного разбирательства.
2. Вызовы сторон, участвующих в судебном разбирательстве, на слушание дела.
3. Декреты или постановления суда.4. Переписка братства со своими уполномоченными, которые непосред-
ственно представляли братство в суде и вели его судебные дела.Все сохранившиеся источники по судебным процессам братства тематиче-
ски можно разделить на группы:а) тяжба братства с Магистратом против национального угнетения, эко-
номических и религиозных притеснений украинского населения;б) судебные разбирательства братства со Львовским епископатом за от-
стаивание права ставропигии, против вмешательства епископов в дела брат-ства, причем борьба братства против православного епископата отражена в Львовских гродских актах, а против греко-католического — в актах Львовской Консистории и Папской Нунциатуры в Варшаве и Риме;
в) судебные процессы, касающиеся деятельности непосредственно брат-ства, его внутренней жизни, взаимоотношений между членами, частными де-лами отдельных братчиков и членов их семей.
Большая часть материалов в архиве братства относится к его тяж-бе с Магистратом Львова. В 90-х гг. XVI в. братство вносит в актовые кни-ги Львовского гродского суда целый ряд протестаций с целью начать борьбу за права украинского населения города, в первую очередь — религиозные1. В 1595 г. во Львовские гродские акты по просьбе братства была занесена проте-стация послов Киевского воеводства князей Адама Вишневецкого и Кирилла
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 271, 279, 282. Опубл.: MCS. P. 574—577, 592—594, 606—607; АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 444—446; ПКК. 1898. Т. 3. С. 39.
416 Глава третья
и Романа Ружинских против преследований Магистратом украинского насе-ления города1. Братство выступало в роли защитника экономических интере-сов украинского населения Львова и львовских предместий. К нему обраща-лись представители многих ремесленных цехов (портных, ткачей, скорняков, кожевенников и др.) с жалобами на притеснения украинских ремесленников со стороны польских цехмистров. Целый ряд протестаций братства был на-правлен против нарушения ремесленниками-поляками прав ремесленников-украинцев; против незаконного исключения украинцев из ремесленного цеха, запрета им заниматься ремеслом; против незаконного заключения в тюрьму ремесленников за неуважение католических праздников, избиения и ограбления мастерских цехмистрами-поляками по наущению Магистрата и др.2 К ним также можно отнести протестацию 1592 г. в связи с нападени-ем учеников польской школы на учеников братской школы, вызванное пре-жде всего национально-религиозными разногласиями3. Такую форму борьбы за национально-политические права украинского населения братство унасле-довало от представителей украинской громады Львова, которые начали поли-тическую кампанию против ограничения своих прав во втором десятилетии XVI в. Братство поддержало эту форму борьбы и продолжало ее развивать, о чем свидетельствуют многочисленные извлечения из Львовских гродских ак-тов с протестациями львовских мещан в период до организационного оформ-ления братства, сохранившиеся в архиве братства.
Кроме протестаций, большое значение для изучения уникального процесса братства с Магистратом Львова представляют и источники других видов. Для исследования разных этапов этой тяжбы особое значение имеют королевские вызовы на суд, причем в архиве братства сохранились не только вызовы, адре-сованные самому братству, но и его противникам. Первым из сохранивших-ся источников этого вида является вызов на королевский суд 1596 г. короля Сигизмунда III Магистрату Львова за нарушение прав и привилеев православ-ного населения города4. Этот документ был очень важен для братства, особен-но в дальнейшей его тяжбе с Магистратом, и свидетельствовал о начале судеб-ного процесса, тянувшегося почти 150 лет. Сохранились вызовы Сигизмунда III 1600—1602 гг. по делу о нарушении Магистратом прав украинского населе-ния города5. Чрезвычайно ценными являются письма прокураторов братства из Варшавы с сообщениями о ходе судебного дела за 1613—1650 гг.6, а также
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 283. Опубл.: MCS. P. 608—611.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 332, 338, 339, 368, 389, 397.3 Там же. Д. 214. Опубл.: MCS. P. 408—409.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 296. Опубл.: MCS. P. 716—718.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 347.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 444, 445. Опубл.: Крыловский А. С. Львов-
ское Ставропигиальное братство. Приложения. № 20. С. 41—42; Д. 594.
417§ 2. Материалы судебных процессов
материалы Львовского гродского суда 1601 г. по делу исключения городских и предместских ремесленников-украинцев, проживающих в городе и на пред-местьях из цехов1. Судебные разбирательства в конце XVI — первой половине XVII вв. были малорезультативны, слушание дела часто откладывалось, о чем свидетельствуют многочисленные декреты королей2.
Активизация процесса по делу о нарушении Магистратом прав украинско-го населения началась в 1700 г.3 Но и возобновленный процесс затянулся на де-сятилетия. Среди материалов этого периода большое значение представляют вызовы на суд королей Августа II и Августа III4, переписка братства со свои-ми прокураторами в Варшаве за 1722—1728 гг. по вопросам о ходе судебного разбирательства5, полномочия делегатам от братства защищать от его имени права украинского населения города на Королевском суде в споре братства с Магистратом за 1722 и 1744—1750 гг.6 и материалы о перенесении рассмотре-ния спора между братством и Магистратом в Придворный суд в Варшаве в 1730 г. и опять — в Королевский суд в 1731 г.7
Материалы судебного процесса братства с Магистратом рисуют яркую картину положения украинского населения. Борьба за свои права, против религиозно-экономических притеснений в конце XVI в. стала первым шагом в отстаивании прав православной церкви и украинского народа; ее возгла-вило Львовское братство, что во многом подготовило почву для украинского национально-культурного возрождения в конце XVI — начале XVII вв. Хотя на протяжении всего XVII в. братству не удалось добиться реального улучше-ния положения своего народа, продолжая эту борьбу в XVIII в., оно все же выиграло это дело, добившись официального уравнения в правах украинцев с поляками, что, безусловно, можно считать его политической победой.
Борьбу братства против львовского епископата можно разделить на два этапа:
a) против львовского православного епископа Гедеона Балабана в конце XVI — начале XVII вв.;
б) против львовского греко-католического (униатского) епископа Афанасия Шептицкого в первой половине XVIII в.
Львовский епископ Гедеон Балабан не мог смириться с возрастающей си-лой Львовского братства, наделенного большими правами патриархом и ис-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 356.2 Там же. Д. 392, 590.3 Там же. Д. 757.4 Там же. Д. 766, 795, 966. Опубл.: С. 31; Т. 2. С. 158—160.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 826, 827, 839, 849, 875, 899. Опубл.: Юбилей-
ный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 73—74, 126—129.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 814, 960.7 Там же. Д. 916, 918.
418 Глава третья
ключенного из юрисдикции епископа, и применял самые разные меры, что-бы сломить братство, заставить его подчиниться, вплоть до изготовления подложных грамот от имени константинопольского патриарха Иеремии об отлучении от церкви членов братства1. Львовское братство, отстаивая свои права, подавало многочисленные протестации против враждебных дей-ствий епископа и заносило их во Львовские и Варшавские гродские акты в конце XVI — начале XVII вв.2 Занесение протестаций в актовые книги грод-ских судов привело к возбуждению процесса между братством и львовским епископом. По церковным канонам жалобы на епископа должны были рас-сматриваться на духовном суде митрополита или поместного церковного собора. В 90-х гг. XVI в. конфликт между Гедеоном Балабаном и братством рассматривался в двух судах — в Королевском придворном суде3 и на суде поместного церковного собора православной церкви4. Рассмотрение такого дела было необычно для судебной практики как светского, так и духовного судов. Но киевский митрополит Михаил Рогоза стремился разрешить этот конфликт на церковном суде и даже лично обращался к королю Сигизмунду III с просьбой передать дело о споре между братством и львовским еписко-пом на рассмотрение духовного суда5. Однако вынесение окончательного решения откладывалось в Придворном суде, а на духовном суде принима-лись взаимоисключающие постановления, согласно которым суд полностью поддерживал братство, принимая решение о лишении Гедеона Балабана епископского сана за нарушение прав организации6, а позже — о возобнов-лении в правах Гедеона Балабана и о подчинении ему братства7. Конфликт между братством и львовским епископом был все же разрешен при содей-ствии князя Константина Острожского8. В 1596 г. в Остроге между брат-ством и львовским епископом Гедеоном Балабаном было подписано миро-вое соглашение о прекращении вражды и судебных дел между ними, в слу-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 113. Опубл.: MCS. P. 196—197.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 88, 130, 134, 183, 266, 317. Опубл.: MCS.
P. 147—148, 227, 233—236, 312—314, 804—806. ПКК. 1898. Т. 3. С. 39.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 226, 229, 236, 285. Опубл.: MCS. P. 449,
466—470, 617.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 232, 238, 251, 255, 256, 257, 264, 290, 293.
Опубл.: MCS. P. 458—462, 476—479, 500—503, 507—508, 512—513, 529—530, 688—689, 691—692.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 273. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 105—106; MCS. P. 579.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 264. Опубл.: MCS. P. 529—530.7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 293. Опубл.: MCS. P. 69—692.8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 297, 300. Опубл.: ВСИ. 1867. С. 74; MCS.
P. 719—720, 740.
419§ 2. Материалы судебных процессов
чае нарушения которого провинившаяся сторона должна была бы заплатить штраф в 1000 злотых1.
Борьбу Львовского братства с Гедеоном Балабаном можно рассматривать как проявление идей Реформации в братском движении. Супрематия братств над церковной иерархией (право контроля над церковными порядками, над ду-ховенством и епископом в том числе) является одной из самых ярких страниц в истории братств. Противостояние Львовского братства и Гедеона Балабана, по мнению М. С. Грушевского, является ключевым моментом в осознании зна-чимости братств в истории Украины этого периода. Украинское движение ко-лебалось между желанием усвоить идеи Реформации и боязнью оторваться от православных традиций, от «руськой» национальной церкви, от патриархата, который служил ему и всей традиции как бы якорем, гарантируя, что оно не потеряется среди противоречивых течений этой бурной эпохи2.
Вторым ярым противником братства был львовский греко-католический (униатский) епископ Афанасий Шептицкий, который еще более Гедеона Бала бана старался подчинить его своей юрисдикции. Он вмешивался во вну-тренние дела братства, накладывал секвестр на его имущество и денежный капитал пытался контролировать младшее Онуфриевское братство, отлучал от церкви членов братства3. Тяжба с Афанасием Шептицким продолжалась в течение 1722—1730 гг. и, можно сказать, имела в своей основе, как и в борьбе с Гедеоном Балабаном, прежде всего национальную идею, направленную на сохранение традиций национальной церкви. Отстаивание права ставропи-гии, которое вынужден был признать даже папа, делая для Львовского брат-ства исключение из канонов католической церкви, было главным орудием братства в его неизменной борьбе за свою народность, свою церковь. Именно Афанасий Шептицкий начал активно воплощать в жизнь реформы церковных обрядов4, которые должны были сблизить богослужение греко-католической церкви с католической. Такую политику львовского епископа члены братства рассматривали прежде всего как посягательство на исконные национально-религиозные устои. Характер борьбы братства с львовским епископом в пер-вой половине XVIII в. наиболее полно раскрывают его протестации против епископа и против Львовской епископской курии, имевшие целью возбужде-ние судебного разбирательства, причем братство не сомневалось в своей по-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 307. Опубл.: Временник Ставропигийского Института. 1867. С. 74—76; АОИЗР. Т. 4. С. 139; MCS. P. 769—771.
2 Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні // Духовна Україна: Збірка тво-рів. Київ, 1994. С. 62.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 811, 817, 820, 822, 825. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 43—44, 49—50, 51—53, 57.
4 Хойнацкий А. Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах. Киев, 1871. С. 14.
420 Глава третья
беде в этой борьбе. Протестации против Афанасия Шептицкого заносились братством в акты Львовской консистории согласно нормам судебных раз-бирательств в католической церкви1. Однако Львовская консистория высту-пала на стороне епископа, а не братства, поэтому оно часто апеллировало с жалобами в Папской нунциатуре в Варшаве против действий епископа — по поводу вмешательства в его внутренние дела2. Кроме того, братство выступа-ло против попыток Афанасия Шептицкого подчинить себе братство, вызвав его на епископский духовный суд3, а также против решений Львовской епи-скопской курии, нарушающей права организации, особенно право непосред-ственного его подчинения папе4. Однако выиграть спор в Папской нунциа-туре в Варшаве удавалось не всегда. В 1722 г. в нунциатуре был издан декрет о запрещении епископу вмешиваться в дела братства, так как это противо-речит папской булле от 1709 г.5, а в 1726 г. нунциатура поддержала Афанасия Шептицкого. По этому поводу братство внесло протестации против декре-тов варшавской нунциатуры в Папскую нунциатуру в Риме6, на основании которых было проведено судебное разбирательство7. Согласно бреве папы Климента XI от 1709 г. об освобождении братства от епископской власти и подчинении его непосредственно папе и Конгрегации по распространению веры, этот спор с епископом братству удалось выиграть. Как дополнитель-ную иллюстрацию к судебным процессам братства со Львовским епископа-том можно привести сатирические стихи на епископа Афанасия Шептицкого, которые появились в этот период8, вызванные прежде всего проводимыми им реформами в изменении православных обрядов в греко-католической церкви.
В 50-е гг. XVIII в. братство вело борьбу против введения института свет-ского духовенства в братские Успенскую и Онуфриевскую церковь вместо священников-монахов. Право выбирать священнослужителей из монахов
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 815, 881. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 131—132.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 816, 901, 906, 930.3 Там же. Д. 818. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставро-
пигиона. Ч. 1. С. 47—48.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 863, 870, 909. Опубл.: Юбилейный сборник
в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 154—156.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 819. Опубл.: Юбилейный сборник в память
350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 48—49.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 872, 873. Опубл.: Юбилейный сборник в
память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 115—120, 122-124.7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 885, 886, 889.8 Генсиорский А. И. Сатира на митрополита Афанасия Шептицкого // Юбилейный сбор-
ник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 2 // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 38—40.
421§ 2. Материалы судебных процессов
было получено братством в начале XVII в., и оно очень им дорожило. Введение светского духовенства имело целью усиление контроля над братством со сто-роны церковных институтов. Братство вносило протестации против введения светского духовенства вместо священников-монахов в акты Львовской конси-стории, на основании которых было начато судебное разбирательство1, но этот процесс ему выиграть не удалось.
Братство вело судебные процессы по целому ряду вопросов, которые каса-лись отдельных сфер его деятельности, внутренней жизни как организации. Эти судебные разбирательства можно условно разбить на три тематические группы:
a) судебные дела по поводу спорных вопросов братства, отдельных его чле-нов или членов их семей по вопросам финансов, недвижимости, завещаний и других частноправовых имущественных актов;
б) судебные процессы против нарушения монополии типографии братства на издание книг кириллическим шрифтом;
в) судебные дела братства против отдельных членов организации, нару-шивших уставные нормы жизни братства, прежде всего финансовых злоупо-треблений.
Судебные материалы, относящиеся к первой тематической группе, являют-ся ценными источниками по истории экономических, правовых отношений в среде городского населения XVII—XVIII вв. Эти источники позволяют про-следить изменение отношения к разного вида собственности, особенно не-движимости (дома, магазины, земельные участки в черте города и сельскохо-зяйственные угодья), помогают глубже понять, что представлял собой город в это время, какими были его жители, что их волновало более всего, что име-ло первостепенное значение. Например, в 20-е гг. XVII в. братство вело спор о разделе «Малечковской» или «Леськовой» каменицы между наследниками умершего члена братства Прокопа Малечковича2. Из этого источника видно, что дома в городе не имели привычных для современного жителя номеров, а назывались имени владельца, которое изменялось со временем при смене его владельца. Как правило, дом назывался именем его владельца, но даже после перехода его к другому домовладельцу прежнее название еще долго сохраня-лось, и даже в официальных актах для полной ясности употребляли два «име-ни» дома — еще не вышедшее полностью из употребления старое и новое. Так, в 40—60-е гг. XVII в. братство стало владельцем «Медзапетинской» каменицы, которая называлась еще и «Эммануиловской»3. Многие богатые члены брат-ства часто завещали определенный процент с прибылей от своих домов или магазинов своей организации, что неоднократно вызывало споры между брат-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 963, 975.2 Там же. Д. 476.3 Там же. Д. 588.
422 Глава третья
ством и наследниками братчика1. Состоятельные братчики иногда завещали братству целые дома, в результате чего со временем братство владело довольно большим фондом недвижимости. Иногда братству в собственность переходил не дом, а только участок. Такие участки тоже имели собственные имена, как правило, по имени дома, который прежде здесь стоял. Например, из проте-стации братства 1635 г. узнаем, что доминиканцами был незаконно захвачен «Петрачинский» земельный участок, принадлежащий братству. Судебные ма-териалы по финансово-имущественным вопросам позволяют глубже понять проблемы повседневной жизни города и горожан XVII—XVIII вв.
Большое значение для изучения истории Львовского братства имеют мате-риалы судебных процессов, касающиеся деятельности его типографии. Особое место среди этих источников занимает сохранившееся в архиве братства из-влечение из актов еврейской синагоги решение львовского еврейского суда о присуждении Израилю Якубовичу книг и типографского оборудования, зало-женных печатником Иваном Федоровым и его сыном, переплетчиком Иваном Друкаревичем в 1584 г.2 Для изучения роли типографии Львовского братства в истории культуры Украины важным фактом является не только то, что брат-ство выкупило типографию Ивана Федорова, но и то, что оно продолжало и развивало дело, начатое первопечатником.
В истории типографии Львовского братства существенны многочислен-ные судебные тяжбы против нарушения его исключительного права изда-вать богослужебные книги или книги кириллическим шрифтом. Братство очень дорожило этим правом, во-первых, из-за прибылей, которые прино-сило издательское дело, а во вторых, из-за того, что именно типография по-могала братству осуществлять свою национально-культурную программу. В архиве братства сохранились протестации, вызовы на суд, декреты и по-становления судов по судебным разбирательствам против незаконного из-дания книг кириллическим шрифтом Андреем Скольским в 1639—1640 гг.3, Михаилом Слёзкой в 1666—1667 гг.4 и его наследниками в 1669 г.5, книг грече-ским и кириллическим шрифтами Альбертом Мильчевским в 1691—1701 гг.6, типографиями Уневского монастыря в 1736 г.7 и Почаевского монастыря в 1753—1772 гг.8 Некоторые историки не без оснований обвиняли братство в
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 727, 991, 992, 1053.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 67. Опубл.: ПІФ. C. 69—70.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 541; Ф. 52. Оп. 2. Д. 54. С. 1160.4 Там же. Ф. 129. Оп. 1. Д. 651, 543.5 Там же. Д. 668, 678.6 Там же. Д. 729, 765.7 Там же. Д. 940, 941. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Став-
ропигиона. Ч. 1. С. 177—179.8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 968, 1006.
423§ 2. Материалы судебных процессов
том, что его члены много сил и энергии тратили на тяжбы с типографиями, нарушающими монопольное право организации на издание книг кирилли-ческим шрифтом, а это тормозило развитие книгоиздания и не способство-вало повышению качества выпускаемых книг1. Однако изучение материалов судебных процессов братства помогает глубже понять мотивы, вынуждавшие братчиков вести тяжбы со своими конкурентами по издательскому делу, уяс-нить не только причины, заставлявшие их возбуждать судебные процессы, но и последствия этих споров как для самого братства и его типографии, так и для всей культуры Украины. Основной комплекс материалов взаимоотноше-ний Львовского братства с другими типографиями сохранился в фондах су-дебных учреждений. Работа по их выявлению только начинается, и часть этих документов уже опубликована2. При использовании этих источников следует учитывать, что в протоколах судебных заседаний в качестве истца выступало не Львовское братство как организация, а один из его руководителей, причем, как правило, нет упоминаний, что его представитель является старшим брат-чиком, а называются его социальное положение и род занятий. Например, в протоколах судебных заседаний по жалобе братства на печатников Андрея Скольского и Михаила Слёзку в качестве истца выступает старший братчик купец Константин Медзапета3.
Однако братство боролось не только за исключительное право издания книг на церковно-славянском и украинском языках в регионе, но и за пра-во самого существования типографии, издающей такие книги. Враги брат-ства стремились подорвать его типографию не только экономически, но и морально. Ему приходилось бороться против введения цензуры на издавае-мую литературу, против запрета продавать отпечатанные книги4. Не всег-да братству удавалось выиграть такие судебные дела. Например, ему не уда-лось выиграть дело против введения в 1698 г. львовским епископом Иосифом Шумлянским запрещения издавать книги в братской типографии без специ-ального разрешения епископа, которое вступало в противоречия с правами организации, в частности правом ставропигии. С 1737 г. братство получи-ло разрешение львовского епископа на издание каждой книги в своей ти-пографии5. Комплексное изучение судебных материалов по борьбе братства
1 Огієнко І. Історія українського друкарства: Історично-бібліографічний огляд україн-ського друкарства XV—XVIII вв. Київ, 1994. С. 122—123; Блажейовський Д. Берестейська ре-унія та українська історична доля і недоля. Львів, 1995. Т. 1. С. 330—331.
2 Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. Львів, 1983. Додатки.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52. Оп. 2. Д. 54. С. 1188—1190, 1199—1204, 1219—1221, 1371—1372; Д. 267. С. 1490—1498.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 712, 921.5 Там же. Д. 944, 945, 979, 1000, 1004. Опубл.: Копыстянский А. Дополнение к материалам,
относящимся к истории Львовскаго Ставропигиона в XVIII ст. // Юбилейный сборник в
424 Глава третья
за права своей типографии поможет осознать всю глубину проблем, связан-ных со становлением и развитием печатного и книгоиздательского дела на Украине в XVII—XVIII вв.
Особо ценными источниками для изучения внутренней жизни братства, взаимоотношений между его членами являются судебные процессы, касаю-щиеся спора братства с отдельными братчиками. По уставу все спорные во-просы члены братства должны были решать на братском суде. Но такие суды проводились в конце XVI—XVII вв. Однако иногда братский суд не мог рассу-дить членов братства, и тогда конфликты между ними выносились на суд ми-трополита1. За тот период, когда братчики судили своих членов своим судом, сохранилось несколько протестаций, в которых братство протестовало против незаконных действий Магистрата в 1595 г. по отношению к членам братства, против незаконного заключения их в тюрьму и требования Магистратом 30 гривен (очень большой суммы по тем временам) за их освобождение из тюрь-мы2. В 1644 г. братство занесло протестацию в гродские акты против уклоне-ния от финансового отчета перед организацией старшего братчика Романа Стрилецкого, в результате чего было возбуждено судебное дело3. Этот спор закончился изданием мандата короля Владислава IV Магистрату Львова с распоряжением Роману Стрилецкому отчитаться перед братством о ведении приходо-расходных операций4.
В XVIII в. особо важные спорные вопросы, возникавшие между членами братства, выносились на рассмотрение официальных судов, правда, их реше-ния иногда не удовлетворяли ни одну, ни другую сторону. В 20-х гг. XVIII в. братство вело спор с сеньором Степаном Лясковским, возглавлявшим поч-ти 20 лет организацию, против незаконного (без элекции) присвоения им звания сеньора братства, самовольных решений его финансовых дел и зло-употребления своим положением во вред братству5. Степан Лясковский, в свою очередь, протестовал против несправедливых обвинений братства в его адрес, занося протестации в акты Львовской консистории6. Сохранились протоколы допроса комиссией Папской нунциатуры Степана Лясковского и
память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 2 // Временник: Научно-литературные за-писки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 150, 151.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 156. Опубл.: MCS. P. 277—279.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 279, 282. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10.
С. 444—446; MCS. P. 592—594, 606—607.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 565, 578.4 Там же. Д. 567. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. При-
ложения. № 62. С. 125—127.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 828, 833, 862, 882, 887. Опубл.: Юбилейный
сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 59—60, 61—64, 132—133.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 829, 838, 841. Опубл.: Юбилейный сборник
в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 64—66, 72—73.
425§ 3. Инструкции
членов братства по делу о взаимном обвинении в злоупотреблении финанса-ми организации1. Разобрав дело о споре братства со Степаном Лясковским, Епископская курия вынесла решение, подтвержденное Папской нунциату-рой в Варшаве, согласно которому братству запрещалось издавать церков-ные книги без одобрения епископа и подавать отчеты о своей финансо-вой деятельности в нунциатуру2. Такое решение было неожиданным и для братства, и для Лясковского. Поэтому братство от своего имени, а Степан Лясковский — от своего подали протестации против этих решений, кото-рые вступали в противоречия с правами братства, в Папскую нунциатуру в Риме3. Хотя братству удалось отстоять свои права на судебном процессе в Риме, Львовский епископат не оставлял стремления подчинить себе органи-зацию и распоряжаться ее имуществом, особенно — большим капиталом, и братству приходилось вносить протесты против вмешательства Епископской курии в его финансовые дела4. Однако протестации против финансовых зло-употреблений отдельных членов братства вносились в Львовские гродские акты, в акты Львовской консистории и Папской нунциатуры в Варшаве брат-ством и впоследствии5. Изучение изменений в постановке главных обвине-ний, которые предъявлялись членами братства друг другу, и способов ре-шения этих конфликтов поможет глубже понять психологию людей, членов определенной корпорации, проследить во времени изменения приоритетных ценностных категорий в рамках одной организации, мотивы объединения разных людей в рамках братства, причины разногласий между ними в разные периоды существования организации.
Весь комплекс материалов судебных процессов, сохранившихся в архиве брат ства, рисует широкую картину положения украинского населения города в Речи Посполитой в конце XVI—XVIII вв., дает ценные сведения о национально-религиозном положении разных этносов в городе XVII—XVIII вв., об обще-ственно-политической и культурно-религиозной деятельности братства, его внутренней жизни.
§ 3. Инструкции
Большой интерес представляют инструкции братства депутатам на церков-ные соборы, сеймы, сеймики, судебные заседания, депутациям к королю и к
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 834.2 Там же. Д. 872. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставро-
пигиона. Ч. 1. С. 92—111, 115—120.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 873, 888, 894. Опубл.: Юбилейный сборник
в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 122—124.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 938.5 Там же. Д. 967, 987.
426 Глава третья
представителям высшей государственной власти. Источников этого вида со-хранилось в архиве братства сравнительно немного, но среди них — памят-ники политической публицистики и красноречия своего времени. На такую особенность этих документов впервые обратил внимание С. Т. Голубев, говоря об инструкции братства своим посланникам к королю 1609 г., что это «хар-тия, писанная кровию сердца»1. Важность источников этого вида для пони-мания тяжелого положения украинского населения в Польше подчеркивал М. С. Грушевский2. Однако до сих пор эти источники не только не изучались комплексно, но даже не выделялись как самостоятельные при определении видовой структуры источников по истории Львовского братства в работах Я. Д. Исаевича и Н. П. Ковальского.
Тематически инструкции братства можно разделить на три группы:a) инструкции послам братства на поместные церковные соборы право-
славной церкви;б) инструкции делегатам от братства на сеймы;в) инструкции уполномоченным представителям братства по судебным
делам.Среди инструкций братства своим представителям на церковные соборы
особый интерес представляет «пленепотенцыя» Львовского братства делега-там на Церковный собор в Бресте, датированная 26 сентября 1596 г.3 Этот цер-ковный собор, провозгласивший унию православной и католической церквей, имеет особое значение в истории православной церкви. Сохранившаяся ин-струкция позволяет понять не только отношение братства к акту принятия унии, но и раскрывает те принципы, которые станут основными в идеоло-гии братства и окажут влияние на всю дальнейшую его историю. На Собор от братства были посланы старшие братчики Дмитрий Красовский и Юрий Рогатинец и младшие братчики — Иван Рогатинец и Николай Добрянский. Братство дало им «зуполную моц» (строгий наказ), «абы во всем церков-ном предании восточные вселенския церкве крепко и неподвижно стояти, не в чем не отлучаючися послушенства и власти вселенского патриарха Константинопольского». В инструкции братство заявляет о своем твердом ре-шении оставаться в православии: «готови есмо всегды умирати и душу свою положити, негды не отступаючи,... жадным обычаем не отступаючи не в чом церковных преданий, як есть некоторых обычаев, а не за отступниками вдаючися, за нашего чюжею головою, до незвыклого чужого послушенства западнея римския противныя их церкви папежския»4. Эта инструкция имеет
1 Голубев С. Т. Материалы для истории Западно-Русской церкви. Киев, 1891. С. 67.2 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 6. С. 15—17.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 301. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 112—114;
MCS. P. 741—742.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 303. Л. 1. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 113—114.
427§ 3. Инструкции
особое значение не только для истории Львовского братства и братского дви-жения Украины, но и для осознания всего комплекса проблем, которые воз-никли с введением унии и ее роли в истории украинского народа на разных исторических этапах.
Основной комплекс сохранившихся инструкций составляют инструкции братства посланникам к королю на сейм. Первая из таких инструкций отно-сится к 1596 г. В ней братство поручает своим уполномоченным добиться вне-сения на рассмотрение Сейма вопроса о лишении санов недостойных епи-скопов («снять тех владык негодных от того духовного хлеба»)1. Инструкция составлена от имени «народу русского религии греческой мещан и предмещан города Львова», в ней сливаются воедино две основные проблемы, стоявшие перед братством в конце XVI в. и определившие основной вектор идеологии не только Львовского братства, но и всего национально-культурного возрожде-ния конца XVI — начала XVII вв. Эта состоящая из сложных комбинаций иде-ология сочетала, казалось бы, взаимоисключающие элементы, главными из ко-торых являются, по определению М. С. Грушевского, элементы реформацион-ного народоправления и канонического клерикализма Константинопольского патриархата2. В инструкции братство заявляет о твердом намерении оставать-ся в православии, не отступать от веры своих отцов, сохранять привержен-ность к церковной традиции, уходящей своими корнями в далекое прошлое. В то же время реформирование церкви братство считает одной из актуаль-ных задач, стоящих перед православной церковью в конце XVI в., причем по-ложительным элементом в этом братство видит реформирование церкви со стороны мирян, которые должны контролировать духовенство, в том числе и епископат. Право выступать с критикой духовенства мирянам было дано ан-тиохийским патриархом Иоакимом и константинопольским Иеремией, о чем подробно говорится в инструкции. Но принимать решительные меры против духовенства братство не было уполномочено. Именно поэтому оно пытается решить вопросы, касающиеся внутренней жизни православной церкви, по-средством светских органов государственного управления.
Инструкция послам братства на Варшавский Сейм от 2 января 1609 г., под-писанная старейшинами братства Иваном Красовским и Андреем Бедлагой, привлекала внимание многих историков3 прежде всего как уникальный па-мятник политической публицистики своего времени, но опубликована она
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 311.2 Грушевський М. С. Історія української літератури. Т. 6. С. 13.3 Науменко Ф. І. Педагог-гуманіст і просвітитель І. М. Борецький. Львів, 1963. С. 21; Яре-
менко П. К. «Пересторога» — український антиуніатський памфлет початку XVII ст. Київ, 1963. С. 50—56; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 101—102; Паславський І. В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI — першій третині XVII ст. Київ, 1984. С. 117.
428 Глава третья
не полностью1. В инструкции с отчаянием говорится о бесправии и тяже-лом положении коренного населения на украинских землях в составе Речи Посполитой. Первостепенная задача посланников состояла в том, чтобы про-сить у короля «абы в ровных вольностях права... нас, яко и народ польский заховати рачил». Однако авторы инструкции понимали, что это требование вряд ли будет выполнено, поэтому старались предусмотреть все возможные варианты. Депутатам следовало начинать беседу с главного своего прошения, в случае отказа пытаться просить о пожаловании меньших по сравнению с первой просьбой прав, а при получении еще одного отказа — выдвигать меньшую просьбу и т. д. Эта иерархия прошений перед королем состояла в следующем: просьбы об уравнивании украинского населения города в поли-тических и экономических правах с польским, о беспрепятственном отправ-лении православных обрядов, о праве иметь свой суд, рассматривающий дела украинского населения города, о пожаловании таких прав, которыми пользу-ются во Львове общины армян и евреев; всего в инструкции перечислялись 14 пунктов. Авторы этого документа не были лишены чувства юмора, закан-чивая инструкцию словами о том, что если будет дан отказ и в самых малых просьбах, нужно просить короля хотя бы о разрешении на вольный отъезд из Польши в Турцию, где православным живется лучше под властью «пога-нина», чем под властью христианина — польского короля. Ходатайствуя по разным делам, братские послы должны были пригласить для консультаций опытного юриста или адвоката («прокуратора»), желательно православно-го и католического вероисповедания, для всестороннего освещения обстоя-тельств дела, но «если бы прокуратор не хотел, альбо омылял, или ся над-ражал и не ставил для того, иж его, паписта, то удатися до евангелицких прокураторов, и так для перестороги мети при папежнику и евангелика»2. К инструкции была приложена и специальная речь — «Лямент альбо мова до короля его милости»3, с которой братчикам следовало выступить перед ко-ролем и Сеймом перед тем, как выдвигать конкретные требования. Эта речь является интересным памятником ораторского искусства. «Лямент» в сжатой форме повторяет основные положения инструкции, хотя можно предполо-жить, что его текст был написан раньше, чем текст инструкции, а основные его положения были распечатаны в типографии братства для широкого рас-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 421. Л. 1—2 об. Опубл.: Голубев С. Т. Мате-риалы для истории Западно-Русской церкви. С. 65—66; Крыловский А. С. Львовское Став-ропигиальное братство. Приложения. № 17. С. 31—38; Пам’ятки братських шкіл на Україні. Київ, 1988. С. 34—36; Історія Львова в документах і матеріалах. Київ, 1986. С. 67—71.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 421. Л. 3 об.3 Там же. Д. 421. Л. 3—4. Опубл.: Грушевський М. С. Історія української літератури. Т. 6.
С. 15—16.
429§ 3. Инструкции
пространения и ознакомления с требованиями братства за несколько меся-цев до отправления посольства в Варшаву1.
Братство регулярно давало инструкции братчикам на Коронационные Сеймы с целью получить у новоизбранного короля подтверждения прав своей организации. Большие надежды на улучшение положения своего народа брат-ство возглавляло на нового короля, поэтому с особой тщательностью готови-лось к Коронационным Сеймам. Благодаря сохранившимся записям протоко-лов заседаний за 1649 г., мы имеем возможность проследить все этапы под-готовки посольства в Краков на коронацию Яна Казимира2, начиная со сбора средств и заканчивая составлением инструкции. В инструкции от 10 января 1649 г., состоящей из 9 пунктов, основные требования братства были анало-гичными с прошениями, изложенными в инструкции 1609 г. — уравнивание в политических, религиозных и экономических правах украинского населения с польским. Деутатам от братства прежде всего необходимо было говорить пе-ред королем об «унижениях веры руськой», о «кривдах так в духовных, яко и в свецких справах», которые претерпевает украинское население со стороны поляков, братство просило «боронить» (защитить) их права «яко и до прожы-того нашого припущений ровно з другими были»3. Особо депутатам нужно было отметить перед сенаторами несправедливое решение Магистрата Львова о чрезмерном и непосильном обложении налогами украинского населения Льво ва по сравнению с польским и другими национальными общинами города и об унижениях, которым подвергаются православные4. Это посольство было удачным: уже 29 января королем Яном Казимиром были подписаны привилеи с подтверждениями прав украинского населения Львова и братства5.
В инструкции братства 1670 г. делегатам на Сейм в Варшаву дается наказ своим посланникам решать две наиболее важные для организации в то время проблемы: защита прав украинского населения города и защита прав братства на книгоиздание в связи со спором с наследниками Михаила Слёзки, кото-рые оспаривали монополию братства на издание церковных книг6. Тревогой о соблюдении прав украинского населения города и братства проникнута ин-струкция братства полномочным от 13 мая 1700 г., которая была вызвана офи-циальным принятием унии епископом Иосифом Шумлянским и подчинени-ем Львовской епархии Папе Римскому. Братство наказывало своим депутатам
1 Лямент альбо мова до короля его милости. Львов, 1608. Текст опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 526—529; Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 17. С. 35—37.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1061. Л. 6—8 об.3 Там же. Д. 582; 1061. Л. 6 об. — 7. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 187—190.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1061. Л. 9.5 Там же. Д. 584—587.6 Там же. Д. 682.
430 Глава третья
к королю Августу II просить, чтобы братство осталось в православии и сохра-нило прежние свои права, подтвержденные королем ранее1. Это посольство в Варшаву было успешным. Август II практически одновременно выдал приви-лей львовскому епископу Иосифу Шумлянскому, в котором определялись пра-ва униатского епископа, духовенства и верующих согласно решениям Сейма от 29 мая 1700 г.2, и подтверждение всех прав братству3, а также рескрипт и декрет Иосифу Шумлянскому, где сообщалось о подтверждении королем прав братства, запрещалось нарушать их и принуждать братство принять унию под угрозой денежного наказания4. Успешным было и решение вопроса о наруше-ниях прав украинского населения города. Было возбуждено дело о сопротив-лении Магистрата введению в действие рескрипта короля от 25 июня 1699 г. об участии украинского населения в решении дел города5. Сохранились ин-струкции братства 1712 г. депутатам от братства и украинского населения го-рода и предместий в Варшаву по поводу возобновления в Королевском суде тяжбы с Магистратом в связи с нарушением властями города прав и при-вилеев украинского населения города6. Возобновленный в 1712 г. процесс с Магистратом тянулся годами, о трудностях этого процесса красноречиво гово-рит инструкция братства 1738 г. своим депутатам Якову Русяновичу и Михаилу Лясковскому, посланным в Варшаву для защиты интересов братства в процес-сах с Магистратом, львовским епископом и Почаевским монастырем7.
Сохранившийся комплекс инструкций братства своим посланникам на сеймы позволяет глубже понять мотивы, заставлявшие львовских братчиков практически непрерывно вести борьбу за права своей организации, своего народа. Ведь именно эта борьба способствовала тому, что ее участники сохра-няли не только веру в свою победу, но и чувство национального достоинства, которые эти люди пронесли через долгие годы политической, религиозной и экономической борьбы, сохранив самое ценное — свою национальную само-бытную культуру. Об этом ярко свидетельствует еще одна инструкция, на-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 750. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 1—2.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 753. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. С. 2.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 754.4 Там же. Д. 755, 756.5 Там же. Д. 757.6 Там же. Д. 785. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставро-
пигиона. Ч. 1. С. 26—27.7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 946. Опубл.: Копыстянский А. Дополнение
к материалам, относящимся к истории Львовскаго Ставропигиона в XVIII ст. // Юбилей-ный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 2 // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 151—152.
431§ 3. Инструкции
писанная в конце XVII в. учителем братской школы Теодором Рудкевичем1. Это — интересный памятник педагогической мысли, адресованный прежде всего учителям, с изложением мыслей по поводу целей и задач национально-го школьного образования. Интересным свидетельством борьбы братства за свои права является инструкция 1650 г. командированным в Люблин брат-чикам на рассмотрение судебного дела по поводу присвоения ломжинским старостой Иеронимом Радзейовским в 1648 г. ценностей и денег братства, в том числе выданных королем во время его пребывания во Львове на приеме татарского посла2. Депутатам наказывалось остановиться в отдельной избе, а не вместе с поляками, чтобы не мешать обычаям друг друга, и добиться воз-вращения «церковных денег», а также отметить перед судом несправедливое разделение выделяемых на общегородские нужды суммы между поляками и православными3. К сожалению, документов о решении этого суда в братстве не сохранилось, но имеющиеся по этому делу документы и главным образом инструкция братства позволяют воссоздать будничные картины из жизни братства, проникнуть в сферу повседневной жизни львовских горожан в се-редине XVII в.
Особый интерес представляет инструкция от 9 октября 1697 г. короля Яна III рыцарскому сословию, братствам и представителям православной церкви для обсуждения на Соборе во Львове 16 декабря 1694 г. вопроса об унии право-славной церкви с католической4. Этот документ позволяет глубже понять ме-ханизм ликвидации православия во Львовской епархии, которая дольше всех в Речи Посполитой оставалась православной. Рассматривать эту инструкцию короля следует вместе с другими документами, связанными с подготовкой принятия Львовской епархией унии в 90-х гг. XVII в., сохранившимися в архи-ве Львовского братства, наиболее важным из которых является декрет короля Яна III от 6 декабря 1694 г. львовскому епископу Шумлянскому Иосифу о про-ведении собора по делу принятия унии в церкви св. Юрия5. После официаль-ного принятия унии львовским еписко пом Иосифом Шумлянским в Варшаве в присутствии нунция в 1681 г. во Львов ской епархии в течение 30 лет велась сложнейшая борьба между сторонниками православия и сторонниками унии. Этот один из самых драматичных периодов в истории церкви до сих пор оста-ется малоизученным прежде всего из-за того, что многие источники по этому вопросу до сих пор не введены в науч ный оборот.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 759. Опубл.: DS. P. 111—112.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 581. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское
Ставропигиальное братство. № 65. С. 131—133; Д. 597.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 592. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское
Ставропигиальное братство. № 66. С. 133—134.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 738.5 Там же. Д. 739.
432 Глава третья
Весь комплекс инструкций, сохранившихся в архиве Львовского братства, можно считать важными источниками не только политической, экономиче-ской истории, не только знаковыми памятниками публицистики того времени, но и ценными источниками при изучении коллективной психологии XVI—XVII вв., тенденций становления и изменения национального самосознания, роли религиозных традиций в самоидентификации их как нации.
§ 4. Исходящая и входящая корреспонденция
Львовское Успенское братство вело обширную переписку со многими госу-дарственными, церковными деятелями и учреждениями, с частными лицами по самым разным вопросам. Документы, отражающие деловую переписку братства, составляют основную часть его архива. В рамках данного исследования пред-ставляется необходимым комплексно рассмотреть основные группы и виды ис-точников, сохранившихся в архиве братства. Весь комплекс деловой корреспон-денции, отложившейся в архиве братства, можно разделить на две группы:
1) исходящая корреспонденция;2) входящая корреспонденция.Первая группа источников значительно меньше по количеству, чем вторая. Исходящая корреспонденция братства имеет особый интерес в связи с тем,
что она позволяет представить взгляды братства на самые разные вопросы; способы решения тех или иных задач, которые предлагали члены братства, но которые по каким-либо причинам так и не осуществились; взаимоотношения между членами организации. Часто — это единственные источники, содержа-щие интересную информацию об отдельных членах братства. Вся корреспон-денция братства отправлялась адресатам, поэтому либо основной комплекс этих источников утрачен, либо документы братства отложились во многих ар-хивах, государственных и частных; у поиск и выявление этих источников в ар-хивах разных государств, учреждений, фондов личного происхождения долж-ны быть продолжены.
Сохранившиеся в архиве братства документы представлены следующими разновидностями:
1) черновики писем;2) копии писем, отправленных разным учреждениям, институтам и лицам;3) оригиналы неотправленных писем.Видовая структура комплекса исходящей корреспонденции братства пред-
ставлена следующими видами источников:1) письма братства разным организациям, учреждениям, лицам;2) воззвания братства к населению;3) сопроводительные письма депутациям братства;4) письма членов братства друг другу;5) проекты различных документов, составленных братством.
433§ 4. Исходящая и входящая корреспонденция
Отдельные виды источников представлены в архиве только оригиналами — воззвания1, сопроводительные письма и переписка отдельных членов братства со своей организацией. Письма братства разным лицам отложились в архиве в некоторых случаях в виде оригиналов (по тем или иным причинам письма не были отправлены), копиями и черновиками.
Особый интерес представляют черновики писем, так как они позволя-ют узнать больше информации, чем это позволяет конечный вариант по-слания, зачеркнутый текст, исправления, пометы дают возможность также проникнуть в технологию составления писем в братстве. Например, черно-вик письма братства новогрудскому воеводе Федору Скумину-Тышкевичу с просьбой о заступничестве перед королем в их споре со львовским еписко-пом Гедеоном Бала баном 1593 г. содержит важную информацию о том, что такого же содержания письмо братство послало минскому воеводе Богдану Сапеге2. Особый интерес представляют сохранившиеся черновики посланий братства московскому царю Федору Иоанновичу 1592 г., князю Константину Острожскому и др.3
В архиве сохранились копии многих посланий. В делопроизводстве брат-ства в конце XVI — начале XVII вв. существовала практика занесения копий отправляемых писем в специальные книги. Сохранилась такая книга братства за 1592 г. — «Метрики посыланя листув з братства на много мист»4. Эта кни-га практически полностью опубликована, при публикациях в разных изданиях ее называли «Книга отписей»5, «Книга корреспонденций»6, «Рукописный сбор-ник, содержащий в себе старинную переписку Львовского Ставропигийского братства с разными лицами»7; поэтому при работе с этими публикациями нуж-но учитывать, что все они называют одну и ту же книгу. В книгу вошли посла-ния братства восточным патриархам, киевскому митрополиту, царю Федору Иоанновичу, молдавскому воеводе, Константину Острожскому, Виленскому братству и др. Копии писем братства иногда помещались в книги протоколов заседаний. Копии исходящей корреспонденции братства за 1649, 1651, 1657,
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 198, 231, 319 и др. Опубл.: Юбилейное изда-ние в память 300-летнего основания Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1886. С. 62, 72, 74.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 225. Опубл.: MCS. P. 447—448.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 199, 297, 302. Опубл.: Письма князя Кон-
стантина Острожского // ВСИ. 1867. С. 74; MCS. P. 359, 719—720, 742—743.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1035.5 Юбилейное издание в память 300-летнего основания Львовского Ставропигийского
братства. С. 62—65.6 MCS. P. 132, 138—142, 345, 347—356, 360, 361, 363—366, 369, 372—378, 383, 474.7 Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографи-
ческою комиссиею. СПб., 1851. Т. 4. С. 42—51.
434 Глава третья
1659, 1682—1687 гг. входят в книгу протоколов 1647—1687 гг. Рядом с копи-ями писем братства нередко находятся интересные сведения об обстоятель-ствах написания, вручения того или иного послания1. В книге протоколов за 1733—1758 гг. содержатся копии посланий братства в Варшавскую нунциатуру и конгрегацию по распространению веры в Риме2. Сохранились в архиве брат-ства и отдельные копии писем3.
Большое значение для понимания внутренней жизни братства представ-ляют письма его членов, адресованные другим членам братства или всей ор-ганизации («всим купно братиям»). Особый интерес представляют письма старейшины братства Юрия Рогатинца — незаурядной личности, человека острого ума, талантливого организатора, обладавшего безусловным писа-тельским даром4. Письма братчиков на имя своей организации касались са-мых разных вопросов: общественно-политических, церковно-религиозных, работы братской типографии, школы и пр.5 Большой интерес представля-ют письма депутатов от братства на церковные поместные соборы, сеймы, судебные заседания с сообщениями с «места события» и с уведомлением о возникавших трудностях и проблемах. Например, письмо братства 1600 г. в Варшаву братчикам-посланцам на Сейм с сообщением об отправлении им с братчиками Теофилом, Захаром и Романом для ведения братских дел 1450 злотых. Послание уведомляло, что в случае необходимости они могут оста-вить в качестве помощников этих посланцев («нехай будут в сполечности з ваш милостями»), но если они не нужны, «теды отсилаите их к домашним потребам»6.
Чрезвычайно интересными источниками являются проекты грамот, приви-леев и других документов, составленные самими членами братства от имени того или иного высокого сановника с целью получить подтверждение от него определенных прав и полномочий. Так, сохранились черновики 1592—1593 гг. составленного братством привилея о подтверждении его прав7 от имени ко-роля Сигизмунда III, такой же проект от имени короля был составлен в
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1061. 9—11 об., 34—43 об.2 Там же. Д. 1169. Л. 1 об. — 2 об., 29 об. — 30, 37—38 об., 42—43 об.3 Там же. Д. 85, 93, 298. Опубл.: MCS. P. 146—147, 736—738; Грушевський М. С. Історія
української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 2. С. 170—171.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 88, 306. Опубл.: MCS. P. 147—148, 766—769;
АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 114—118; ПІФ. С. 112—114; Грушевський М. С. Iсторiя украïньскоï лiтератури. Т. 5. Кн. 2. С. 336.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 375, 418, 559, 723 и др. Опубл.: ЮИЛСБ. С.90; ПIФ. С. 199—200.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 348. Опубл.: MCS. P. 845—846; Голубев С. Т. Петр Могила. Приложения. Т. 1. С. 164—166.
7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 206, 207, 248. Опубл.: MCS. P. 389—391, 494—496; Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні. С. 108—109.
435§ 4. Исходящая и входящая корреспонденция
1699 г.1 Особое значение для изучения истории церковно-религиозных во-просов в первой половине XVIII в. имеет проект основания архимандрии при Онуфриевском монастыре, составленный в 1740 г. Петром Косом2. Сам про-ект был представлен автором на рассмотрение Коллегии кардиналов в Риме, а в архиве сохранился черновик этого документа. Петр Кос сообщал братству о ходе рассмотрения этого документа в 1740—1741 гг.3, но в конечном итоге Коллегия кардиналов не утвердила этот проект.
Корреспонденция Львовского братства — важный источник для понима-ния позиции организации по многим определяющим вопросам истории брат-ства и всего братского движения, позволяющий судить об отношениях брат-чиков между собой, о взаимоотношениях братства с различными властными структурами, общественными институтами и людьми.
Самую многочисленную группу документов архива Львовского братства представляет входящая корреспонденция. Входящую корреспонденцию Львовского братства составляют источники разных видов (привилеи, декреты, разрешения, письма и пр.), полученные братством от разных авторов (госу-дарственных и городских учреждений, общественных организаций, частных лиц). Эти источники охватывают самые разные стороны жизнедеятельности братства, дают ценные сведения о государственных, церковных и культурных деятелях XVI—XVIII вв. В рамках данного исследования представлена раз-вернутая схема входящей корреспонденции братства. Это — попытка ком-плексного анализа такого рода документов архива братства, сохранившихся до наших дней. При составлении схемы, представленной в виде табличного комплекса, были учтены данные более чем 500 единиц хранения из архива Львовского братства4. Схема составлена по авторскому принципу происхо-ждения источников: указаны корреспонденты братства и виды поступавших от них документов.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 758.2 Там же. Д. 952. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставро-
пигиона: Материалы, относящиеся к истории Львовского Ставропигиона в 1700—1767 гг. Львов, 1936. Ч. 1. № 117. С. 200—202.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 951. Л. 1—10. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. № 116, 118, 119. С. 199—200, 202—205.
4 Имеется в виду архив Львовского братства, который составляет Опись 1 фонда 129 «Ставропигийский Институт» ЦГИА Украины во Львове и отдельные единицы хранения ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины (Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. II, 2125; Ф. Баворовских. Ед. хр. 1136 «Теки Зубрицкого»).
436 Глава третья
I. Корреспонденция церковно-религиозных иерархов и учрежденийа) институты православной церкви:
Корр е спонден ты Виды ис точников
Восточные патриархи
Антиохийский,Константинопольский,Иерусалимский,Александрийский
Привилеи,подтверждения прав и привилеев,послания, воззвания
Митрополиты
Киевский
Молдавский Макарий,Сучавский Иван Семоли,Адрианопольский Диони-сий, Софийский
Привилеи, подтверждение прав и привилеев, обращения, письма, вы-зовы Львовских епископов на суд.Письма (послания)
Епископы
Львовский
Луцкий,Перемышльский
Письма (послания), привилеи, под-тверждения прав и привилеев, рас-поряжения священникам, декреты, протестации, соглашения с брат-ством, оглашения об отлучении от церкви и о лишении духовного сана, вызовы на духовный суд, разреше-ния на издание книг.Письма
АрхиепископЭлассонский Арсений;Орхидский, Болгарский и Сербский Гавриил
Письма
Монастыри
Киево-Печерская Лавра,Манявский Скит, Крехов-ский, Уневский, Почаевский,Николаевский, Дубенский, Ясский, Теребовльский
Письма, расписки о получении де-нег (даров), заявления, протестации
Священники из Вильно, Гологор,Острога, Снятина Письма, жалобы, протестации
Духовенство Успенской церкви и Онуф-риевского монастыря
Просьбы, расписки о получении квартальной платы
Братства
Рогатинское, Городокское, Перемышльское, Виленское, Богоявленское1, Красно-ставское
Письма
Судебныеучреждения
Духовный суд митрополита, епископский суд Постановления, декреты
1 В ЦГИА Украины во Львове в фонде 129 «Ставропигийский Институт» хранится ар-хив Богоявленского братства (Оп. 1. Д. 157, 196, 197, 369, 384, 525, 583, 711, 752, 1090, 1095, 1198).
437§ 4. Исходящая и входящая корреспонденция
б) институты греко-католической и римско-католической церкви:
Корр е спонден ты Виды ис точниковПапы Римские Бреве, письмаКонгрегация по распространению веры Декреты
Кардиналы Письма, вызовы Львовской Епи-скопской курии на суд в Риме
Папская нунциатура в Варшаве
Декреты, наказы, предложения, рас-поряжения, постановления, про-токолы заседаний комиссий нун-циатуры, акты ревизий финансов и имущества братства, подтвержде-ния финансовых отчетов братства, вызовы на суд Консистории
Нунции Декреты, распоряжения, мандаты, наказы, письма
Львовская епископская курия Протестации, перечни претензий, договоры о купле-продаже
Львовский римско-католический Капитул Декреты
Корреспонденция государственных деятелей и учреждений
Корр е спонден ты Виды ис точников
а) УчрежденияРечи Посполитой Король Польши
Привилеи, подтверждения привилеев, декреты, мандаты, рескрипты, универсалы, вызовы на королевский суд
Сейм Конституции, решения
Судебные учрежде-ния (Королевский придворный суд, реляционный суд)
Вызовы, решения, декреты, информации, постановления, донесения и уведомления коро-левских возных, письма прокура-торов братства
б) Государственные деятели и учреждения зарубежных государств
Молдавские господа-ри ивоеводы
Письма
Русские цари Письма, разрешенияТурецкий султан Ахмед III Письмо
в) УчрежденияАвстро-Венгрии Император Мандат, привилей
Галицкий губернатор ЦиркулярОкружное старост-ство Распоряжения
438 Глава третья
Корреспонденция учреждений городского самоуправления
Корр е спонден ты Виды ис точников
Магистрат ЛьвоваДекреты, подтверждения актов о купле-продаже, рас-поряжения, декларации о правах ремесленных цехов, акты магистратских комиссий по судебным делам
Рада ЛьвоваРешения, декреты, разрешения, уведомления, подтвержде-ния актов о купле-продаже, подтверждения полномочий членов братства
Староста Львова Привилеи, декреты, универсалы, разрешения, письма
В архиве братства содержится комплекс документов львовских горожан и мещан из других городов и местечек, причем часто это не только корреспон-денция братству, но и материалы личных архивов горожан, которые переда-вали ему на хранение самые важные и ценные бумаги. Среди основных видов источников по истории городского населения — завещания, письма, жалобы, протестации. Особенно интересными являются документы по истории ремес-ленных цехов, в том числе и типографии братства (обязательства, счета, долго-вые расписки типографов, переплетчиков). На многих документах сохранились печати церковных, государственных и городских учреждений, общественных организаций и личные, что является ценным источником для изучения вопро-сов сфрагистики, геральдики и генеалогии.
Представленная схема должна способствовать наиболее эффективному ис-пользованию этих источников в современных исторических исследованиях. Эти документы, сохранившиеся в архиве братства в оригиналах, дают богатей-ший материал для изучения политической, экономической истории, истории религии и церкви, а также биографий многих выдающихся исторических дея-телей, таких как Константин Константинович Острожский, Адам и Михаил Вишневецкие, Кирилл и Роман Ружинские, Богдан Сапега, Федор Скумин-Тышкевич, Иов Борецкий, Елисей Плетенецкий, Памво Берында, Петр Могила, Стефан Зизаний, Петр Сагайдачный, Олифер Голуб, Павел Тетеря, Иван Мазепа и мн. др.
§ 5. Статейные списки русских резидентов в Польше
Большое значение для понимания роли Львовского братства в обществе представляют его взаимоотношения с соседними государствами. В архиве Львовского братства сохранилось немного документов о его связях с Россией. Связи братства с Россией не были постоянными. Особый интерес в связи с этим представляет комплекс документов Посольского приказа, в которых со-держатся многочисленные свидетельства связей членов Львовского братства с русскими дипломатами (резидентами) в Польше, практически не рассматри-
439§ 5. Статейные списки русских резидентов в Польше
вавшиеся как источник по истории братского движения. Посольские книги являются многоплановыми источниками не только по истории дипломатиче-ских отношений России с разными странами, но и содержащими фактический материал, касающийся внутренней истории многих государств, свидетельства очевидцев о многих событиях. В последние годы к этим источникам значи-тельно возрос интерес исследователей, однако источниковедческое исследо-вание посольских книг только начинается. Комплексному обзору посольских книг России посвящены работы Н. М. Рогожина1.
Впервые на значение статейных списков русских дипломатов в Польше и их переписки с Посольским приказом для изучения истории Украины обратил внимание Н. П. Ковальский2. Он же впервые опубликовал несколько извле-чений из статейных списков русских посланников в Польше3. Датский исто-рик К. Рассмуссен на основании изучения посольских книг по связям России с Польшей4 давал высокую оценку уровня информированности Посольского приказа о странах Западной Европы.
Посольские книги и статейные списки русских резидентов в Польше содер-жат сведения о связях украинского населения с постоянными дипломатиче-скими представителями (резидентами), аккредитованными при правитель-стве Речи Посполитой. Хронологические рамки этих источников ограничены второй половиной XVII — началом XVIII вв.5 Особый интерес представляют сведения о положении православного украинского населения и описания об-стоятельств введения унии на Правобережной Украине, информация о рели-
1 Посольская книга по связям России с Грецией (православными иерархами и митро-политами), 1588—1594 / Подг. М. П. Лукичев, Н. М. Рогожин. М., 1988; Обзор посольских книг из фондов-коллекций, хранящихся в ЦГАДА (конец XV — начало XVIII вв.) / Сост., вступ. ст. Н. М. Рогожина. М., 1990; Рогожин Н. М. «Око всей великой России»: Об истории русской дипломатической службы XVI—XVII веков. М., 1989; Рогожин Н. М. Посольские книги России конца XV — начала XVII вв. М., 1994.
2 Ковальский Н. П. Связи западно-украинских земель с Русским государством (вторая пол. XVI—XVII вв.): Автореф ... канд. истор. наук. Львов, 1958; Он же. Політичні зв'язки західно-українських земель з Россійською державою в другій проловині XVII ст. // Питання історії СРСР. Львів, 1957. Вип. 6.; Он же. Деятельность русской дипломатии в 70—90-х годах XVII века по отношению к украинским землям в составе Речи Посполитой // Из истории местного края. Днепропетровск, 1968. С. 158—176; Он же. Источники по истории Украины XVI — первой пол. XVII в. в Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА. Днепропе-тровск, 1979. С. 45.
3 Історія Львова в документах і матеріалах: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1986. № 71, 72. С. 89—90.
4 Rassmussen K. On the Information Level of the Muskovite Posol’skij Prikaz in the Sixteenth Century // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Wiesbaden, 1978. Bd. 24. S. 87—99.
5 Обзор сохранившихся посольских книг по сношению России с Польшей см.: Обзор посольских книг из фондов-коллекций, хранящихся в ЦГАДА (конец XV — начало XVIII вв.). М., 1990. С. 92—113.
440 Глава третья
гиозной борьбе православной церкви с католической и греко-католической в период, закончившийся ликвидацией в 1700 г. последней на территории Правобережной Украины православной Львовской епархии и принятием в 1708 г. унии Львовским братством.
Последствия Казацкой войны середины XVII в. вызвали сильное обо-стрение религиозных противоречий в Речи Посполитой. После завершения русско-польских военных кампаний 1654 и 1655 гг. Россия стремилась закре-пить территориально-политические успехи в войне с Польшей. Среди тре-бований, которые предъявляли русские послы польским представителям на переговорах в Вильно в 1656 г., были ликвидация церковной Брестской унии 1596 г., прекращение угнетения православного населения, проживающего в Речи Посполитой, наделение украинской шляхты и городского населения равными политическими правами с польским населением1. Русское прави-тельство обращалось во время русско-польских переговоров в 1657 и 1658 гг. к польскому правительству с требованиями предоставления свободы верои-споведания и сохранения всех «вольностей» православных, живущих в Речи Посполитой2. Эти положения были закреплены Андрусовским договором 1667 г., по которому Польша обязывалась не притеснять православную «греко-русскую» религию. Имеются сведения, что русское посольство во время под-готовки и составления Андрусовского договора пользовалось информацией о положении православного населения в Речи Посполитой, предоставленной членами Львовского Ставропигийского братства. Консультантом и инфор-матором русских дипломатов был Юрий Папара, член Львовского братства с 1656 г., возглавлявший его в 1690—1699 гг.3 В беседе с русским резидентом в Польше Борисом Михайловым 16 июня 1692 г. он сообщил о своих длительных связях с русским дипломатическим представительством. Он подчеркивал, что «при державе блаженныя ж памяти великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодерж-ца з боярином Артемоном Сергеевичем Матвеевым о всяких тайнах имел обсылки многие годы, и будто ево службою на уложенной срок Андрусовских договорех город Киев царского величества в стороне одержан, а полякам не отдан. И о том де ево радении ведомо на Москве в Посольском приказе»4.
Однако Польша не выполнила взятые на себя обязательства по отношению к православному населению, а напротив, предприняла решительные меры, на-
1 РГАДА. Ф.79. Оп. 1. Кн. 87. Л. 129—132.2 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Киев, 1904. Приложения.
№ 73. С. 156—158.3 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5. Оссолинских.
Ед. хр. 2125 / II. Л. 34—35 об.4 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1691. Кн. 243. Л. 338—345 об.; Кн. 242. Л. 177 об. — 181 Кн. 241.
Л. 337—338 об.
441§ 5. Статейные списки русских резидентов в Польше
правленные на ликвидацию православной церкви на Правобережной Украине. Согласно Андрусовскому соглашению, в 1673 г. состоялся обмен постоянными посольствами между Россией и Польшей. В Россию был послан польский по-сол Михаил Свидерский, а в Польшу — русский дипломат Василий Тяпкин (1673—1677). Василий Тяпкин постоянно получал из Галиции сведения, в ко-торых была заинтересована Россия, в том числе относительно продвижения турецких войск1. В 1675 г. (июль—декабрь) русский резидент жил во Львове, где он регулярно поддерживал отношения с членами Львовского братства; в память об их встречах братство подарило Василию Тяпкину книги, изданные в братской типографии, — Трефологион и Полуустав2. Член Львовского брат-ства Кириак Исарович во время Сейма и после Сейма в Варшаве резиденту Василию Тяпкину «многие сеймовые письма приносил и изо Львова вести к нему присылал и по письму его, резидентову, и Посольского приказу пере-водчика Семена Лаврецкого он, Кирьяк книгу Павла Потоцкого («Moschovia sive brevis narratio de moribus magnae Russorum monarchiae». Dantisci, 16703) с великим трудом и большим накладом купил и к Москве вывез. Да он же... Василию Тяпкину деньги взаймы давал и всякое вспоможенье чинил»4. В 1674—1675 гг. Исарович был в Москве, где сообщал Посольскому приказу «про турецкие и украинские ведомости и о польских войсках». Он выкупил из турецкого плена несколько русских «знатных людей», в том числе «князя Щербатова со товарищи»5.
Практически одновременно с подписанием Андрусовского соглашения на Сейме 1667 г. было принято постановление направленное в пользу унии. По этому сеймовому постановлению униатское духовенство получало суще-ственные льготы — освобождалось от постоя и других военных повинностей6. В 1671—1672 гг. Россия заявляет о «защите греческой веры» во всех суще-ствующих в Польше православных епархиях7. Ряд постановлений, ущемляв-ших права православного населения Речи Посполитой, был принят на Сейме 1676 г. Православным всех сословий, под угрозой смертной казни и конфи-скации имущества (sub poena colli et confiscationis bonorum), запрещалось вы-езжать за границу Польского государства. Целью этого постановления было
1 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1673. Кн. 1. Л. 1—2.2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 508.3 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 120,
234.4 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1674. Кн. 20. Л. 25.5 Там же. Л. 9, 14, 25, 31; 1683. Кн. 9, 13; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку
української культури XVI—XVIII ст. С. 121.6 Антонович В. Б. Очерк отношений Польского государства к православию и православ-
ной церкви // Моя сповідь: Вибрані Історичні та публіцистичні твори. Київ, 1995. С. 462.7 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 78. С. 172—173.
442 Глава третья
максимальное ограничение поддержки православного населения Польши со-седними православными государствами, особенно Россией, но в первую оче-редь — удар по православной иерархии. Особо оговаривалось положение православных братств. Ставропигийским братствам категорически запреща-лись сношения с патриархами, братства должны были подчиняться местным епископам, а в случае нежелания исполнить это требование — представлять спорные религиозные вопросы на обсуждение гражданских судов. Сейм моти-вировал это постановление тем, что православные «под предлогом дел, касаю-щихся религиозных интересов греко-русской церкви. выезжают за границу к Константинопольскому патриарху и там они извещают врагов (турок. — Ю. Ш.) о состоянии дел в Речи Посполитой,... ибо патриарх живет под вла-стью врага креста Господня»1. Этот закон был подтвержден на сеймах 1678 и 1699 гг.2
Но на местах постановления Сейма не спешили выполнять. Хотя сношения Львовского братства с патриархами были ограничены, однако право ставро-пигии братство не допустило ликвидировать, добившись подтверждения его у короля. В беседе с русским резидентом Юрий Папара сообщает, что в период между Андрусовским договором 1667 г. и заключением договора о «Вечном мире» в 1686 г. «в те де годы им всем, в православии будучим, была спокой-ность великая и принуждения ко унии ни от кого не было. И во всем руских людей поляки почитали и ничем обидить не смели, опасаясь царского вели-чества на себя гневу. А как де учинен Вечной мир, и на Москве езувитом веру свою разпространять позволено, то де от того часу уж их ни во что обернули и возстало на церкви Божии гонение великое и больши 700 церк-вей во унию обратили. А ныне де и последнюю Львовскую епископию нудят во унию ж. А хвалятца поляки, что их веру и на Москве бутто лутче любят, нежели свою рускую, и во всяких поступках ни в чем их не слушают и за ско-та почитают»3. Законодательно такая политика была подготовлена в 70-х гг. XVII в., а активные действия по ликвидации православной церкви стали про-водиться в 80—90-х гг. XVII в.
В 1686 г. между Польшей и Россией был подписан договор о «Вечном мире»4. Согласно 9-й статье этого договора правительство Речи Посполитой обязывалось прекратить национально-религиозное угнетение православно-
1 Цит по: Антонович В. Б. Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с половины XVII до конца XVIII столетия // Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ, 1995. С. 479.
2 Антонович В. Б. Очерк отношений Польского государства к православию и право-славной церкви. // Там же. С. 463.
3 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1691. Кн. 243. Л. 338—345 об.; Кн. 242. Л. 177 об. — 181 Кн. 241. Л. 337—338 об.
4 Там же. 1686. Кн. 225.
443§ 5. Статейные списки русских резидентов в Польше
го населения, проживающего в Польше: «...его королевское величество церк-вам Божиим и епископиям Луцкой и Галицкой, Премышльской. Львовской, Белороссийской и при них монанастырям, архимандриям Виленской, Минской, Полоцкой, Оршанской, иным игуменствам, братствам, в которых обретало-ся и ныне обретается употребление благочестивой грекороссийской веры и всем тамо живущим людям... никакого утеснения и к вере римской и к унии принуждения не велит и быти то не имеет, но по давным правам во всяких свободах и вольностях церковным будет блюсти»1. Эта статья стала одной из важных в русско-польских отношениях.
В 1679 г. в Польшу для ведения переговоров были отправлены послы Иван Бутурлин и Иван Чаадаев, которые выдвигали требование принятия сей-мом решения, которое явилось бы гарантией, чтобы «церквам и жителям в Польше и Литве греко-российской веры никакого угнетения, разорения и принуждения ни к римскому закону, ниже к унии чинимо не было»2.
Сразу же после подписания договора о «Вечном мире» между Россией и Польшей русское правительство предприняло меры для обеспечения выполне-ния условий этого договора. В наказе полномочным послам от 24 июня 1686 г. снаряжаемому «к польскому двору» русскому посольству Бориса Петровича Шереметева и Ивана Чаадаева «с товарищи» говорилось, что послы должны были следить, чтобы «никакое в вере не имеет быть творено безправие и ко иной вере принуждение, наипаче будет имети всякую вольность той веры держась». Русские дипломаты должны были способствовать ратификации 9-й статьи «Вечного мира» на Вальном сейме и «в сеймовую конституцию напе-чатать». Полномочные послы должны были при посещении городов, право-славных епархий, архимандрий, монастырей, церквей «и всяким благочести-вым» объявлять и предоставлять письменный список 9-й статьи «о вольности в православной службе греческого закона» русско-польского договора3. Уже во время первого своего пребывания во Львове в сентябре 1686 г. русские ре-зиденты объявили о 9-й статье львовскому епископу Иосифу Шумлянскому и священнослужителям нескольких православных церквей в городе и пред-местьях4.
Выполняя предписания наказа полномочным послам в Польшу, впервые вопрос о ратификации 9-й статьи русско-польского договора о «Вечном мире» русское посольство Б. П. Шереметева поставило перед польскими сенаторами
1 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое. СПб., 1830. Т. 2. С. 777; РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1699. Кн. 255. Л. 2—2 об.
2 Бантыш-Каменский Н. Н. Историческое известие о возникшей в Польше унии. Виль-но, 1864. С. 123—124.
3 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1686. Кн. 226. Л. 2—8; 1699. Кн. 255. Л. 2—4 об.4 Там же. 1686. Кн. 227. Л. 36—36 об.; Кн. 255. Л. 4 об.
444 Глава третья
в декабре 1686 г. Однако этот вопрос не был вынесен на рассмотрение Сейма1. Правительство России в 80—90-х гг. XVII и в начале XVIII вв. неоднократно через своих дипломатических представителей требовало неуклонного выпол-нения Речью Посполитой взятых на себя обязательств по 9-й статье договора о «Вечном мире»: «...чтоб в Его Королевского величества стороне по договором было исполнено и гонения б и утеснения в вере грекороссийской никто ника-кова не было, и чинить бы того никто не дерзал»2. В связи с этим был послан ряд дипломатических нот правительству Речи Посполитой и грамот русским послам в Польше — добиваться подтверждения на Сейме 9-й статьи «Вечного мира» (от 31 августа 1686; 24 января 1689; 8 мая и 8 июля 1690; 16 сентября, 27 октября, 17 декабря, 30 декабря 1692; сентября 1693; 11 апреля 1697; 29 фев-раля 1700 гг.3). В грамоте от 16 сентября 1692 г. русское правительство тре-бовало, чтобы польский король Ян III Собеский «велел заказать крепкими своими королевскими указы» прекратить наступление униатов и католиков на Украину и Белоруссию и чтобы не было «нарушения и противности» до-говора о «Вечном мире»4. Однако русским резидентам приходилось постоянно сообщать своему правительству о том, что польское правительство и католи-ческая церковь постоянно «принуждает их, благочестивых людей, насиль-но в унию, не смотря на договоры Вечного миру, как о том в тех договорех положено», не только не соблюдая договоренности о веротерпимости по от-ношению к православному населению, но и чиня «им утеснение и страхи и погроми непристанные и понуждают к унее сильно»5. Значительное участие в мероприятиях, направленных на выполнение Польшей условий 9-й статьи «Вечного мира», принимали русские дипломатические представители (резиден-ты), аккредитованные в Польше, — Борис Петрович Шереметев (1686—1687), Прокофий Богданович Возницын (1688—1689), Иван Михайлович Волков (1689—1692), Борис Михайлович Михайлов (1691—1696), Алексей Васильевич Никитин (1696—1700), Любим Судейкин (1700—1702). Сейм подтвердил 9-ю статью только спустя 22 года после подписания договора о «Вечном мире» — в 1710 г., когда в Речи Посполитой осталась лишь одна православная епархия (Мстиславо-Могилевская), а на территории Правобережной Украины — всего несколько православных монастырей6.
Период двух десятилетий после заключения «Вечного мира» между Поль-шей и Россией является одним из самых драматичных в истории православной
1 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1699. Кн. 255. Л. 7—8 об.2 Там же. Кн. 227. Л. 563 об.3 Ковальский Н. П. Связи западно-украинских земель с Русским государством (вторая
пол. XVI—XVII вв.): Автореф. ... канд. истор. наук. Львов, 1958. С. 10.4 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 241. Л. 349 об.5 Там же. 1691. Кн. 243. Л. 169—169 об.; Кн. 255. Л. 68 об. — 64 об; 6 Полонська-Василенко Н. Д. Історія України. Київ, 1995. Т. 2. С. 203.
445§ 5. Статейные списки русских резидентов в Польше
церкви и в то же время до сих пор остается малоизученным. Это объясняется не только цензурными ограничениями, мешавшими объективно изучать со-бытия, приведшие к практической ликвидации православной церкви на тер-ритории Речи Посполитой на рубеже XVII—XVIII вв., но в первую очередь — отсутствием источниковой базы, дающей возможность всесторонне иссле-довать эти проблемы. Введение в научный оборот сведений, почерпнутых из статейных списков русских резидентов в Польше, позволяет не только рекон-струировать многочисленные факты, которые дают представление о механиз-мах введения унии в Речи Посполитой, но и взглянуть на события глазами со-временников, очевидцев и участников часто трагических событий, узнать их оценку происходящего.
При работе с посольскими книгами нужно учитывать особенности делопро-изводства, принятые в Посольском приказе в конце XVII в. Каждое посольство постоянно переписывалось с Посольским приказом. По принятым нормам ве-дения дел, каждая из сторон должна была в отчетах приводить полный текст получаемого послания и только после этого помещать новое сообщение. Такая форма двойного делопроизводства позволяет современному исследователю по материалам каждой посольской книги практически полностью реконструиро-вать диалог резидентов с Посольским приказом, пути решения тех или иных задач, которые ставились перед аккредитованными в Польше послами. Однако при использовании этих источников нужно учитывать, что частая переписка одного и того же документа неизбежно приводила к тем или иным искажениям первоначального текста, начиная от неправильного прочтения отдельных слов переписчиком и заканчивая умышленными сокращениями первоначального текста, предпринятыми по тем или иным причинам. Условно все посольские книги можно разделить на две группы:
Посольские книги, составлявшиеся непосредственно в Посольском приказе в Москве:
a) «Наказы отправляемым в Польшу полномочным послам» или «Отправ-ления на резиденцию»;
б) «Списки с государевых грамот».Документы, созданные собственно резидентами:a) «Статейные списки полномочных российских послов» или «Статейный
список бывшего в Польше на резиденции посланника»;б) «Подлинные вестовые письма» или «Подлинныя записки... бывшаго в
Польше резидента».Практически все эти материалы являются копиями или «списками» с под-
линных грамот и писем, отправляемых Посольским приказом и получаемых им от посланников («Списки с посыланных к нему (резиденту) государствен-ных указов и получаемых от него отписок с приложениями ведомостей о польских поведениях»). Статейные списки резидентов представляли собой форму отчетности резидента о своей дипломатической работе в Польше и
446 Глава третья
велись от его лица: сообщения о приеме посольства как в столице Польши, так и во всех городах и местах, куда приходилось выезжать посольству; от-четы об официальных переговорах, визитах русских посланников и сообще-ние сведений, которые удавалось получить неформальным путем, в частных беседах с теми или иными должностными лицами, простыми гражданами, резидентами других стран и т. д. Иногда в Посольском приказе делали спи-сок статейного списка резидента. Например, сохранились «Статейный спи-сок полномочных росийских послов боярина Бориса Шереметева, околничего Ивана Чаадаева...»1 и «Список статейного списка полномочных послов боя-рина Бориса Шереметева...»2. Но в Посольский приказ резидент отправлял сообщения дипломатической почтой — так называемые вестовые письма и отписки. Иногда они составляли целый том, например, «Подлинные вестовые письма Прокофия Возницына», «Подлинныя записки в цифрах с переводами бывшаго в Польше резидента стольника Бориса Михайлова о поведении его в Польше, и о сношениях и разговорах его с польскими и иностранными ми-нистрами присыланныя в Посольский приказ», «Записки Алексея Никитина»3. Вся секретная информация посылалась в зашифрованном виде, «в цифрах» (тайнописью). Цифирным могло быть послание полностью или зашифрованы только его часть, отдельные фразы или слова. В Посольском приказе все ци-фирные тексты расшифровывались и приплетались к «подлинным вестовым письмам резидента». Все эти особенности ведения дел в Посольском приказе существенно отразились на документах, отложившихся в архиве приказа.
Статейные списки были основными отчетными документами посольств русских дипломатов на протяжении всей истории Посольского приказа. Свое название они получили по форме занесения записей в эти документы: отчет о посольстве излагался по статьям и пунктам «наказа» (инструкции), в кото-ром обстоятельно и подробно ставились задачи перед посольством, давались поручения послам, регламентировались их обязанности и нормы поведения в стране, где предстояло выполнять посольскую миссию. Такая форма дипло-матических отчетов просуществовала до первой четверти XVIII в., то есть до того времени, когда была введена система постоянных дипломатических пред-ставительств России за рубежом. Регулярно поступавшие по дипломатической почте сведения от резидентов, постоянно пребывающих в другой стране, сде-лали ненужными такую форму отчетности, как статейные списки4.
На примере сохранившегося корпуса посольских книг и статейных списков русских резидентов в Польше можно проследить механизмы вытеснения од-
1 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1686. Кн. 227.2 Там же. Кн. 228.3 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1688. Кн. 235; 1691. Кн. 243; 1696. Кн. 252.4 Обзор посольских книг из фондов-коллекций, хранящихся в ЦГАДА (конец XV — на-
чало XVIII вв.). С. 13—14.
447§ 5. Статейные списки русских резидентов в Польше
них видов дипломатических документов другими, когда первостепенное зна-чение имели не статейные списки русских резидентов, а вестовые письма — документы, получаемые Посольским приказом оперативно, позволяющие бы-стро и своевременно реагировать на те или иные сообщения послов. Однако статейные списки русских резидентов в Польше в конце XVII в. приобрета-ют новые отличительные черты по сравнению с аналогичными документами предыдущих посольств. Они становятся не столько отчетными документами о деятельности посольства в соответствии с полученным наказом, сколько сво-еобразными дневниковыми записями, фиксирующими практически все собы-тия и факты, которые становились известными русским резидентам из самых разных источников. Статейные списки содержат информацию о всех разго-ворах как официального, так и неофициального характера, которые касаются русско-польских отношений. Не все сведения, занесенные в статейный список, посылались вестовыми письмами в Посольский приказ. Такая фактографич-ность статейных списков русских резидентов в Польше привела к тому, что они отличаются от основного комплекса более ранних статейных списков по-сольств значительными объемами. Не случайно именно среди этих статейных списков содержится самая большая по объему из всех сохранившихся посоль-ских книг — «Статейный список бывшаго в Польше на резиденции послан-ники стольника Ивана Волкова» за 1689—1691 гг., написанная на 2040 листах1.
Богатая информационная насыщенность статейных списков определялась исторически выработанными функциями, которые призваны были выполнять такого рода документы, прежде всего — сообщать всю сумму фактов, которые могут представлять интерес для России. Характерным для источников этого вида является воспроизведение речей очевидцев событий, информировавших резидента о тех или иных событиях. Статейные списки содержат две основ-ные формы воспроизведения фактического материала, полученного от ин-форматоров: речи или сказки тех или иных лиц и беседы (диалог) резидента с информатором. В первом случае сведения передавались исключительно как «голые факты» с сообщением источника информации («королевской ксенз, ко-торой устрояет всякие потехи, сказывал...», «Февраля в 7 день приходил к посланнику из воли деревенской Вознесенского монастыря игумен Макарий Василевич для милостыни и сказывал...»2), во втором была обязательной оцен-ка сообщаемой информации резидентом и сообщение о том, какими именно «расспросными речами» резиденту удалось получить ту или иную интересую-щую его информацию («...по тому, Шумлянского вышеписанному прошению, в пустыне Иоанна Богослова посланник был и с ним видился и говорил сперва он, Шумлянской, втаие на одине... И посланник ему говорил... И посланник Шумлянскому говорил, что он от него слышит дела дивные и чего по особое
1 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1689—1691. Кн. 237.2 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 242. Л. 249 об. — 250; 1691. Кн. 243. Л. 169—169 об.
448 Глава третья
ево и по чину от него не начаял, а в такие он тяжкие грехи своевольно впал. И спрашивал, какими способы может исправитца и ту свою вину покрыть», «...а посланник ему (Юрию Папаре — Ю. Ш.) говорил, что то все быть неста-точное дело. И говорил он не доведався подлинно и он сказал, что совершенно ведает, что на то чрез езувитов поляки папу и цесаря и француза привели. И будут о том промыслы чинить всякими способы, оставя все дела»1).
Несмотря на двойную систему делопроизводства, для получения макси-мально точной информации о тех или иных событиях необходимо использо-вать посольские книги комплексно. Как правило, материалы о деятельности каждого русского посольства в Польше в конце XVII в. составляют три или четыре тома посольских книг. При обращении к тому или иному материалу необходимо учитывать первичность списка: где, кем и при каких обстоятель-ствах был сделан список с того или иного документа. Например, в статейном списке резидент мог привести только ту часть государевой грамоты или наказа посольству, касающаяся только вопроса, по которому он составляет данную отписку. Иногда в книге, ведущейся в Посольском приказе, содержатся сведе-ния, которые отсутствуют в статейном списке резидента в Польше, и наоборот. Например, книги, составленные в Посольском приказе, часто содержат копии документов, в силу каких-либо обстоятельств ставшие известными резиден-ту, и о которых он считал целесообразным информировать Посольский при-каз. Например, в книге «Отправление на резиденцию в Польшу стольника Бориса Михайлова. Списки с посыланных к нему государственных указов и получаемых от него отписок с приложениями ведомостей о польских пове-дениях» есть текст («список с листа») послания львовского епископа Иосифа Шумлянского московскому патриарху Адриану с просьбой о защите прав православного населения Львовской и Луцкой епархий. Это послание было прислано в Посольский приказ вместе с дипломатической почтой резиден-та Бориса Михайлова, после чего было передано патриарху думным дьяком Е. И. Украин цовым2.
Но особый интерес представляют списки с вестовых писем резидента. Информация, переданная цифирной азбукой, позволяет более полно пред-ставить значение передаваемого сообщения или обстоятельств, при которых посланник получил ту или иную информацию. Например, резидент Борис Михайлов, сообщая о гонениях на православных и вероломном закрытии пра-вославной церкви в местечке Комарно, зашифровывает имена информаторов: «приходили тайным обычаем ко Львовскому братству и к старцам, которые во Львове при Соборной церкви живут» священник Иоанн Ревенец3. По сей-
1 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 242. Л. 249 об. — 250; 1691. Кн. 242. Л. 376 — 388 об.; Кн. 243. Л. 282 об. — 291, Л. 338 — 345 об.
2 Там же. 1691—1696. Кн. 241. Л. 1044 — 1047 об.3 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1691. Кн. 243. Л. 578.
449§ 5. Статейные списки русских резидентов в Польше
мовому постановлению 1676 г., запрещавшему сношения с иностранцами, ве-дение переговоров членов Львовского братства с русским дипломатическим представителем могло повлечь за собой значительные неприятности для брат-ства. Братчики сообщали им о противозаконных действиях по отношению к православной церкви со стороны польских властей и греко-католического ду-ховенства «втай», опасаясь преследований. Именно поэтому резидент в своих сообщениях или вообще не указывал на источник полученной информации, или в вестовых письмах зашифровывал эти сведения, а в своем статейном спи-ске указаний на то, что какая-то часть послания была передана цифирью, не оставлял. Текст отписки резидента Бориса Михайлова о его разговоре с чле-ном братства Юрием Папарой передан почти полностью тайнописью («ци-фирной азбукой»). Зашифровано было не только имя собеседника резидента, но и практически все содержание их разговора, в котором Папара затрагивал политические вопросы, в том числе — вопросы русско-польских отношений. Полностью в зашифрованном виде сообщения частных лиц, как правило, не передавались. Сам факт отправления цифирного письма с сообщениями о бе-седе с членом Львовского братства говорит о большом доверии и уважении ре-зидента к этому человеку («благочестивые веры шляхтич стар гораздо и зело муж честен»), который просил посланника их разговор «иметь тайно и нико-му не объявлять». Интересна также помета, сделанная в Посольском приказе, которая сообщает, что Папара инок1. Это говорит о том, что в России такие организации, как братства, не были известны, поэтому статус члена братства чаще всего воспринимался как статус монаха, инока. Интересно, что в ста-тейном списке Бориса Михайлова при передаче сведений о беседе с Юрием Папарой не передано отношение резидента к сказанному Папарой, которое он добавляет к своему вестовому письму2, а в книге, которая велась в Посольском приказе, помещено только краткое содержание этой беседы3. Информацию, которую сообщал член Львовского братства, могла серьезно повредить его ре-путации, что понимал и резидент, видевший всю сложность положения право-славного населения в Польше, и в Посольском приказе ее рассматривали всего лишь как один из многих фактов, не придавая особого значения сообщениям некоего львовского «инока».
Информацию для русского правительства резиденты собирали из разных источников, в том числе от православного украинского населения, представи-телей братств. В статейных списках русских резидентов в Польше можно об-наружить многочисленные сведения о связях послов с православными укра-инскими горожанами. Русские дипломатические представители, неоднократно бывали во Львове и наладили тесные связи со Львовским братством. Некоторые
1 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1691. Кн. 243. Л. 338 — 345 об.2 Там же. Кн. 242. Л. 177—181.3 Там же. Кн. 241. Л. 337 — 338 об.
450 Глава третья
члены братства (Кириак Исарович, Петр Афендик, Стефан Красовский и др.) выступали в качестве переводчиков, информаторов и консультантов русских резидентов1. Сведения о связях членов Львовского братства с русскими рези-дентами сохранились в архиве братства. В приходо-расходных книгах брат-ства встречаются записи о приемах русских резидентов в братстве, о подарках, преподнесенных им. Так, в 1688 г. радушно принимали братчики Прокофия Богдановича Возницына. По этому случаю 21 августа были куплены «кофеты для его милости пана резидента московского»2. Возницыну подарили книги, изданные в типографии братства3. В 1700 г. Алексею Васильевичу Никитину подарили Апостол, Октоих, Служебник и Полуустав4.
Наиболее тесно был связан со Львовским братством Борис Михайлович Михайлов. Он часто покупал в кредит книги братской типографии (в 1692 г. он купил у братства книг на сумму 500 злотых, при ценах на самые дорогие издания 25 злотых, на обычные 10—15 злотых, а на школьные — 1—2 зло-тых, согласно таксе на книги, установленной в 1671 г.)5. Михайлов даже брал взаймы у братства деньги (в 1693 г. он одолжил 1400 злотых)6. Во время своих приездов во Львов Борис Михайлов постоянно посещал братскую Успенскую церковь, а священник Успенской церкви Самуил Красовский был личным ис-поведником русского резидента7. Михайлов поддерживал с ним отношения и в то время, когда не был во Львове, ведя с Красовским постоянную пере-писку. В своих письмах к резиденту отец Самуил часто прикладывал «ци-дулку» с политической информацией8. В близких отношениях с Борисом Михайловым был старший братчик Петр Афендик, «началнейший русин львовский житель». В статейном списке Михайлов отмечал, что он «был по-сланнику склонен» и осведомлял резидента о деятельности львовского епи-скопа Иосифа Шумлянского9, который «втаи уният де, конечно, а явно не присягает затем, что братство крепко стоит»10. В донесении от 2 марта 1692 г. в Посольский приказ посол с сожалением сообщает, что Петр Афендик
1 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 237. Л. 538, 1223; Кн. 241. Л. 337—338 об.; Кн. 242. Л. 177 об. — 181, 271—272, 378, 390—391; Кн. 243. Л. 3—4, 113, 282—284, 338—345 об.
2 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 107.3 Ковальський М. П. Політичні зв'язки західно-українських земель з Россійською держа-
вою в другій проловині XVII ст. // Питання історії СРСР. Львів, 1957. Вип. 6. С. 138.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1121. Л. 50; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль
в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 122.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1100.6 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 122.7 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 242. Л. 376 — 388 об.; Кн. 243. Л. 282 об. — 291; Кн. 255. Л. 20 об.8 Там же. Кн. 241. Л. 793—794.9 Там же. Кн. 242. Л. 271 об. — 272, 180 об.10 Там же. 1691. Кн. 243. Л. 338 — 345 об.
451§ 5. Статейные списки русских резидентов в Польше
«марта в 1 день умре»1. В знак своей признательности Борис Михайлов по-дарил братству дорогую фелонь2. Братство приглашало резидента посетить их школу и театрализованное представление, которое давали ученики братской школы. Связи братства с русским посланником вызывали недовольство в го-роде. После посещения Борисом Михайловым в 1694 г. братской школы было организовано нападение учеников католической школы, подготовленное пре-фектом школы, на учеников братской школы. Братство обратилось с жалобой по этому поводу в королевский суд, и декретом короля Яна III от 24 апреля 1694 г. Магистрату Львова было предписано наказать соответствующим об-разом префекта польской школы3.
Сведения о насильственном введении унии на Украине, сообщаемые в По-сольский приказ русскими резидентами в Польше, дают возможность рекон-струировать многие трагические страницы в истории украинского народа в конце XVII в. Характерно, что после подписания договора о «Вечном мире» и Польша, и Россия рассматривали положение православного населения, про-живавшего в Речи Посполитой, как один из важнейших политических во-просов, затрагивавших основные сферы интересов двух государств. Видимо, именно это и стало причиной столь жестоких и довольно быстрых мер со сто-роны Польши, направленных на искоренение православия на ее территории. Для России проявление заботы о православном населении, проживавшем в Речи Посполитой, было одним из способов оказывать влияние на внутрен-нюю политику Польши. Польша, взявшая на себя обязательства по соблюде-нию веротерпимости к православным, на деле предпринимала решительные действия, направленные на введение унии на всей своей территории. Все по-пытки России повлиять на политику Польши по отношению к православно-му населению были напрасными. Интересно, что после перехода в унию по-следней украинской православной епархии в Посольском приказе была со-ставлена специальная книга, в которой были собраны основные донесения русских резидентов о положении православного населения после подписания договора о «Вечном мире»: «Выписка о живущих в Польше и Литве греко-российского исповедания людех каким они образом по заключении 1686 года между Россиею и Польшею вечнаго мира ко унии обращаемы были, и какия о том российские послы польскому двору представления чинили с 1686 по 1701 год»4. Это — своеобразный итог деятельности русской дипломатической службы за 15 лет.
1 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1691. Кн. 243. Л. 191—191об.2 Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства // Журнал мини-
стерства народного просвещения. 1849. Ч. 62. Отд. 2. С. 126.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 737.4 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1699. Кн. 255.
452 Глава третья
В XVIII в. члены Львовского братства выступали в качестве посредников в связях с Россией Креховского и особенно Скитского монастырей. Эти монасты-ри постоянно получали материальную помощь от Львовского братства, кото-рое регулярно посылало им книги, изданные в его типографии1. Братство выби-рало из числа монахов этих обителей священнослужителей Успенской церкви и игуменов Онуфриевского монастыря2. В середине XVII в. Креховский мона-стырь и Скит Манявский установили непосредственные контакты с Россией3. Креховскому монастырю были даны грамоты царей Алексея Михайловича от 30 апреля 1657 г. и Ивана и Петра Алексеевичей от 15 октября 1690 г. на свобод-ный проезд в Московское государство для сбора пожертвований4. Манявский Скит, оставаясь в XVIII в. единственным православным монастырем на Украине, согласно царскому указу 1680 г., получал материальное вспомоществование в размере 300 рублей каждые пять лет5. В 1772 г. братство оказывало содействие монахам Скита Манявского при обращении к князю Петру Александровичу Румянцеву, графу Никите Ивановичу Панину и санкт-петербургскому архи-епископу Гавриилу с просьбой о дальнейшей опеке над монастырем6.
Выявление корпуса источников о связях членов Львовского братства с рус-скими резидентами в Польше позволяет не только по-новому рассмотреть роль Львовского Ставропигиона в событиях конца XVII в., но и глубже понять социальные, религиозные, национальные и политические противоречия, ока-завшие существенное влияние на исторические судьбы восточнославянских народов. Особая ценность этих источников, до сих пор малоизученных, со-стоит в том, что они содержат наиболее полную информацию, полученную от непосредственных свидетелей и участников многих событий, сыгравших зна-чительную роль в истории украинского народа.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 615, 626, 640, 645, 648, 760, 1132; ЛИМ. Собр. рук. № 63; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 227, 335; Збірник документів і грамот Скитських. Львів, 1887; Копыстянский А. Дополнение к материалам, относящимся к истории Львовского Ставро-пигиона в XVIII ст. // Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигио-на. Ч. 2 // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. № 2. С. 149—150.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 570, 720; Голубев С. Т. Петр Могила. При-ложения. Т. 2. С. 311—312.
3 Документи Богдана Хмельницького / Упорядн. І. Крип’якевич, І. Бутич. Київ, 1961. С. 489; Ковальський М. П. Політичні зв'язки західно-українських земель з Россійською державою в другій проловині XVII ст. С. 176; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. С. 122—123.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 614, 728.5 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1711. Кн. 72. Л. 2—5; Целевич Ю. Історія Скиту Манявського.
Львів, 1887. С. 70—72; Скрипник І. Нариси історії Скиту Манявського. Богородчани, 1996. С. 84—85.
6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1009.
Ра зд е л 3
Источники, отражающие деятельность львовского братства в сфере культуры
§ 1. литературно-публицистические и полемические произведения
Большое значение для понимания особенностей братского движения Украины представляют литературно-публицистические, полемические произ-ведения, в которых получили отражение основные программно-философские, историософские, религиозно-догматические идеи, выработанные членами старейшего и наиболее влиятельного Львовского Успенского братства и рас-пространившиеся среди всего братского движения Украины. Эти источни-ки дают нам важную информацию о представлениях и убеждениях авторов этих текстов и вводят нас в круг идейных установок всего братского движе-ния Украины, помогают осознать характер духовной жизни эпохи. Безусловно, подъем и наибольший расцвет Львовского братства в конце XVI — первой по-ловине XVII в. способствовал тому, что вокруг Ставропигии объединились са-мые образованные, передовые люди того времени. Вокруг братства объединя-лись многие выдающиеся деятели украинской культуры, которые сотруднича-ли с братскими школами и типографиями, становились идеологами религиоз-ной и общественно-политической деятельности братств. Совместно с членами Львовского братства начали свою деятельность и сформировались как мыс-лители деятели и теоретики украинского рационалистично-реформаторского движения, выдающиеся представители украинского возрождения конца XVI — начала XVII вв. — Стефан и Лаврентий Зизании, Кирилл Транквилион Ставровецкий, Мелетий Смотрицкий, Иван Борецкий, Памво Берында, Исаия Копинский, Захария Копыстенский, Сильвестр Коссов, Исаия Трофимович Козловский и др. Полемику с братствами вел выдающийся писатель Иван Вишенский. И среди членов братства были талантливые люди, искусно владев-шие словом, — Юрий и Иван Рогатинцы, Иван Красовский, Андрей Белдага, Гаврило Дорофеевич и др. Вдохновители братского движения разрабатывали
454 Глава третья
основные теоретические принципы общественного движения своего времени, отражали в своих произведениях основные религиозно-философские идеи, во-площавшиеся в жизнь братствами. Идеологи братского движения синтезиро-вали постулаты, выдвинутые мыслителями западноевропейского гуманизма и реформаторского движения, продвигались от исключительной ориентации на греческие образцы философствования, религиозно-церковного обустройства, учености и образования и критики «латинских зваб» к барочному синтезу восточных традиций и западных новшеств; от неоплатонизма и патристики к природно-научным и логическим образцам аристотелизма. Это обусловлива-лось усилением тенденций выделения научных знаний из конфессионального контекста и отделения философии от теологии. Происходили глубокие сдвиги в типах мировоззрения, формах мировосприятия, способе философствования и осмысления происходящего в обществе, осуществлялся переход к духовно-теоретическим способам освоения мира.
В задачи данного исследования не входит анализ многочисленных произве-дений, в которых получили отражение религиозно-философские и историко-культурные взгляды деятелей братского движения. В рамках данной работы представляется целесообразным обозначить источниковую базу по этой про-блематике и показать степень изученности проблемы.
Интерес к изучению литературного наследия деятелей братского движе-ния возникает в 80-х гг. XIX в., особенно после публикации ранее неизвест-ных произведений, входивших в состав рукописных сборников. Изучались эти произведения в рамках истории литературы, причем параллельно в двух круп-нейших научных центрах того времени — Киеве и Львове. Киевские исследо-ватели (О. И. Левицкий, А. С. Архангельский, Ф. М. Ильинский и др.) впервые обозначили круг проблем, наметили дальнейшие пути изучения источников по истории религиозной, философской, общественной мысли на Украине1. В филологической секции Научного товарищества им. Т. Г. Шевченко было положено начало изучения украинской литературы XVI—XVIII вв. Работы львовских исследователей, посвященные как отдельным произведениям, так и анализу развития украинской литературы, до сих пор не потеряли своей на-учной значимости. Высоко оценили произведения деятелей братского движе-ния конца XVI — начала XVII в. выдающийся украинский писатель и историк литературы И. Я. Франко, историк К. Студинский, филолог и литературовед
1 Левицкий О. И. Социнианство в Польше и Юго-Западной Руси // Киевская старина. 1882. Т. 2. С. 25—27, 193—224, 401—432; Архангельский А. С. Борьба с католичеством и ум-ственное пробуждение южной Руси к концу XVI в. Киев, 1886; Он же. Очерки из истории западнорусской литературы XVI—XVII вв. Борьба с католичеством и западнорусская ли-тература конца XVI — перв. пол. XVII в. М., 1888; Ильинский Ф. М. Юго-западное русское общество и его умственное и религиозно-нравственное состояние в конце XVI и первой половине XVII вв. (в период Брестской унии). Почаев, 1891; Он же. Большой катехизис Лав-рентия Зизания // ТКДА. Киев, 1898. № 2, 5, 6, 8, 10; 1899. № 3.
455§ 1. Литературно-публицистические и полемические произведения
М. С. Возняк1. Комплексно работы деятелей братского движения рассматри-вались в рамках фундаментальных исследований по истории украинской ли-тературы. Но если О. Огоновский не акцентировал внимания на значимо-сти братского движения для развития определенных направлений в истории украинской литературы2, то М. С. Возняк высоко оценивал роль «львовско-го очага (осередка) культуры»3. Разработка этих проблем была продолжена С. А. Ефремовым и Д. И. Чижевским4. Но наиболее полный анализ всего ком-плекса произведений деятелей братского движения Украины — в работах вы-дающегося историка М. С. Грушевского, который рассматривал литературное наследие прежде всего как исторические источники, в которых наиболее ярко получили отражение особенности той или иной эпохи. «История украинской литературы» Грушевского — труд опередивший свое время, прежде всего по форме исследования и способах решения задач, которые только начинает раз-рабатывать современная отечественная историческая наука. Грушевский впер-вые в рамках аналогичного исследования анализирует не только собственно литературные памятники, но и источники разных видов (грамоты, привилеи, письма, уставы и т. п.), которые репрезентируют основные направления разви-тия общественной мысли своего времени5. Этот труд остался незавершенным и только недавно был опубликован последний том, написанный историком в 1930 г. и остававшийся в рукописи6.
Впервые о вкладе деятелей братского движения в развитие философской мысли подчеркнул, находясь уже в эмиграции в Праге, Д. И. Чижевский7. Интересно, что эти идеи развивали и русские историки философии Г. Флоров-ский и В. В. Зеньковский8, также в эмиграции, в Париже. Флоровский рассматри-вал братства как главные центры культуры, в которых развивалась литератур-
1 Franco I. Characterystyka literatury ruskej XVI—XVIII wieku // Kwartalnic Historychny. Lwów, 1892. Wyp. 6. S. 693-—727; Franko I. Z dziejów synodu brzeskiego 1598 r. // Kwartalnik Historychny. Lwów, 1895; Студинський К. «Пересторога» — руський пам'ятник поч. XVII в. Історично-літературна студія. Львів, 1895; Возняк М. С. Причинки до студій над питаннями Лаврентія Зизанія // ЗНТШ. Львів, 1908. Т. 88; Он же. Діалог Іоанікія Волковича з 1631 р. // ЗНТШ. Т. 129. С. 33—48; Он же. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. Львів, 1954.
2 Огоновский О. История литературы руской. Львов, 1887.3 Возняк М. С. Історія української літератури. Львів, 1921. Т. 2.4 Єфремов С. О. Історія українського письменства. Київ, 1919; Чижевський Д. І. Історія
української літератури (від початків до доби реалізму). Прага, 1942; Петров В,. Чижевсь-кий Д,. Глобенко М. Українська література. Мюнхен; Львів, 1994.
5 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 1—2.6 Там же. Т. 6.7 Чижевський Д. І. Філософія на Україні. Прага, 1929.8 Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937; Зеньковский В. В. История рус-
ской философии. Париж, 1948.
456 Глава третья
ная полемика и богословие1. В. В. Зеньковский связывал перелом в общерусском церковном сознании с движением украинских братств и полагал, что только бла-годаря братствам стало возможным проникновение на Украину западноевро-пейской богословско-философской литературы2. Высоко оценивал роль братств в контексте проникновения западноевропейской образованности, научной мыс-ли и культуры в Россию в XVII в. через Украину А. С. Лаппо-Данилевский3.
С 50-х гг. начинается новый этап в осмыслении роли братского движения в истории Украины конца XVI—XVII в. Появились работы, посвященные твор-ческому наследию мыслителей и идеологов братского движения4; анализу от-дельных памятников, в которых получили отражение выработанные братства-ми идеи5; содержащие характеристику общенационального подъема в конце XVI — начале XVII в6. В этих работах, не лишенных идеологического влияния своего времени, был собран обширный материал по проблеме, проведен тща-тельный анализ многих текстов, предприняты первые попытки комплексного осмысления творческого наследия деятелей братского движения.
1 Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 38—40.2 Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т. 1. Ч. 1. С. 56—58.3 Лаппо-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культуры XVII—
XVIII вв. М., 1990. С. 43—71.4 Загайко П. К. Українські письменники полемісти кінця XVI — початку XVII ст. в бортьбі
проти Ватікану і унії. Київ, 1957; Коляда Г. І. Гаврило Дорофеєвич, український літератор XVII ст. // Радянське літературознавство. 1957. № 3. С. 49—59; Науменко Ф. І. Педагог-гуманіст і просвітитель І. М. Борецький. Львів, 1963; Яременко П. К. Стефан Зизаній — український полеміст кінця XVI ст. // Радянське літературознавство. 1958. № 2. С. 39—54; Яременко П. К. Іван Вишенський. Київ, 1982; Ружицький Е. Невідомий документ про смерть Стефана Зизанія // Архіви України. 1972. № 1. С. 63—64; Маслов С. И. Кирилл Транквилион-Ставровецкий и его литературная деятельность. Киев, 1984.
5 Митюров Б. Н. Памятник педагогической литературы начала XVII в. «О воспитании чад» // Наукові записки Львівського педагогічного інституту. Т. 4. Вип. 2. Серія педагогічна. Львів, 1955. С. 101—109; Коляда Г. І. До питання про автора «Перестороги» в світлі гіпотези Івана Франка // Іван Франко. Статті і матеріали. Зб. IV. Львів, 1958; Яременко П. К. «Пере-сторога» — український антиуніатський памфлет початку XVII ст. Київ, 1963; Ісаєвич Я. Д. «Навіти» — невідома пам’ятка української публіцистики XVII ст. // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. 1964. № 6. С. 57—58.
6 Ісаєвич Я. Д. З історії викладання філософії на Україні (XVI—XVII ст.) // Від Ви-шенського до Сковороди. Київ, 1972. С. 24—35; Кашуба М. В. З історії боротьби проти унії XVII—XVIII ст. Київ, 1976; Лурье В. М. Православие в XVI в. Особенности богословство-вания в зонах контакта с западными конфессиями // Славяне и их соседи. Католицизм и православие в средние века. М., 1991. С. 58—61; Захара И. С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже XVI—XVIII вв. Киев, 1982; Паславський І. В. З історії розвит-ку філософських ідей на Україні в кінці XVI — першій третині XVII ст. Київ, 1984; Кашу-ба М. В. Проблема ренесансу в українській духовній культурі ЗНТШ. Львів, 1994. Т. 128. С. 357—371; Матковська О. Ідеї социніян в ідеології та практиці братств в Україні (кінець XVI — перша половина XVII століття) // ЗНТШ. Львів, 1994. Т. 128. С. 372—388.
457§ 1. Литературно-публицистические и полемические произведения
Сегодня историческая наука ставит новые задачи изучения общественных движений отдаленных от нас эпох, пытается по-новому осмыслить роль от-дельных корпораций в истории, глубже осмыслить те или иные явления куль-туры. Для решения этих проблем необходима определенная источниковая база, позволяющая максимально понять побудительные мотивы тех или иных движений, явлений, событий. В значительной степени получить ответы на та-кие вопросы помогут произведения всех литературных жанров: художествен-ные, полемические, идеологические, эпистолярные, а также философские и богословские сочинения. Говоря об источниках этого вида применительно к Украине конца XVI—XVII вв., нужно учитывать, что часто в одном произведе-нии сочетались разные литературные жанры, использовались разные литера-турные приемы. На мой взгляд, все эти произведения, которые в своем боль-шинстве хорошо известны исследователям, нуждаются в новом подходе к их изучению, в новом переосмыслении этих памятников. К ним нужно подходить не с позиций изучения в контексте истории литературы, философской, обще-ственной, богословской мысли, а рассматривать их в общекультурном процес-се, как синтез мыслей, чувств, мировосприятия и мироощущения людей, их создававших, а также людей, их читавших. Ведь только в тесном взаимодей-ствии людей творческих и людей «действенных» (на практике реализующих высказанные или разработанные идеи) в обществе происходили изменения, те или иные идеи и начинания получали широкую поддержку, овладевали умами и сердцами других людей и в свою очередь становились катализаторами при рождении новых идей, теорий, произведений человеческого духа.
Весь комплекс источников, включающий программно-философские, религиозно-полемические, публицистические произведения, представляющие философские, историософские, религиозно-догматические, национально-политические взгляды Львовской Ставропигии, можно разделить на несколь-ко групп. Основным классификационным принципом в данной схеме является разделение источников по авторскому признаку.
1. Произведения собственно членов Львовского братства. Как основное про-изведение этой группы можно рассматривать «Эпистолию» — послание 1609 г. Львовского братства новооснованному братству местечка Новоконстантинова с изложением идеологии, историко-философского смысла братского движе-ния1. В рамках этой группы следует рассматривать ряд посланий Львовского братства:
• 28 мая 1586 г. константинопольскому патриарху Феолипту с вопросами о роли мирян в церковно-религиозной жизни2.
1 Анализ этого произведения — ниже.2 [«Из рукописного сборника, содержащего в себе старинную переписку Ставропигий-
ского братства с разными лицами»] / Петрушевич А. С. // ВСИ. 1871. С. 149—152; MCS. P. 138—142.
458 Глава третья
• 14 мая 1590 г. перечень кривд, причиненных братству львовским епи-скопом Гедеоном Балабаном1.
• [1591 г.] константинопольскому патриарху Иеремии о роли мирян в церковно-религиозной жизни2.
• 6 февраля 1592 г. александрийскому патриарху Мелетию (к письму при-ложена «цидула» с изложением представлений членов братства о необходимо-сти изменений порядков и характера церковной жизни3.
• 6 февраля и 7 сентября 1592 г. константинопольскому патриарху Иеремии о «церковных нестроениях» в крае4. М. С. Грушевский предполагал, что автором этих посланий к патриарху мог быть Стефан Зизаний5.
• 22 сентября 1596 г. Стефану Зизанию в Вильно об отношении членов братства к унии6.
• 16 ноября 1599 г. письмо Юрия Рогатинца Стефану Зизанию по вопро-сам религии и просвещения7.
• [1604 г.] декларация братства униатскому митрополиту Ипатию Потию8. Яркими образцами национально-политических идеалов братства являются
некоторые протестации и инструкции, составленные членами братств для сво-их депутаций на поместные церковные соборы, к королю и на Сейм:
• 26 сентября 1596 г. «пленепотенцыя» Львовского братства делегатам от братства на Церковный Собор в Бересте9.
• 1596 г. инструкция братства послам на сейм с просьбой повлиять на ко-роля и сенаторов для внесения на обсуждение сейма вопроса о лишении санов недостойных епископов10.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1035. Л. 42—44. Опубл.: MCS. P. 415—420; Пам’ятки братських шкіл на Україні. Київ, 1988. С. 19—24.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1—35. Л. 39—40. Опубл.: ГолубевС. Т. Киев-ский митрополит Петр Могила. Киев, 1891. Т. 1. Приложения. С. 36—47.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1035. Л. 1—1 об. Опубл.: MCS. P. 342—345; [«Из рукописного сборника, содержащего в себе старинную переписку Ставропигийского братства с разными лицами»] // ВСИ. 1871. С. 144—147.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1035. Л. 2 об. — 3 об, 7—8. Опубл.: АОИЗР. Т. 4. № 32. С. 43—44, № 339; MCS. P. 339—341.
5 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 2. С. 102—105.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 298. Опубл.: MCS. P. 736—738. Грушевсь-
кий М. С. Історія української літератури. Т. 5. Кн. 2. С. 170—171.7 АОИЗР. Т. 4. С. 201—202.8 MCS. P. 858—863; Грушевський М. С. Історія української літератури. Т. 5. Кн. 2.
С. 171—173.9 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 301. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 112—114;
MCS. P. 741—742.10 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 311; Грушевський М. С. Історія української
літератури. Т. 6. С. 13.
459§ 1. Литературно-публицистические и полемические произведения
• 2 января 1609 г. инструкция послам братства на Варшавский Сейм — уникальный памятник политической публицистики братства1.
Выдающимся памятником политической публицистики является сеймо-вая речь 1620 г. почетного члена Львовского и Луцкого братств Лаврентия Древинского2.
2. Произведения, авторство которых точно не установлено, но вышедшие из-под пера или членов Львовского братства, или людей, тесно с ним сотрудни-чавших. Как наиболее яркое произведение этой группы можно рассматривать «Пересторогу»3 (Пересторога зhло потребная на потомные часы православ-ным христианам), написанную, вероятно, в 1605—1606 гг., — выдающийся па-мятник идеологии братского движения, направленный на защиту нацонально-религиозного самосознания, в котором изложены аргументы против церков-ной унии, историософские взгляды автора, богословско-полемический трак-тат, направленный против первенства папы в христианском мире. Наиболее полно выражают воззрения членов братства по вопросам образования, про-свещения, места церкви и веры в жизни человека, церковно-религиозной дея-тельности братства сборники «О воспитании чад» (1609)4 и Иоанна Златоуста «О священстве» (1614), вышедшие в его типографии.
3. Особого внимания заслуживает полемика членов Львовского братства с выдающимся украинским мыслителем Иваном Вишенским. Наиболее важны-ми для понимания особенностей мировосприятия членов Львовского братства являются такие сочинения Вишенского, как «Писание до всех обще, в Лядской земли живущих» (1588), «Послания Домникии» (1605), «Послание Львовскому братству» (1610)5.
4. Как источник по истории братского движения рассматриваются отдель-ные части крупных по форме произведений XVII—XVIII вв., в которых дается оценка отдельных направлений деятельности братств:
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 421. Л. 1—2 об. Опубл.: Голубев С. Т. Мате-риалы для истории Западно-Русской церкви. Киев, 1891. С. 65—66; Крыловский А. С. Львов-ское Ставропигиальное братство. Приложения. № 17. С. 31—38; Пам’ятки братських шкіл на Україні. Київ, 1988. С. 34—36.
2 Текст опубл. не полностью: Бантыш-Каменский Н. Н. Историческое известие о воз-никшей в Польше унии. Вильно, 1864. С. 65—70; Грушевський М. С. Історія України—Руси. Київ; Львів, 1909. Т. 7. С. 445—447; Грушевський М. С. Історія української літератури. Т. 6. С. 201—207.
3 Текст опубл.: АОИЗР. Т. 4. С. 203—236; Возняк М. С. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. Львів, 1954. С. 25—56.
4 Фототипическое воспроизведение текста: Науменко Ф. І. Педагог-гуманіст і просвіти-тель І. М. Борецький. Львів, 1963. С. 73—116.
5 Вишенский Иван. Сочинения / Еремин И. П. М.; Л., 1955; Вишенський Іван. Твори / Пер. з книжної української мови В. О. Шевчука. Київ, 1986; Грушевський М. С. Історія української літератури. Т. 5. Кн. 2. С. 91—111, 243—250.
460 Глава третья
• Сочинения Стефана Зизания.• Богословское сочинение Лаврентия Зизания «Поучение пры погребе
Софиеи княгыни Чарторыйской чыненое от священного иерея Лаврентия Зизаниего, протопопы Корецкого, списаное в Корцу лhта 1618 мая 18»1; воз-зрения деятелей Львовского братства наиболее ярко раскрываются в материа-лах о пребывании дидаскала львовской братской школы Лаврентия Зизания в Москве в 1626 г2.
• Письмо схимонаха Иова (Княгиницкого) с отзывом на книгу Кирилла Ставровецкого «Зерцало богословия», «Поздровление братиям инокум, ко-трим чынил в скыти у старцы Иезекииля за селом Марковым в пустине мешкаючим року 1617 месяца ноембрия 29, в суботу»3.
• «Протестация» Иова Борецкого 1621 г.4
• Касияна Саковича «Аристотелевы проблемы или вопросы о природе человека» (Краков, 1620), «Трактат о душе» (Краков, 1625)5.
• «Палинодия» (ок. 1622) Захарии Копыстенского6.• «Екзегезис» Сильвестра Коссова7.• Сочинения Иоанникия Галятовского8.
1 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. 827. Л. 171—177. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложе-ния. № 28. С. 53—65.
2 РГАДА. Ф. 52. Греческие дела. 7132. Ед. хр. 15. Л. 1—107; Прение Лаврентия Зизания с игуменом Илиею // Летопись русской литературы и древностей. М., 1859. Отд. 2. С. 80—100; Ильинский Ф. Большой катехизис Лаврентия Зизания // ТКДА. Киев, 1898. № 2, 5, 6, 8, 10; 1899. № 3.; Ковальский Н. П. Источники по истории Украины XVI — первой пол. XVII в. в Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА. Днепропетровск, 1979. С. 41–42.
3 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. 827. Л. 167—171.
4 Жукович П. Н. Протестация митрополита Иова Борецкого и других западно-русских иерархов, составленная 28 апреля 1621 г. // Сборник статей по славяноведению. СПб., 1910. Вып. 3. С. 135—153; Грушевський М. С. Історія української літератури. Т. 6. С. 222—228.
5 Текст опубл.: Пам’ятки братських шкіл на Україні. С. 337—512, 555—565. 6 Захария Копыстенский. Полинодия // Русская историческая библиотека. Т. 4: Памят-
ники полемической литературы Западной Руси. Кн. 1. СПб., 1878. О «Полинодии» см.: За-витневич В. З. Палинодия Захарии Копыстенского и ее место в истории Западно-русской полемики XVI и XVII вв. Варшава, 1883.
7 Kossow Siłwestr. Exegesis, to iest dawne sprawy o szkołach Kiowskich i Winickich. Киев: Тип. Лавры, 1635.
8 Иоанникий Галятовский. Ключ разумения. Киев: Тип. Лавры, 1659; Львов: Тип. Ми-хаила Слёзки, 1663; Львов: Тип. Михаила Слёзки, 1665; Переиздание книги: Галятовсь-кий Іоанікій. Ключ розуміння. Київ, 1985; Иоанникий Галятовский. Небо новое, з новыми звездами сотворенное. Львов: Тип. Михаила Слёзки, 1665; Львов: Тип. Михаила Слёзки, [не позднее 1667]; Могилев: Тип. Максима Вощанки, 1699.
461§ 1. Литературно-публицистические и полемические произведения
• Труды Михаила Козачинского1.Идеи гуманизма, церковного реформаторства, национально-культурного
возрождения, проповедуемые и воплощаемые в жизнь Львовским братством, глубоко проникали в сознание всех слоев украинского общества и способство-вали росту национального самосознания. Благодаря деятельности братств и произведениям мыслителей, чье творчество сформировалось под непо-средственным влиянием братского движения, вырабатывались новые пред-ставления о мире и месте человека в сообществе. В центре всех религиозно-философских учений стояла этическая проблематика, утверждался новый взгляд на духовный мир личности как на арену извечной борьбы добра и зла. Становление и расцвет братского движения в конце XVI — первой четверти XVII в. связаны прежде всего с гуманистическим пониманием ценности чело-века, с интересом не только к «внутренней» (религиозной), но и к «внешней» (светской) сторонам жизни общества. Причем центральными становятся идеи общественного гуманизма, этика которого была направлена на утверждение человека путем его деятельности, на благо общества2.
Особый интерес гуманитарной науки к проблемам духовной жизни укра-инского общества XVII в. в последнее время продиктован прежде всего по-пытками переосмысления сложных интеллектуально-этических, религиозно-философских, социально-политических процессов, которые органично соче-тались во всех проявлениях общественной жизни. Пограничность украинской культуры, которой приходилось на практике решать задачи синтеза культуры своей и чужой, религиозности византийской и Западной, привела к склады-ванию уникальной духовной культуры, которую Д. И. Чижевский назвал ба-рочной. Культура барокко, не отказываясь от достижений эпохи Ренессанса, возвращается во многом к средневековым содержанию и форме: вместо про-зрачной гармоничности Ренессанса в барокко наблюдается разнообразие, как в готике; вместо возможной простоты Ренессанса в барокко встречается услож-ненность готики; вместо антропоцентризма, постановки человека в центр все-го в Ренессансе, в барокко видим выразительный поворот к теоцентризму, к постановке в центр всего Бога, как в Средневековье; вместо светского харак-тера культуры Ренессанса во времена барокко опять заметно усиление роли церкви3. Главной особенностью украинской барочной культуры XVII в. явля-ется ее синтетичность: соединение религиозных и светских компонентов той
1 Козачинский Михаил. Благоутробие Марка Аврелия Антонина Кесаря Римского. Диа-лог с прологом и эпилогом. Львов: Тип. братства, 1745; Он же. Философия Аристотелева по умствованию перипатетиков изданная. Львов: Тип. братства, 1745.
2 Проблема людини в українській філософії XVI—XVII ст. / Відп. ред. М. В. Кашуба. Львів, 1998. С. 50.
3 Чижевський Д. І. Історія української літератури: від початків до доби реалізму. Терно-піль, 1994. С. 239—240.
462 Глава третья
или иной культуры, формирование единства средневекового теологизма и ре-нессансного индивидуализма1.
Изучение особенностей украинского барокко и идеологии братского дви-жения основывается прежде всего на сохранившемся корпусе письменных, материальных и изобразительных источников. Причем центральное место уделяется памятникам письменной культуры, изданным типографским спосо-бом и хорошо известным читателю XVII в. Однако следует различать произ-ведения собственно членов братств и труды мыслителей, на которых оказа-ло влияние братское движение. Члены братств не ставили перед собой задачу теоретического осмысления своей деятельности в современном им обществе. Поэтому импульсы, которые исходили от братств и получали то или иное от-ражение в сочинениях конца XVI—XVII вв., существенно отличаются от ми-ровоззрения собственно членов братств. Главное отличие состоит в том, что идеология братств, сочетавшая в себе категории культуры Средневековья, эле-менты реформационного движения и основные постулаты культуры гуманиз-ма (и в таком виде ее можно рассматривать в контексте культуры барокко), оставалась идеологией с явно преобладающими средневековыми элементами в мировосприятии. В рамках категорий средневековой культуры понималось членами Львовского братства реформирование общества. В преобразованиях общественной жизни львовские братчики видели реставрацию, возвращение к прошлому, так как только от века существующее могло иметь моральную силу и непререкаемый авторитет, только в прошлом виделся корень, из кото-рого вырастет новая мощь старых традиций.
Именно доминирование средневековых категорий и неспособность ме-нять свои взгляды с течением времени и с изменениями в обществе приве-ли к тому, что мировосприятие членов Львовского братства оставалось прак-тически неизменным в течение всей его двухвековой истории. Во многом это объясняет причины спада активности и влиятельности братского движения в середине XVII в., когда братства перестают играть передовую роль в обще-стве. Произошел некий временной разрыв, когда перед обществом уже стояли новые задачи, требующие нового восприятия действительности для их реше-ния, а братства оставались в мировоззренческих категориях эпохи уходящей, сохраняя поразительную устойчивость выработанной в конце XVI в. картины мира, своей шкалы основных ценностных категорий, несмотря на все измене-ния в социальной, религиозной, культурной областях. Пожалуй, к одним об-щественным изменениям братчики были чрезвычайно чувствительны — эко-номическим, однако на их мироощущении это не отражалось.
Но главной особенностью и главной отличительной чертой всего украин-ского братского движения во главе с Львовским Успенским братством было
1 Стратій Я. М. Філософія в Киево-Могилянській академії // Київ в історії філософії України / В. С. Горський, Я. М Стратій, А. Г. Тихолаз, М. Л. Ткачук. Київ, 2000. С. 78.
463§ 1. Литературно-публицистические и полемические произведения
то, что, оставаясь по своему мировосприятию корпорациями со средневе-ковыми категориями видения мира, братства взяли на себя решение задач, которые ставило перед обществом Новое время. В конце XVI в. они стали общественно-культурными лидерами и боролись за политические, профес-сиональные, религиозные и культурные права украинского народа — задача, грандиозная не только по своему замыслу, но и по воплощению. Задачи тако-го масштаба никогда ранее не ставили перед собой средневековые корпора-ции подобного уровня и социальной ориентации. Именно поэтому в идеоло-гии братств удивительным образом нашли воплощение столь разные по своей природе идеалы двух культур: Средневековья и Нового времени. Оставаясь на протяжении всей своей двухвековой истории организацией, средневековой по типу, способу и форме своего существования, Львовское братство органич-но впитало те черты новой эпохи, которые позволяли в современных усло-виях отстаивать свои общественные идеалы. К категориям Нового времени, усвоенным Львовским братством, можно отнести в первую очередь понятие о национально-культурной самобытности своего народа; стремление к гума-нистическим идеалам устройства общественной жизни, позаимствованным у мыслителей эпохи Возрождения; формы организации церковной жизни, по-черпнутые в учениях деятелей Реформации и активно воплощаемые в жизнь.
Основу мироощущения львовских братчиков составляли коллективное со-знание, принадлежность к определенной группе, объединению, в рамках кото-рых проходило формирование и воплощение в жизнь важнейших обществен-ных идеалов. В решении всех вопросов для Львовского братства главенству-ющим был авторитет того или иного коллектива, организации, корпорации. Это говорит о сохранении средневековых традиций отношения к личности и индивидуальности. Безусловно, в состав братства на протяжении его длитель-ной истории входили яркие, незаурядные личности. Но для самих членов брат-ства шкала ценностей измерялась в понятиях анонимности отдельного челове-ка во имя авторитета той или иной корпорации, объединения людей по тому или иному признаку (религиозному, профессиональному, социальному и др.). Поэтому так мало сведений сохранилось о жизни и деятельности членов брат-ства, причем это относится в равной степени и к руководителям братства, и к рядовым его членам, даже в том случае, когда их деятельность была связана с решением самых важных для братства вопросов.
* * *О сохранении средневекового отношения к личности в рамках корпора-
ции говорит и отсутствие программных сочинений, объясняющих теоретико-философские основы братского движения. Братства видели свою миссию пре-жде всего в проявлении «деятельной религиозности», в служении своим идеа-лам конкретными делами. Нам известно только одно сочинение, излагающее теоретико-философские основы идеологии братского движения. Это так на-
464 Глава третья
зываемая «Эпистолия» 1609 г. Но это послание написано не с целью публично выразить постулаты деятельности братств и обосновать задачи этих органи-заций в новых общественно-исторических условиях, а по случаю. Автор стре-мился раскрыть идеалы братского движения не с целью сделать их достоянием широкой общественности, а адресовал небольшому кругу людей — таким же ремесленникам и купцам, как и члены львовского братства. Характерно, что это послание не содержит имени автора: для корпоративного способа мышле-ния главное — не имя талантливого человека, способного лаконично и обстоя-тельно, со знанием литературно-художественных и проповеднических прие-мов донести сущность деятельности братского движения тем, кто выбирает эту «трудную дорогу».
«Эпистолия» является, по сути, единственным полным изложением идео-логии братского движения, новой «руськой философии». По форме это — по-слание Львовского братства новооснованному братству в местечке Ново-константинов: «Эпистолия, которую братство Ставропигион Успения Пре-святыя Богородица, панове мещане львовские року 1609 мещаном Новаго Константинова послали». Этот заголовок источнику дал, по всей видимости, «писар» Львовского братства при составлении послания (или его копии). В ар-хиве братства сохранилась пергаменная грамота, датированная 25 марта 1609 г., с копией привилея Антиохийского патриарха Иоакима Львовскому братству от 1 января 1586 г., содержащая устав организации и написанная братством по просьбе православных мещан Новоконстантинова1. Пункты устава, види-мо, уже не отражали целей и задач братского движения в той мере, в какой они представлялись членам Львовского братства спустя почти 25 лет со вре-мени юридического оформления организации. Это и вызвало необходимость развернутого и подробного изложения сущности такой корпорации, как брат-ство, ее программы и задач.
Город Новоконстантинов был основан на реке Буг, ниже Летичева, в конце XVI в. сыном князя Константина Константиновича Острожского Александром Константиновичем. В 1600 г. город получил привилей на магдебургское пра-во. Александр Острожский в 1592 г. был отдан отцом на попечение львовским братчикам и, вероятно, слушал ряд курсов во львовской братской школе2, но в 1603 г. молодой князь неожиданно умирает. Эта утрата получила широ-кий резонанс среди православного населения Украины, которое лишилось в его лице влиятельного защитника православия и национальной культуры. Возможно, это обстоятельство подтолкнуло горожан Новоконстантинова ор-ганизовать братство по образцу Львовского, о чем они несколько раз писали
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 423. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. С. 38—40.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 212. Опубл.: Письма князя Константина Острожского // ВСИ. 1867. С. 71—72; MCS. P. 401.
465§ 1. Литературно-публицистические и полемические произведения
львовским братчикам. Члены братства откликнулись на просьбу не формаль-но, а специально для этого составили подробную программу братского дви-жения. Наверное, в этом был некий символ и стремление отдать дань князьям Острожским, внесшим огромнейший вклад в развитие украинской культуры и способствовавшим развитию братского движения. Возможно, это было сде-лано в память молодого князя Острожского — ведь с его смертью практически умерла надежда на украинскую аристократию как силу, способную возглавить национально-духовное возрождение, руководство которым в XVII в. возьмут на себя исключительно представители городского сословия и казачества.
М. С. Грушевский отмечал, что составлена эта программа была в связи с весьма незначительным событием1. Но сами члены львовского братства, ви-димо, так не считали, и для них организация новых братств представлялась одной из важнейших задач. В самом же факте написания такого произведения-послания по вполне конкретному поводу можно усмотреть одну из суще-ственных сторон братского движения — практицизм и рационализм. Члены братства, как и подобает ремесленникам и купцам, все делали только ис-ходя из практической значимости того или иного дела. Вот и создание это-го пространного послания было вызвано стремлением помочь горожанам в организации братства. Сложно сказать, дошло ли это послание до адресата. Многочисленные братства, возникавшие в XVII в., не оставили практически никаких письменных свидетельств о своей деятельности. Ничего не извест-но нам и о деятельности Новоконстантиновского братства. Можно выска-зать предположение, что оба письма (копия устава братства и «Эпистолия») не были отправлены по каким-либо причинам, и только поэтому в архиве остались и сделанная на пергамене копия устава и разъяснения к нему. Текст «Эпистолии» сейчас включен в состав книги записей протоколов заседаний братства «Книга справ братства Ставропигийского Успения пресвятыя Богородица Леополите и отвираню пушки, которую Андрей Галас ношовал» за 1607—1610 гг., которая сохранилась фрагментарно. «Эпистолия» написа-на в отдельной тетради красивым разборчивым почерком и, возможно, была приплетена к книге значительно позже2.
Однако это сочинение осталось в науке практически незамеченным. Об этом писал еще в 1930 г. М. С. Грушевский, отмечая, что «Эпистолия» как па-мятник письменности незаслуженно не оценена исследователями истории культуры и литературы3. «Эпистолия» была опубликована А. С. Крыловским в 1904 г. Вероятно, археографические просчеты публикатора этого произведе-
1 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 2: Перше відродження: 1580—1610. С. 266.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1045. Л. 10—26 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 297—305.
3 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 2. С. 266.
466 Глава третья
ния, поместившего его без особых оговорок среди «Протоколов и других дело-вых бумаг Львовского Ставропигиального братства», стали причиной такого незаслуженного игнорирования этого произведения исследователями исто-рии философской мысли.
Впервые попытку историко-литературного анализа «Эпистолии» предпри-нял М. С. Грушевский, который оценивал ее неоднозначно. Он считал ее до-статочно слабым с точки зрения литературы произведением, но в то же вре-мя подчеркивал, что она является «очень ценной и интересной как изложение братской идеологии и итог четвертьвековой работы и опыта лидеров братско-го движения»1. Однако Грушевский отмечал, что это произведение интересно как сочинение рядового писателя своей эпохи. Историк обратил внимание, что «Эпистолия» написана была практически одновременно с теми сочинениями Ивана Вишенского, в которых он противопоставлял «новой руськой филосо-фии» аскетическую догму индивидуального самоусовершенствования, и имен-но в «Эпистолии» содержится изложение этой «руськой философии»2.
М. С. Грушевский предпринимает также довольно осторожную попыт-ку установления авторства «Эпистолии». «Первое имя, которое приходит на ум, — пишет он, — ректор Львовской братской школы Иван Борецкий»3. Историк отмечает, что трудно найти равного ему литератора в братском окру-жении. В 1604 г. Ивана Борецкого братство приняло «за ректора» школы, ко-торому «братя подали в моц школу, также и порядки школьные». Кроме за-ведования школой, Иван Борецкий «оферовался» учить детей греческому и латинскому языкам. За это братство определило ему жалованье в размере 10 польских злотых в квартал4. С 1611 г. он находится в Киеве в качестве священ-ника Воскресенской церкви, а о его пребывании во Львове в 1609 г. нам ничего не известно, так что вполне возможно, что в это время он еще был во Львове и вполне мог быть автором «Эпистолии».
Однако М. С. Грушевский выдвигает тут же и другую гипотезу об авторстве «Эпистолии». Он считает, что им мог быть писарь братства, выбранный на эту должность и исполняющий свои обязанности в 1609 г. Василий Евстафиевич. Историк иронично и справедливо отмечает, что нам не известно, какой из него был литератор, но он имел довольно много работы, так что братчики «для зваб и трудностей вшеляких поступили му на рок по золотых 7». Тем не ме-нее Грушевский склонен отдавать предпочтение своей первой гипотезе5.
1 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 2. С. 280.2 Там же. С. 266.3 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 2. С. 280.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1043. Л. 8 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11.
С. 68—69; Історія Львова в документах і матеріалах: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1986. С. 66.
3 Грушевський М. С. Історія української літератури. Т. 5. Кн. 2. С. 280.
467§ 1. Литературно-публицистические и полемические произведения
К «Эпистолии» обращался историк украинской литературы М. С. Возняк в связи с проблемой установления авторства полемического сочинения «Пе ресто-рога» и сборника изречений Иоанна Златоуста «О воспитании чад» (Львов: Тип. братства, 1609). Проведя филологическое исследование этих ра бот, он пришел к выводу, что одной из характернейших черт стиля автора «Перестороги» и «Эпистолии» является выражение «и так», что позволяет сделать предположе-ние об одном авторе этих сочинений. Историк считал автором и «Перестороги», и «Эпистолии» Ивана Борецкого, но доказывает авторство, ссылаясь на его инициалы, помещенные в сборнике «О воспитании чад»1. Цепочка этих доказа-тельств представляется весьма спорной. Вопросы об авторстве «Перестороги» и сборника «О воспитании чад» до сих пор вызывают дискуссии и остаются от-крытыми. К ним же следует отнести и вопрос об авторстве «Эпистолии».
Это произведение имело большое значение и для самих членов братства, о чем свидетельствует делопроизводственный заголовок к документу, состав-ленный, видимо, в конце XVII в.: «Regula a confraternitte Stauropygiana Leopoli, Confraternitti Constantinopoliensis data». Интересно, что употреблено не более привычное слово греческого происхождения «эпистолия» (επιστολη — пись-мо, послание), имеющее аналог в латинском языке (epistula), а слово «regula», которое имеет значение — норма, критерий, правило, принцип, что свидетель-ствует о том, что сами братчики считали этот документ изложением норм и принципов братского движения в целом и Львовского братства в особенности.
«Эпистолию» можно считать единственным источником, в котором по-следовательно изложена программа братского движения изнутри, т. е. самими членами братства, причем это сделано весьма аргументировано и обоснован-но. Автор «Эпистолии» был весьма образованным человеком своего времени, безупречно знавшим Св. Писание и сочинения Отцов церкви, о чем свидетель-ствуют многочисленные примеры и цитаты из книг Ветхого и Нового Заветов и ссылки на таких столпов восточной церкви, как Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Григорий Нисский.
Посылая устав братства новооснованной организации, львовские братчики стараются объяснить саму идею братского движения и задачи, которые должно решать каждое братство. Поэтому в предисловии «ку пересторозе» к пунктам устава они сообщают о том, что прилагают свои разъяснения кратких норма-тивных положений, «нhщо цвhтков, в писмh святом ущипнувши вам теж подати»2, поскольку новое братство, по мнению автора «Эпистолии», больше нуждается именно в разъяснении принципов, задач и методов братского дви-жения, чем в уставе, в котором содержатся только вопросы организационного устройства.
4 Возняк М. С. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. Львів, 1954. С. 22, 24.
2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 328.
468 Глава третья
Необходимо отметить, что Львовское братство постоянно оказывало помощь православным горожанам в организации братств. К нему обращались жители многих городов и местечек с просьбой прислать устав братства «выписте поряд-ки братскии». По «чину» Львовского были основаны братства в Сучаве (1590), Городке и Бересте (1591), Перемышле и Комарно (1592), Старой Соли (1600), Замостье (1606), Новоконстантинове (1609), Луцке (1622)1 и др. Львовское брат-ство охотно шло навстречу своим собратьям из других городов, понимая, что их сила в обществе будет заметна только тогда, когда братское движение при-обретет широкий размах. Братство не просто снимало копии устава и посылало другим братствам, но делало это с великим тщанием и вниманием, часто не на бумаге, а на пергамене — более дорогом материале, применявшемся в то время преимущественно для написания особо ценных и важных документов.
«Эпистолию» можно разделить на несколько структурно-смысловых ча-стей:
1) описание исторических условий конца XVI — начала XVII в., вызвав-ших необходимость организации такого нового общественного движения, как братства;
2) определение основных принципов братского движения;3) определение целей, задач и методов братского движения, исходя из основ-
ных принципов идеологии братства;4) характеристика основных сфер деятельности братства:
а) церковная деятельность,б) борьба с греко-католической унией,в) содержание госпиталя,г) организация школы;
5) значение ритуалов и обрядов внутри организации: а) текст присяги (клятвы) при вступлении в братство,б) «слово» при открытии братской казны,в) «слово» при закрытии братской казны;
6) организация внутренней жизни братства.Центральная идея, проходящая через все произведение, — это идея борьбы
за сохранение национально-религиозной независимости, благочестия и любви к ближнему.
Торжественное начало послания М. С. Грушевский сравнивал с традицией апостольских посланий: «Церкви вся от Леополия, найпаче братство Ставро-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 135, 423; MCS. Р. 237; Зубрицкий Д. И. Лето-пись Львовского Ставропигиального братства // ЖМНП. 1849. № 5—6. Ч. 62. Отд. 2. С. 26; Акты, относящиеся к истории Южно-Западной Руси // ВСИ. 1878. С. 136; Голубев С. Т. Ки-евский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883. Т. 1. Приложения. С. 34; Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури. С. 20; Будилович А. С. Рус-ская православная старина в Замостье. Варшава, 1885. С. 28—35; Крыловский А. С. Львов-ское Ставропигиальное братство. Приложения. С. 38—40; ПКК. 1898. Т. 1. С. 30—34.
469§ 1. Литературно-публицистические и полемические произведения
пигион Успения Пресвятыя Богородица, Леополите — церкви Божей сущей в Новом Константинове: возлюбленным Богу званым братиям церковным. Благодать вам, мир и милость от Бога Отца и Господа нашего Иисус Христа!»
Начинается «Эпистолия» с определения статуса и полномочий Львовского Успенского братства в «земли той Росской». Посылая устав братства, «который от святои всходней, кафолицкое, апостольское церкви, от святейших все-ленских патриархов нам даный ест», львовские братчики называют причины возникновения подобной организации в современном обществе. «Причиною ест только оному широкому облокови писм пророческих, апостольских, еван-гельских и учительских, на которые то отсылают нас там учитися порядков от них»1. Истоки братского движения они видели в библейских и раннехристи-анских временах, исходя из текстов Ветхого и Нового Заветов и учений отцов церкви о братской любви всех христиан, о церковном единении. Но главной причиной, вызвавшей необходимость создания таких организаций, как брат-ства, являются, по мнению автора «Эпистолии», современные ему историче-ские события. Это время он называет «злыми днями», оплаканными вслед-ствие «отщепенства и отбегненя от нас стада Христова, бывших духовных наших — митрополита и епископов», то есть принятия и перехода в унию некоторых епископов и киевских митрополитов (Михаила Рогозы и Ипатия Потия).
Своей первостепенной задачей братство считало сохранение православно-го вероисповедания в народе и противостояние отступникам веры. Особенно сильной критике «Эпистолия» подвергает в равной степени «отступников» от православной веры — униатскую и католическую церковную иерархию. Проти-востояние двух церквей иллюстрируется библейскими параллелями Добра и Зла. Истинную «Сионскую» православную церковь автор противопоставляет «Вавилонской блуднице» — католической церкви. Библейские параллели борь-бы и насилия нечестивцев над праведниками автор «Эпистолии» выражает в образах Каина и Авеля, Исава и Якова, сына Агари и Сарры как прообразах со-временной ему борьбы католической и православной церквей, в которой физи-ческое преимущество — на стороне нечестивцев, но божественное благослове-ние и окончательное преимущество — на стороне гонимой православной церк-ви2. Критикуя «Рим старый», автор сравнивает его с Каином, «з оферами его, непринятыми пред Богом», и с Исавом, который «продал старшинство свое за прокарм марный»3. Грушевский отмечал, что некоторые из этих параллелей со-поставимы с образами, используемыми митрополитом Киевским Иларионом в «Слове о законе и благодати»4. Иларион писал о благодати (Новом завете), про-
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 305.2 Грушевський М. С. Історія української літератури. Т. 5. Кн. 2. С. 272.3 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 313.4 Грушевський М. С. Історія української літератури. Т. 5. Кн. 2. С. 272.
470 Глава третья
тивопоставляя ее закону (Ветхому завету), сравнивал их с сыновьями Авраама, рожденными от рабыни Агари и от жены, свободной женщины Сарры:
«Слово о законе и благодати» «Эпистолия»Прежде [был дан] закон, а потом — благо-дать, прежде — тень, а потом — истина. Про-образ закона и благодати — Агарь и Сарра, рабыня Агарь и свободная Сарра: прежде — рабыня, а потом — свободная, — да разуме-ет читающий. И, как Авраам с юных лет своих имел женою себе Сар ру, свободную, а не рабу, так и Бог испокон веков изволил и рассудил послать Сына Своего в мир и им явить благодать… И родила Агарь-рабыня от Авраама: рабыня — сына рабыни… При-нес же и Моисей с Синайской горы закон, а не благодать, тень, а не истину1.
До конца раба изгонит свою госпожу и сын рабынин господича. Ведаете, яко есть напи-сано: «Изжени рабу со сыном ея, не имать бо сын рабыни участия со сыном свободныя». Свободна бо есть дщи Сионова, царицею власною будучи, и облюбеницею Церков его к Христу Богу. «Мати бо есть ваша Сион», рече, «человек роди ся в нем» — Исус Хри-стос, и той основа и — вышний. Рабыня же есть цорка вавилонская, мезерная она, матка нерядницам и всем обредливостям земским, и сынов попудных родит, который потомко-ве еи такими ж подейзраными и нас стара-ют ся починити за одступством от закона и церкви божей2.
Эта параллель позволяет высказать предположение о преемственности средневековой литературно-художественной традиции. А. Ф. Замалеев, рас-сматривая «Слово о законе и благодати» в контексте острых взаимоотношений Руси и Константинополя, оценивал выступление Илариона против «византи-низации» русской церкви как приобретающее конкретное политическое зна-чение3. Созвучной и для Илариона, и для автора «Эпистолии» является мысль: есть те, которые еще остаются в сетях рабства, и те, которые познали истину, сделались «новыми людьми», обрели новые идеи о назначении и ценности че-ловека4. И в одном, и в другом источниках — содержится интерпретация апо-стольского послания Павла к Галатам: «братия, мы дети не рабы, но свобод-ной» (Гал. 4: 22-31).
Политику «окатоличивания и ополячивания» братчики считали делом бо-гопротивным, достойным всяческого осуждения и порицания. Несмотря на то что у Львовского братства появилось очень много врагов в лице униатской церковной иерархии, светских городских и государственных властей, католи-ческой церкви, члены братства ни в коей мере не считали возможным вступать
1 Иларион. Слово о законе и благодати // Златоструй. Древняя Русь: X—XIII вв. М., 1990. С. 107—108.
2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 306—307, 310.3 Замалеев А. Ф. Восточнославянские мыслители: Эпоха средневековья. СПб., 1998.
С. 34—35.4 Там же. С. 35.
471§ 1. Литературно-публицистические и полемические произведения
на путь вооруженной борьбы или насилия. Действиям своих противников, ко-торые «на тое братство вшеляких штук превротности своеи, зависти, нена-висти, порад прихитрейших чинят», братство должно оказывать достойное противодействие, защищать права своей организации и права своего народа, от имени которого они выступают, прежде всего «речами», а «копиа, меча, кули, стрилы и острости, альбо кгорту смертного оружия… ни маш на вше-лякого неприятеля и бунтовника» поднимать. И этого принципа разрешения каких бы то ни было, даже самых острейших, конфликтов всегда придержи-вались украинские братства. Все споры, конфликты и разногласия они реша-ли только в административном или судебном порядке, ставя превыше всего права человека (любовь к ближнему), к какому бы сословию он ни принадле-жал. Как бы ни пытались оскорбить, унизить братство, его членов, воспитан-ников братской школы, братчики всегда придерживались принципа, что «акт братство — любов досконалая до Бога и до ближних своих», «кто ныне хочет братства, тот хочет Христа»1. В этом проявляется высокий гуманизм всего братского движения.
Центральной идеей гуманизма является идея общественного блага, которая служит критерием моральной оценки всего происходящего. Этика гуманиз-ма утверждала человека через личную деятельность, направленную на благо общества. И. В. Паславский считал, что само возникновение братств можно в значительной степени рассматривать как практическую реализацию обще-ственных идеалов передовых слоев городского населения Украины во второй половине XVI — первой половине XVII в.2. Братства провозглашали идеи гу-манизма, гуманного отношения к человеку, к какому бы вероисповеданию, со-словию или национальности он ни принадлежал, и настойчиво требовали от своих противников такого же к нему отношения.
Но в условиях обострявшейся религиозно-национальной борьбы следовать этим принципам было очень сложно, и Львовское братство, посылая устав («порядок») новообразованному братству, предупреждает своих собратьев, что «трудная есть дорога братство», в чем они сами неоднократно уже убеж-дались и «ныне еще дознаваем». Труден и тернист путь братства, много ли-шений и преград приходится преодолевать ему, отстаивая свои идеалы. Автор «Эпистолии» сравнивает современное ему положение братства с путем Иисуса Христа на Голгофу, когда тот остался в полном одиночестве, даже Апостолы от него отреклись, и только «Симон, ниякий Киринейчик, крест Христов, зба-венный тот тяжар, Христу двигати помогал». В условиях, когда аристократия «гетмани, и при них иле ест рыцерства духовного, церков зрадивши, с полку своего от войска Христового до стороны противное поутекали, и всяй преда-
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 306—307, 310.2 Паславський І. В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI — першій
треті XVII ст. Київ, 1984. С. 107.
472 Глава третья
ли», возглавить борьбу за православную церковь, за сохранение национально-духовных традиций предстоит именно братствам. С боевым призывом обра-щаются львовские братчики к новоконстантиновским: «Зачинати войну, то есть власне и з неприятелем креста и Христа, вhры и церкви его», «И зараз на войну выбиратис и у зброю ся духовную дуже прибирати потреба»1. Автор «Эпистолии» предлагает истинным христианам сделать свой выбор: либо быть с «Христом во яслех и в убогом вертепе», либо остаться с «Иродом, албо с новым месиашом: Антихристом в Вавилоне», то есть взять под свою защиту православие или перейти в римско-католическую церковь во главе с папой, об-раз которого в антикатолической и антиуниатской публицистике конца XVI — первой половине XVII в. соотносился с Антихристом.
Украинскому православному населению в условиях политических, нацио-нальных и религиозных притеснений надеяться, кроме как на братства, в кон-це XVI — начале XVII в. было не на кого. Православные церковные иерар хи один за другим переходили в унию, украинские магнаты тоже принимали либо католическое, либо греко-католическое вероисповедание. Автор «Эпистолии» образно призывает «вырвать око» («вылуп его и верзь от се бе») — самый цен-ный орган, — искушающее к отступничеству от своей веры, как и дерево засо-хшее, не приносящее хорошего плода: «ты садовничий з винограда Христова пречь выкинь!». «Соль смердячую потопчи! Волка в скоре овечей по зубех драпежных знай! Злодея и убийцу до кошарне не пусчай и не дай ему вступу. Замкни пред ним двере — вархолника, посварцу, шкодцу!»2.
Львовские братчики предупреждали, чтобы новообразованные братства не «злякнувшись бурливостей (як бы нияких валов)… не отступали церкве Христовы и веры повшехней моцнос держали», тем более что братства разных городов и местечек всегда должны поддерживать друг друга, поскольку «тая справа (братское движение — Ю. Ш.)… в Малой России наступовати пома-лу почала». Но не следует забывать, говорит автор «Эпистолии», что «ныне война духовная тут повстала» и что братству необходимо «зачинати войну, то есть власне и з неприятелем креста и Христа веры и церкви его», необхо-димо немедленно «зараз сточити и зараз на войну выбиратись и у зброю ся духовную дуже приберати потреба»3.
Братства ратовали за бескорыстную борьбу за веру и духовные идеалы. Человек, решивший вступить в братство, должен честно служить высоким идеалам братского движения, должен пребывать в благочестии, быть предан-ным своей вере и не соблазняться никакими дарами и привилегиями, которые обещает «сторона противная», ибо «зависть и ненависть не весть предпо-читати полезная». Братства должны открыто провозглашать цели и задачи
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 308, 309.2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 317.3 Там же. С. 307, 308.
473§ 1. Литературно-публицистические и полемические произведения
своей деятельности, распространять свои идеи и идеалы среди всего право-славного народа, «абы все знали, в кого верят и в чие имя крестилистеся, и кто нас и вас из мертвых воскресит и дня остатнего справедливого и страш-ного оного суду своего осудит». Львовское братство постоянно в своей дея-тельности придерживалось принципа общенародного участия в важнейших общекультурных и социально-политических делах. Оно не раз обращалось с окружными посланиями ко всем православным гражданам, призывая их по-мочь в восстановлении городской церкви, выкупе заложенной типографии Ивана Федорова, создании школы и госпиталя и т. п.1
Автор «Эпистолии» говорит не только о целях и задачах братского движе-ния, но и обращается «до всех посполите» с «пересторогой»: «блюдhтес от волков приходящих ко вам во одежах овчих (лжесмирением пастырским строением), “внутрь же суть волци и хищници” (Матф. 7, 15). Блюдhтес от лжеучителей, от лжепастырей»2. Противников православия он называет вол-ками и разбойниками, «восходящих от запада».
Львовские братчики озабочены были как чистотой вероисповедания, так и чистотой помыслов каждого члена церкви: «Абовhм лhпше будет вам без едного члонка в тhлhсh церковном находити, в котором быс фалш и зрада находила, преч го от себе отсhкши, абый не все тhло церковное заразы от него себе не брало, и огонь пекелный по нем ся не розширял»3.
Львовскому братству было пожаловано право старейшинства над всеми пра-вославными братствами, которые должны были организовываться по его «чину». Это право было закреплено в грамотах Антиохийского и Константинопольского патриархов и в постановлениях церковных Соборов 1590 и 1594 гг.4 Львовские братчики весьма гордились своим «старейшинством», часто на собрания, касав-шиеся дел украинского населения города, приглашали членов львовских пред-местских братств, причем все присутствовавшие имели право голоса. Помощь при создании братств они рассматривали как «фундамент милости братер-ской», который братчики между собой закладывают, сравнивая устав братства с «таблицами Моисейскими», подчеркивая, что он «жезл скрини вся, ковчег завету, ручка, носящая манну, етцетера», являющийся только «причиною», то есть средством, орудием. Но от того, в какие руки попадет это орудие и на что будет направлено, зависит результат деятельности новообразованной орга-низации. Истинное братство не в «пергамене» (в следовании букве закона. — Ю. Ш.), а в исполнении Христовых заповедей, в солидарности и деятельной люб-ви, в «попеченю о ближних», которая ставится выше формальной обрядности,
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 120, 198, 231, 277, 319. 2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 316. 3 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 317.4 MСS. P. 119—120, 254—257, 516—519.
474 Глава третья
проповедуемой аскетами афонской ориентации (И. Вишенский)1. В условиях полемики львовских братчиков с Иваном Вишенским противопоставление до-вольно характерное: «Але вмhсто помhненных таблиц Евангелие Христово на таблицах сердец ваших нехай будет выразне написано, и того слов самых слухайте»2. Интересно отметить, что образ сердца будет центральным в эсте-тике и символике украинского барокко XVII в.: в литературе, поэзии, изобрази-тельном искусстве. Символ ключа-сердца использован при оформлении титуль-ного листа книги Иоанникия Галятовского «Ключ разумения» (Киев: Тип. Лавры, 1659). Образ сердца выбирает Лазарь Баранович в качестве щита и основного геральдического символа при создании герба Иисуса Христа и поэтического его истолкования в книге «Lutnia Apolliniwa kożdey sprawie gotowa» (Киев: Тип. Лавры, 1671):
że serce dla nas onemu zraniono,Do herbu jego tu Serce młożono,Z serca wshystskiego lubić trzeba Pana,Lubił nas gdy mu Krew wshystka wylana3.
Члены братства всегда должны помнить о том, что в основе их деятельности лежит христианский принцип добродетели и любви к ближнему, ибо «брат-ства любити — Бога любити, братство приймати — любов приймати, то есть Бога приймати»4. Автор «Эпистолии» особенно подчеркивает значение коллективной борьбы за национальные, религиозные, гражданские права, по-нимая, что чем шире будет сеть братств, организованных во имя достижения одних целей и решения общих задач, тем больше прав можно будет отстоять во имя своего народа у церковных, государственных и городских властей, так как только тогда, когда «вшелякого неприятеля хотячи поразити, збирают-ся люде до купы». Он говорит о необходимости создания братств не только в городах «великих и малых», но и в селах, где тоже необходимы организации, которые «судили» бы и защищали права местного населения, «писанием речи свои варуючи». Миссия братств — нести добро. В «Эпистолии» понятие добра понимается в контексте барочной символики. С одной стороны, и само брат-ство трактуется как общественное благо: «Се коль добро и коль красно, но еже житии братии вкупе». С другой стороны, деятельное проявление «знаков до-бра» — борьба с неприятелями. Братство сравнивается с «Ноевым кораблем»,
1 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 2. С. 272—273.2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 319.3 Ради нас сердце его изранено, Для герба его сердце выбрано. Всем сердцем любить нужно Господа, Ибо любил нас до последней капли крови (пер. мой. — Ю. Ш.). 4 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 317, 319.
475§ 1. Литературно-публицистические и полемические произведения
к которому «добрыи и злыи, чистыи и нечистыи збирают». Причем сила ор-ганизации не зависит от ее численности, даже самое небольшое число может творить добро и бороться с неприятелями за церковь Христову: «А если не будет в мhстh до тысячи цнотливых, то хоч сто, а если бы и ста не было, то хотяй пятдесят, десять, а принаимнh пять… На тот теды способ, если не допустит шатан быти братии вкупh десятем и пятем, теды принаймнhй, наконец, бы тылко два альбо тры… И два бо аще совhщаета, что благое о всякой вещи на земли»1.
Центральное место в «Эпистолии» занимает изложение идеологических по-стулатов братского движения, в которых можно проследить связь идей брат-ского движения с идеями западноевропейской Реформации. Это три основных принципа, «три кита», на которых стоит братство: рационалистическое отно-шение к церкви, церковным обрядам и церковному богослужению; рациона-листическое отношение к материальным благам; приоритет практической дея-тельности над теоретическими словопрениями.
Братчики были убеждены, что сила веры состоит в знании. Человек дол-жен не слепо и бездумно следовать предписаниям, а стараться «дойти до са-мой сути» и богослужения, и принятой обрядности, но главное — всего хри-стианского учения. Главная мысль «Эпистолии» заключается в том, что только по делам должен оцениваться человек. Какие бы богоугодные и прекрасные слова он ни говорил, — если они не подтверждаются делами, все это не имеет значения для спасения души. Жизнь человека быстротечна и поэтому каждый должен стремиться быть деятельным и активным в делах милосердия и люб-ви к ближнему. «И что бо будет равно сим, еже ни пост, ни низу лhгание, ни всеночная бдения, нижей ина что такова могут спасти человhка, яко о ближних попечение имhти, и се есть во истину с Богом жити, и то есть найпевнhейшая и найпростьшая до збавеня людского дорога»2. Но постоян-но следовать этому правилу в жизни оказывается очень сложно, потому что «много есть прешкод розмаитых от неприятелей душевных и телесных: не-безпеченства, недостатки, заброжене, жона, дети, обходы, до того потва-ры, заздрости, ненависти, так теж и вымовки, же якож колвек тое, альбо овое перешкодою ест»3. Эти же вопросы активной деятельности человека за-трагивал и Лаврентий Зизаний в прощальном слове на похоронах княги-ни Софии Чарторыйской 18 июня 1618 г. Ссылаясь на авторитет антич-ных авторов, он обосновывает свою мысль тем, что жизнь человека должна быть насыщена активным творческим трудом и благородными поступками4.
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 320.2 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 222.3 Там же.4 Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство. Приложения. № 28. С. 64.
476 Глава третья
И. В. Паславский отмечал, что в этих утверждениях доминируют не столько религиозные порывы, сколько чисто светские соображения1.
Основным принципом деятельности Львовского братства являлось то, что все его члены должны стремиться приносить пользу своей организации, всему сообществу. И автор «Эпистолии», и Лаврентий Зизаний единодушно утверж-дали, что «о ближних попечение», служение добру должно стать неотъемле-мой и постоянной потребностью человека, «наветь хотяй бы и жодных мук, гришникам зготованных не было».
Вторую важнейшую для братчиков проблему, связанную с материальными благами, автор «Эпистолии» тоже решает с рационалистических позиций. Для достижения почти всех целей и выполнения задач, которые поставило перед собой братское движение, необходимы были большие суммы денег (содержа-ние школы, госпиталя, типографии, расходы на судебные тяжбы с магистра-том, снаряжение депутаций на поместные церковные Соборы, на Сеймы и Сеймики). Накопление денег, считает автор «Эпистолии», не является злом, если эти деньги направлены на помощь страждущим и угнетенным, на благие дела. Он переосмысливает слова Иисуса Христа: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19: 24). Как известно, в средневековой христианской теологии эти слова понимались буквально, и всякое богатство и накопительство считалось страшным смер-тельным грехом. Автор «Эпистолии» утверждает, что не богатство является злом, а пресыщение богатством и чрезмерное, нечестное накопительство. Если богатство нажито своим трудом, то неужели эта «маетность набытая была зла?» — задает он вопрос и тут же дает четкий ответ: нет, но только в том случае, если богатство и накопительство не становятся самоцелью, если не за-бывается при этом «о церкви и о ближних своих». «Не иж бы богатство было зло — але лакомство, и злое набытие — то есть зло». Переосмысление отно-шения к богатству в контексте философии рационализма давало возможность средневековой по духу организации существовать в новых условиях.
Рационалистическое переосмысление в «Эпистолии» затрагивает важные в повседневной светской жизни человека вопросы: о вине, о браке, которые трак-товались в средневековом христианском сознании с позиций аскетической хри-стианской теологии как тяжкие смертные грехи. Рассматривая эти проблемы в контексте рационалистического мировоззрения, автор утверждает, что не «на-пой был злый», а «проклято есть пьянство», что не «оженене речу неучтивою было», а «вшетеченство то есть обредливое». Сам человек превращает одну и ту же вещь, понятие, институт в источник добра или зла. Только от человека зависит, каким содержимым — добром или злом — будет наполнен тот или иной сосуд. Нет ничего греховного в поступках человека, если они помогают
1 Паславський І. В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI — першій треті XVII ст. С. 109.
477§ 1. Литературно-публицистические и полемические произведения
творить «суд, милость, веру». Подводя итоги этим рассуждениям, автор дела-ет вывод о смысле и сущности братского движения: не на бумаге утверждается братство, не устав является свидетельством существования этой организации, а только своими реальными благочинными делами, солидарностью и деятель-ной любовью, во всем следуя заповедям Христовым, братчики могут доказать свое стремление называться братством. «Не в листh бовhм едином, анh на том тылко едном паркгаменh есть братство, зо всhми его пунктами до-статечне выражено, але во всhх судьбах и заповhдех Божиих, в выполнhню всего Нового Тестаменту, то есть братство и любов, без присады»1.
Сила братства — в совместной деятельности его членов во имя общего дела. Автор «Эпистолии» противопоставляет силу и возможности одного человека силе и возможностям объединения людей. Даже самое малое по численности объединение людей (два человека) уже можно назвать Христовой братией, тог-да как тот, кто стоит в стороне, «высокого мнеманя о собе будучи, — таковый и щобы его человеком звати негоден есть». Такое резкое противопоставле-ние, по мнению М. С. Грушевского, содержало прямой намек на проповедника противоположного направления христианской жизни — Ивана Вишенского2. Афонский столпник вел полемику с братствами и ратовал за крайне аскетиче-ские идеалы, за самосовершенствование духа, что, по его мнению, возможно только при самоотречении. Но такая ли философия нужна была современному обществу, крайне нуждавшемуся в реформировании и переоценке морально-культурных ценностей? Время решило этот спор в пользу философии братств. Именно они способствовали существенным социокультурным изменениям в обществе, а Вишенский уехал опять на Афон, став «сторонним наблюдателем» и суровым критиком происходящих на родине перемен.
Среди сфер деятельности братства автором «Эпистолии» выделяются сле-дующие: церковно-религиозная деятельность, борьба с унией, содержание го-спиталя, организация школы. Организация типографии и книгоиздательско-го дела не называется, поскольку это была привилегия только самых крупных братств, но главное — это было очень трудоемкое и дорогостоящее занятие. Важнейшей сферой деятельности братств являлась церковно-религиозная. Все братства создавались при церквях, при конкретных православных храмах и на-зывались так же, как и церковь, вокруг которой они объединялись (Успенское, Николаевское, Троицкое, Благовещенское и т. п.). В соответствии с барочной культурой, где единству формы и содержания придавалось особое значение, религиозная деятельность организации должна была начинаться с заботы о своем храме. Братчики должны были заботиться о содержании храма и сле-дить за порядком во время проведения богослужений. В их обязанности вхо-дило наблюдение и за следованием канонам православного богослужения, и за
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 322.2 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 2. С. 273, 274, 275.
478 Глава третья
институтом священнослужителей в братской церкви. Особо братства должны были следить за проведением проповедей, они могли пригласить себе лучшего и достойнейшего «казнодhя» (проповедника).
Организацию братства автор «Эпистолии» сравнивает со строительством храма. Призывая новоконстантиновских братчиков возводить храм как мате-риальный, так и духовный, автор старается раскрыть всю христианскую сим-волику, заложенную в архитектуре храма. Образ церкви в контексте эмбле-матики барокко трактуется им как единство духовных и материальных атри-бутов жизни человека и братства. Символика храма призвана подчеркнуть общность братства и христианской церкви, их мистичность и возвышенность. Четыре угла православного храма, смыкающиеся в едином куполе, симво-лизируют суд, милость, веру и надежду православного вероучения; кресто-образное основание храма символизирует четыре части света, а также четыре времени года, четыре стихии, четырех «воинов небесных» архангелов «воево-ды небесни» (Михаила, Гавриила, Уриила, Рафаила), четырех евангелистов (Матфея, Марка, Луку, Иоанна) и четырех патриархов православной церкви (Константинопольского, Антиохийского, Александрийского, Иерусалимского). Сам Христос является главным строителем и архитектором великого духов-ного храма: «всего видомого и невидомого створеня, и до далшого поступку церков свою Бог будует и предивными судьбами своими охроняти и заховы-вати ю рачит»1. М. С. Грушевский лаконично подвел итог этим рассуждениям, выведя из них своеобразную формулу, которую пытался донести до читателя автор «Эпистолии»: братство = церковь = вселенная (всесвіт).
Еще одной важнейшей задачей братства была борьба за сохранение право-славия, против насаждения унии и католицизма («латинства»). К началу XVII в. многие священники и «зацные домы панов руских» стали принимать унию. На Украине в результате Брестской церковной унии начался процесс укрепления польской шляхты, усилилась денационализация украинской шляхты, которая, обучаясь в иезуитских школах и коллегиях, принимала католичество или уни-атство и тем самым облегчала себе доступ к вершинам власти, богатства и мо-гущества. В такой обстановке, когда и духовенство и шляхта себя полностью дискредитировали, миссию национально-религиозных пастырей взяли на себя братства — организации городского населения, объединявшие в основном го-рожан: ремесленников и купцов. Не только украинская шляхта переходила в католичество, соблазняясь привилегиями, но и духовные пастыри принимали унию, «отступил и митрополит от патриарха, отца своего». Братства долж-ны были оказывать сопротивление тенденции «отпадения от православия». Автор «Эпистолии» отмечает, что переход в унию украинской шляхты моти-вирован только корыстными соображениями, «бо их такими лагодностями до едности з собою притягают», а «лагодности» он сравнивает с пением сирен,
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 325—326.
479§ 1. Литературно-публицистические и полемические произведения
которые заманивали волшебным пением на погибель1. «Отщепенцев» и «от-ступников» ждет тяжелая кара, и вечными муками будут прокляты они и их потомство, ибо предали они «порядки отцевские, в нh во що повертаючи, а ведлуг зданя, вымыслу и волh сердца своего ходячи, хотячи з собою и тых, которые держатся при правдивой матце своей церкви святой… до такого ж отступенства, в котором они суть»2.
Особая задача в деле сохранения религии и национально-культурного до-стояния своего народа возлагалась братствами на школы. Так, одной из важ-нейших причин упадка Руси автор «Перестороги» называет отсутствие хорошо организованной системы образования, осуждая русских князей за то, что они только монастыри и церкви строили, а того «что найпотребнишое — школ посполитых — не фундовали»3. Автор «Эпистолии», развивая эту мысль, го-ворит о необходимости основания школы при братстве, ведь их отсутствие вынуждает молодых людей идти учиться в иезуитские или какие-либо дру-гие «латинские» школы, что может привести к «всенародному згиненю», как говорится в окружном послании Львовского братства 1608 г.4 В тяжелых религиозно-политических условиях школы нуждаются в постоянной защите и опеке со стороны братства, которое обязано организовать «дозор школе», чтобы «заступати и от крывд вшеляких обороняти». Одной из основопола-гающих задач братства была благотворительная деятельность, о чем сказано в уставе Львовского братства: «Творити… милостиню в потребу братиям не-достаточствующим и ублажати благих»5. Очагом благотворительной дея-тельности братства должен был стать госпиталь, которым «братя заведова-ти мают», а также члены братства должны были опекать и заботиться о всех «уломных и недостаточных особах»6. Завершается «Эпистолия» рекомендаци-ями об организации внутренней жизни братства, которые должны помогать братчикам осуществлять их высокое назначение.
«Эпистолия» является свидетельством концептуального видения самими членами братств возможностей, задач и предназначения своей организации и братского движения в целом. То, что такой источник оказался единствен-ным среди большого комплекса сохранившихся документов братства, — не случайно. Братства как организации «деловых людей» проповедовали деятель-ное участие каждого человека в общественной жизни. Для них было важно не рассуждение о добродетели, а добродетель, воплощенная в конкретных делах,
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 331.2 Там же. 11. С. 334.3 Цит. по: Возняк М. С. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові.
Львів, 1954. С. 25—26.4 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 527—529.5 MCS. P. 114.6 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 337.
480 Глава третья
не рассуждения о важности церкви и религии, а конкретные мероприятия по улучшению и реформированию церковной жизни, не славословия «отеческой» культуре, а конкретные дела по возрождению национально-культурной тради-ции. Братства на протяжении всей своей истории придерживались провозгла-шенного принципа: «творить милостыню» и «о ближних попечение имети».
«Эпистолия» позволяет приподнять завесу над самовосприятием и само-осознанием братчиков в обществе и понять, что заставляло ремесленников и купцов, людей деловых и часто весьма состоятельных, взваливать на себя та-кое бремя, такую «трудную дорогу — братство».
«Эпистолию» можно рассматривать как важный источник по истории фи-лософской мысли Украины начала XVII в. Это одно из первых произведений, в которых провозглашаются основные категории мировосприятия украинского барокко XVII в. Здесь нашли органичное сочетание основные мировоззренче-ские постулаты культуры Средневековья и культуры Нового времени, синте-зом которых и объясняется специфика украинского братского движения как общественно-культурного феномена. В «Эпистолии» сформулированы идеи рационалистического восприятия церковных догматов. Подобный метод кри-тики церковных догматов был характерен и для таких выдающихся идеоло-гов братского движения, как Стефан и Лаврентий Зизании. Здесь можно от-четливо проследить связь основных идей западноевропейской Реформации с основными идеями братского движения, ведь именно рационалистическо-реформационное движение в конце XVI — начале XVII вв. приобретает зна-чительный размах на Украине. «Эпистолия» также свидетельствует о начале формирования на Украине гуманистических идей, и именно идей обществен-ного гуманизма. Это прежде всего осознание необходимости и важности чело-веколюбия, человеческого достоинства и морального обновления, необходи-мости активной деятельности на благо народа, высокой оценки возможностей человека вследствие понимания смысла жизни как осуществления человеком своего земного предназначения — заботы о благе человека. Историософия «Эпистолии» пронизана духом заботы о будущем, духом сохранения национально-культурных и религиозных традиций своего народа. Только ак-тивная деятельная коллективная борьба за свою национально-культурную са-мобытность может привнести желаемые результаты. Это свидетельствует о том, что в историософской позиции автора «Эпистолии», как и других идео-логов братского движения, явно виден отход от средневековых взглядов на историю. Провиденциализм и фатализм, господствовавшие в средневековых представлениях об истории, отходят на задний план. Идеал человека у автора «Эпистолии» уже свободен от средневекового аскетизма. Человек должен жить полной жизнью, развивать свои творческие и жизненные силы. Предназначение человека — познать радость земной жизни и творческой деятельности во имя «ближнего», во имя всего сообщества. Новая философия деятельной религиоз-ности во имя общественного блага, понимаемого как отстаивание националь-
481§ 2. Предисловия, послесловия, посвящения книг...
ных, религиозных, политических институций, воспринималась сквозь призму ренессансного понимания Золотого века как утраченного, уходящего корнями в прошлое. Это диктовало стремление к достижению средневекового идеала христианского и общественного мироустройства, но новыми современными методами, формировавшимися на пограничье средневековых категорий миро-воззрения и Нового времени, на пограничье культуры западной, католической польской, и культуры восточной, православного славянства.
§ 2. Предисловия, послесловия, посвящения книг, изданных в типографии львовского братства
Книга как особый культурный феномен является предметом изучения мно-гих гуманитарных дисциплин. Все они рассматривают книгу в тех или иных аспектах: рукописную книгу изучает кодикология, элементы художественно-го оформления книги — в поле зрения искусствоведения, содержание книги изучают историки, текстологи, литературоведы, филологи. Книга в ее разно-образных формах существования в истории человечества, от рукописной тра-диции до современных электронных форм, всегда была не только носитель-ницей социально значимой информации, транслируемой от «книгосоздателя» (автора, редактора, компилятора, переписчика, издателя и т. п.), но и источни-ком информации о самом «книгосоздателе» и о его времени. Метод источнико-ведения позволяет обратиться к книге как к особому социально-культурному феномену с целью получения достоверной информации о наиболее значимых социально-культурных практиках, которые она может представлять.
Однако книга является довольно сложной структурно-концептуальной единицей, требующей особого теоретико-методологического подхода при ее изучении. Прежде всего, возникает проблема классификации книги (по тех-нологии создания — рукописная, печатная, электронная; по составу — сбор-ники или монотекстуальная; по жанрам или своему целевому назначению и т. д.). Каждая из возможных классификационных единиц требует особой специфики изучения, анализа с целью получения исследователем определен-ной информации.
Во все периоды существования, несмотря на различие культурно-истори-ческих традиций, книга сохраняет определенные традиции. Прежде всего, это попытка расширить диалог с читателем, которому адресован основной текст книги. Часто книга содержит Слово, предваряющее разговор с читате-лем («Предо-словие») или завершающее диалог («После-словие»). Жанры, функции этих атрибутов книги различны, но общее — диалог «книгосоздате-ля» («книгосписателя») и «книгочитателя» («книгочея»). Эти атрибуты можно рассматривать как особый вид источника, и изучение этого информационно богатого вида должно получить дальнейшую разработку.
482 Глава третья
Печатная книга в конце XVI—XVII вв. становится важнейшим элементом культуры, с одной стороны, продолжая преемственность традиции рукопис-ной книги, но с другой стороны, вырабатывая отличные, присущие исключи-тельно печатной книге атрибуты, имеющие особое значение. Кириллическая старопечатная книга как синтетический исторический источник пока изучена недостаточно. Имеется в виду комплексное изучение как отдельных элементов книги, так и история ее создания и функционирования в культуре. История ки-риллического книгопечатания как особого информационно-культурного про-странства православного мира представляет особый интерес. Однако преиму-щественно главным источником изучения истории кириллической печатной книги является сама книга. Это связано с тем, что большинство типографий, издававших книги кириллическим шрифтом, были частными, возникали бла-годаря поддержке отдельных лиц или корпораций (монастырей, православных братств). Практически никаких документов о работе таких типографий не со-хранилось. Наиболее крупными и существовавшими продолжительное вре-мя типографиями были Московский Печатный двор, типографии Львовского ставропигийского братства и Киево-Печерской Лавры. К сожалению, архив киевской типографии практически полностью погиб при пожарах в XVIII—XIX вв. Сохранились архив типографии Львовского братства и Московского печатного двора, и представляется интересным компаративное изучение доку-ментов этих архивов, что позволяет реконструировать не только сам процесс книгоиздания, начиная с замысла, подготовки текста к изданию, особенно-стей технологического процесса, но и распространение книги, формирование книжного рынка и читательской аудитории.
Особый вид источников составляют предисловия, послесловия, посвяще-ния, которые были практически нормативными атрибутами старопечатной книги. Изучение этого вида источников целесообразно предпринимать, осно-вываясь на проблеме «авторства источника». В данном случае Автором следует считать книгоиздателя, который не только определяет репертуар издаваемых книг, не только диктует «моду» художественного оформления своей печатной продукции, но главным образом проявляет свое «авторское» индивидуали-зирующее начало в дополнительных элементах-текстах той или иной книги. Именно типография (ее руководители или фундаторы) приглашала автора или заказывала те или иные тексты предисловий, послесловий, посвящений, поэ-тических композиций. Каждая типография имела свои особенности, которые проявлялись именно в этих атрибутах книг.
Особое место в истории кириллического книгопечатания принадлежит Львовской братской типографии. Она представляет особый социально-куль-турный феномен; будучи преемницей типографии Ивана Федорова, она про-существовала практически три с половиной века. Индивидуализирующее на-чало типографии — репертуар книг, культура их издания, распространение в православном мире — во многом объясняется менталитетом книгоиздателей,
483§ 2. Предисловия, послесловия, посвящения книг...
членов Львовского Успенского братства, религиозно-общественной организа-ции горожан, которые видели в типографии, с одной стороны, возможность реализовать культурно-просветительскую задачу своей организации, но в то же время относились к ней, особенно с середины XVII в., как выгодному ком-мерческому предприятию, позволяющему зарабатывать деньги для реализа-ции других общественных, политических и культурных проектов.
Важными источниками по истории культуры являются предисловия, по-слесловия, посвящения, помещенные в изданиях типографии Львовского брат-ства. Выделение этих атрибутов книг в самостоятельный вид исторических ис-точников и проведение источниковедческого анализа комплекса предисловий, послесловий и посвящений изданий Львовского братства предпринимается впервые. Это обусловлено тем, что в предисловиях и послесловиях часто со-держатся уникальные сведения об истории создания книги, характеристика издаваемого произведения, информация о целях и причинах издания, о многих исторических деятелях, о самом братстве и его культурно-просветительской деятельности. Отдельные предисловия, посвящения, стихотворные включе-ния являются выдающимися литературно-историческими памятниками. Эти источники позволяют изучать развитие философской, литературоведческой, исторической мысли на Украине в конце XVI—XVIII вв.
Впервые на значимость предисловий и послесловий как самостоятельных произведений обратил внимание П. М. Строев, который предпринял первую попытку публикации ряда предисловий и послесловий старопечатных книг, в том числе изданий Львовского братства1. Продолжил публикацию предисло-вий и послесловий к кирилловским старопечатным изданиям И. П. Каратаев2. Введенные в научный оборот русскими библиографами эти тексты рассма-тривались как источники по изучению истории кирилловской печатной книжности. Впервые предисловия как исторические источники, особенно по истории церкви, рассматривал Ф. И. Титов, но предметом его специаль-ного исследования стали издания Киево-Печерской Лавры3. Большая часть
1 Строев П. М. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских, хранящихся в библиотеке тайного советника, сенатора двора его императорского величества действительного камергера и кавалера графа Федора Андреевича Толстого. М., 1829; Он же. Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке московского первой гильдии купца и общества истории и древностей российских благотворителя Ивана Никити-ча Царского. М., 1836; Он же. Описание старопечатных книг славянских, служащее дополне-нием к описаниям библиотек графа Ф. А. Толстова и купца И. Н. Царского. М., 1841.
2 Каратаев И. П. Хронологическая роспись славянских книг, напечатанных кириллов-скими буквами: 1491—1730. СПб., 1861; Он же. Библиографические заметки о старославян-ских печатных изданиях 1491—1730. СПб., 1872; Он же. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами (1491—1652 гг.). СПб., 1883. Т. 1.
3 Тітов Хв. Матеріали для історії книжкової спрпви на Вкраїні в XVI—XVIII вв.: Всез-бірка передмов до українських стародруків Київ, 1924; Титов Ф. И. Типография Киево-
484 Глава третья
поэтических предисловий, эпиграмм на гербы, посвящений опубликованы и рассматривались в рамках истории литературы1. Книговедческие, литерату-роведческие и текстологические аспекты изучения предисловий и послесло-вий старопечатных изданий поднимались отечественными и зарубежными исследователями в 60—80-х гг.2 Особенности украинских предисловий и по-слесловий изданий конца XVI — первой половины XVII в. были отмечены в работах Л. И. Сазоновой3. Однако источниковедческих исследований, посвя-щенных предисловиям и послесловиям к старопечатным книгам, до сих пор не появилось.
Обращение к предисловиям и послесловиям должно вызывать интерес не только библиографов, книговедов, историков литературы, но историков куль-туры. Предисловия и послесловия в предельно сжатом и лаконичном виде сконцентрировали в себе многие характерные черты своего времени, особен-ности мировосприятия и мироощущения, это часто единственные письмен-ные формы самовыражения духа, творчества. В эпоху господства теоцентрич-ной культуры и особенно книжности, предисловия и послесловия к произве-дениям концентрировали в себе явления, идущие непосредственно от живой действительности и живой литературной жизни, которые не могли войти в основной текст сочинения в силу его жанровой нормативности и принадлеж-ности к кругу церковного чтения, и оформлялись в виде предисловия. В конце XVI — первой половине XVII в. предисловия к книгам оформлялись как само-
Печерской Лавры. Исторический очерк (1606—1616—1916). Киев, 1916. Т. 1. Приложения. Киев, 1918.
1 Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и материалы. Т. 1. СПб., 1900. С. 139—158; Он же. Исследования и материалы по истории старинной украинской литера-туры XVI—XVIII вв. Л., 1929; Rothe Hans. Die älteste ostslawische Kunstdichtung 1575—1647. Erster Halland. Giessen, 1976; Українська поезія. Кінець XVI — початок XVII cт. / Упорядники: В. П. Колосова, В. І. Крекотень. Київ, 1978; Kasinec E., Struminskyj B. The Millenium Collection of Old Ukrainian Books at the Vniversity of Toronto Library. Toronto, 1984; Українська поезія XVI ст. / В. Яременко. Київ, 1987.
2 Kjellberg L. Catalogue des imprimés slavons des XVI-e, XVII-e et XVIII-e siècle conservés à la Bibliothèque de l’Université royale d’Uppsala / Par Lennart Kjellerg. Uppsala, 1951; Barnicot J. D. A., Simmons J. S. G. Some unrecorded early-printed Slavonic books in English libraries // Oxford Slavonic Papers. 1951. Vol. 2. P. 98—118; Simmons J. S. G. Early printed Cyrillic books in Marsh’s library Dublin // The Irish Book. 1963. Spring; Tyrrell E. P. Simmons J. S. G. Slavonic books before 1700 in Cambridge libraries // Transactions of the Cambridge Bibliographical Society. Vol. III, 5. 1963; Ro-the Hans. Die älteste ostslawische Kunstdichtung 1575—1647. Erster Halland. Giessen, 1976—1977. Hbd. 1—2; Русская старопечатная литература (XVI — первая четверть XVIII в.). Тематика и стилистика предисловий и послесловий / Под ред. А. С. Дёмина. М., 1981. С. 129.
3 Сазонова Л. И. Украинские старопечатные предисловия конца XVI — первой полови-ны XVII в. (борьба за национальное единство) // Русская старопечатная литература (XVI — первая четверть XVIII в.). Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М., 1981. С. 129—152; Сазонова Л. И. Украинские старопечатные предисловия конца XVI — первой половины XVII в. (особенности литературной формы) // Там же. С. 153—187.
485§ 2. Предисловия, послесловия, посвящения книг...
стоятельный и продуктивный жанр, вливающийся в европейскую традицию составления предисловий1. Предисловия часто повторяли основные положе-ния, актуальные для современной им полемической литературы, например предисловие к книге Мелетия Пигаса2. Но в отличие от специальных полеми-ческих трактатов идеи, выраженные в предисловиях, облекались в более про-стую форму, так как они адресованы были более широкому кругу читателей и одной из основных задач ставили популяризацию книги и чтения вообще, при-общения читателя к книжной культуре. Во второй половине XVII—XVIII вв., когда тематические рамки издаваемых книг были максимально сужены, когда вводилась цензура, предисловия оставались единственным источником «жи-вого слова», с которым книгоиздатели обращались к своему читателю, пыта-ясь сформулировать и обозначить важные актуальные проблемы современной национально-культурной жизни.
Большая часть изданий типографии Львовского братства включает преди-словия, послесловия, посвящения, эпиграммы на герб. Обращение к читателю, предваряющее книгу и ведущее свое начало со времен античности, в XVI—XVII вв. считалось обязательным. Функция предисловия состояла в том, что-бы ввести читателя в круг проблем произведения, представить его читателю и таким образом ввести произведение и книгу в литературу и культуру. В боль-шинстве случаев оно было схемой содержания и значения произведения, но часто в предисловиях развивались темы, выходящие за рамки тематики книги, поднимались вопросы общекультурного плана.
Особое значение для таких источников, как предисловия старопечатных книг, имеют заглавия, которые играют значительную роль в передаче идейно-содержательной сущности. Л. И. Сазонова выделяла три типа заглавий, харак-терных для украинских предисловий:
1) адресованность предисловия к читателю («До чителника»);2) соотнесенность предисловия с книгой («Поучение в книгу сию»);3) двусторонняя направленность предисловия («Предословие в Часослов
до читателя побожного»)3.Для изданий типографии Львовского братства характерны первые два типа
заглавий. Причем предисловия, соотнесенные с книгой, встречаются доволь-но редко («Предсловие (поучение) в книгу сию»)4. Наиболее характерно обра-
1 Сазонова Л. И. Украинские старопечатные предисловия конца XVI — первой полови-ны XVII в. (борьба за национальное единство). Там же. С. 131.
2 Пигас Мелетий. О христианском благочестии к иудеом ответ. Львов: Тип. братства. 4.04.1593. (Далее указания на место издания и типографию опускаются).
3 Сазонова Л. И. Украинские старопечатные предисловия конца XVI — первой полови-ны XVII в. (особенности литературной формы). С. 154—155.
4 Октоих. 1630. 1-я группа; 1639; Анфологион. 1638; 1643; 1651; 1694; Триодь постная. 1664. (Здесь и далее указания на место издания и типографию Львовского братства опускаются).
486 Глава третья
щение в предисловии к читателю («Предословие к читателю»1, «Предословие к читателем вкратце»2, «Предмова (Предословие) до чителника»3. Иногда предисловие, как и вся книга, были адресованы к определенному читателю («Предословие к священночитател», «Предмова до чителника саном священ-ничества почтеннаго», «Благочестивому и христолюбивому православному церкви восточной чителникому», «Предмова до чителника правовернаго»)4 или подчеркивали адресованность издания широкому кругу читателей («К благородным и христолюбивым и благоподвижным всем общечитате-лем», «Предословие похвально ко всем обще»)5. По формулировке названий предисловий видно, что отношение издателя к своему читателю было ува-жительным и доверительным. В изданиях братской тиопграфии встречают-ся предисловия-молитвы. Впервые такое предисловие помещено в Евангелии 1636 г.: «Молитва к Вседержителю»6.
Особого внимания заслуживает и тема авторства предисловий. Имена ав-торов предисловий к изданиям типографии братства почти не известны, за редким исключением, например, предисловие к Евангелию написано от име-ни архиепископа Болгарского Феофилакта7, сохраняя таким образом тради-цию книгоиздания евангельских текстов. Однако это же издание содержит и обращение «К священночитателем», в котором традиционно книгоиздатели просят прощения перед читателем за возможные ошибки: «Аще же кое погре-шение в книзе сеи обрящеши, любовию исправи: и прощению наще недосто-инство сподоби». Заканчивают предисловие авторы пожеланием всех благ сво-им читателям и подробно атрибутируют себя как книгоиздателей: «Всем всех Небесных и Земных благ пречесныи желателие — Братство Храма Успения Пресвятыя Богородице в Ставропигии фрону патриаршего Леондополитане, Михаил Слiозка, типограф львовский»8.
Некоторые предисловия к изданиям братства не содержат указания на их автора или составителя. Постепенно, к середине XVII в., выработалась тради-ция подписывать предисловия от имени братства: «Крестоносная церкви чада, и с возлюбленная сынов ея братия всhх благ небесных и земных присным рачиттел¿е. Братство храма Uспения пречистыя Богородица в стаvропигии fрону патриаршего ЛЕОПОЛИТАНЕ». Причем характерно, что в такой под-
1 Октоих. 1630. 2-я группа; Часослов полууставный. 1642; Триодь цветная. 1663; 1688; 1701; Триодь постная, 1664. Л. [1]—[2].
2 Псалтырь. 1665.3 Апостол, 1666; Устав молитвенный. 21.02.1670.4 Служебник. 1666; 1681; 1702; Требник. 1682; Октоих. 1689; Апостол. 1696.5 Часослов. 1668; Октоих. 1644.6 Евангилие. 1636. Л. [2]—[2] об.7 Евангелие. 1644; 1670.8 Евангелие. 1644.
487§ 2. Предисловия, послесловия, посвящения книг...
писи троекратно содержится указание на право братства Ставропигии, неза-висимости от местной церковной власти («крестоносная церковь» — дослов-ный перевод греческого слова «ставропигион»: при наделении этим правом над храмом водружался специальный крест, символ власти патриарха; «Братство стаvропигии» и объяснение смысла этого слова — «fрону патриаршего», то есть подчинения патриарху). Встречается и другая формулировка указания на братство как автора предисловия: «Всhх благ временных и вhчных жичливые братиа братства Стаvропиг¿w церкве Uспения Пресвятой и пречистой Девы Марии ЛЕОНДОПОЛИТАНЕ». Обращает на себя внимание и то, что главным атрибутом автора предисловия является все же не столько атрибуты названия братства, его церкви и правового статуса, а принадлежность к городу («леопо-литане», «леондополитане»), то есть жители города Львова, или города Льва. Греческий вариант этого слова выбран не случайно — он символизирует гене-тическую связь с греческой христианской религиозной традицией, преемствен-ность культур. Члены братства стремились подчеркнуть прежде всего свою причастность к формированию новой культуры, причем городской культуры, решающее и определяющее значение в которой должны играть не только та-лант художника, но и талант ремесленника, мастера своего дела. Предисловия, написанные от имени коллективного автора — братства, с одной стороны, про-должают сформировавшуюся к середине XVII в. традицию составления ав-торских предисловий, когда указание имени автора становится одним из обя-зательных атрибутов печатной украинской книги, но в то же время за форму-лировкой «Леополитане» скрывались истинные авторы конкретных текстов. В роли коллективного автора предисловий к книгам на Украине выступал, кроме Львовского братства, Киево-Печерский монастырь. Предисловия Лаврской ти-пографии составлялись от имени иноков этого монастыря.
Одной из главных целей предисловий было лучше познакомить читателя с предлагаемой книгой. Для церковно-богослужебных книг очень важно было сохранение традиционных названий, однако широкому кругу читателей грече-ские слова были непонятны. Поэтому в предисловиях часто не только давался буквальный перевод греческих названий, но и объяснялось значение этого тер-мина, предназначение книги. Например, Октоих переводится на славянский как «Осмогласник», но автор предисловия этим не ограничивается: «в честь и славу пресветлаго и всерадостного тридневнаго воскресения Христова, яже священная книга умнами божественными страсть Христову пречест-ную предъявляет и всесветлое воскресение того возносит, и радостию серд-ца верных исполняет…»1 В предисловии к другому изданию Октоиха объ-ясняется, к какому виду церковно-богослужебной литературы относится эта книга: «Книга именуема еллински параклитики, сирhч утешительная, от
1 Октоих. 1630.
488 Глава третья
самаго непостижимаго того существа нарицаемая»1. В специальном изда-нии Октоиха, предназначенном для детей, для школьного обучения, объясне-ние дано в наиболее простой и в то же время назидательной форме: «Вhдати можеш, православный чителнику, для яких причин книга Октоих, сирhч Осмогласник, творение блаженнаго и приподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина, Шестодник названая, в коротцh все вседневных пhний»2. Толковались и другие названия книг: «Триодион, альбо трипhснец — сеи от таковаго пhния», «Триодион сей — совершивше зерцало истинны, в нем же обачите себе каждый волю Христа»3, «Книга, глаголемая Анфологион, сиреч Цветослов, или Трифологион, сиречь пища словесна, наслаждение словесно (сладость словесна, услаждение словесно)»4 и др. Таким образом, предисло-вия прививали читателям элементарную филологическую культуру, вводили в кругозор читателей византийское культурное наследие5.
Для предисловий первой половины XVII в. характерна тема необходимо-сти книгоиздания, развития типографского дела. Впервые она поднимается в предисловии к «Адельфотесу» 1591 г.: «Прежде в российском родh мало сих (книг. — Ю. Ш.) обрhсти», «книгы всякаго наказания по православию друко-вати братству уверил (Патриарх Антиохийский Иоаким. — Ю. Ш.)»6. Книги надлежит издавать «скудости ради» книжной продукции, «за оскудением» культуры без книг, а особенно «за недостатком экземпляров». Неоднократно подчеркивается значение типографии, «яко дело преизящно и вещь много-ценна», которая призвана служить «во преподаяние книг божественнаго учительства»7.
Чрезвычайно большое значение для национальной культуры имело изда-ние книг на церковнославянском и украинском языках. Украинская культура XVI—XVIII вв. вела постоянный диалог, спор с польской культурой, которая рассматривала украинский язык как язык «холопский». Издание литературы на церковнославянском языке подчеркивало принадлежность к глубоким хри-стианским и национальным традициям, при этом в предисловиях большое внимание уделялось формированию концепции литературного языка. Одними из первых эту тему подняли в предисловии к первому на Украине печатно-му научному труду издатели грамматики, «царицы наук», «спудеи» львовской братской школы. В «Адельфотесе» впервые говорится о важности слова и язы-
1 Октоих. 1644. Л. [1].2 Октоих. 1686.3 Триодь цветная. 1663; 1688.4 Анфологион. 1638; 1643; 1694.5 Сазонова Л. И. Украинские старопечатные предисловия конца XVI — первой полови-
ны XVII в. (особенности литературной формы). С. 172.6 Адельфотес. 1591.7 Октоих. 1630.
489§ 2. Предисловия, послесловия, посвящения книг...
ка для приобщения к национальным и общекультурным ценностям культуры. Учение о «словенском» языке, по предисловиям, составляет уравнивание его в правах с древнейшими и «священными» языками — греческим и еврейским. Оно должно было служить обоснованию идеи священности церковнославян-ского языка и пригодности его для богослужения у всех славянских народов. Возводя церковнославянский язык в ранг языков «священных», украинские книжники подчеркивали его генетическую зависимость от греческого языка1. Поэтому издание первой «Эллино-словенской» грамматики можно рассматри-вать как знаковое для культуры того времени. Ведь только постижение языка, которому способствует наука грамматики «есть первая ключ, отверзаяй ум разумети писания, от нея же, яко по степенех, всю лествицу, по чину учений трудолюбивии достизают»2. Автор предисловия к книге Иоанна Златоуста «О священстве», член братства, учитель братской школы, утверждал божествен-ное происхождение и древность славянского языка и приписывал славянам заслугу в его обработке и совершенствовании. Он характеризует славянский язык как «славный», «межи многими стародавный», «и ту в нашом краю барзhй выполерован»3.
Вместе с апологией церковнославянскому языку, который воспринимался как символ религиозной культуры, вводилось применение в книжной куль-туре живого национального языка. Происходило вырабатывание концепции литературного украинского языка. Эта концепция была обоснована, с одной стороны, идеями культуры гуманизма, чрезвычайно популярными среди дея-телей братского движения. С другой стороны — была вызвана практическими соображениями: печатная продукция была ориентирована на массового чи-тателя, поэтому одной из основных задач книгоиздателей было сделать книги более доступными и понятными не только избранному кругу людей, но пре-жде всего широкому кругу читателей. Именно поэтому предисловия к книгам на церковнославянском языке составлялись на украинском языке, что должно было вводить читателя в тематику предлагаемой книги, содержали объясне-ния о полезности книги, чтения вообще и значимости «слова» в жизни чело-века. Тенденция употребления украинского языка в печатных книгах со вре-менем укреплялась, и употребление «руського диалекта» получило широкое распространение по всей Украине.
В предисловиях получило отражение представление членов братства, кни-гоиздателей о сакральном значении священного текста. Слово — Логос — как атрибут Бога обладает возможностями огромного воздействия. Поэтому сло-во, облеченное в материальную оболочку — книгу, должно быть максимально
1 Сазонова Л. И. Украинские старопечатные предисловия конца XVI — первой полови-ны XVII в. (борьба за национальное единство). С. 137.
2 Адельфотес. 1591.3 Златоуст Иоанн. Книга о священстве. 30 июля 1614.
490 Глава третья
точным, полностью соответствовать своему сакральному значению. Именно такое восприятие книги и текста заставило братство как книгоиздателя за-няться исправлением книг, в текстах которых можно было найти множество ошибок «за не нерадением, паче же не искуством многим в нас писцев, от антиграфов греческих и самого разума далече отстоящу, в многих же тро-парех и речениях не согласующуюся»1. Исправление многочисленных оши-бок, накопившихся за многие века рукописной передачи текстов, было делом весьма кропотливым.
Предисловия являются единственными источниками, раскрывающими большую текстологическую работу, которую постоянно проводило братство. Причем здесь содержатся сведения и об использованных источниках для проверки точности текста и об основных этапах этой кропотливой работы. Например, прежде чем приступить к изданию Октоиха (1630), сверяли имев-шийся текст «со изводом в… царствии Великороссийском в граде Москве… напечатаным» (Октоих. Москва, 1594). «Иследивше, исправихом», сверяли текст с Октоихом, изданным в Дермани (1604), со старинным текстом «сербо-болгарской» рукописи, предоставленной братству молдавским воеводой Мироном Бернавским, с греческим оригиналом «истинным зводом», предо-ставленным «вселенским» патриархом Кириллом Лукарисом2. В предисловии ко второму изданию Октоиха опять поднимается тема исправления текста, ко-торый еще раз выверяли по греческому тексту, уточняя перевод («опасно с ел-линским зводы… разсужденна и исправленна, по чину церковном»)3. Тексты сверялись и исправлялись и при третьем, и при последующих изданиях той или иной книги, о чем указывалось в предисловии: «Напечатана бысть чет-верицею уже, всеконечне изследованна, распространенна и исправлена, с ел-линскими истинными изводы»4. Но даже при всестороннем исследовании и сверении с греческими оригиналами отдельные ошибки и неточности могли быть пропущены. Издатели это осознавали и заранее просили у читателя про-щения, что говорит о высокой культуре книгоиздателей и уважении к своему читателю: «Аще кая неблагоискусна словеса и неблагостройна или пополз-новенна некая погрешения, в книзе сей обрящутся, не посуждати, ни поно-сити люботруждьшимся, слабостию скудоумия, грех ради тех обдержимых бываемо, понеже бо превышше всех, самыя токмо премудрости Божиа»5. В предисловиях к повторным изданиям часто приводятся краткие сведения о предыдущих изданиях (или о первом), при этом отмечалось, что при подго-товке предыдущих изданий была проведена текстологическая работа «исправ-
1 Октоих. 1630. 2-я группа. Л. [3].2 Там же. Л. [3] об.3 Октоих. 1639.4 Анфологион. 1651.5 Анфологион. 1643.
491§ 2. Предисловия, послесловия, посвящения книг...
лением многогрешных, непотребных и скудоумных и малейших из среди братии»1, характерно, что при этом использовалась уничижительная форма, «дабы не возгордиться». Такое внимание к текстологическому анализу застав-ляло членов братства вырабатывать особые приемы критики и анализа тек-стов. Можно сказать, что с 30-х годов XVII в. в типографии Львовского брат-ства начали формироваться научные приемы работы над текстами: шел поиск источников, сверялись не только славянские тексты, но и греческие, в работе принимали участие разные специалисты (редакторы, переводчики), чтобы с максимальной точностью передать все смысловые нюансы текстов книг.
Иногда братство издавало сокращенный или адаптированный вариант кни-ги, о чем специально сообщалось в предисловии с объяснениями причины та-кого издания. Например, братство выпустило сокращенный вариант Требника Петра Могилы (Киев, 1646). Это было предпринято для того, чтобы сделать кни-гу более доступной, причем как для понимания, так и в цене: «Потрудилихомся охотне з великого Требника коротко, що нуждейшого собрати в малый ком-пут, для меншого твоего в купованю кошту и для латвейшого вырозуменя в читаню»2. Сокращенный вариант Октоиха или Шестодника братство издавало специально «для потребы молодых дhтей побожнаго учения», а также для того, чтобы книга стала более дешевой, а значит и доступной более широкому кругу читателей: «еще им не кождый зможет коштом своим болшую и доста-тиеншую мhти книгу». А такую более доступную книгу каждый может читать «яко по отпочненю от прац и забав временных», так и «для дhтей в школах учатися»3.
Предисловия часто являются единственными источниками, сохранившими информацию о тех или иных событиях и фактах. Например, только предисло-вие к «Адельфотесу» сообщает о прибытии во Львов в июне 1586 г. митрополи-та Димонитского и Эласонского Арсения, который проработал учителем брат-ской школы «две лете». Предисловие к Октоиху 1630 г. сообщает сведения о пожаре в типографии братства и об усилиях по ее восстановлению. Однако ко многим сведениям в предисловиях и послесловиях следует относиться критически. Во многих послесловиях сообщается, что книга была издана «за благословением святейших четыропрестольных патриарх, преосвя щенных митрополитов и боголюбивых епископов»4, или назывались имена польских королей и Львовских епископов (например, короля Михаила Корыбута Виш-невецкого5, епископа Иосифа Шумлянского6 и др.). Братство не получало спе-
1 Анфологион. 1638; 1651. 2 Требник. 1682.3 Октоих. 1689.4 Триодь цветная. 1663; 1688; Служебник. 1681.5 Евангелие. 1670.6 Акафисты з стихирями и канонами. 1699.
492 Глава третья
циальных благословений на издание каждой книги вплоть до введения специ-альной цензуры изданий типографии в 1737 г. До этого все сведения о получен-ном благословении приводились на основании общих привилеев, полученных братством от епископов, митрополитов, патриархов и королей, в том числе и на деятельность типографии братства.
Одной из центральных тем предисловий является рассуждение автора о значении книги в жизни человека. Книга полезна, если она служит нравствен-ному совершенствованию человека, помогает укрепиться в добродетелях, бла-гочестивом образе жизни, но главное — она источник просвещения и наук: «Сия книга ест рhкою сладкою и сия рhка — море премудрости, глубина раз-ума, жродло учения, оная изливает сладость, оной наказание просвhшает всяк разум»1. «Польза» книги рассматривалась не только как важная духовная пища в жизни человека, но и приносящая пользу обществу. Книга укрепля-ет в вере, в национально-религиозных основах жизни, формирует фундамент национально-культурного мировосприятия, что является важными фактора-ми общественной жизни. Похвала книге, чтению, науке является основным лейтмотивом не только предисловий, но и вступительных стихов, потому что наука, по мнению членов братства, «…С которои як з жродла все доброе похо-дит, и през ню чловhк человhком ся находит»2. Книга и чтение должны играть в жизни человека большую роль, так как книга «С темности и невhдомости всhх нас выводит, а до свhтлости и почуваня ся приводит»3. Тема похвалы книге становится почти обязательным элементом текста предисловия, иногда все предисловие посвящалось исключительно этой теме, обращаясь к чита-телю: «Се тебh ⟨…⟩ сей многочестный, присносияющий и многоцhнный би-сер, трапеза тайная, исполненная даров духовных… утhшительна ест сия книга ⟨…⟩, паче всhх мирских утhшений, и свhтлhйша паче солнца ⟨…⟩, и дражайша паче злата и топазиа, и камений честных — адаманта, сапфvра, vакинфа, смарагда и прочии, и сладчайша, по пророку, паче меда и сота, и твердhиша паче непоколhбимых забрал градных — столп, щит и оружие непоколhбимо ест, путь, стезя правды и лhстница, возводяща произвол-ников невозбранно к горнему Иерусалиму»4. Интересно, что с такими слова-ми о книге автор предисловия обращается не традиционно «к читателю», а «ко всhм обще». Это свидетельствует о том, что именно эту мысль о важно-сти книги, книжной мудрости и чтения хотели донести до каждого человека, до тех, кто уже стал читателем, и до тех, кому еще предстоит приобщиться к книжной культуре.
1 Триодь цветная. 1663.2 Иоанн Златоуст. О воспитании чад. 29 июля 1609.3 Иоанн Златоуст. Книга о священстве. 30 июля 1614.4 Октоих. 23.09.1644.
493§ 2. Предисловия, послесловия, посвящения книг...
Для богослужебных книг была также характерна форма предисловия-молитвы. В стилистику молитвы вводились темы благодарения Богу за воз-можность издать книгу, в которой прославляется имя Господа. Форму такого предисловия можно также рассматривать как синтез двух культурных тради-ций: с одной стороны, Средневековые теоцентрические представления о мире и бытии человека, а с другой стороны — наполнение старых форм новым со-держанием, новыми идеями, новыми возможностями человека, которые были характерны для культуры Нового Времени.
Стихотворные формы, эпиграммы на герб были характерными для многих изданий типографии братства1. Как правило, их составляли ученики львов-ской братской школы. Основным мотивом таких стихотворных форм было прославление города, в котором они живут, братства2.
Но эпиграммы имели не только конкретного адресата. Встречается и такая форма эпиграммы, которая получила название «Апостроф», — риторическая фигура, обращенная к отсутствующему, например к Богу:
Бог прославляемый в совhтех святых своих,Велий крhпок, и страшен ест во всhх окрестных.
Низлагая ис престол, возносяй смиренных,О коль чудна дhла твоя, Боже, в вышних3.
О Христе царю веков, жизни началниче,Существом неприступный живый Источниче,
Тебе беззаконии на Крест пригвоздиша, Господа славы всех, и горько уязвиша.
Яже сътворил еси вся дары благая,Они же въздаша Богу противная злая.
Мы же зряща ужасом одержими бяху,Знаем тя животдавца тебе вопияху.
Домотерпетеливе Господи славим смотрение Твое: Рач нам Христе дати Спасение.
Силою Креста даруй враги победити,И по смерти с тобою Творцем, вечне житии4.
Часто в поэтических предисловиях воспевались идеалы братской любви как основы деятельности организации, восходящие к евангельским сюжетам.
1 Шустова Ю. Э. Особенности геральдической поэзии конца XVI—XVII вв.: по издани-ям типографии Львовского Ставропигийского братства // Вспомогательные исторические дисциплины: Специальные функции и гуманитарные перспективы. М., 2001. С. 138—142
2 О символике в изданиях типографии братства см. с. 280—291 наст. книги.3 Октоих. 23 сент. 1644. Л. [2].4 Триодь цветная. 9 янв. 1688. Тит. л. об.
494 Глава третья
Особое значение имели символы, в том числе и геральдические, к которым ап-пелировал поэт, чтобы подчеркнуть крепость веры, стойкость во всех сферах деятельности:
Воскрес Христос от мертвых, всhм живот дарова:Вhрных к себh призва, братhю именова.
Въ братолюбhи завhща пребывати.И друг другу в бhдах и скорбhх помагати.
Братство крестоносно кгды в любви пребудет,Жаден штурм, як замку и вежh, не добудет.1
Посвящения обязательно включали в себя обращение к конкретным вли-ятельным лицам, как правило, меценатам («благодетелям», «фундаторам») или покровителям братства, иногда в них содержались и рассуждения, связан-ные с предлагаемой книгой.
Комплексное изучение предисловий, послесловий, посвящений, эпиграмм изданий отдельной типографии помогает расширить представления о значе-нии книги, книжности в жизни общества, проследить изменение во време-ни отношений к книге вообще и отдельным литературным жанрам и фор-мам. Наибольший интерес представляют взаимоотношения между читателем и книгоиздателем, и только эти источники могут дать максимально полную картину таких взаимоотношений, ведь книгоиздатель всегда чутко реагирует на спрос и потребности среди читателей на ту или иную книгу. Предисловия предоставляют нам уникальную возможность заглянуть не только в механиз-мы создания и формирования книжной культуры, книжного рынка в XVII—XVIII вв., но и заглянуть во внутренний мир книгоиздателей, которые одно-временно являются авторами предисловий и послесловий к своим изданиям, в которых раскрываются наиболее значимые стороны их духовной жизни, что позволяет глубже проникнуть во внутренний мир членов братства.
§ 3. Инвентари, описи и реестрыВ архиве братства сохранились уникальные источники по истории архив-
ного, библиотечного дела, изобразительного искусства, музыки, истории куль-туры и быта — инвентари, описи и реестры архива и библиотеки братства, движимого имущества братской Успенской церкви и Онуфриевского монасты-ря. Эти источники позволяют сделать выводы о культурных связях братства с разными городами, крупнейшими культурными центрами Европы, а также о внутренней жизни братства, об изменениях представлений о материальных и духовных ценностях у членов братства и в обществе. Можно выделить две раз-новидности этих источников:
1 Октоих. 9 янв. 1644. Тит. л. об.
495§ 3. Инвентари, описи и реестры
1) инвентарные описания — подробные, развернутые статьи описания;2) реестры — простые по форме, содержащие только перечни документов,
книг и имущества.Анализ источников дается в рамках трех тематических групп:
1) описания архивных документов;2) описания книг библиотеки;3) описания церковного имущества.
а) а р х и в
Архив Львовского братства можно рассматривать как уникальный куль-турный феномен, представляющий большой интерес для современной гума-нитарной науки, который в своей целостности представляет некий синтети-ческий текст, исторический источник, созданный коллективным автором, который отражает самые разные стороны жизнедеятельности людей эпохи и позволяет с разных сторон рассматривать взгляды на мир, психологию, уста-новки сознания людей одной социальной ориентации, объединенных общи-ми задачами. Архив братства посредством разных видов источников отобра-зил представления одних и тех же людей о многих сферах функционирования общества, что позволяет комплексно представить жизнь людей определенной эпохи. Львовское братство является, с одной стороны, коллективным автором отложившихся в его архиве источников, а с другой — собирателем обширного комплекса документов различных государственных, церковных, обществен-ных институтов и материалов частных лиц, с которыми братство поддержи-вало отношения1. Поэтому такое взаимодополнение материалов в архиве ор-ганизации львовских мещан позволяет реконструировать наиболее полно си-стему ценностей и мировосприятия членов Львовского братства как наиболее активную часть украинских горожан.
С конца XVI в. в архиве братства откладывались различные группы доку-ментов: входящая документация, включающая письма, грамоты, привилеи, выписки из актовых книг и др.; черновики и копии исходящей документации; протоколы заседаний; документы о финансово-хозяйственной и экономиче-ской деятельности организации. С самого начала своего существования брат-ство заботилось о сохранении своего архива. Благодаря бережному отноше-нию членов братства ко всем документам, связанным с деятельностью их орга-низации, до наших дней дошел архив братства практически в полном объеме.
1 Шустова Ю. Э. Архив Львовского Успенского Ставропигийского братства как фено-мен культуры // Текст в гуманитарном знании: Материалы межвузовской научной конфе-ренции. М., 1997. С. 94—97; Шустова Ю. Э. Архив Львовского братства как исторический феномен в современном культурном пространстве // Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе: Доклады и те-зисы выступлений на третьей Всероссийской конференции. М., 1999. С. 133—142.
496 Глава третья
Самую большую группу документов архива составляет входящая документа-ция, причем адресованная не только братству, но и всему украинскому насе-лению города. Братство унаследовало архив парафиян и ктиторов Успенской церкви и Онуфриевского монастыря, который формировался в течении сто-летия до организационного оформления Львовского братства (с конца XV в.) и в котором сохранились королевские привилеи украинскому населению и Онуфриевскому монастырю, извлечения из актовых книг, касающиеся рели-гиозных и экономических прав украинских горожан, письма о пожертвовании денег на восстановление Успенской церкви. Основатели братства явились не только приемниками лучших традиций и форм деятельности, выработанных своими предшественниками, но и богатого документального наследия. С само-го начала существования братства как организации его руководители осозна-ли важность сохранения всех документов, связанных с деятельностью, глав-ным образом для использования их при достижении поставленных перед со-бой целей и задач.
Исходя из практического отношения к своему документальному наследию, у членов братства складывалось не одинаковое отношение к разным группам документов своего архива. Архив можно условно разделить на три группы до-кументов, к которым у членов братства было различное отношение. Самой ценной частью своего архива братство считало привилеи («мунименты») и другие грамоты восточных патриархов, киевских митрополитов, польских ко-ролей, львовских епископов, подтверждающие юридический статус братства и сфер его деятельности. Это своего рода фонд «особо ценных документов» ар-хива, к которым было особое отношение, об их сохранности братство заботи-лось более всего. Эти документы хранились сначала в специальной «торбе для привилеев»1, а позже в специальном сундуке, который хранился в церковной сокровищнице («скрынка кгданская з привhлекгhями»2). Но менялось отно-шение братчиков и к этим документам. До середины XVII в. главными своими документами братство считало привилеи восточных патриархов, с того време-ни, когда сношения с ними были запрещены, основными своими «охранными грамотами» братство считало королевские привилеи и подтверждения прав своей организации.
Ко второй условной группе документов архива можно отнести все докумен-ты, отражавшие текущую деятельность корпорации: это переписка братства с разными лицами и учреждениями, судебные материалы и т. п., которые после своего исполнения попадали в архив, после чего могли использоваться при со-ставлении новых документов в качестве подтверждения его прежних сноше-ний с этими учреждениями или частными лицами, а также в качестве прежне-го решения, принятого по вновь поднимаемым братством вопросам.
1 Ісаєвич Я. Д. Архів Львівського братства // Архіви України. 1968. № 1. С. 89.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1069. Л. 24 об.
497§ 3. Инвентари, описи и реестры
К третьей группе документов, формировавших архив братства, относятся документы, отображающие внутреннюю его жизнь как организации. Это про-токолы заседаний, различные счета, реестры, которые вели члены братства для отчетности о своей деятельности. Эти документы имели значение для членов братства главным образом до того момента, когда были осуществлены расче-ты со всеми заинтересованными лицами и принят отчет организацией. Члены братства считали, что документы такого рода (приходно-расходные книги, за-кладные расписки и др.), которые уже утратили свое практическое значение, не представляют никакого интереса. Многие из таких документов не сохрани-лись или сохранились фрагментарно. Например, всего по одному листу сохра-нилось от книги записей пожертвований братству, начатой в 1592 г., реестра расходов на ремонт церкви Онуфриевского монастыря, поврежденной пожа-ром, который велся в 1611 г., и др.1 На полях некоторых сохранившихся рее-стров стоят пометы: «Не потрhбный юж той реестр»2. Интересно, что такое же отношение к этим документам сохранилось практически до XX в. и в созна-нии членов Ставропигийского Института, архивариусы которого при систе-матизации архива делали пометы на финансовых документах братства: «Без исторической вартости»3, то есть не имеющие исторического значения.
До середины XVIII в. в братстве не было специальной должности для заве-дования архивом. Это входило в круг обязанностей писаря, который отвечал за ведение делопроизводства в братстве, с 1749 г. писарей стали называть се-кретарями братства (Secretarius Confraternitatis). С 1751 г. стали избирать ру-ководителей архива (Archivi directores), в обязанности которых входило упо-рядочение архива братства, составление перечней документов, поиск утерян-ных актов. Ревизия архива братства была проведена в 1759 и в 1786 гг.4 Среди директоров архива были писарь Апостольской канцелярии Христофор Дейма, известный знаток архивного дела и юриспруденции, руководитель городской канцелярии Михаил Слонский и др.5
Архив братства хранился в специально отведенном для него помещении, в железном сундуке и шкафу. Ключ от архива находился у ключника братства6. Привилеи, письма и другие важные, но небольшие по размерам документы хранились в сложенном виде с указанием in dorso содержания в форме заго-ловка или аннотации. Например, «Протестация кушнирская, що их выгнано з цеху»7, «Святейшаго патриярхе Иеремея Константинопольского потвер-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1038.2 Там же. Д. 1037. Л. 34—35.3 Там же. Д. 1080.4 Там же. Оп. 2. Д. 854. Л. 1. № 6, 7.5 Там же. Оп. 1. Д. 1169. Л. 42—43; Д. 1187. Л. 2 об.6 Там же. Д. 1169. Л. 1 об.7 Ісаєвич Я. Д. Архів Львівського братства. С. 89.
498 Глава третья
женя на школу и друкарню», «Патриарха Иеремеин на милостыню лист»1. Но такие подробные заголовки были составлены не ко всем документам, а только к наиболее значимым, по мнению братства. Документы, касающиеся внутренней жизни братства, сопровождались краткими ремарками, по ко-торым члены братства могли понять, о каких событиях идет речь: «о вязне Красовском», «Владыка позывал до уряду на Ратуш Красовского»2. Такие заголовки были составлены не только к документам текущего делопроизвод-ства, но и к более ранним материалам, например к привилею короля 1572 г.: «Росказание Августово до старосты, абы боронил Роси от всяких ангарин уряду местьского»3. Часто из таких аннотаций можно узнать реакцию, кото-рую вызвало то или иное послание у членов братства или всех горожан: «За тим листом гвалт учинено»4. Интересна в этой связи аннотация к грамоте, датированной июлем 1592 г., о ликвидации права Ставропигии, составленной от имени константинопольского патриарха Иеремии. В этой аннотации дается обоснование, почему данный документ является фальсификатом и указывает-ся истинный автор сфабрикованного документа: «Лист противный през ек-сарха Турновского епископ выправил на манастир, от вселенскаго патриарха мhнячи быти, который лист по-руску писан слугою владычим, а не по-грецку, як патриарх звык писати, анh печать власнаа и подпис руки не знаемый, але ексархова справа и практика владичия, 92 рок»5. Со временем некоторые заго-ловки приходилось пересматривать и редактировать, особенно при необходи-мости подтвердить права братства, пожалованные ранее. Например, на декрете Рады Львова о разрешении украинскому населению пользоваться городскими правами наравне с польским и армянским населением города, рядом с перво-начальным заголовком «Вольность от радец данная брацтву на проважденя вшеляких товаров церкевных» позже было добавлено: «яко и паперув»6. Все эти заголовки, аннотации и пометы на архивных документах братства являют-ся ценными источниками, позволяющими наиболее полно реконструировать прошлое, раскрывать такие грани жизни людей, которые часть скрываются за строгими официальными формами документов.
К документам, написанным на других языках (кроме латинского, языка де-лопроизводства в Речи Посполитой и языка делопроизводства всех религиоз-ных учреждений, находившихся под юрисдикцией Папы Римского), составля-лось более подробное резюме: «Litterae dogmaticae Jeremiae. Декрет вселен-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 90, 120. Опубл.: DS. P. 38, 69; Привiлеї нацiональних громад мiста Львова (XIV—XVIII ст.). Львiв, 2000. № 3 (172). С. 506—508.
2 Там же. Д. 74, 100. Опубл.: MCS. P. 133, 165.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 49. Опубл.: MCS. P. 65—66.4 Там же. Д. 175. Опубл.: MCS. P. 304.5 Там же. Д. 202. Опубл.: MCS. P. 36.6 Там же. Д. 221. Опубл.: MCS. P. 426—427.
499§ 3. Инвентари, описи и реестры
ского патриарха о граматице и о казнодеистве и о священнице братском. Дабы под благословением митрополит всегда во Львов литоргисовал в церк-ви их»1. В братстве делался перевод на украинский язык всех грамот и при-вилеев, написанных на греческом языке. Грамоты, присланные от восточных православных патриархов, которым непосредственно подчинялось братство, пользуясь правом Ставропигии, считались очень важными, и их содержание должно было быть доступно и понятно каждому члену братства. С наиболее важных и ценных документов в братстве делались копии. О том, что это копия или перевод, отмечалось на оборотной стороне документа in folio: «по елинску и по словенску переложоно из арабского привилея святейшаго Иоакима, па-триарха великия Антиохия»2, «Копея листу патриаршого до митрополита, який мают быти епископи, слово в слово з кгрецкого на словенское переложе-но в школе львовской»3.
Сохранился сборник копий привилеев, декретов и подтверждений прав братства, полученных от королей Польши в 1592—1649 гг.4 Копии с этих до-кументов делались с целью обеспечения лучшей сохранности особо ценных для братства документов. Иногда писари на документах делали пометы об об-стоятельствах, при которых были получены те или иные письма, обращения и пр. Такие маргинальные записи могут быть ценными источниками, позволяю-щими более детально реконструировать события, связанные с тем или иным документом, историческим фактом, отдельной личностью. Например, на гра-моте константинопольского патриарха Иеремии 1587 г., отменяющей решение львовского епископа Гедеона Балабана об отлучении членов Львовского брат-ства от церкви, есть помета: «Сей лист патриарший против листа владычего от патриарха неслушне взято»5.
В XVIII в., при систематизации архива братства, рядом с заголовками и ан-нотациями, написанными украинской скорописью XVI—XVII вв., появляются аналогичные заголовки и аннотации на польском языке, что является резуль-татом социально-политических изменений в обществе, например: «Nicefora Protosyngla z roku 1596 w Ostrogu»6. В XVIII в. возникла необходимость пере-вода заголовков и аннотаций документов, написанных по-украински, на поль-ский язык. Это связано с тем, что к этому времени польский язык уже почти полностью вытеснил украинский не только из делопроизводственного, но и из повседневного обихода. В это же время возникла необходимость перевода чисел с буквенной кириллической цифири на более понятные арабские цифры и дат с
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 167. Опубл.: DS. P. 86.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 73. Опубл.: MCS. P. 121—131; DS. Р. 18.3 Там же. Д.172. Опубл.: DS. P. 75.4 Там же. Д. 208.5 Там же. Д. 114. Опубл.: DS. P. 51.6 Там же. Д. 308. Л. 2.
500 Глава третья
летоисчисления от Сотворения мира на летоисчисление от Рождества Христова. Иногда при переводах делались ошибки, которые были следствием или непра-вильного прочтения отдельных цифр, или неправильных вычислений.
В XVIII в. аннотации и заголовки ко многим документам составляются на латинском языке, языке официального делопроизводства, принятого в рим-ской Конгрегации по распространению веры и Папской нунциатуре. Можно предположить, что латинские заголовки на документах появились после 1733 г., когда братству предписывалось подавать отчеты о финансовой деятель-ности комиссии Папской нунциатуры в Варшаве. Многие заголовки, особенно на наиболее значимых для братства грамотах, составлены весьма подробно, что говорит об их составлении не только для «внутреннего» использования, но и для «стороннего» читателя, например подобный заголовок на греческой пергаменной грамоте: «Epistola Dogmatica Meletij Patriarchas Alexandrini, de Eppis nubentibus; et sacerdotibus Bigamis, ad Confraternitem Leopoliensem: quam Consolaturet Confirmat Aegypti data is 20 10-bris. AD 1592»1. Такая же запись имеется и на переводе XVI в. этой грамоты на украинский язык2.
Большое количество сохранившихся переводов и копий, составленных в разное время, представляет большой интерес для изучения украинского язы-ка и изменений во времени отношения к языку как носителю национальной культуры. Сохранившиеся заметки, аннотации, заголовки на документах, кор-пус копий и переводов архивных материалов позволяет проследить отноше-ния к «тексту», изменение ценностной системы, культурно-ментального типа внутри такого института, как Львовское Успенское братство, на протяжении всей его двухвековой истории и полуторавековой истории его преемника — Ставропигийского Института.
Документы в архиве хранились в фасцикулах (связках, пачках), которые со-ставлялись по хронологическому или тематическому признакам. Форма хра-нения документов в фасцикулах, каждая из которых имела свой инвентарный номер, просуществовала до середины XX в. О хранении документов в архи-ве братства в фасцикулах впервые упоминается в начале XVII в. Уже в самом первом реестре архивных документов 1611 г. значится «фастикол особный», состоящий из писем, присланных братству в 1591 г. из Галича и Гологор, и раз-ных выписок о делах, о которых писали члены братств этих городов3. В фас-цикулах хранились документы, собранные по тематическому и хронологи-ческому принципу: «фастикулец мhнут, што с о том року (1589) дhяло», «монhментов фастикулец» (фасцикул грамот за 1590 г.), «фастикул мhнут справ Балабановых» (документы, касающиеся Львовского епископа Гедеона
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 203. Л. 1 об.2 Там же. Л. 5.3 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». С. 385.
501§ 3. Инвентари, описи и реестры
Балабана, за 1592 г.), «фастыкул розмаитых справ» за 1594 г. «и инших фасти-колов семнайцать справ розмаитых (разных. — Ю. Ш.)» за 1600 г.1 На осно-вании этого реестра можно сделать вывод о том, что в фасцикулах хранили документы, не имеющие первостепенного значения для братства.
В середине XIX в. Д. И. Зубрицкий составил опись архива братства, которая дает представление о принципах формирования фасцикулов в архиве братства2. Например, в фасцикулах № 32 и 49 содержались протестации братства «против Магистрата Львовского о всяких утеснения и гонения русинов» за 1575—1713 гг., в фасцикуле № 61 — корреспонденция «з магнатами руськими дотычно веры», в фасцикуле № 647 — «Рукопис о обсаженю Львова р. 1655» (Рукопись об осаде Львова) и т. п.3 Только несколько таких фасцикулов сохранилось до наших дней, один из них называется: «Разные оригинальные листы братству Львовскому Ставропигийскому с Рима и Варшавы писанные с 1727 по 1730 год»4, он пред-ставляет собой переплетенные в хронологической последовательности письма сначала из Рима, потом из Варшавы. Здесь же подшиты материалы ревизии би-блиотеки братства5. Большинство документов, в которых фиксировалась разно-сторонняя деятельность братства, имело форму книг или не переплетенных те-традей. Записи делались сначала в тетрадях, а потом их сшивали и переплетали. В некоторых таких книгах есть пометы XVII—XVIII вв., объясняющие наруше-ние хронологической и логической последовательности записей тем, что книга неправильно сшита. Иногда записи велись в специально предназначенной для определенных целей книге, которые часто бывали в добротных тесненных ко-жаных переплетах с изображением символики братства6.
Документы архива использовали прежде всего сами члены братства. Обыч-но архивные материалы брали старшие братчики или писари для составления необходимых документов. С целью обеспечить лучшую сохранность докумен-тов братство приняло решение, чтобы старшие братчики и другие члены ор-ганизации, которые пользовались документами архива, не брали их домой, а пользовались только в помещении для заседаний братства7. Однако это тре-бование часто нарушалось. Депутаты братства на церковные соборы, сеймы, сеймики, суды, которым необходимо было взять какие-либо документы с со-
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 384, 385, 386.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 2. Д. 852, 854.3 Вытяг из списи актов братского Института Ставропигийского (крестоносного) // ВСИ.
1866. С. 161—172.4 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 Оссолинских. Ед. хр. I, 203.5 Там же. Ед. хр. I, 203. Л. 94, 97, 104.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1092, 1187. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12.
С. 126—163.7 Ісаєвич Я. Д. Архів Львівського братства. С. 92.
502 Глава третья
бой, получали и сдавали их обратно в архив по реестру под расписку1. Иногда в протоколах заседаний братства записывали перечень документов, выдавае-мых депутациям от братства. В случаях, если выдавались особо ценные до-кументы, в братстве специально изготавливали контрольную копию. Часто братство посылало своим прокураторам в Варшаве, Кракове, Риме документы, необходимые им для ведения судебных дел братства2. От прокураторов брат-ство требовало расписки о получении документов3 и строго следило за их со-хранностью и возвращением4. Бережное отношение к своему архиву, строгий контроль за обеспечением сохранности документов способствовали не только сохранению всего комплекса документов Львовского братства, но и вызывали доверие к архиву братства у многих частных лиц, общественных организаций и даже государственных учреждений. К братству неоднократно обращались с просьбой сохранить или спрятать на время ценные документы или книги мещане, купцы, священнослужители5. В архиве братства хранилась переписка князя Константина Острожского с папой Климентием VIII по вопросам вве-дения унии6. В 1765 г. к братству обратились делегаты Киевского, Волынского, Брацлавского и Черниговского воеводств с просьбой выделить помещения для размещения земских актов этих воеводств, вывезенных в 1763 г. из Люблина7. В архиве Львовского Успенского братства сохранился большой комплекс до-кументов Львовского Богоявленского братства, архив которого после ликви-дации братства в 1831 г. был передан на хранение в архив Ставропигийского Института и включает в себя документы 1592—1831 гг.8 (архивы аналогичных братств львовских предместий полностью утрачены). Документы, которые сда-вались братству на хранение, возвращались их владельцам. Но многие доку-менты частных лиц так и остались в архиве братства, благодаря чему мы име-ем возможность реконструировать частную жизнь горожан XVII—XVIII вв. В архиве братства сохранились и многие документы из частных архивов самих членов братства, что дает возможность наиболее всесторонне изучить жизнь, мировоззрение, профессиональные особенности, семейные отношения укра-инских горожан конца XVI—XVIII вв.
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 265—266.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 445, 839, 884.3 Там же. Д. 444, 875, 885, 899.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 900.5 Там же. Д. 145. Опубл.: MCS. P. 262; Д. 471. Опубл.: Крыловский А. С. Львовское Ставро-
пигиальное братство. Приложения. № 29. С. 65. Д. 1015, 1071.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 2. Д. 854. Л. 14. № 642. Опубл.: Monumenta Poloniae
et Lithvaniae ab August-Theiner. Romae, 1863. T. 3. P.286—287; Корреспонденции между Кли-ментом Папою VIII и князем Константином Острожским // ВСИ. 1865. С. 83—87.
7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 995.8 Там же. Д. 157, 196, 197, 369, 384, 525, 583, 711, 752, 1090, 1095, 1198.
503§ 3. Инвентари, описи и реестры
По сохранившимся документам можно проследить развитие архивного дела в братстве, начиная с конца XVI в. Именно к этому времени относятся пер-вые попытки систематизации, составления учетных документов архива, опи-сания отдельных грамот. Первое описание документов архива братства было составлено 31 марта 1611 г. как часть описания имущества Успенской церк-ви1. Выдержки из него частично были опубликованы А. С. Петрушевичем и И. И. Шараневичем2. При описании документов указывалась дата их составле-ния, краткое содержание, часто отмечалась начальная фраза документа, при-чем на языке оригинала, сообщались некоторые внешние признаки: формат, материал, на котором написан документ (пергамен или бумага), сведения об имеющихся печатях, а иногда и высказывалось мнение о характере документа по отношению к братству и украинской общине города.
Особое значение представляет то обстоятельство, что основу архива моло-дого братства составили документы, в которых получила отражение деятель-ность украинской общины города Львова, прихожан Успенской церкви и опе-кунов (патронов) Онуфриевского монастыря с XV в. Реестр имеет более позд-ние пометы и дополнения. Описание архивных документов состояло из трех разделов:
1) «скрина братскаа с привилеями»;2) «привилиа манастырца Святого Онофриа»;3) «патриаршие привилея фундушу на братство» (слово «патриаршие»
было дописано к заголовку позже, другой рукой).В первом разделе первоначально было четыре статьи описания, включаю-
щие сведения о четырех грамотах польских королей за 1572—1578 гг.3 При опи-сании указывались дата грамоты, имя короля, содержание документа и началь-ные слова латинского текста кириллицей: «Привилей з унhи наданый от ко-роля Жигмонта Августа, которому есть початок: Ин номинh, аминь». О по-следующих двух грамотах Генриха Валуа и Стефана Батория, подтверждающих привилей короля Сигизмунда II: «Привилей Генриха короля. Конфермация того привилея Жикгмонта Августа. Ему же начало: Генрик деh кграция», «Привилей короля Стефана. Конфермация того ж привилея Жикгмонта Августа. Ему ж начало: Стефанус деh кграция». Позже на этом же листе была сделана приписка о грамоте 1521 г. короля Сигизмунда I: «Привилей Жикгмонта 1 кроля народови русскому, шкодливый».
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 382—387.
2 Акты, относящиеся к истории Южнозападной Руси / Сост. А. С. Петрушевич. Львов, 1868. С. 157—160; Szaraniewicz I. Muzeum Instytutu Stauropigijskiego we Lwowie // Teka Kon-serwatorska. 1892. S. 55.
3 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 382. Оригиналы хранятся: ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 47, 52, 55. Опубл.: MCS. P. 63—64, 72—73; АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 42—48.
504 Глава третья
Второй раздел состоял из пяти статей описания. Это пять грамот о правах Онуфриевского монастыря за 1460—1524 гг. В этом разделе также указывалась дата документа, формат, наличие и вид печати, раскрывалось краткое содержа-ние. Начальные фразы грамот указаны только для двух документов. Довольно подробно раскрыто содержание грамот короля Сигизмунда I Старого от 10 июля 1522 г. и 18 октября 1524 г. и Онуфриевскому монастырю на освобождение его от уплаты арендной платы за огород («Привилей королевский Жикгимонта кроля на одпущеня чиншу тому огородови дванаицети грошей през прозьбу велможного князя Константина воеводы Киевского княжате Острозскаго», «Привилиец з завесистою печаткою тего ж короля Жикгмонта Старого на одпусценя чиншу дванайцети грошей томуж огородови»)1. Напротив первых двуг грамот («Привилhец малый з завhсистою печатю Стефана Дропана, мещанина львовского, на монастир святого Онофрия. Року 1400 шесдеся-того. Ему начало: Нос Андреас Одровонж», «Року 1460 девятого. Привилеец маленки з завhсистою печаткою, от короля Казимhра, потвержденье волh Дропановы» имеются пометы XVII в.: «Тых обох нhмаш привилей-цов», и «Того нет»2. Интересно, что эти грамоты указывает в «Книге истории Святоонуфриевского монастыря» Бонифатий Кровницкий, который специ-ально запрашивал в 1771 г. документы из архива братства за 1518—1677 гг.3 Однако он указывает другое начало привилея 1469 г.: «Vobis Dropany»4. Видимо, он пользовался другим описанием этих привилеев.
Третий раздел реестра архивных документов включет 20 статей описания, шесть из которых являются более поздними приписками, написанными раз-ными почерками. Всего здесь описано 22 грамоты и указаны еще 17, содержа-ние которых не раскрывается. Также имеется указание на 11 фасцикул с гра-мотами, письмами и другими документами. Статьи описания несколько отли-чаются от предыдущих. Часто отмечается язык документа («по-руску писан», «привилей по-арабску писаный», «увесь по-кгрецку писаный»), указывается наличие собственноручной подписи в грамоте («власна рука Иоакими патри-архи», «рукою власною Иеремеи патриарх», «с подписы рук Михаила митро-полита и всhх владык», «с подписом руки королевской»), откуда она получе-на («с Константинополя присланый»), материал, на котором она написана («на паркгамине», «мембрамы паркгаминовые и папhровые»). Большое вни-
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 383. Оригиналы хранятся: ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 3, 4. Опубл.: MCS. P. 4—5, 6—7.
2 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 383.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1005.4 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Собрание Василианских мо-
настырей. Ед. хр. 132 (144). Л. 2.
505§ 3. Инвентари, описи и реестры
мание уделяется описанию печатей. Отмечается иногда ее отсутствие («Лист на паркгаминh от святhишаго Мелетия патриархи александрийкаго, с под-писом руки, без печати»)1, указывается, чья печать («Привилей фундуш от святhишаго патриархи Иоакима великия Антиохия на братство Львовское, которому начало: Иоаким милостию Божиею. По-руску писан. У него суть три печати: первая — Иоакима патриархи, вторая — Иеремеи патриархи, тре-тея Михаила митрополита киевского»2), описывается внешний вид печати («с печатю привhсистою, на оловh друкованую»). Некоторые описанные грамоты не имеют указания даты. Все даты в реестре приводятся по эре от Рождества Христова и только одна «року от создания 7108» — грамота константинополь-ского патриарха Матвея3. Только в некоторых записях указывается начальная фраза документа. Между более поздними приписками с описанием документов помещено и описание девяти «коберцув» (ковриков), что говорит о том, что ар-хив рассматривался как составная часть имущества братства.
Инвентарные описания архивных документов братства часто могут служить источниками не только содержания утерянных документов, но и документов, впоследствии оказавшихся в других архивохранилищах. В рассматри ваемом реестре значатся «Царей и великих князей московских Феодора Ивановича и Димитра Ивановича до братства Львовского присланые листы два»4. Обе эти грамоты в архиве братства не сохранились, однако они были опубли-кованы в 1819 г. А. Ф. Малиновским в составе документов архива коллегии иностранных дел5. Обстоятельства, при которых эти грамоты, адресованные царем Федором Иоанновичем и Лжедмитрием I (Дмитрием Иоанновичем) Львовскому братству и хранившиеся в архиве братства, остаются невыяснен-ными. Возможно, они были подарены Петру I при встрече членов братства с русским царем в 1707 г. в знак давних взаимоотношений между братством и Россией. В московском архиве удалось обнаружить список XVIII в. грамоты царя Федора Иоанновича 1592 г. с пометой: «Грамота сия взята во Львов в бытность государя Петра I там 1707 году»6.
Интересно, что описания архивных документов, оригиналы которых впоследствии были утрачены, иногда заменяли сами документы и имели не
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 386.
2 Там же. С. 384.3 Оригинал хранится: ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 344. Опубл.: MCS.
P. 832—835.4 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». С. 387.5 Собрание грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных
дел. М., 1819. Ч. 2. С. 124, 279—280.6 РГАДА. Ф. 79. Оп. 2. Д. 10. Л. 1—2.
506 Глава третья
меньшую юридическую силу. Например, в 1855—1856 гг. Ставропигийский Институт подавал рапорт австрийскому правительству о статусе своей орга-низации и указывал, что Успенское братство имело привилей польского ко-роля Казимира III Великого, «оригинал которого утрачен, но упоминается в инвентаре документов братства 1601 г.»1. Несмотря на ошибку (привилей был дан королем Казимиром IV в 1469 г.), королевская галицкая финансовая про-куратория в меморандуме Галицкому наместничеству от 27 декабря 1856 г. ука-зывает именно эти факты2.
Такие инвентарные описания, в которые заносились сведения об особо цен-ных для братства документах, составлялись при ревизии архива. Инвентари середины XVII в. менее докладны и обстоятельны в описании документов, в них зафиксированы только документы, подтверждающие юридический и пра-вовой статус братства3. Помимо общих описаний документов архива состав-лялись целевые или тематические перечни архивных документов, как правило, для практического использования или самих документов, или представления составленного списка, необходимого для решения какого-либо вопроса. Такие реестры сохранились с начала XVII в. Например, в 1602 г. посланцам от братства к королю Сигизмунду III «от скарбцу братского» были выданы «первые при-вилеи Жигмонта Августа, которые сталися року 1572, другий привилей — конфермация короля Генриха 1574, третий привилей Стефана короля року 1577, до того позвы и копии тых позвов, 1, 2, 3 позву, протестация и реля-ция, и ремессия и все документа, належачии до справ и права того»4. В 1649 г. члены братства Андрей Стрелецкий и Стефан Лясковский составили «Список привилеов брацтву Львовскому при церкви Успения… Prywilей посполитому народу руському… наданых», которые они брали на Коронационный Сейм с целью получить подтверждения прав и привилеев братства и украинской гро-мады Львова у короля Яна Казимира5.
Основной комплекс реестров документов архива братства относится к XVIII в., когда братство должно было подавать отчеты о своем имуществе в Папскую нунциатуру. В 1724 г. братство внесло в акты Львовской консистории список основных документов братства, подтверждающих его юридический ста-тус6. В 1732 г. документы архива были упорядочены членом братства Петром Косом, который составил реестр «всех его привилеев, прав и документов от
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 2. Д. 9, 11.2 Там же. Д. 15. Л. 1—2; Ісаєвич Я. Д. Найдавніші документи про діяльність братств на
Україні // Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів, 1996. С. 53.3 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 231—234; ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1064; Оп. 2.
Д. 854. Л. 1. № 6.4 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 7.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1061. Л. 6.6 Там же. Д. 878.
507§ 3. Инвентари, описи и реестры
основания… за годы 1522—1731»1. В 1724, 1733, 1755, 1756, 1759 и 1786 гг. были составлены акты специальной королевской комиссии по результатам ревизии привилеев, пожалованных братству королями, патриархами и другими цер-ковными иерархами в 1586—1730 гг.2 Эти описи написаны на латинском языке с указанием точной даты составления документа, автора привилея и краткого содержания документа (аннотации), отмечались некоторые палеографические особенности документов, например: «Привилей короля Владислава IV от 5 марта 1633 г., подтверждающий привилей 1592 г. короля Сигизмунда III, на школу и типографию, пергамен»3. Интересно, что в отличие от реестров XVII в. описания архивных документов братства XVIII в. начинаются не с гра-мот восточных патриархов, а с привилеев королей Польши. Это показывает, что для папской нунциатуры документы королей имели первостепенное зна-чение по сравнению с грамотами православных иерархов.
В 1700 г. был составлен перечень документов, выданных братством сво-им депутатам к королю и в Сейм для защиты прав и привилеев украинско-го населения города4. В 1740 г. Петр Кос составил список основных докумен-тов братства «всех его привилеев, прав и документов от основания… за годы 1522—1731»5, необходимых ему для написания меморандума «Status causae» для ходатайства перед Коллегией кардиналов в Риме об учреждении при Онуфриевском монастыре архимандрии6. В 1771 г. был составлен перечень документов, выданных из архива братства игумену Онуфриевского монасты-ря Бонифатию Кровницкому для написания истории этого монастыря7. Эти списки архивных документов показывают, какие материалы имели особое значение для членов братства при решении тех или иных вопросов и задач. Однако следует отметить, что в основном они составлялись по одному прин-ципу, согласно которому первостепенное значение имели привилеи и доку-менты, подтверждающие юридический статус братства и основных сфер его деятельности. Другие виды документов, хранившихся в архиве братства, не называются даже в перечнях документов, которые использовались для напи-сания исторических сочинений. Это позволяет сделать вывод о том, что по-нятия «исторического источника», «архивного документа» были в сознании
1 Ісаєвич Я. Д. Архів Львівського братства // Архіви України. 1968. № 1. С. 92.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 878, 931, 976, 977, 986. Л. 31—31 об; Оп. 2.
Д. 854. Л. 1. № 6, 7.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 976. Л. 2.4 Там же. Д. 750. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставро-
пигиона: Материалы, относящиеся к истории Львовского Ставропигиона в 1700—1767 гг. Львов, 1936. Ч. 1. № 2. С. 1—2.
5 Ісаєвич Я. Д. Архів Львівського братства. С. 92.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1169. Л. 13—13 об.7 Там же. Д. 1005.
508 Глава третья
членов братства тождественны с понятием «юридический документ», причем имеющий реальную правовую силу.
Первое описание всего комплекса документов, отложившихся в архи-ве братства, было составлено, вероятно, в 70—80-х годах XVIII в. Опись ар-хивных документов озаглавлена: «Summaryusz dokumentów Archiwi Ecclesiae Stauropigianae Leopolie»1. Весь комплекс документов был разделен на 5 фас-цикулов, которые можно рассматривать как прообразы фондов. Это была попытка сгруппировать документы по тематическому признаку, однако она была неудачной. Статьи описания составляли единицы хранения, в которые были включены связанные между собой документы по тематическому, про-блемному, авторскому, языковому признаку. Нумерация единиц хранения была валовая и всего статей описания в реестре 98. Само описание состоя-ло из аннотации содержания документов или перечисления авторов доку-ментов. Дата написания документов не указывалась. Эта опись составлялась, видимо, для нужд братства, так как с особым тщанием описаны документы, относящиеся к внутренней жизни братства: его финансово-имущественные операции, завещания денежных сумм и недвижимости братству, материалы судебных процессов, документы о финансовой отчетности членов братства. Например, «Бумаги легации на каменицы Матияша Теодоровича», «Записи по [судебному] делу со Стрилецким Романом, сеньором, о не сдаче отчет-ности по руководству братством (z seniorata)», «Бумаги по [судебному] делу с Мильчевским о типографии», «Реестр калькуляции с типографами, иму-щества Деймы»2. Заголовки содержат как подробные описания содержания документов («Записи или процесс братства против Андрея Купенского, рад-цы Львова, по поводу налога с имущества братства, письма Супрасльского епископа Константина и Ивана Русяновича из Варшавы»), так и очень крат-кие, не передающие содержания документов («Письма разные от разных лиц», «Латинские декреты»). Некоторые единицы хранения были сформиро-ваны по языковому принципу, например переводы с греческого («Переводы привилеев патриархов, копии», «Письма по-гречески писанные патриархов Иерусалимских и других братству», «Письма по-венгерски писаные, в кото-рых что содержится — не известно»)3.
Этот «суммариуш» архивных документов действительно суммирует весь опыт работы братства со своим архивом, с отдельными группами докумен-тов. Описание включает в себя все виды документов, начиная привилеями и заканчивая реестрами продажи книг типографии братства. Это описание позволяет реконструировать отношение членов братства к истории своей организации. Интерес вызывали не только документы, актуальные при ре-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1032.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1032. Л. 1—1 об., 5. № 3, 9, 13, 97.3 Там же. Д. 1032. Л. 3 об., 4. № 68, 88, 89.
509§ 3. Инвентари, описи и реестры
шении текущих проблем организации, но и те, которые помогают понять особенность разных сфер деятельности организации, ощутить преемствен-ность основных традиций. По сравнению с реестрами конца XVI — начала XVII в., где отдаленные большим временным промежутком документы по-зволяли осознать правовую преемственность членов организации, инвен-тарь архивных документов XVIII в. позволяет проследить, как спустя почти 200 лет члены братства пытались осознать себя, свою организацию в кон-тексте истории. Связь с прошлым имеет особое значение для самоосознания членов братства, именно этим объясняется интерес к документам своей ор-ганизации, которые иллюстрируют важнейшие события в истории братства, в истории украинской громады города, в истории всего украинского народа. Именно формированием осознания себя, своей организации в историческом контексте объясняются первые попытки составления исторических очерков, хроник истории своей организации, основанных на документах, которые бережно хранили все члены братства, начиная с его основателей, живших в конце XVI в.
После реорганизации братства в 1788 г. в Ставропигийский Институт ар-хив братства стал комплектоваться делопроизводственными материалами Института, организационная структура которого несколько отличалась от братской, и сфера деятельности которого была сужена. Спустя столетие по-сле первых попыток упорядочения и описания архива братства, в 1832 г., до-кументы архива братства были систематизированы директором архива и би-блиотеки Ставропигийского Института историком Д. И. Зубрицким1. В 1832 г. Зубрицкий впервые составил «Опись всех актов, документов и писем, храня-щихся в Ставропигийском архиве». Он попытался сгруппировать документы по тематическому принципу, но при описании книг и фасцикулов не указы-вал даты документов, что значительно усложняет идентификацию многих ак-тов. Также не были разграничены документы из братства и Ставропигийского института. Эта опись включает некоторые документы, которые впоследствии были утеряны, например грамота Петра I от 28 февраля 1707 г. на права сво-бодной продажи книг, изданных в типографии братства, в России2. Более позд-няя помета «не стало» стоит рядом с «Поэмой в честь митрополита Михаила Левицкого», написанной членами Ставропигии3. Некоторые документы впо-следствии вошли в рукописные собрания других архивохранилищ, например «Плянтацийная книга» за 1686—1725 гг., которая вошла в собрание библиоте-ки Оссолинских4, или «Альбом» (Album czyli księga wpisuiących się prsyiętych
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 2. Д. 852, 854, 855.2 Там же. Д. 854. Л. 5 об. № 175. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 6143 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 2. Д. 854. Л. 6 об. № 225.4 Там же. Л. 11. № 455; ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5 Ос-
солинских. Ед. хр. II, 2125. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 164—352.
510 Глава третья
do Instytutu Stauropigialnego człąków)1, который сейчас находится в собрании Львовского исторического музея. В опись документов архива Зубрицкий вклю чил свои рукописи и копии ценных памятников полемической литерату-ры XVII в., переданные на хранение в Ставропигийский архив2. «Опись актов» Зуб рицкого позже была дополнена новыми поступлениями в Ставропигийский архив. Систематизация архива проводилась в 1888 г.3 в связи с открытием му-зея Ставропигийского Института, основные фонды которого составили доку-менты Ставропигийского архива и библиотеки4. Описание архивных докумен-тов братства в составе музея Ставропигийского Института было опубликова-но И. С. Свенцицким5.
Д. И. Зубрицкий первым начал публикацию документов архива Львовского Ставропигийского братства6. Документы из архива братства были опублико-ваны в многочисленных сборниках документов и периодических изданиях Ставропигийского Института. Сохранились многочисленные копии архивных документов братства XVI—XVIII вв., которые готовились к публикации, но по разным причинам опубликованы не были или опубликованы не полностью7. Эти материалы представляют самостоятельное значение, так как позволяют проследить изменение отношения к документам разных видов, разного проис-хождения, которые отложились в архиве братства. В течение столетия (с 1832 до 1936 г.) была кардинально переосмыслена ценностная шкала восприятия документов из архива братства (уставные документы, привилеи, грамоты па-триархов, митрополитов, епископов, видных государственных, политических и религиозных деятелей) в сторону приоритетного отношения к документам, созданным непосредственно членами братства и отражающим деятельность братства изнутри (протоколы заседаний, хозяйственно-финансовая докумен-тация и т. п.). Сейчас архив Львовского братства хранится в Центральном государственном историческом архиве Украины во Львове и входит в фонд «Ставропигийский Институт».
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 2. Д. 854. Л. 13. № 581.2 Там же. Д. 854. № 262, 650, 651; Д. 772, 773.3 Там же. Д. 856, 857.4 Отчет из Археологическо-библиографической выставки в Ставропигийском Инсти-
туте, открытой 28 сентября (10 октября) 1888 г., закрытой 16 (26) февраля 1889 г., и опись фотографически снятых предметов из той же выставки / Шараневич И. И. Львов, 1889.
5 Свенцицкий И. С. Опись музея братства. Львов, 1905; Свенцицкий И. С. Опись музея Ставропигийского института во Львове. Львов, 1908. С. 89—174.
6 Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографи-ческою комиссиею. СПб., 1848. Т. 3; СПб., 1851. Т. 4. Памятники, изданные Временной ко-миссией для разбора древних актов. Киев, 1852. Т. 3.
7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 2. Д. 787, 788, 792, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802.
511§ 3. Инвентари, описи и реестры
При большом внимании, которое братство уделяло архиву, и сохранности документов, связанных с деятельностью братства, инвентарные описания все-го комплекса архивных документов братства появляются только во второй по-ловине XVIII в. Это связано прежде всего с представлениями членов братства об архиве как особом историко-культурном объекте, осознанием ценности до-кументов, имеющих разное происхождение и функциональное значение. Для членов братства в конце XVI—XVII вв. первостепенное значение имели доку-менты, наделявшие и гарантировавшие ему те или иные юридические права, закреплявшие за ним определенный социальный статус. Исходя из таких прак-тических целей, составлялись первые описи и реестры архивных документов. В архиве братства в многочисленных документах, созданных для самых раз-ных целей, отображены представления одних и тех же людей о различных сфе-рах деятельности человека и общества, что позволяет нам наиболее всесторон-не осознать характер духовной жизни людей определенной эпохи, понять их взгляд на мир, психологию людей того времени. Источники, созданные непо-средственно членами братства (письма, протестации, протоколы заседаний, хозяйственные и финансовые документы, книги, издаваемые в братской типо-графии, и др.), позволяют искать и находить ответы на самые разные вопросы, встающие перед историками: отношение горожан к религии, политике, искус-ству, складывание определенной социальной культуры, формирование круга чтения горожан, проблемы межнационального общения и сосуществования, проблемы межличностного общения людей, положения женщин в городе, от-ношения простых горожан к войне, забота о больных и стариках, проблемы смерти и загробного мира и мн. др. Львовское братство как социокультурная общность в процессе своего функционирования создало совокупность произ-ведений, с помощью которых можно реконструировать историю общества в его целостности: событийную историю в контексте истории картин мира, си-стем ценностей, форм социального поведения, символов и ритуалов. Архив братства можно рассматривать как феномен культуры, реально существую-щий и сохраняющийся во времени, который открывает возможности компа-ративного изучения явлений культуры и максимально полной интерпретации социальной информации.
б) Б и б л и о т е к а
Библиотеку Львовского Успенского Ставропигийского братства можно рас-сматривать как особый феномен в истории складывания и функционирования книгохранилищ на Украине. С одной стороны, она явилась продолжателем тра-диции формирования библиотек при церквях, ведущей свое начало со времен основания библиотеки при Софийском соборе в Киеве в 1037 г., а с другой — она явилась первой общедоступной библиотекой, основанной общественной организацией львовских горожан, что в значительной мере расширило и сфе-
512 Глава третья
ры использования библиотечного фонда, и круг читателей библиотеки. В от-личие от традиционных собирателей библиотек того времени — монастырей и отдельных храмов, — Львовское братство уделяло значительное внимание комплектованию библиотеки светской и учебной литературой, книги из би-блиотеки были доступны всем желающим и активно использовались не толь-ко горожанами Львова, жителями украинских земель, входящих в состав Речи Посполитой, но и представителями соседних государств (Молдавии, Сербии, России и др.).
Библиотека Львовского братства давно привлекала внимание исследо-вателей. К отдельным периодам и сторонам ее деятельности ее обращались Д. И. Зубрицкий, И. С. Свенцицкий, И. П. Крипьякевич, Й. Скочек и др. Наиболее обстоятельными работами по истории библиотеки Львовского брат-ства являются исследования Я. Д. Исаевича1. Но до сих пор нет комплексной работы по истории этой уникальной библиотеки, отражающей историю ее соз-дания и функционирования, и реконструирующей репертуар книг и его из-менение в разные временные периоды. Сегодняшняя необходимость в таком исследовании подтверждается тем, что появился ряд статей, посвященных разным аспектам в истории библиотеки Львовского братства2. Комплексное изучение библиотеки позволит глубже понять значимость книги в обществе в XVI—XVIII вв., психологию людей, которые собирали эту коллекцию, и тех, кто был читателями библиотеки. Как справедливо отметил С. О. Шмидт: «История книги, ее создателя, переписчика, издателя рассматривается в тес-ной взаимо связи с историей читателя. Тем самым история книжности смыка-ется с проблемами социальной (точнее сказать, исторической) психологии и социологии»3.
1 Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. Lwów, 1836; Свенцицкий И. С. Опись музея Ставропигийского института во Львове. Львов, 1908; Ba-decki K. Zaginione ksęgi średniowiecznego Lwowa. Lwów, 1928; Крип'якевич І. П. Каталог бібліотеки Львівської Ставропігії з 1619 р. // Українська книга. 1937. № 7—8. С. 157—166; Skoczek J. Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu. Lwów, 1939; Ісаєвич Я. Д. Бібліотека Львівського братства // Бібліотекознавство та бібліографія: Республіканський міжвідомчий науково-методичний збірник. Харків, 1966. Вип. 3. С. 126—132; Исаевич Я. Д. Круг читательских интересов городского населения Украины в XVI—XVII вв. // Федоров-ские чтения. 1976; Читатель и книга. М., 1978.
2 Боянівська М. Львівське Успенське братство і книгописання (кінець XVI — середи-на XVII ст.) // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 51—54; Фрис В. Рукописна книга в бібліотеці Львівського Ставропігійського братства // Там же. С. 55—60; Ясіновська О. Колекція євангелій з бібліотеки Львівської Ставропігії // Там же. С. 67—71; Козак У. Історія бібліотеки Ставропігії // Там же. С. 72—77.
3 Шмидт С. О. Источниковедческие вопросы изучения истории русской книжности // Археография. Архивоведение. Памятниковедение: Сб. статей. М., 1997. С. 51.
513§ 3. Инвентари, описи и реестры
Библиотека Львовского братства становится одной из важнейших сфер его деятельности уже со времени юридического оформления организации в 1586 г. Это говорит о том, что основатели Львовского Успенского братства не только были хорошо образованными людьми своего времени, но и осознавали огром-ное значение книги в развитии культуры. С самого начала своего существова-ния Львовское братство стало крупнейшим очагом книжной культуры: оно не только собирало книги, но и возглавляло издание книг кириллического пись-ма в собственной типографии, унаследованной от Ивана Федорова, а также выступало в роли заказчика изготовления рукописных книг на пергамене и бумаге.
Библиотека братства была призвана осуществлять две основных функции. Первая — традиционная для любой библиотеки при храме, призванная обе-спечить потребности священнослужителей по ведению богослужений, испол-нению треб и других церковных нужд. Вторая — явилась новаторской и даже революционной в жизни горожан конца XVI в.: братство стремилось сделать общедоступными те знания и ту культуру, которые раскрывались посредством книг. Приобщение широких кругов украинского населения к книжной культу-ре члены братства считали одной из важнейших задач в осуществлении сво-ей культурной программы, призванной в конечном итоге способствовать ро-сту национального самосознания народа, прививать любовь к своей истории и культуре. Осознание своей национально-культурной самобытности, своего национального достоинства было неотделимо от соизмерения и отождествле-ния с определенной религиозно-культурной традицией. Члены братства по-нимали большое значение книги в реформировании церковно-религиозной жизни современного им общества. Осознавая важность просвещения, члены братства старались пополнять свою библиотеку книгами самых разных жан-ров, по самым разным отраслям знаний, причем как всеми новинками печат-ной продукции, так и лучшими образцами традиционной еще в конце XVI — первой половине XVII в. рукописной книгой.
Собиранию книг братство уделяло большое значение, не жалея для этого ни сил, ни средств. Но при этом осознания важности и ценности библиотеки как собрания книг, имеющего свою самостоятельную культурную ценность, у чле-нов братства не было ни в XVI, ни в XVII, ни в XVIII вв. Если сравнить библио-теку братства с его архивом, то можно заметить, что архиву братство уделяло больше внимания и заботилось о сохранности своих архивных документов на-много лучше, чем о сохранности книг из библиотеки. Конечно же, архив члены братства тоже не рассматривали как особый культурный феномен и проявля-ли особую заботу только о той его части, которая имела важное практическое значение. К библиотеке члены братства относились, наверное, так, как мы от-носимся сегодня к своей личной библиотеке, которая имеет для нас конкрет-ное практическое значение, мы покупаем для нее книги согласно нашим вку-сам, желаниям и финансовым возможностям, храним там, где позволяют наши
514 Глава третья
жилищные условия, и, как правило, не составляем подробных учетных катало-гов и не ведем строгого контроля, кому свои книги даем читать.
Библиотека братства не имела специального помещения. В конце XVI — первой половине XVII в. основной книжный фонд хранился в Успенской церк-ви и был частью церковного имущества. По своей значимости библиотека при-равнивалась к церковной сокровищнице, где хранились самые дорогие цер-ковные вещи. В то же время библиотека братства отличалась от церковных и монастырских книгособраний большей открытостью и доступностью для всех желающих, прежде всего светских лиц. Интересно, что в братстве не было спе-циальной должности, которая обязывала бы следить за поступлениями в би-блиотеке, контролировать выдачу книг и т. п. Время от времени избирались «дозорцы», которые делали ревизию книг в библиотеке. По сохранившимся инвентарным описаниям, можно предположить, что такие ревизии предпри-нимались с периодичностью в пять лет.
С середины XVII в. библиотека братства хранилась в нескольких помеще-ниях: наиболее ценная часть книг, а также книги церковно-служебные по-прежнему хранились в церковной «сосудохранительнице» (сокровищнице), часть книг располагалась в «гмахах» (домах) братства, на книжных складах и в книжных лавках. Причем под библиотекой члены братства понимали как соб-ственно коллекцию книг, так и всю книжную продукцию своей типографии. В протоколе элекционного заседания братства 1648 г. впервые была введена вре-менная должность «Дозорца библиотеки церковной», на которую был избран Павел Лавришевич1. Само название должности говорит о том, что в середине XVII в. библиотеку братство воспринимало как необходимый атрибут церков-ного имущества, несмотря на то, что к тому времени библиотека давно вышла за рамки исключительно церковной библиотеки и выполняла самые разные функции в обществе. Что входило в обязанности «дозорца», нам не известно. Инвентарей книг библиотеки, составленных Павлом Лавришевичем, не сохра-нилось, по-видимому, ревизия книг в этот период не проводилась. Еще одно указание на существование должности «библиотекаря» в братстве относится к 1733 г. В протоколе элекции за этот год значится должность ключника: «пану Демьяновичу отдали ключ от архива, библиотеки, склепа, типографии, от склепа, где бумага, от второго склепа, от шкафа архивного, от склепа, в ко-тором книги в секстернах к продаже»2. Вероятно, ключник отвечал за обеспе-чение сохранности и контроль за порядком при пользовании всеми «докумен-тальными» материалами братства.
О принципах формирования библиотечного фонда нам известно немно-го. Братство покупало книги, обменивало, заказывало их изготовление, по-лучало в подарок. В инвентаре книг библиотеки указано: «Року Божого 1601
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1061. Л. 3 об.2 Там же. Д. 1169. Л. 1 об.
515§ 3. Инвентари, описи и реестры
купили брацтво книгу Правила Св. Отец за золотых дваицять»1. Из рее-стров расходов известно, что в 1610 г. братство купило «виленскую книжку по-польску друкованую», вероятно, Nikolai Cleonardi «Institutiones absolutissimae in Graecam linguam» (Вильно, 1600) и «Тестамент»2 («Тестамент Василия цеса-ря кгрецкого… до сына своего, юж коронованого, Льва Филозофа», который входит в «Лекарство на оспалый умысл человечий», Острог, 1607). В 1612 г. братство купило две Псалтыри «виленского друку» (Вильно, 15763). В 1632 г. Роман Белецкий приобрел («придобыл») для братства книгу Василия Великого «Книга иже в святых отца нашего Василия о постничестве» (Острог, 15944). В 1659 г. по желанию проповедника («казнодhя») отца Зосимы Согникевича «зезволили панове братия всh купити книги казнодеискhе, которыи назу-вают «Корнелеуши, за котрыи то книги далем суму 170». Купленные 12 то-мов сразу же были отданы в переплет, за что было уплачено 24 злотых5. Книги братство не только покупало за деньги, но и обменивало, отдавая взамен по-лучаемой книги издания своей типографии. В 1610 г. таким образом братство приобрело четыре книги Иоанна Златоуста «Беседы на деяния Апостолов» и книгу Григория Богослова, за которые отдали «книжок 50», за три Требника — дали 8 книг, за «Апокрисис» Христофора Филарета (Острог, 1598) — 2 книги6.
Братство часто получало книги в качестве подарков или пожертвований, причем среди дарителей были светские лица и особы духовного звания, знат-ные вельможи и простые горожане, видные культурные и политические деяте-ли, монастыри и братства. Например, выдающийся писатель-полемист Иоанн Вишенский подарил братству «Хронику греческую» («Кроника о Грецком пан-стве… скорописью писана»7); константинопольский купец Микей Кавак — 5 томов богослужебных книг на греческом языке8; ректор Киево-Могилянской академии Иоаникий Галятовский — сборник проповедей «Ключ разумения священником законным и свецким належачий» (Киев, 1659)9; архимандрит Киево-Печерской Лавры, писатель-богослов отец Захария Копыстенский «церкви нашой даровал» две книги Иоанна Златоуста («Беседы на послания апостола Павла» и «Беседы на деяния Св. Апостолов»10); в 1630 г. инок Феодосий
1 Пам’ятки братських шкіл на Україні. Київ, 1988. С. 31.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1046. Л. 1.3 Там же. Д. 1047. Л. 2. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 340—356.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1052. Л. 3.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1076. Л. 20 об. — 21.6 Там же. Д. 1046. Л. 1.7 Пам’ятки братських шкіл на Україні. С. 31.8 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». С. 372.9 Ісаєвич Я. Д. Бібліотека Львівського братства. С. 127.10 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 9.
516 Глава третья
из Уневского монастыря прислал братству в подарок книгу Иоанна Златоуста «Беседы на деяния Апостолов» с дарственной надписью («ведле подпису его на маринес»1); в 1655 г. капеллан гетмана Украины Богдана Хмельницкого отец Иоанн Чоловский подарил братству Псалтырь и Октоих, а братство ему в свою очередь подарило 6 книг, изданных в братской типографии2. Библиотека попол-нялась и за счет частных книжных собраний, которые их владельцы передавали братству в дар. В 1590 г. по завещанию члена братства библиотека пополни-лась коллекцией книг одного из его «фундаторов» Леська Малецкого3. Это со-брание, состоящее из «русских» и польских книг религиозно-богослужебных и светских, положило начало новому направлению книгособирания учебной, художественной, полемической литературы. В 1771 г. братству была подарена коллекция книг (около 30 томов) члена братства и священника Успенской церк-ви Ивана Горбачевского4. В 1777 г. книжное собрание братства пополнилось пе-решедшей по завещанию богатой библиотекой Антона Левинского, члена брат-ства и настоятеля Успенской церкви, которая насчитывала около 300 томов5.
Большую часть библиотеки братства составляли книги, которые обязаны своим происхождением именно братству, библиотечное собрание включало как печатные книги, изданные в типографии братства, так и рукописные, изго-товленные по заказу братства. Типография в конце XVI—XVII вв. часто не мог-ла удовлетворить спрос на ту или иную литературу, поэтому старый и до недав-него времени единственный способ изготовления книг братство продолжало использовать, при этом переписывались не только не издававшиеся в типогра-фиях труды по философии, патристике, риторике, поэтике, учебные пособия, книги литургические, но и некоторые напечатанные в отдаленных типографиях (Вильно, Москва и т. п.) произведения, пользующиеся большой популярностью. Если имена большинства типографов братства нам известны, то имена пере-писчиков книг практически не дошли до нас. В 1587 г. Савва Григориевич сделал список «Бесед» Иоанна Златоуста с некоторыми дополнительными статьями. Книга была изготовлена по просьбе учителя братской школы и проповедника Успенской церкви Игнатия Савина6. Возможно, переписывал книги для брат-ства учитель братской школы, проповедник, переводчик с греческого Федор Касиянович, который около 1606 г. в Галиче сделал копию Тетраевангелия7. По
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1052. Л. 3. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 373—386.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1069. Л. 44.3 Там же. Ф. 52. Оп. 1. Д. 337. С. 599, 600. Опубл.: Skoczek J. Lwowskie inwentarze bibliotecz-
ne w epoce renesansu. Lwów, 1939. S. 167,168.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1179. Л. 138.5 Там же. Л. 136—137 об.6 Боянівська М. Львівське Успенське братство і книгописання. С. 53.7 Мицько І. З. Острозька слов'яно-греко-латинська академія (1576—1636). Київ, 1990. С. 94.
517§ 3. Инвентари, описи и реестры
просьбе братчиков Юрия и Ивана Рогатинцев юноша Иванко (возможно «спу-дей» братской школы) переписывал «книги святых отцов»1. Переписчиков книг братство обеспечивало всем необходимым — бумагой, чернилами, экзем-пляром для копирования и пр. Например, в 1607 г. братство покупает бумагу, чтобы заказать изготовление новых рукописных Миней («Мhнеи писати»)2.
Для новоизготовленных книг братство заказывало переплет, но одновре-менно переплетались и другие («старые») рукописные сборники. Так, в 1607 г. братство заказывает переплет для рукописных требников3, а в 1613 г. — пе-реплет для «Мhней старых осмии»4. Часто переплеты были очень дорогими, например, рукописный Служебник был в переплете «з осьма пуклями сребр-ными, табличка з Распятием и клавзуле, обе срhбрныи»5, Евангелие напре-стольное «в оксамитh брунатном, оправлено срhбром» и другое «в оксамитh зеленом, оправлено срhбром»6. Роскошные переплеты братство заказывало печатным изданиям. Если сравнить описание переплетов некоторых рукопис-ных и печатных книг, указанных в инвентаре 1619 г., то видно, что в самые до-рогие переплеты были оправлены не рукописные, а печатные книги, причем изданные в типографиях других городов: Библия (Острог, 1581) была в бархат-ном переплете: «в червоном аксамите, осмами нарожницами, двома клавзу-лами срибными украшена», Служебник «Мамоничева друку» (Вильно, 1617) оправлен был «аксамитом червоным, крытый, з осьма нарожницами велики-ми, таблица великая з Распятием ве сродку, з клавзулами двема, а то все щиро сребрное», «Евангелие друкованое грецкое, аксамитом чорным одетое з Распятием, Пречистою и Иоанном и чтырма евангелисты, з клавзулами двема и пуклями чтырма, то все из сребра одливано»7.
В конце XVI — начале XVII в. библиотека братства, видимо, размещалась в Успенской церкви и составляла особую часть ее сокровищницы. Во второй половине XVII в. церковные книги, необходимые при ведении богослужений, были отделены от основного библиотечного фонда. Церковное собрание вклю-чало около 50 богослужебных книг, 10 из которых были Евангелия8. Хотя реви-зия книг библиотеки проводилась, как правило, вместе с ревизией движимого
1 Боянівська М. Львівське Успенське братство і книгописання. С. 53.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1047. Л. 4 об.3 Там же. Д. 1044. Л. 5.4 Там же. Д. 1047. Л. 2.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 10.6 Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. S. 63; Голу-
бев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883. Т. 1. Приложе-ния. С. 167; Пам’ятки братських шкіл на Україні. С. 30.
7 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 9, 10.8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 980, 981. Л. 1 — 1 об., 5, 986. Л. 23 об. — 24,
29 об., 30; 1086. Л. 1, 3 об., 1101. Л. 15.
518 Глава третья
имущества Успенской церкви, сама библиотека, представлявшая в то время до-вольно большое собрание книг, находилась вне церкви. Она размещалась в ко-локольне Корнякта, где были также книжные склады изданий братской типо-графии и книжная лавка. Библиотека братства, к сожалению, не сохранилась до наших дней. В 1779 г. в результате пожара, сильно повредившего колоколь-ню и ограду ансамбля Успенской церкви (wieżu i mury Stawropigii), уникаль-ная библиотека братства погибла1. После пожара члены братства скрупулезно описали предназначенные для продажи книги из складских помещений, на-ходившиеся под «сгоревшей древней библиотекой», уцелевшие после пожа-ра. Описаний уцелевших томов библиотеки не сохранилось. Можно предпо-ложить, что пожар нанес непоправимый ущерб. Однако многие экземпляры рукописных и печатных книг из книжного собрания братства сохранились и были описаны в конце XIX — начале XX в. львовскими историками, большин-ство этих книг хранятся в книжных собраниях библиотек и музеев Львова се-годня2. Возможно, эти книги сохранились благодаря тому, что были взяты из библиотеки для чтения членами братства, учителями и учениками школы, ра-ботниками типографии и др. Выявление корпуса этих книг может дать инте-ресные представления о круге читательских интересов львовских горожан в конце XVIII в., определить, какая литература из книжного собрания братства привлекала особое внимание читателей.
Реконструировать репертуар книг библиотеки Львовского братства можно на основании сохранившихся инвентарей, причем эти источники позволяют проследить не только динамику формирования библиотечного фонда, но и выявить приоритетные направления комплектования библиотеки, характер использования имеющихся книг, структуру библиотеки и формы ее функци-онирования. Первая попытка подробного источниковедческого анализа ин-вентаря библиотеки братства 1619 г. была предпринята И. П. Крипьякевичем, который рассмотрел количественный, тематический и языковой состав би-блиотеки в начале XVII в.3 Особо он анализировал печатные книги, идентифи-цируя их по году и месту издания. Схема анализа инвентаря книг, предложен-ная Крипьякевичем, может быть использована при изучении всех инвентарей
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1194.2 Каталог Археологическо-библиографической выставки Ставропигийского Института
во Львове, открытой дня 10 октября 1888 г., а имеющей быти закрытою дня 12 януария 1889 по н. ст., продолжается до дня 28 февруария 1889. По указаниям знатоков составил д-р Исидор Шараневич. Львов, 1888; Петрушевич А. С. Каталог церковно-словенских ру-кописей и старопечатных книг кирилловского письма, находящихся на Археологическо-библиографической выставке в Ставропигийском заведении. Львов, 1888; Свенцицкий И. С. Опись музея братства. Львов, 1905; Он же. Библиотеки и музеи г. Львова. СПб., 1907; Он же. Опись музея Ставропигийского института во Львове. Львов, 1908.
3 Крип'якевич І. П. Каталог бібліотеки Львівської Ставропігії з 1619 р. // Українська кни-га. 1937. № 7—8. С. 157—166.
519§ 3. Инвентари, описи и реестры
книг библиотеки братства XVII в. Попытку комплексного анализа инвентарей библиотеки братства XVII в. предпринял Я. Д. Исаевич1. Практически не изу-ченными остаются инвентарные описания книг библиотеки братства XVIII в.
При анализе состава архива братства удалось выявить следующие инвен-тари книг библиотеки, которые позволяют реконструировать репертуар книг в библиотеке на протяжении всей двухвековой истории братства, проследить изменения в составе разных категорий книг:
1) инвентарь книг Успенской церкви 1579 г.2;2) инвентарь книг Онуфриевского монастыря 1579 г.3;3) реестр книг библиотеки Леська Малецкого, которая вошла в состав би-
блиотеки братства в 1590 г.4;4) инвентарь книг 1601 г.5;5) инвентарь книг 1611 г. с добавлениями 1615 г.6;6) инвентарь книг Онуфриевского монастыря [1611 г.]7;7) инвентарь книг 1619 г.8;8) инвентарь книг 1637 г.9;9) инвентарь церковных книг, составленный при передаче имущества
Успенской церкви Василием Красовским Михаилу Слёзке в 1664 г.10;10) инвентарь ревизии книг библиотеки 1688 г. с дополнениями 1690 г.11;
1 Ісаєвич Я. Д. Бібліотека Львівського братства // Бібліотекознавство та бібліографія: Рес-публіканський міжвідомчий науково-методичний збірник. Харків, 1966. Вип. 3. С. 126—132.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1033. Л. 3 об, 4. Опубл.: Zubrycki D. Histo-ryczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. Lwów, 1836. S. 60.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1034. Л. 1. Опубл.: Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. S. 59; Немировский Е. Л. Документальные материалы Львовских архивов о последнем периоде жизни и деятельности Ивана Федоро-ва // Исторический архив. М., 1961. С. 235; Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI — перша половина XVII ст.): Збірник документів. Київ, 1975. С. 7.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52. Оп. 1. Д. 337. С. 599, 600. Опубл.: Skoczek J. Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu. Lwów, 1939. S. 167,168.
5 Оригинал не сохранился. Опубл.: Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. S. 63—68; Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его спод-вижники. Киев, 1883. Т. 1. Приложения. С. 167—171; Пам’ятки братських шкіл на Україні. С. 30—33.
6 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 365, 369—374.
7 Там же. С. 395—396.8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 6—12. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12.
С. 7—10, 13, 14.9 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5. Оссолинских. Ед. хр. 2170.
Л. 1,2, 26—37, 41. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 145, 146, 158—163.10 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1086. Л. 1, 3 об.11 Там же. Д. 1101. Л. 5—10, 11, 15. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 29—35.
520 Глава третья
11) инвентарь нотных книг 1697 г.1;12) инвентарь книг библиотеки 1731 г.2;13) инвентарь церковных книг и книг библиотеки по материалам ревизии
комиссии нунциатуры движимого имущества братства в 1758 и 1760 гг.3;14) инвентарь книг, подаренных Иваном Горбачевским [1771 г.]4;15) инвентарь книг библиотеки Антона Левинского, перешедшей братству
по завещанию [1777 г.]5.Инвентари книг библиотеки братства являются уникальными источника-
ми, позволяющими проследить изменения отношения к книге в обществе в течение двухвекового периода. Изменение статей описания книг, элементов описания, характеризующих ту или иную книгу, позволяют сделать выводы об отношении к книге как к особому объекту культуры, произведению искусства, источнику знаний и мудрости, как к необходимому атрибуту жизни человека. Рассматривая инвентари книг библиотеки братства, можно выделить некото-рые общие особенности. Статьи описания книг составлялись довольно про-извольно, не существовало определенного обязательного правила описания книг, поэтому даже в одном инвентаре одни книги описаны очень подробно, что позволяет точно идентифицировать многие книги, а другие содержат скуд-ные описания или только называют книгу как единицу хранения библиотечно-го фонда, не раскрывая даже ее названия, функционального назначения. Для всех инвентарей не характерно указание на дату создания или издания книги, поступления в библиотеку.
При комплексном анализе инвентарей книг библиотеки братства можно выделить несколько основных моментов, которые позволяют проследить ди-намику отношения к книге в течение двухвекового периода функционирова-ния библиотеки:
1) описание внешних особенностей книги — наличие и качество переплета, материал, из которого изготовлена книга (пергамен, бумага);
2) способ изготовления книги — рукописная или печатная;3) раскрытие содержания книги.Книга в конце XVI в. была довольно дорогой и редкой вещью. Даже церков-
ные собрания включали в себя самый минимальный комплект церковных книг, необходимых для проведения богослужений. С организаций братства, кото-рое одной из важнейших своих задач ставило культурно-просветительскую деятельность, книга начинает играть новую роль в жизни членов братства,
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 62—71.2 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 3. Монастырь Василианов
во Львове. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 62 — 63 об., 74 об., 81 об. — 88 об.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 981 Л. 1—2; 986. Л. 23 — 32 об.4 Там же. Д. 1179. Л. 138.5 Там же. Л. 136 — 137 об.
521§ 3. Инвентари, описи и реестры
украинских горожан Львова. Братство начинает собирать библиотеку, кото-рая была призвана играть активную роль в становлении нового мировоззре-ния, в распространении знаний, в расширении кругозора горожан, учеников братской школы. Именно поэтому библиотека комплектовалась не только книгами традиционными для православной религиозной средневековой тра-диции, но и книгами, ставшими традиционными для польской католической культуры XVI в., наиболее популярными в Западной Европе классически-ми научными и богословскими сочинениями. Однако отношение к книгам «словенским» и другим («лядским», «латинским») было неодинаковым. Как правило, иноязычные книги, имевшиеся в библиотеке братства (латинские, польские, греческие), были печатными. Поэтому лишь в редких случаях ука-зывалось, что та или иная книга из этих отделов рукописная. Отношение к иноязычным книгам строилось на совершенно иных принципах, чем отно-шение к книгам «словенским». Книги польские или латинские, будь то худо-жественные произведения, философские трактаты, полемические сочинения или др., представляли чисто практический интерес и имели изначально при-кладное значение. К книгам «словенским» отношение было возвышенное, са-кральное. Эти книги воспринимали не только как источники знаний, обра-зования, но в первую очередь как источники духовности, воспитывающие не только мысли, но и чувства, книги, воплощающие религиозно-культурную и национально-историческую преемственность. Именно поэтому в инвентарях описания книг на родном языке более подробны и детальны, чем описания книг на других языках.
Однако такое отношение к книге со временем меняется. Уже во второй по-ловине XVII в. этой разницы не чувствуется. Все книги, находившиеся в би-блиотечном собрании, описываются как равные, без каких бы то ни было от-личий. Можно сказать, что к концу XVII в. вырабатывается рациональное, практическое отношение к книге. Любая книга представляет ценность, прежде всего своим содержанием. Характерно, что к концу XVII и в XVIII вв. особого значения для читателей не имело то, что еще в начале XVII в. имело принципи-альное значение при оценке книг, а именно: наличие особо дорогостоящего пе-реплета, рукописная или печатная книга, место издания печатных книг. В ин-вентарях XVIII в. главные статьи описания составляют указание на автора и на название (содержание) книги. В инвентарях XVII в. часто можно встретить та-кие описания книг как «еще 15 книг розмаитых стародавних», «книга собор-ник на пергамину, на десту», «Соборников три на полдесту, писание на папе-ру», «Соборник на папери», «Соборник на пергамине», «От бhсед Златоустого нhчто», «Соборник на паргамини писании»1. В инвентарях XVIII в. таких нео-пределенных описаний книг нет.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1033. Л. 3 об.; 1050. Л. 6 об.; 1101. Л. 6, 6 об.; Пам’ятки братських шкіл на Україні. С. 31.
522 Глава третья
По инвентарным описаниям второй половины XVII—XVIII вв. можно точно установить содержание, тематику, функциональное назначение каж-дой описанной книги. Я. Ф. Головацкий высказывал предположение, что эти сборники дошли до нас в составе библиотеки и музея Ставропигийского Института1. Я. Д. Исаевич, соглашаясь с Головацким, предполагал, что в би-блиотеке братства были описанные в XIX в. сборники, а именно: сборник, содержащий анонимное полемическое произведение 1638 г. «Indicium, to jest pokazanie…», написанное в Винницком Успенском монастыре; рукописную копию «Вhрши на жалосный погреб Сагадачного» и других стихотворных произведений; панегирик Г. Садовского в честь Г. Кирницкого (Венеция, 1642); Григория Бутовича «Еуодия альбо Арсения Желиборского духовных цнот запах…», изданные в типографии братства в 1642 г.; итальянскую бро-шюру «Il trofeo della fonta per giono festivo de B. Turilio Arcivescovo di Lima» (Рим, 1680), а также сборник Михаила Гунашевского, включающий знаме-нитое полемическое произведение «Пересторогу», Львовскую летопись, медицинские рецепты, заметки по астрономии, апокрифические статьи2. В инвентаре 1688 г. указано пять «Соборников писаних», один из которых на пергамене. Возможно, что и первый из указанных сборников, включа-ющий произведения 1638—1680 гг., и сборник, переписанный Михаилом Гунашевским в 1640 г.3, входили в состав библиотеки братства. Но все же мне представляется это предположение весьма спорным. После пожара 1779 г., уничтожившего библиотеку братства, часть книг библиотеки уцелела, в их числе могли быть и эти «Соборники». Но возможно, они были приобретены после пожара, когда Ставропигийский Институт принялся за восстановле-ние библиотеки.
Библиотечное собрание Ставропигии пополнялось в основном за счет пе-чатных и рукописных книг из многочисленных частных собраний со всего края, о чем свидетельствуют маргинальные записи на книгах и рукописях, со-бранных Ставропигийским Институтом и описанных в XIX — начале XX в.4 Именно в результате таких приобретений в собрании Ставропигии оказалось Четвероевангелие южнославянской редакции XV в., написанное на пергаме-
1 Головацкий Я. Ф. Библиографические находки во Львове. СПб., 1873. С. 1, 21, 42—43.2 Ісаєвич Я. Д. Бібліотека Львівського братства. С. 131.3 Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 2. С. 219.4 Петрушевич А. С. Каталог церковно-словенских рукописей и старопечатных книг
кирилловского письма, находящихся на Археологическо-библиографической выставке в Ставропигийском заведении. Львов, 1888; Отчет из Археологическо-библиографической выставки в Ставропигийском Институте, открытой 28 сентября (10 октября) 1888 г., за-крытой 16 (26) февраля 1889 г., и опись фотографически снятых предметов из той же вы-ставки / Шараневич И. И. Львов, 1889; Свенцицкий И. С. Опись музея братства. Львов, 1905; Свенцицкий И. С. Опись музея Ставропигийского института во Львове. Львов, 1908.
523§ 3. Инвентари, описи и реестры
не1, богословские сочинения XVII в.2, коллекции рукописных и старопечатных книг XV—XVIII вв., которые хранятся в архивохранилищах Львова3.
Для инвентарей конца XVI — первой половины XVII в. характерно указание на особо ценные переплеты книг. В инвентарях 1579 г. имеется четыре описания дорогих переплетов книг, например: «Напрестолних евангелий двое срhбром оправлено обое и позлотисто обое»4. Четыре переплета описаны в инвента-ре 1601 г.: «Евангелие напрестольное тетр в зеленом златоглавh» (парче), второе напрестольное Евангелие «в оксамите (бархате. — Ю. Ш.) брунатном, оправлено срhбром» и третье — «в оксамите зеленом, оправлено срhбром», а также Служебник «оправный срhбром, теж писаный»5. В инвентаре 1611 г. не-которые роскошные оклады описаны довольно подробно: «Евангелие писа-ное в аксамитh червоном, напосродку бляха срhбрнозлоцестая, 8 нарожниц, 9 срhбристе позлотисте клявзулы и 4 пукле, сами си бhлы», другое напре-стольное Евангелие рукописное «з обhма дощками с одливаными бhлыми клавзулами», печатное Евангелие, «на котором една дощка срhбрная зло-тистая и клявзуры на розниски чтырh срhбрных пуклях тые», рукописное Евангелие с окладом «на посредку бляха срhбрная позлотистая, нарожници 4 срhбних позлотистыих, клявзулуи и пять пуклеов», Евангелие «срhбром оправное позлотистое, щтуки одливаные, злотоглавом покрытое», рукопис-ный Служебник имел оклад «спосредку бляха срhбрая, пуклh по обох сторо-нах срhбрныих и клавзулы»6. В инвентаре 1619 г. указаны 12 переплетов книг, причем не только дорогих, но и «простых»: «Служебник вкупh и Требник друку виленского аксамитом чорным толко покрытый», «Псалтыр толковая краснооправная», «Служебник друку Мамоничева в простой оправе»7.
Кроме описаний переплетов в инвентарях встречаются указания на другие внешние особенности книги: отмечаются особенности почерка рукописных книг, виды используемых чернил: «Псалтир волоского заводу, злотом перепи-сованая», «Кроника о грецком панствh, надана от Ивана Вишенского, на пол-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 2. Д. 1513.2 Там же. Д. 1427.3 Ясіновська О. Колекція євангелій з бібліотеки Львівської Ставропігії // Успенське
братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 67—71; Козак У. Історія бібліотеки Ставропігії // Там же. С. 76; Колосовська О. Видання Успенського братства у львівських збірках // Там же. С. 84—87.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1034. Л. 1. Опубл.: Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. S. 59.
5 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883. Т. 1. Приложения. С. 167, 168; Пам’ятки братських шкіл на Україні. С. 30, 31.
6 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 365, 367.
7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 6, 8 об., 9.
524 Глава третья
дести, скоростию писана»1, «Псалтыр красно и злотом писаная, пестрым по-крытая лhтерою вhликою», «Псалтыр с Типиком, по некоторых мhстах зло-тем прописана», «Тетради невязазаных скорописно писаные»2. Иногда отмеча-лись и другие внешние особенности книги: «Псалтыра толковая невязаная»3, «Псалтыр невязаная старая», «Служебник писаный старый», «Мhнея старая барзо лихая»4. Также можно отметить указание на формат книги: «на десть», «на полдесть», «на четвертинh» или «тетрованое», «на осмерыне» и т. п. В ин-вентарях второй половины XVII—XVIII вв. указания на внешние особенности книг не содержатся. Так, в инвентаре 1688 г. нет ни одного описания переплета, ни одного указания на палеографические особенности книг.
В XVIII в. описания переплетов имеются только при перечислении напре-стольных Евангелий, которые были выделены из библиотечного фонда и отно-сились к имуществу Успенской церкви. Описания переплетов XVIII в. практи-чески не отличаются от описаний переплетов конца XVI — первой половины XVII в., они включают указания на материал, из которого изготовлен переплет (серебро, золото, бархат, кожа), и описание внешнего вида: «Евангелие писа-ное, в аксамит оправлено, при нем штуки позолоченные», «Евангелие в се-ребро оправлено, все позолочено», «Служебник in folio оправлен в аксамит зеленый и серебро», «Евангелие рукописное в аксамит оправленое в позоло-ченном окладе», иногда указывался мастер или место изготовления переплета: «Евангелие серебряное, марципановое, позолоченное, работа Терциновая»5.
Отсутствие интереса к внешним особенностям книги подчеркивает отно-шение общества к книге, книжности. Такие изменения происходят и книга становится важным и необходимым атрибутом жизни горожан. Она стала до-ступна, превратилась из штучного дорогостоящего предмета, который могли видеть в XVI в. прихожане только издалека, в руках священнослужителей, и который воспринимали главным образом как важную деталь церковного бо-гослужения, в книгу, читаемую для себя. В XVIII в. в городской среде во взаи-моотношениях читателя с книгой прочно установились отношения, главным смыслом которых было раскрытие и познание содержания, смысла, который призвана передавать книга читателю. Внешние особенности книги не имели принципиального значения, они служили лишь внешней оболочкой, кото-рая определяла функциональное назначение книги (напрестольное Евангелие должно быть большого формата, в роскошном переплете и т. п.) и возможно-
1 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Т. 1. Приложе-ния. С. 169; Пам’ятки братських шкіл на Україні. С. 31.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 7, 9.3 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». С. 369.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 7, 7 об., 9.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 981. Л. 1—1 об.; 986. Л. 23 об., 24.
525§ 3. Инвентари, описи и реестры
сти покупателя (книги в переплетах были дорогими и изготовлялись в неболь-ших количествах, чаще всего продавались книги без переплетов). Массовый читатель XVIII в. чаще всего держал в руках книгу без переплета, и главная ее ценность была в содержании.
В инвентарях конца XVI—XVII вв. важным элементом описания являет-ся указание на способ изготовления книги. Поскольку в конце XVI — начале XVII в. рукописные книги составляли значительную часть книжного собрания, то особо указывались книги, написанные на пергамене. В описаниях 1579 г. значатся две книги на пергамене в собрании Успенской церкви и две — в со-брании Онуфриевского монастыря. Как предмет особой гордости отмечено Учительное Евангелие «друкованое новое»1, изданное Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем (Заблудов, 1569). В инвентарях 1601 и 1619 гг. подробно описаны печатные кириллические издания. По статьям описания можно иден-тифицировать практически все книги, за редким исключением, когда к момен-ту инвентарного описания в той или иной типографии было напечатано не-сколько изданий книги. Например, в инвентаре 1601 г. упоминается Учительное евангелие. Известно два издания книги: Заблудовское 1569 г. и Виленское 1595 г. Так как типография не названа, то уточнить, какое именно издание было в би-блиотеке братства, представляется практически невозможным, однако можно сделать предположение, что речь шла о Заблудовском издании, которое упо-миналось в инвентаре 1579 г. Однако в инвентаре 1601 г. прямых указаний на типографию, в которой издавалась книга, всего несколько: «Псалтир друкова-ная на десту заблудовского друку», «Книга на десту, зовемая Библия, док-тором Францишком друкованая», «Книга на полдесту, зовемая Катехизис, Францишкова друку» и «Книга премудрости Соломона, Францишкова друку»2. Это книги, представляющие первые кириллические печатные издания и типо-графии Франциска Скорины и Ивана Федорова, которые давно уже не суще-ствовали. Всего же в инвентаре названо 16 кириллических печатных книг, хотя их число значительно больше, так как многие книги, не обозначенные ни как печатные, ни как рукописные, преимущественно являлись печатными.
В инвентаре 1611 г. доля печатных книг значительно возрастает. Только спе-циально отмеченных печатных (из раздела славянских) книг — 44, причем 29 из них имеют указание на место издания. В библиотеке к 1611 году имелись кириллические книги Франциска Скорины (3 издания); 4 книги, изданные в Остроге: «Требник острозкого друку» (1606), «Лhкарство друку острозкого» («Лекарство на оспалый умысл человечий», 1607), «Тестамент» («Тестамент Василия царя Греческого», 1607) и «Часовник старый» (1598); в Вильно: два
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1033. Л. 3 об, 4; 1034. Л. 1. Опубл.: Zubry-cki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. S. 59—60.
2 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Т. 1. Приложе-ния. С. 168, 169; Пам’ятки братських шкіл на Україні. С. 30, 32.
526 Глава третья
экземпляра Псалтыри «на десть» и «Псалтыра на пулдесту», «Молитвы дру-ку виленского» Часослов и Служебник; во Львове: 3 экземпляра «Псалтырок на пулдесть друкованых ве Лвовh» (ок. 1608), Часовник (1609) и 10 экзем-пляров «Кграмматик кгрецкых друку лвовского» (Адельфотес, 1591), а так-же «Требник вес друку стрятинского в двох штуках» (1606). Причем другим почерком были переатрибутированы некоторые книги. Так, Псалтырь, упоми-наемая в инвентаре 1601 г. и в реестре 1611 г., первоначально значилась как Заблудовское издание. Однако слово «заблудовского» было тщательно зачер-кнуто и надписано, что книга «виленского друку»1, так как формат книги обо-значен «на десть», можно атрибутировать это издание как Псалтырь, издан-ную Петром Мстиславцем (Вильно, 1576). Также Служебник первоначально в инвентаре значился как стрятинский, однако в записи сделано исправление: «друку виленского»2.
В описании 1619 г. существенно возросла доля печатных книг (всего назва-но 64 издания). При описании большинства книг названа типография, в ко-торой издана была книга: «Евангелие учительное Крилоское», «Евангелие учительное друку стрятинского», «Премудрости Соломона друку празко-го», «Псалтыр Виленская, на полдесту», «Часослов друку Мамоничева», «Минея избранная друку киевского», «Лhкарство друку острозкого духов-ное», «Часослов львовского друку на осмеринh»3. Таким образом, инвентарь 1619 г. показывает, что распространение книгоиздания меняет систему ценно-стей при характеристике книг. Наряду с такими показателями, как то, что кни-га написана на бумаге или на пергамене, рукописная или печатная, основным атрибутом становится указание места издания или издателя книги. Такое осо-бое внимание к типографии, издавшей книгу, можно объяснить двумя факто-рами: большим интересом в обществе к новому способу изготовления книги и значительным удешевлением стоимости книги, что делало ее более доступной широкому кругу читателей. Интерес братства к изданиям разных типографий объясняется становлением братства как книгоиздателя, который ищет свои особые пути в новом и многообещающем предприятии. Однако место изда-ний некоторых книг, указанных в инвентаре 1619 г., также установить трудно. Например, в инвентаре названы три экземпляра Апостола без указания места издания, это может быть Апостол Франциска Скорины (Вильно, 1525), Ивана Федорова (Львов, 1574), Петра Мстиславца (Вильно, 1576). Печатная Цветная Триодь могла быть либо краковским изданием Швайпольта Фиоля 1491 г., либо московским изданием 1604 г.4
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 369.
2 Там же. С. 371.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 6—9 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т.12.
С. 7—12.4 Крип'якевич І. П. Каталог бібліотеки Львівської Ставропігії з 1619 р. С. 159, 162.
527§ 3. Инвентари, описи и реестры
К концу XVII в. место издания книги уже не играет такой значительной роли, как в начале века. Это связано с тем, что печатные книги перешли из ка-тегории редких, новых, необычных книг, какими они были в начале XVII в., в категорию книг наиболее распространенных и наиболее привычных читателю. Так как типографии издавали книги практически одной тематики, то указание типографии и места издания не имело принципиального значения. В инвента-ре 1688 г. есть только два указания на место издания: «Требник киевский ве-ликий» и «Живота на чтиры месяци киевские»1. Видимо, таким образом были отмечены книги, для которых место издания имело важное и принципиальное значение, выделяющие их из числа других аналогичных книг. В XVIII в. именно место издания книг указывалось в том случае, когда необходимо было подчер-кнуть значимость или особенность того или иного издания: «Евангелие боль-шое аршиновое друку московского, неоправленное» 2, «Библия острозкая» (Острог, 1581), «Требник Петра Могилы» (Киев, 16463). В инвентаре 1758 г. отмечены издания типографий, с которыми братство вело судебные процес-сы — Уневской и Почаевской4.
Инвентари являются уникальными источниками, позволяющими рекон-струировать механизмы функционирования библиотеки братства. Это в основ-ном пометы, которые ставились на ранее составленных инвентарях при реви-зии библиотечного фонда. Это пометы 1615 г. в инвентаре книг 1611 г.5; пометы 20-х годов XVII в. в инвентаре 1619 г.6; пометы 1690 г. в инвентаре 1688 г.7 Все пометы можно разделить на несколько категорий:
— указания на отсутствие книги: «нет», «нет давно», «не нашолся»;— указание на место нахождение книги на момент ревизии: «в церкви», «в
олтари», «в школh», «в друкарни», «в склепу»;— указание на причины и способы перемещения книги из собрания брат-
ства: «дарована», «продана», «помяняно».Пометы о том, что книга не нашлась при ревизии или утеряна, могут слу-
жить основным источником при определении круга чтения членов братства и горожан, пользующихся библиотекой братства. Например, можно сказать, что особой популярностью читателей 20-х годов XVII в. пользовались Триодь Цветная и Постная, Октоих, Минеи, «Ермолой нотованый», который при ре-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1101. Л. 5, 7.2 Там же. Д. 981. Л. 1 об.; Д. 986. Л. 23 об.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1197. Л. 137 об.4 Там же. Д. 986. Л. 29 об.5 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». С. 365, 369—374.6 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 6—12. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12.
С. 7—10, 13, 14.7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1101. Л. 5—10, 11, 15. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1.
Т. 12. С. 29—35.
528 Глава третья
визии «не нашолся». Но помимо богослужебных книг, к сожалению, утеряны были и уникальные издания, которые, видимо, также пользовались большой популярностью читателей — История Греции («Кроника о греках», «Кроника о Грецком панствh»), подаренная братству Иваном Вишенским и книга сочи-нений Иоанна Лествичника1.
Реконструировать круг чтения горожан, а также способы практического использования книг библиотеки, позволяют пометы с указанием, где нахо-дится книга в момент ревизии. Часть книг, которыми пользовались священ-нослужители Успенской церкви как для проведения богослужений, так и для составления проповедей, находилась «в церкви». Часть книг, необходи-мых для обучения детей, — «в школh». Книгу, которую собирались издавать в типографии братства, брали «в друкарню» либо в качестве образца, либо как источник для исправления текста предстоящего издания. Например, со-гласно помете 20-х гг. XVII в. в типографию братства был взят Октоих «друку Острозкого», имелся в виду Октоих, изданный в Дермани (1604). В предисло-вии к первому изданию Октоиха братской типографии среди основных ис-точников исправления текста книги указан «Василии Острозкаго, воеводы Киевского, в Дермани изображенным Октоихом», который был «прилеж-но изследовавше»2. Интересно, что эта книга сохранилась, особый интерес представляет дарственная надпись, из которой узнаем, что она подарена брат-ству в 1605 г. игуменом Дерманского монастыря Исакием Борисковичем: «Я, смиренный и недостойный во священноиноцех Исакие, игумен Дерманский, придал есми сию книгу друкованую, зовемую Осмогласник, до церкви Львовское месцкое храму Успения Пречистое Приснодевы Марии в попе-чение и дозор братству патриаршескому. А хто бы мел сию книгу отдати от тоя святоя обители, или яким же способом восхитити, да буди предан анафеме…»3 Видимо, для исправления текста книги в типографию был взят «Первогласник писаный»4. Помета о том, что в типографию была взята книга Иоанна Златоуста «Беседы на деяния Апостолов»5, может свидетельствовать об издательских планах братства, которые по каким-либо причинам не осу-ществились. Некоторые книги киевского издания, которых было несколько экземпляров («в дуплетh»), находились и в библиотеке, и в книжной лавке «на долh в склепу».
Братство часто дарило книги из своего собрания церквям, монастырям, братствам, частным лицам. Как правило, это были издания братской типогра-фии, но иногда и книги из своей библиотеки, причем не только печатные, но
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 6 об.2 Октоих. Львов, 15 дек. 1630. 2-я группа. Л. [3] об.3 Цит. по: Крип'якевич І. П. Каталог бібліотеки Львівської Ставропігії з 1619 р. С. 160.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 8.5 Там же. Д. 1101. Л. 5 об.
529§ 3. Инвентари, описи и реестры
и рукописные. Большинство помет отмечают сам факт того, что книга была подарена («Триодь постная писаная дарована до монастыря», «Триодь цвhтная друкованая дана до монастыря»), иногда содержится более точное указание, куда и кому подарена книга: Минея на сентябрь была подарена «до Влодимhра», «Псалтир писаная дарована до монастыря отец сербских»1. Продавало братство книги как печатные, так и рукописные. Например, было продано одно из двух имевшихся киевских изданий Минеи Избранной, «Апостол друкованый» (видимо, львовское издание 1574 г. Ивана Федорова), который также был представлен несколькими экземплярами, был продан ар-химандрии [Киевской]2. Интересно, что рядом с пометами о продаже руко-писных книг имеются точные указания, кому именно была продана книга: «Апостол тетрованый писаный продан до Мещисиво села», «Апостол писа-ный продан под Самбур», «Апостол писаный на паперу продан»3. Однако во второй половине XVII в. братство, как правило, и дарило, и продавало только издания собственной типографии. Редкие и рукописные книги для таких це-лей уже не использовались.
В инвентарях встречаются и довольно редкие пометы, которые позволяют узнать о судьбе той или иной книги. Например, в инвентаре есть указание, что Евангелие, изданное на греческом языке, в роскошном бархатном пере-плете с серебряной отделкой братство поменяло4 — видимо, на более нужную им в данный момент книгу. Помета о том, что книга была обменена, — крайне редкая. Братство предпочитало книги дарить или продавать. Интересна судь-ба одной из четырех имевшихся в собрании братства Библий острожского из-дания, которую «дал за спасение свое отец Василий Боярский, настоятель нашей церкви, при погребh сына»5. Эта книга сохранилась и была подробно описана. Маргинальные записи в ней позволяют более полно реконструиро-вать ее историю. Книга принадлежала настоятелю Успенской церкви Василию Боярскому, человеку образованному, пользовавшемуся большим авторитетом у членов братства, и была в его личной библиотеке, о чем свидетельствует за-пись: «Смежи книг Василия Боярского, священника. Року божия 1599». Отец Василий подарил ее своему сыну: «Сия книга, глаголемая Библия словенская в вhчную память отдана мнh отцем моим Василием Боярским»6. Но сын священника рано умер, и Василий Боярский передал эту книгу 9 сентября
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 8; 1101. Л. 6, 6 об.2 Там же. Л. 7.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Л. 7.4 Там же. Л. 9.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 7 об.6 ЛИМ. Отдел фондов (собрание старопечатних книг). Инв. СД 1. Л. [1], [3] об. Опубл.:
Свенцицкий И. С. Опись музея Ставропигийского института во Львове. Львов, 1908. С. 47; Крип'якевич І. П. Каталог бібліотеки Львівської Ставропігії з 1619 р. С. 159.
530 Глава третья
1626 г. братству в память о нем и о других своих сыновьях, чтобы их имена были занесены в братский Помянник1.
Инвентари книг библиотеки братства являются уникальными источника-ми, позволяющими не только реконструировать состав библиотеки, но и про-следить динамику его изменения в течение двухвекового периода ее функцио-нирования.
В основу библиотеки Львовского братства было положено собрание бо-гослужебных книг Успенской церкви. Первое упоминание об этой книжной коллекции встречается в городской судебной книге за 1543 г.2 Библиотека братства начала формироваться в конце XVI в. на основании двух книжных собраний, известных нам по реестрам 1579 г.: инвентарного описания книг Успенской церкви, составленного по результатам ревизии церковного иму-щества, в котором насчитывалось 55 книг3, и инвентарного описания имуще-ства Онуфриевского монастыря, включавшего книжное собрание из 33 томов4. Собрание книг включало в основном церковную богослужебную литературу на церковнославянском языке. Среди книг Успенской церкви две были оправ-лены в дорогие переплеты: Евангелие напрестольное «срhбром оправлено на чотырех углhх 4 евангелисты позлотистых, а посредку таблица срhбрная позлотистая, а на другой стороне 5 пуклев самых срhбрных», Служебник был в переплете с «8 пуклев срhбрных и таблица на срединh срhбрная и защhпки»5. Собрание включало четыре Учительных Евангелия и одну книгу «Поучений» («указней») Иоанна Златоуста, написанную на пергамене. Всего в реестре указано 4 пергаменных кодекса. Многие книги идентифицировать не-возможно из-за весьма расплывчатого описания: «15 книг розмаитых старо-давних». Все книги были рукописные.
Собрание Онуфриевского монастыря включало богослужебные книги, две из них были «на паргаминh». Примечательным является указание на един-ственную печатную книгу в этой коллекции: «Учительных Евангелий двое, едино писаное старое, а другое друкованое новое»6. Речь идет, вероятно, о
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание старопечатних книг). Инв. СД 1. Л. 1—9 2-го счета.2 Ісаєвич Я. Д. Бібліотека Львівського братства. С. 126.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1033. Л. 3 об., 4. Опубл.: Zubrycki D. Histo-
ryczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich. S. 60.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1034. Л. 1. Опубл.: Zubrycki D. Historyczne
badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. S. 59; Немировский Е. Л. Документальные материалы Львовских архивов о последнем периоде жизни и деятельности Ивана Федоро-ва // Исторический архив. М., 1961. С. 235; Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI — перша половина XVII ст.): Збірник документів. Київ, 1975. С. 7.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1033. Л. 2.6 Там же. Д. 1034. Л. 1; Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich
w Galicji. S. 59.
531§ 3. Инвентари, описи и реестры
«Евангелии Учительном», изданном в 1569 г. Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в Заблудовской типографии.
В 1589 г. библиотека братства пополнилась частной коллекцией книг одно-го из «фундаторов» Львовского Успенского братства — Леська Малецкого. Он завещал свое имущество Львовскому братству, в том числе и книги, которые стали основой библиотеки братства. На одном из экземпляров острожской Библии (1581), хранящемся в Библиотеке им. Оссолинских во Вроцлаве име-ется запись, сделанная Леськом Малецким: «Месяца декамбра второгонад-цат дне сия книга, зовомая Быблия, вдана ес в дар училищу школh собор-ного братства лвовскаго во вhчныя лhта от благочестиваго мужа Леонтия, мещанина лвовскаго ктитора, фундатора и старhшину братства и школы лвовское и буди же ему вhчная память»1
Рост числа личных библиотек львовских горожан наблюдается со вто-рой половины XVI в. К концу столетия, по данным сохранившихся источни-ков, было 62 частных книжных собрания2. В том числе собрание книг Леська Малецкого3. Это первое документально зафиксированное собрание книг члена братства. Нам известно и еще одно собрание книг основателей организации — братьев Рогатинцев (в документе 1603 г. говорится о части разделенной между братьями библиотеки — собрании Ивана Рогатинца, состоящем из 39 томов4, однако это собрание книг оставалось частным и братству не принадлежало).
Лесько Малецкий играл заметную роль в жизни православных львовян с 70-х годов XVI в., когда сложились возможности решения львовскими меща-нами конкретных задач в деле отстаивания правовых норм жизни православ-ного населения в городе и для возрождения украинской национальной культу-ры. Он входил с 1579 г. в первый состав Коллегии сорока мужей5. Имя Леська Малецкого встречается во всех известных списках основателей Львовского Успенского братства6. Он принимал самое активное участие в деятельности организации. Видимо поэтому значительную часть своего имущества Лесько Малецкий завещал братству. Кроме ценного книжного собрания, согласно акту от 30 октября 1589 г., он оставил братству в наследство половину всех
1 Немировский Е. Л. Иван Федоров и его эпоха: Энциклопедия. М., 2007. С. 230.2 Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002. С. 361.3 Шустова Ю. Э. Библиотека члена Львовского Успенского братства Леська Малецко-
го // Третьи чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева (Москва, 26—27 октября 2005 г.): Материалы. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 101—104.
4 Александрович В. Бібліотека братів Рогатинців // ЗНТШ. Т. 233. С. 251—256.5 Zubrycki D. Kronika miasta Lwowa. Lwów, 1844. S. 204; Зубрицький Д. Хроніка міста
Львова. Львів, 2001. С. 184.6 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 3—4; Памятники, Временною комиссией для разбора древних ак-
тов. Киев, 1852. С. 59—60; ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 82. Л. 1.
532 Глава третья
имевшихся в его доме «цинових» (оловянных) изделий для изготовления типо-графских шрифтов1, оставшихся после смерти Ивана Федорова у Львовского ростовщика и выкупленных братством. Можно предположить, что кирилли-ческие и греческие шрифты, дополнившие федоровские и использованные при издании Адельфотеса 1591 г., первой изданной в братской типографии книги, были отлиты из металлических предметов домашней утвари Леська Малецкого.
Реестр книг библиотеки Леська Малецкого, датируемый 1590 г., был опу-бликован польским историком Й. Скочеком в 1939 г.2, его оригинал хранится в Центральном государственном историческом архиве г. Львова3.
Собрание насчитывает 23 книги. Книги в реестре разделены на две груп-пы — русские (Libri Rutenorum idiomate) и польские (Libri Polonico idiomate). Первая группа включает 7 книг, вторая — 14 польских и одну чешскую книгу.
Среди «русских» книг 4 рукописи и 3 печатные книги. По своей тематике это литургические и богослужебные книги. Рукописные книги следующие: «Epistoli», которую можно атрибутировать как Апостол, «Часословец», Минея (избранная или на один месяц, в реестре не указано) и Евангелие с Апостолом. Печатные книги включают Апостол (возможно, львовское издание Ивана Федорова 1574 г.), Учительное евангелие, изданное Иваном Федоровым в Заблудове в 1569 г., и «Катехизис».
Книги второго раздела, видимо, все печатные. При их описании не ука-зано, как при описании «русских» книг, печатные или рукописные книги. Тематический состав польских книг шире. Кроме богослужебных книг, собра-ние включало и книги светского содержания, в том числе несколько истори-ческих. Среди семи богослужебных книг библиотеки — Псалтырь, Катехизис и Катехизис малый, Молитвенник, книга «Псалмов 7», Ветхий Завет. Все эти книги атрибутировать довольно сложно, так как к 1590 г. в типографи-ях Речи Посполитой эти книги неоднократно переиздавались. Последнюю книгу можно атрибутировать как «Psalm w siedm pokutnych, przeciwko siedmi grzechom»4.
Собрание включало книги агиографического содержания и жизнеописания Иисуса Христа (возможно — Baltazar Opecij. Żywot. 1517). Книгу, описанную как «Historia Iozepha», можно атрибутировать как «Историю о святом Иосифе патриархе Ветхого завета» (Istorya o śwyętym Józefye Patryarsze starego Zakonu. Kraków, 1530 или 1540).
1 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст. Київ, 1966. С. 177; Он же. Першодрукар Іван Федоров і винекнення друкарства на Україні. Львів, 1983. С. 113.
2 Skoczek J. Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu. Lwów, 1939. S. 167—168.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52. Оп. 1. Д. 337. С. 599, 600.4 Estreicher K. Bibliografia Polska. Kraków, 1882. T. VII. № 115.
533§ 3. Инвентари, описи и реестры
Собрание включало две исторические хроники. Это Хроника Мартина Бель-ского (Bielski Marcin. Kronica wszystkiego swiata. Известны издания 1551, 1554, 1564 гг.) и «Венгерская хроника». Следует отметить и сочинение Аристотеля в библиотеке Леська Малецкого. Это «Problemata Aristotelis. Gadki z pisma… Aristotela… tak przyrodzoney iako y lekarskiej nauki… wybrane. Tlumaczem jest Andrzej Glaber. Kraków, 1535».
Собрание книг Леська Малецкого является довольно традиционным для библиотек львовских горожан. Учитывая дороговизну книг, можно сделать вывод о том, что для горожанина среднего достатка выделение денег для по-купки книг говорит и об уровне культуры этого человека, и о стремлении к расширению своих знаний, и о любви к книге, что является важным, когда мы говорим о человеке XVI в.
Первый известный инвентарь книг библиотеки братства датирован 1601 г. Оригинал его не сохранился, но он известен по двум публикациям XIX в.1 В реестре 1601 г., как и в последующих описаниях книг братства, библиотека делилась на четыре отдела. В основу систематизации библиотечного фонда был положен языковой принцип: книги славянские (на церковнославянском и украинском языках), книги греческие, книги латинские и книги польские («лядские»). Всего библиотека насчитывала 120 наименований книг общим числом 155 томов (см. табл. 32).
Таблица 32
Количественный состав библиотеки львовского братства по инвентарю 1601 г.
№ п/п Название отдела Рукописные книги Печатные
книги Общее число книг
На пер-гамене
На бу-маге
Наиме-нований
Экземпля-ров
I Славянские книги 9 68 16 69 93II Греческие книги — — 7* 6 7III латинские книги — — 30** 21 31IV Польские книги — — 24** 24 24
120 155* В инвентаре отмечено две печатные книги.**В тексте инвентаря особо не оговорено, печатные или рукописные книги имела библиотека.
Бóльшую часть от общего числа книг составляли книги «славянские». Основная часть этого собрания (82,8 %) была представлена рукописными
1 Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. S. 63—68; Го-лубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила. Т. 1. Приложения. С. 167—171; Пам’ятки братських шкіл на Україні. С. 30—33.
534 Глава третья
книгами. Это в основном богослужебные книги, а также сочинения Иоанна Златоуста, Иоанна Лествичника, Феофилакта, Максима Грека, «Правила Св. Отцов», «Книга Никона Чорныя горы» ([Вильно, 1592]), «Космография сербская», История Греции («Хроника о Грецком панствh»), «Стихорат» или «Знаменарий», «Книга Ерван» и несколько рукописных Сборников, содержание которых в инвентаре не раскрыто. Печатные издания были представлены прак-тически всеми действующими к тому времени типографиями кириллической печати. В библиотеке была одна из первых печатных книг кириллицей Триодь цветная, изданная Швайпольтом Фиолем в Кракове в 1491 г. Братство имело три пражских издания Франциска Скорины: «Книга о премудрости Соломона» (Прага, 1517) и другие пражские издания глав из Библии, обозначенные в ин-вентаре как «Библия» и «Катехизис». Книги Ивана Федорова были представле-ны Заблудовским изданием 1569 г. Учительного Евангелия, упоминавшегося в числе книг Онуфриевского монастыря 1579 г., Псалтири с Часословом 1570 г. и львовским Апостолом 1574 г., причем в библиотеке имелось 6 экземпляров Апостола. Была в библиотеке изданная типографией Мамоничей Псалтирь (Вильно, 1576). Из острожских изданий библиотека имела «Книгу о постниче-стве» Василия Великого (1594) и Маргарит (1595).
«Греческие книги» были представлены в основном богослужебной лите-ратурой, а также имелся «Органон» Аристотеля и том сочинений греческого писателя-сатирика Лукиана.
«Латинские книги» включали произведения Вергилия, Горация, Овидия, ис то рические сочинения Плутарха, венецианского историка М. А. Сабелико «О вой не венецкой», «Хронографию», в этот же отдел попала и «Кроничка ру-ская малая». Философия и риторика были представлены сочинениями Ци-церона «Об обязанностях» и «Сентенциями» (изречениями), Валерия Мак-сима, «Диалектикой и риторикой» Минана, «Фразами» Альда Мануция. Большую часть этого отдела составляли латинские грамматики, в частно-сти «Грам матика Олвара» (Эммануила Альвареса) и грамматика Клеонарди (Nikolai Cleonardi. Institutiones absolutissimae in Graecam linguam. Вильно, 1600), и словари, в том числе греко-латинский словарь Никифора, а также церковные книги, в том числе и музыкальные произведения: партесный напев на 8 голо-сов и «Квестионес музика» (оплакивающая).
Среди книг польского отдела преобладает религиозная литература (64 %), а также учительные книги «Жизнь Иисуса», «Рай духовный», «Веридар», «Годинки панны Марии», исторические сочинения «Кроника всего свhта на шесть вhков» (вероятно, Хроника Мартина Бельского, из собрания Леська Малецкого), «История о потопе», «О збуреню Иерусалиму» и полемические трактаты «Показании того, же Христос есть посредником ведле человечества» и «Диспутация Любельская» — антикатолическое произведение Петра Статория «Люблинская диспутация с иезуитом ксендзом Андрианом Радзиминским» (Piotr Statorius. Dysputacya Lubelska. Kraków, 1592). Среди книг этого отдела
535§ 3. Инвентари, описи и реестры
есть книга Марка Аврелия. Польское собрание включает Ветхий Завет, а также отдельно «Книгу премудростей Иисуса, сына Сирахова»; два Катехизиса, в том числе «Катехизм для детей»; книга восьми покаянных псалмов (возможно, ранее книга принадлежала Леську Малецкому); «Сумариус» десяти заповедей Божиих; четыре молитвенника, в том числе «Молитвы православных христи-ан»; Постиллу — сборник проповедей.
Описание книг свидетельствует о том, что братство за первые 15 лет своей деятельности сумело собрать богатую библиотеку. По сравнению с традици-онными книжными собраниями церквей и монастырей библиотека братства была призвана в первую очередь удовлетворять потребности чтения светско-го человека. Коллекция книг собиралась в соответствии с представлениями о круге чтения эпохи гуманизма. Этим объясняется хорошо представленная классическая античная литература. Библиотека была призвана удовлетворять потребности учеников братской школы. Поэтому значительную часть книг со-ставляет учебная литература в соответствии со школьной программой (сло-вари, грамматики, книги по риторике, диалектике, музыке, исторические со-чинения). Братство как приобретало новинки книжной продукции своего времени, в том числе и рукописные фолианты, так и старалось максимально полно представить ранее изданные книги, которые составляли предмет осо-бой гордости печатной книжной продукции того времени: это прежде все-го издания Ш. Фиоля и Ф. Скорины. Феномен библиотеки братства состоял в том, что она стала первым общедоступным книжным собранием, которое собирали светские люди, и которое было ориентировано на светского чита-теля, причем рядового горожанина. Библиотека братства стала играть особое историко-культурное значение в обществе. Прежде всего это книжное собра-ние было призвано удовлетворять интеллектуальные потребности украинских православных горожан в городе, где полноправными правами пользовалось польское католическое население, играло роль духовного центра, в котором украинские мещане черпали силы для отстаивания своих политических и национально-культурных прав.
Второй сохранившийся инвентарь библиотеки братства является состав-ной частью описи имущества Успенской церкви («Стася инвентар скарбу церковнаго»), составленный девятью братчиками «Року Божия 1611 в неделю антипасхи», то есть 31 марта. Опись имущества, включавшая собрание книг, как один из наиболее важных и ценных документов была вписана в так на-зываемый «Альбом Ставропигийского института», красивым почерком, заго-ловки разделов написаны вязью. Текст инвентаря содержит исправления и до-бавления 1615 г.1 Как и предыдущий реестр библиотеки, инвентарь включает
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 365, 369—374.
536 Глава третья
четыре раздела книг, составленных по языковому принципу. Однако первый раздел славянских книг следует дополнить книгами, которые использовались в богослужении и имели драгоценные оклады (напрестольные евангелия, слу-жебники), описанные в числе церковного имущества. Первый раздел инвента-ря, озаглавленный «Книги», имеет два подраздела — «Книги в церкви», вклю-чающий восемь книг, и «В олтари», где находилось четыре книги. За десять лет собрание увеличилось на 95 книг, или на 61 %.
Таблица 33
Количественный состав библиотеки львовского братства по инвентарю 1611 г.
№ п/п Название отдела Рукописные книги Печатные книги Общее число книг
На перга-мене
На бу-маге
Наиме-нований
Экзем-пляров
I Книги 7* 13* 44* 102 170II Греческие книги — — 4* 23 31III латинские книги — — — 19 19IV Польские книги — — — 29 30
173 250*Специально оговоренные в инвентаре.
Начинается инвентарь с описания Библий. Библиотека имела две «Библеи словенских», Библию школьшую, а также появляется «Библея ческая». Больше всего по количеству имелось Псалтырей — 14 книг, включая рукописные и пе-чатные, с толкованиями, с восследованием, учебную (с часословцем), а также роскошную книгу «волоского зводу, злотом переписованая». Также имелось значительное число евангелий, в том числе семь напрестольных в роскошных окладах, довольно подробно описанных, причем большинство описаний до-полнены были позже другим почерком. В описании значатся Учительные еван-гелия, тетраевангелия и апракосные. Существенно собрание пополнилось бо-гослужебными книгами, появилось несколько комплектов Триодей постных и цветных, Миней, Служебников, Уставов, Прологов, Октоихов, Часословов, Требников, Ирмолоев. Причем Ирмологионы имелись двух типов — так назы-ваемые «кулизмяные» (знаменные) и «солмизацийные» (нотные).
По сравнению с инвентарем 1601 г. библиотека пополнилась сочинения-ми Дионисия Ареопагита, пятью книгами «Бесед» Иоанна Златоуста, а также его сочинением «На всh евангелисты толкование». Книгу, обозначенную как «Книжечка Мелетиа святhишого», можно атрибутировать как сочинение патриарха Александрийского Мелетия, изданное в Остроге в 1603 г. на грече-ском и русском языках под заглавием «Диалог, альбо Розмова о православной и справедливой вере единое кафолическое Восточное Церкве». Из острожских
537§ 3. Инвентари, описи и реестры
изданий следует отметить «Лекарство на оспалый умысл человечий» (1607). Собрание пополнилось книгами: Апокалипсисом с толкованиями, «Уставом Иерусалимским», несколькими сборниками и «четьими книгами», содержание которых не раскрывается, в том числе «Книга зовемая четие, на полдесть, в которой тридцать и осм слов». Впервые в инвентаре указаны книги типогра-фии братства, в том числе «Адельфотес» (1591), Псалтырь (ок. 1608) и Часовник (1609), а также Требник (1606), изданный в Стрятинской типографии.
Существенно пополнился раздел «Книги грецкие». Однако следует отме-тить, что на момент составления описания раздел греческих книг претерпел незначительные изменения по сравнению с инвентарем 1601 г. Перечислены были те же семь книг и значилась единственная новая — «Псалтыр грец-кий друкованый». Другим почерком (тем же, что и все пометы, дополнения и исправления в инвентаре), ниже было добавлено описание еще 23 книг. Собрание пополнилось Собранием сочинений Иоанна Златоуста в восьми то-мах, книгой Дионисия Ареопагита на греческом и латинском языках («кгреко-латинум в бhлуй полhтури»). Также описан переплет Евангелия — «в аксамит оправное». Среди нового собрания греческих книг большую часть составля-ли богослужебные — Триодь постная, Триодь цветная («Пендикостарион на пулдесту друкованый»), Псалтырь, два комплекта Миней (одна книга Минея месячная «на весь рок» и Минея из четырех томов (каждый включает по три месяца). Большой интерес представляет запись о том, что пять греческих книг братству были подарены константинопольским мещанином Микеей Каваком. Это богослужебные книги «Евхолой, Анагнастикон, Анфолой, Параклhтик, Типик»1.
Раздел «Книги латинские» по сравнению с реестром 1601 г. значительных изменений не претерпел: 18 книг из 19 полностью повторяют запись предыду-щего описания. За это время появилась только одна новая книга — четырехъ-язычный словарь («Дикционар чтырох языков»). Из этого раздела по сравне-нию с реестром 1601 г. были исключены некоторые книги, которые ранее попа-ли сюда по ошибке. Так, в первый раздел инвентаря 1611 г. попали «Кройничка руская малая», «Партес осмь великих», «Тестаментовых реестров два»2, ко-торые в реестре 1601 г. описаны были в числе латинских книг.
Следующий раздел инвентаря «Книги полские» также по сравнению с описа-нием 1601 г. изменился не существенно. Все книги (за исключением двух) зна-чатся в том же порядке и в рассматриваемом реестре. Собрание пополнилось семью новыми польскими книгами, причем шесть из них поступили в библио-теку после 1611 г., так как вписаны другим почерком. Первой, рядом с заголов-
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 372.
2 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 373.
538 Глава третья
ком раздела, вписана «Библея полская великая друку старого», что говорит о значимости этой книги. Среди новых книг значатся три книги опубликован-ных Сеймовых постановлений (Конституций) Польши и Великого Княжества Литовского («Конституцие книга великая» и «Конституций менших двои»1). Заслуживают внимание «История троянская або венкгерска», Псалтырь, «Мо-лит ва Панска». Также среди новых книг следует отметить «Веридар», который поступил в библиотеку до 1611 г.
За десять лет библиотечное собрание пополнилось значительно книгами славянскими, прежде всего богослужебными, а также можно отметить боль-шое пополнение числа греческих книг. Увеличивается доля печатных книг, рас-ширяется репертуар собрания за счет святоотеческих, исторических юридиче-ских книг.
В «Альбоме Ставропигийского института» практически вслед за описани-ем имущества Успенской церкви и библиотеки братства помещено описание имущества Онуфриевского монастыря: «Скарб святого Онофрия»2, которое
1 В архиве братства сохранилась «Конституция Великого Княжества Литовского, при-нятая на Варшавском Сейме в 1683 г.» (ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 719).
2 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 394—398.
Рис. 14. Инвентарь библиотеки 1611 г. ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей. Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 374—375
539§ 3. Инвентари, описи и реестры
включает библиотеку монастыря «Книги Святого Онофрия»1. Инвентарь не содержит дату. Однако он был составлен не ранее 1610 г., так как здесь имеет-ся датированная запись о вкладе книги. Один заголовок составлен вязью тем же почерком, которым оформлены заголовки инвентаря имущества Успенской церкви. Однако сам реестр написан скорописью, другим почерком. Поскольку ревизии имущества Успенской церкви и Онуфриевского монастыря и ранее (в XVI в.), и позднее проводились одновременно, можно предположить, что и инвентаризация имущества монастыря, зафиксированная в «Альбоме», про-водилась в 1611 г.
Согласно инвентарю, собрание Онуфриевского монастыря включает 41 кни-гу, все они на славянском языке, за исключением одной греческой — рукопис-ного Евангелия на пергамене. В инвентаре отмечено 10 рукописных книг и 8 печатных, хотя доля рукописных кодексов в собрании значительно больше (в инвентаре книг Онуфриевского монастыря 1579 г. была отмечена только одна печатная книга). Из печатных книг только две имеют указание на место издания — Евангелие «друку виленского» (возможно, издание 1600 г.) и Псал-тырь «львовской друкарни» (1608), также отмечен «новый» печатный Слу-жебник (вероятнее всего, Стрятинское издание 1604 г.).
Инвентарь состоит из двух разделов. Первый включает основные богослу-жебные книги. Второй, кроме богослужебных книг, содержит другие религиоз-ные книги. В первом разделе прежде всего описан полный комплект Миней ме-сячных, состоящий из 11 книг (первый том — «месяца септеврия и октоврыя вкупh»), а также Триоди постные, из которых две рукописные и одна печат-ная, Триоди цветные (рукописная и печатная), Прологи, Октоих осьмогласник, Уставы (две рукописи), Псалтырь рукописная, Каноны и молебны Пресвятой Богородицы. Этот раздел содержит описание пяти Евангелий. Здесь отмече-но Учительное печатное евангелие (вероятно, речь идет о книге, упоминаемой еще в инвентаре 1579 г., — заблудовском издании 1569 г.). Описаны оклады трех Евангелий: «Евангелие писаное, злотоглавом старым покритое» (то есть парчой), «срибром оправленное», «срибром оправленое и аксамитом» (то есть бархатом). Одно из Евангелий, виленской печати, в роскошном переплете из бархата и серебра «коштом своим справил и надал его милость пан Никола Вистерник земли Молдавской року 1610»2 за поминовение его супруги, кото-рая была похоронена в притворе Онуфриевской церкви.
Во втором разделе значатся два Апостола (рукописный и печатный), Служеб-ники (рукописный и печатный), Требники, Каноник, два сборника, «Творения отца Кирыла» и братский Помянник.
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 395—396.
2 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 395.
540 Глава третья
Это собрание довольно типично для монастырей начала XVII в. Оно содер-жит практически все необходимые для богослужения книги, также характер-ным является то, что большинство из них являются рукописными, то есть на протяжении уже достаточно длительного времени эти книги собирались, од-нако пополнялись и новыми рукописями, а также постепенно увеличивалась и доля печатных книг.
Инвентарь библиотеки 1619 г., дополненный в 1623—1627 гг.1, позволяет проследить, как пополнялось библиотечное собрание, каким книгам братство отдавало предпочтение, что старалось приобрести для своей книжной коллек-ции. По сравнению с инвентарем 1611 г. книжное собрание увеличилось не значительно (см. табл. 34)2.
Таблица 34Количественный состав библиотеки львовского братства по инвентарю
1619 г.
№ п/п Название отдела Рукописные книги Печатные книги Общее число книг
На перга-мене
На бу-маге
Наиме-нований
Экзем-пляров
I «Книги» 3 33 50 (77 экз.) 86 124
II Церковные книги 10 37 14 61 >74
III Греческие книги — 1 25 20 26IV латинские книги — — 13 11 13V Польские книги — — 29 28 29
13 71 122 206 >266
Согласно каталогу 1619 г. библиотека братства делилась на пять отделов. Первый отдел носил общее название «Книги» и включал 86 названий книг, или 124 тома. Среди книг этого отдела, по сравнению с инвентарем 1601 г., библиотека пополнилась многими выдающимися памятниками книжности. Среди них — первая печатная Библия, изданная на Украине на славянском языке Иваном Федоровым (Острог, 1581). В библиотеке имелось 4 экземпля-ра, из них один описан особо: «В червоном аксамите, осмами нарожница-ми, двома клавзулами срибными украшена, тую дал за спасение свое отец
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1 Д. 1050. Л. 6—12; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 7—14.2 По подсчетам И. П Крипьякевича в 1619 г. библиотека братства насчитывала 200 книг
без учета дублетов, Я. Д. Исаевича — 216 книг, по моим подсчетам в библиотеке насчиты-валось 206 наименований книг общим числом томов — 266 (см. табл. 34). Разночтения при подсчетах возникают из-за неточных статей описания книг в инвентаре.
541§ 3. Инвентари, описи и реестры
Василий Боярский, настоятель нашой церкви, при погребе сына»1. Настоятель Успенской братской церкви был хорошо образованным человеком и имел личную библиотеку, о чем свидетельствуют записи на этой же книге: «Смежи книг Василия Боярского… року Божия 1599»2. Библию подарил Василий Боярский «в вечную память» своему сыну, а после его смерти передал книгу братству. Библиотека значительно пополнилась святоотеческой литературой: книгами Иоанна Златоуста (Беседы на Матфея, Беседы на Иоанна, Беседы на послания апостола Павла, Беседы на деяния Апостолов), Василия Великого, Дионисия Ареопагита, Иоанна Лествичника, Феофилакта «Толкование на Евангелия», Максима Грека. В этом собрании содержатся исторические со-чинения: «Кроника писаная о греках», о которой в инвентаре 1601 г. сказа-но, что она была подарена Иваном Вишенским (при более поздней ревизии книг было отмечено, что книга утеряна: «нет давно»); «Кроничка, писаная на осмерне», сборник стихотворений «Торжество», патриарха Мелетия Пигаса «О христианском благочестии к иудеом ответ» (Львов, 1593), «Катехизис лю-теранский» (Несвиж: Тип. Симона Будного, 1562). Многие книги невозможно идентифицировать согласно инвентарным описаниям из-за отсутствия ука-заний на автора или содержание книг: «Сборник на папери», «Сборник на пер-гамине», «Сборничок ин кварто» и др., или невозможно установить, о каком печатном издании идет речь из-за отсутствия указаний на год издания книги, например, «Часослов друку Острозкого» на момент написания инвентаря был переиздан трижды в 1598, 1602 и 1612 гг.
Второй отдел библиотеки братства «Книги церковные», насчитывавший 61 название книг, общим числом томов более 74 (число экземпляров некото-рых книг не указано: «О священстве книг невязаных немало»). Книги этого отдела можно считать тематическим продолжением славяно-украинского со-брания книг, включенных в первый отдел. Здесь описаны книги, используе-мые для богослужений, все на церковнославянском языке, за исключением одного печатного Евангелия на греческом языке. В собрание входила боль-шая коллекция музыкальных сочинений партесного песнопения («Партес великих 7, а малых 8»), «Ирмолой нотованый», «Ермолой кулизмяный на паргамине».
Пополнение отдела «славянского» (который, видимо, для удобства в инвен-таре разбит на два отдела, хотя многие книги по своей тематике и назначению дублируют друг друга) происходило в основном за счет печатных изданий. Если в 1601 г. печатные книги составляли 21 % от общего числа книг «славянского» отдела, то в 1619 г. их доля в коллекции была 46 %. Помимо книг типографий, существовавших с XVI в., братство стремилось представить в библиотеке из-дания как типографий XVI в., уже прекративших свое существование, так и но-
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 9.2 Крип'якевич І. П. Каталог бібліотеки Львівської Ставропігії з 1619 р. С. 159.
542 Глава третья
вооснованных в начале XVII в. Значительно расширился список Острожских изданий: Молитвенник («Молитовник, имhя в себh церковная последова-ния») 1606 г., Полуустав 1612 г., «Лhкарство на оспалый умысл человhчий, а особливе на затвердhлые сердца людские, заведенные свhтом, альбо яки-ми грhхами» 1607 г. (отдельно в инвентаре указан «Тестамент», являющийся частью «Лекарства…»: «Тестамент Василия цесаря кгрецкого»). В инвентаре указано 2 экземпляра Октоиха «друку Острозкого»1. Вероятно, имелся в виду Октоих, изданный в 1603—1604 г. в Дермане по заказу К. К. Острожского. В му-зее Ставропигийского Института был Октоих, подаренный братству в 1605 г. дерманским игуменом Исаакием Борисковичем2.
Виленские издания, представленные в 1601 г. только одной книгой, по-полнились Учительным Евангелием (1595), Служебником (1617), Псалтирью (возможно, издание 1596 или 1600 гг.) и Часословом (к 1619 г. в Вильно было предпринято четыре издания — 1574, [1592—1601], [1582] и 1617 гг.). В ин-вентаре указан Молитвенник Виленского издания, какой именно из издан-ных к тому времени Молитвенников, 1598, 1602 или 1612 гг., имелся в библио-теке, сказать трудно, возможно, было несколько разных изданий этой книги. Крылосская типография была представлена Учительным Евангелием 1606 г., Стрятинская — Служебником («Божественныя литургия») 1604 г., Требником 1606 г. и Учительным Евангелием, изданием, не сохранившимся до наших дней3. Из киевских изданий библиотека имела Минею Избранную 1608 г. (известна только по косвенным источникам), Анфологион (1619). Согласно припискам в инвентаре 1623—1627 гг., библиотека пополнилась книгами Иоанна Златоуста «Беседы на 14 посланий Св. Апостола Павла» (1623), «Беседы на Деяния Апостолов» (1624), «Триодь Постная» (1627). Львовские издания, то есть кни-ги, отпечатанные в братской типографии, в библиотечном инвентаре значатся частично. Из изданных до 1620 г. 15 наименований в инвентаре представлены только 7 (Адельфотес. Грамматика доброглаголевого еллинословенского языка 1591 г., Псалтырь 1608 или 1615 гг., Часослов 1608 или 1609 гг., Иоанна Златоуста «О воспитании чад» 1609 и «Книга о священстве» 1614 гг., Памвы Беринды «На Рождество вирши для утехи правослвным христианом» 1616 г.). Это объясняет-ся, вероятно, тем, что остальные книги имелись в наличии на складе книг типо-графии и свободно продавались в книжной лавке всем желающим.
В библиотеке братства были представлены практически все типографии кирилловской печати, действовавшие в Речи Посполитой. Однако полного комплекта всех изданных книг ни одной из типографий библиотека не имела. Пополнение библиотеки преимущественно печатными изданиями отражает характерные черты первой четверти XVII в., когда интенсивно развивается ти-
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 9.2 Крип'якевич І. П. Каталог бібліотеки Львівської Ставропігії з 1619 р. С. 160.3 Упоминается в инвентаре библиотеки братства 1637 г.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 159.
543§ 3. Инвентари, описи и реестры
пографское дело на Украине, что способствует возрастанию интереса к книге, к чтению, к образованию в городской среде.
Практически не изменился состав книг «греческого отдела», по сравнению с 1611 г. В основном представлены печатные издания духовного и богослужебно-го содержания, патристика. Можно говорить о том, что греческие книги поль-зовались читательским спросом. Так, из восьмитомного собрания сочинений Иоанна Златоуста одна книга была уже утрачена («тилко пятого тому книги нет»). Среди новых поступлений следует отметить «Псалмы вhршем друко-ваные маленькие». В этот раздел попали греко-латинский словарь Никифора и грамматика Клеонарди (Nikolai Cleonardi. Institutiones absolutissimae in Graecam linguam. Вильно, 1600), которые в инвентарях 1601 и 1611 гг. значились в числе латинских книг.
Отдел «Латинских книг» насчитывал 11 книг, что значительно меньше по сравнению с описаниями 1601 и 1611 гг. Это можно объяснить тем, что не-которые книги, ранее значившиеся в числе латинских, были описаны в числе книг других разделов, а также тем, что к 1619 г. в школе братства было уже до-статочно хорошо поставлено изучение латинского языка и, возможно, именно латинские книги, причем в основном художественная литература и философ-ские трактаты, пользовались большой популярностью среди читателей, и этих книг просто не было в библиотеке на момент инвентаризации. Коллекция ла-тинских книг пополнилась еще несколькими латинскими словарями и тремя томами Аристотеля.
Пополнился, хотя и незначительно, отдел «Книги польские». Среди новых книг следует отметить «Катехизм лютерский», что говорит об интересе брат-чиков к протестантскому движению и стремлением пополнять книжное со-брание книгами и католическими, и протестантскими.
Можно сказать, что к 20-м годам XVII в. были выработаны основные прин-ципы пополнения библиотечного фонда, определены главные направления книгособирания, которые формировались под влиянием практического ис-пользования той или иной литературы. Библиотека отразила основные осо-бенности отношения к книге того времени. Книга стала не только общедоступ-ной, превратилась из объекта почитания в объект познания, но и стала основ-ным средством получения практического знания, необходимого простому го-рожанину в его повседневной жизни.
Спад активности братства после 30-х годов XVII в. не отразился на стрем-лении братчиков пополнять свою библиотеку новыми книгами. Тяжелое ма-териальное положение братства в середине XVII в., вызванное годами воен-ного лихолетья, не помешало значительно увеличить библиотечный фонд. Сохранившийся инвентарь библиотеки 1688 г.1 (см. табл. 35) позволяет про-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1101. Л. 5—10, 11, 15. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 29—35.
544 Глава третья
следить изменение отношения к отдельным категориям книг, произошедшим в течение XVII в. Если в конце XVI — начале XVII в. первостепенное значение уделялось литературе на родном языке, то в конце XVII в. эта литература заня-ла свое важное, почетное место в книжном собрании библиотеки, но предпо-чтение было отдано литературе классической (латиноязычной), причем боль-шое внимание уделялось современным авторам.
Таблица 35Количественный состав библиотеки львовского братства по инвентарю
1688 г.№
п/пНазвание от-
делаРукописные
книги Печатные книги Общее число книг
На пер-гамене
На бу-маге
Наимено-ваний
Экзем-пляров
Наиме-нований
Экзем-пляров
I Славянские книги 8 113 71* 192 192
II латинские книги — 17 63 125 80 142
IIIГреко-
латинские книги
— — 23 23 23
IV Греческие книги — — 56 59 56 59
V Польские книги — 10 23 33 33
8 140 236 384 449*Только книги, которые отмечены в инвентаре как печатные.
В конце XVII в. при описании церковнославянских книг практически от-сутствует указание места издания, часто не указано — книга рукописная или печатная. Только два издания отмечены в инвентаре как книги киевской пе-чати: «Требник киевский великий» (1646) и «Живота на чтири месяци ки-евские», возможно, это книга Лазаря Барановича «Żywoty świętych» (Киев: Тип. Лавры, 1670). Среди печатных книг — в основном богослужебные из-дания, а также книги современных украинских авторов Сильвестра Коссова «Патерикон» (Paterikon abo zywoty SS. Oycow pieczarscich. Киев, 1635), Иоаникия Галятовского «Ключ разумhния священником законным и свhцким нале-жачий» (Киев, 1659) и «Новое небо» (Львов: Типография Михаила Сльозки, 1665), Антония Радивиловского «Огородок Марии Богородицы» (Киев, 1676) и «Вhнец Христов. Казаня на всh недели» (Киев, 1688). Значительно пополни-лась коллекция святоотеческой литературы. Первое место принадлежит про-изведениям Иоанна Златоуста. Библиотека имела 23 книги Златоуста, причем 13 из них рукописные. Это «Беседы на деяния Апостолов», «Слово на пост», «Беседы на послания Апостола Павла», «Поучения», «Псалтырь толковая»,
545§ 3. Инвентари, описи и реестры
«Беседы на Апокалипсис» или «Беседы на Иоанна Богослова», «О священстве» (печатное издание 1614 г. и два рукописных сборника), «Чудо», «О вере, надеж-де и любви» и др. сочинения.
Библиотека имела несколько томов сочинений Василия Великого, Григо-рия Богослова, Ефрема Сирина, Кирилла Александрийского, Дионисия Ареопагита «О священстве» (два рукописных сборника), сочинения Ефрема Антио хийского, патриарха Антиохийского Анастасия Синаита, Максима Ис-повед ника, «Толковая Псалтырь» Афанасия Великого, «Слово» и «Писания» (рукописные) и «Дискурс» (печатная) Иоанна Дамаскина, Епифания, житие Иоан на Лествичника, житие преподобного Григория (два рукописных сборни-ка) и другие житийные сборники. Коллекция пополнилась несколькими исто-рическими сочинениями — рукописными сборниками «История о семи собо-рах» и «О соборах» (видимо, две редакции одного произведения).
Отдел латинской книги по сравнению с 1619 г. претерпел значительные из-менения. Здесь представлены практически все периоды античной литературы (и греческой и римской), византийская литература, итальянские авторы эпо-хи Возрождения, современная богословская литература. Значительно увели-чилась коллекция философских сочинений книгами Аристотеля, в том числе «Метафизикой», а также комментариями на Аристотеля, сочинениями Валерия Максима, Мелисса Самосского, Оригена «Твердыня» (Adamanti) в 2-х томах. Более полно представлены сочинения Марка Туллия Цицерона: философский трактат «Об обязанностях», «Об ораторстве», а также «Речь в защиту Марка Целия Руфа». Пополнилась коллекция учебных пособий. В инвентаре указа-ны учебники логики, диалектики, риторики, «Начальная логика», «Введение в диалектику» Порпорити и «Ораторство» Франческо Бенеса. Среди посо-бий по грамматике — фундаментальное сочинение Присциана «Institutiones grammaticae» (Грамматические наставления) в 18 книгах, латинские граммати-ки Корнелия Валерия в 4-х книгах и Эммануила Альвареса, а также латинские словари и даже турецко-арабо-персидский словарь.
Книги по истории представлены сочинениями Ксенофонта, Юстина «Historiae Philippicae ex Trogo Pompejo», биографией Гая Юлия Цезаря, Ф. Кореса «Октавиан», М. А. Сабеликуса «История Венеции», «История теологии», книга для чтения «История духовная». Художественная литература представлена со-чинениями Вергилия, двумя изданиями Горация, в том числе «Поэтического искусства» (Ars poetica), Овидия «Послания с Понта» и «Героиды», Себастьяна Актомедия «Французские элегии». Братство приобрело чрезвычайно попу-лярный в то время трактат на этические темы Франческо Петрарки «De reme-diis utriusque fortunae». Хорошо была представлена и религиозная латинская литература: сборники проповедей, полемические произведения, в том числе «Евангелие Доминика».
В инвентаре 1688 г. особо выделяются книги «греко-латинские», то есть книги греческих авторов в переводе на латинский язык. Конечно, это деле-
546 Глава третья
ние условно, так как и в отделе «латинских книг» содержится много сочи-нений греческих авторов, но основным принципом формирования «греко-латинского» отдела библиотеки было собрание произведений, написанных на греческом языке, которые были «программными» для православной церкви. Однако строго этот принцип не соблюдался при комплектовании отдела. Сюда включены сочинения Отцов церкви Иоанна Златоуста, Дионисия Ареопаги-та, Епифания Александрийского, Антония Великого, Максима Исповедника, Апол лония Александрийского. Собственно греческая литература представлена сочинениями Аристотеля «Ана литика» (в 2-х книгах) и «Органон», Гелиодора «Эфиопика» (Эфиопские приключения), трагедиями Еврипида и баснями Эзопа. Учебная литература представлена «Грамматическими наставлениями» Присциана, двумя греко-латинскими словарями и Латино-греко-немецким словарем Н. Н. Кларора.
Среди книг «греческого» отдела встречаем опять сочинения Иоанна Зла тоус та, комментарии к «Илиаде» епископа Фессалоникийского (Солунского) Евстафия, сочинения Аристотеля, в том числе «Искусство риторики», два тома сочинений Плу тарха («Сравнительные жизнеописания»), Лукиана, Демосфена (2 книги, в том числе «Оратор»). Впервые в коллекции братства упоминаются сочинения Сократа и Платона, несколько учебников философии, в том числе «Предмет фи-лософии». Но большую часть этого собрания составляет религиозная богослу-жебная литература, среди которой назван некий «Афонский сборник».
Отдел польской литературы не претерпел существенных изменений по срав-нению с 1619 г. Собрание пополнилось несколькими сборниками пропове дей, в том числе Иосифа Пивина «Камень». Сюда были отнесены чешские издания Библии и «Космографии».
Таких же тенденций при пополнении своей библиотеки братство придержи-валось и в XVIII в. Отличие состоит только в том, что после принятия в 1708 г. унии, братство активно собирает «программную» католическую литературу, как классическую, так и современную. Это прежде всего богословские трактаты, исторические и полемические произведения, католическая богослужебная ли-тература. Однако переход братства под юрисдикцию римскокатолической церк-ви привел к конфликту с Папской нунциатурой именно из-за книг, как издавав-шихся в типографии братства, так и находившихся в библиотеке. Комиссия нун-циатуры в 1726 г. провела ревизию книг и, сделав вывод, что книги в основном «схизматические», не соответствующие католическому вероучению, наложила секвестр на книги библиотеки и типографии братства. Библиотека и книжные склады братства были опечатаны прокурором епископской курии Митрофаном Фатовичем1. В 1727 г. комиссии Конгрегации по распространению веры издает
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 881. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона: Материалы, относящиеся к истории Львовского Ставропигиона в 1700—1767 гг. / Копыстянский А. Львов, 1936. Ч. 1. № 79. С. 131—132
547§ 3. Инвентари, описи и реестры
декрет, которым обязует комиссию Нунциатуры возвратить братству книги и создает новую комиссию для проверки книг1. Комиссия проверяла книги брат-ства более года. В 1728 г. нунций Викентий Сантини подписал декрет о воз-вращении библиотеки после проверки книг2. Однако возвращать ее не торопи-лись. Прошел еще один год, а библиотека все еще находилась под секвестром. В 1729 г. братство обращается с протестацией против невыполнения прокуро-ром Епископской курии распоряжений папы о возвращении ему типографии и библиотеки3. Невозвращение библиотеки было связано с начавшей в 1730 г. кампанией по проверке и исправлению церковнославянских книг4. Результаты этой акции были весьма плачевны для украинской культуры и книжности в особенности. Со всего края собирались книги, которые не соответствовали ка-толическому закону, и уничтожались за «odszczepieństwo»5. За два года работы этой комиссии было уничтожено большое количество уникальных памятников книжности, среди которых и рукописные книги, и печатные издания6. Именно этим обстоятельством А. С. Петрушевич объяснял большую редкость многих печатных изданий XVII в7. (а сегодня можно говорить и о полной потере от-дельных изданий, сведения о которых сохранились лишь в различных косвен-ных источниках). После возвращения братству книг было принято решение о регулярных ревизиях библиотеки братства Комиссией нунциатуры. Однако, насколько часты были такие ревизии, сказать трудно, поскольку известен толь-ко один акт Комиссии нунциатуры о результатах ревизии финансовых дел и движимого имущества братства, проведенной в 1758—1760 гг.8
Последний из сохранившихся полных инвентарей библиотеки братства был составлен комиссией Папской нунциатуры в 1732 г.9 при проверке недвижимо-
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 890, 891. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. № 83, 90. С. 135—136, 141—142.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 897, 903. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. № 92. С. 143—146.
3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 909. Опубл.: Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. № 98. С. 154—156.
4 Петрушевич А. С. Хронологическая роспись церковных и мирских русско-словенских книг, напечатанных кирилловскими буквами в городе Львове, начиная с 1574 до 1800 года // ВСИ. 1885. С. 125.
5 Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. S. 29.6 Огієнко І. Історія українського друкарства: Історично-бібліографічний огляд україн-
ського друкарства XV—XVIII вв. Київ, 1994. С. 119—120.7 Петрушевич А. С. Хронологическая роспись церковных и мирских русско-словенских
книг. С. 125.8 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 986. Опубл.: Юбилейный сборник в память
350-летия Львовского Ставропигиона. Ч. 1. № 133. С. 234—267.9 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 3. Монастырь Василианов
во Львове. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 62 — 63 об., 74 об., 81 об. — 88 об.
548 Глава третья
го имущества братства. Этот инвентарь отличается от предыдущих тем, что книги в нем систематизированы не только по языковому признаку, но отдель-но указаны печатные и рукописные книги собрания. Статьи описания чрезвы-чайно краткие, как правило, указан только автор книги или краткое название, что значительно затрудняет идентификацию многих книг.
Таблица 36Количественный состав библиотеки львовского братства
по инвентарю 1732 г.
№ п/п Название отделаОбщее число
наименований книг
Общее числоэкземпляров
книгI Церковные книги 34∗ 49II Латинские печатные книги 68 68III Латинские рукописные книги 18 18IV Польские печатные книги 34 34V Греко-латинские печатные книги 26 26VI Славянские печатные книги 65 67VII Славянские рукописные книги 99∗ 99
Всего 344 361* В том числе 4 рукописные. ** В том числе 4 «Сборника» на пергамене.
По сравнению с инвентарем 1688 г. общее число книг уменьшилось:
Инвентарь Общее числонаименований книг
Общее числоэкземпляров книг
1688 г. 384 4491732 г. 344 361
Это можно объяснить несколькими причинами: 1) последствиями кампа-нии по проверке и исправлению церковнославянских книг; 2) многие книги читателями не возвращались в библиотеку братства (в инвентаре не упомина-ются многие наиболее популярные книги классической греческой и латинской литературы, философские и богословские сочинения; 3) в инвентаре полно-стью отсутствует описание книг на греческом языке, довольно хорошо пред-ставленных в 1688 г.; 4) некоторые книги братство дарило или продавало, о чем свидетельствуют пометы в инвентаре: Евангелие «дано отцу Теофилу», печат-ное Евангелие в золотом окладе стоимостью 1300 червонных злотых «отдано со всем за откуп шведам»1.
1 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 3. Монастырь Василианов во Львове. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 62.
549§ 3. Инвентари, описи и реестры
Описание «славянских» книг в инвентаре 1732 г. разделено по трем отделам:1) Книги церковные, в том числе
а) Евангелия напрестольные, б) Евангелия в окладах и без («tak oprawne, jako y proste»);
2) Книги славянские печатные («Libri Sclavonice impressi»);3) Книги славянские рукописные («Libri Sclavonici manuscripti»).По сравнению с инвентарем 1688 г. эта часть собрания братства пополни-
лась новыми богослужебными книгами, изданными в украинских типографи-ях, а также некоторыми изданиями московской печати (Евангелие «большое аршиновое в секстернах, в дощечки только оправленное», 12 Миней1) и чеш-скими изданиями («Пророчества» и Требник2). Кроме сочинений Иоаникия Галятовского и Антония Радивиловского, описанных в инвентаре 1688 г., ука-зан Большой требник Петра Могилы (Киев: Тип. Лавры, 1646). Собрание сочи-нений Отцов церкви пополнилось «Историей» Иоанна Дамаскина и «Учением Преподобного Саввы», житием Григория Критского, а также богословским со-чинением о Св. Троице.
Отдел латинских печатных книг пополнился сочинением Цицерона «О го-сударстве», комментарием Корнелия Лапиде на книгу Ветхого завета «Песня Песней» («Canticum Canticorum»), «Хронографией» Генебрарди (Genebrardi), сборниками по юриспруденции («De judico particulari», «Judex librorum»), со-чинением Франческо Петрарки «De remediis utriusque fortunae», трактатами со-временных теологов и др. Отдел рукописных латинских книг в основном пред-ставлен такими книгами, как «Философия», «Риторика», «Риторика и фило-софия», «Диалектика и этика», «Физика и метафизика», «Теология», «Теология Академическая» в 4-х книгах, «Логика» и др.
Отдел польских книг практически не претерпел изменений, пополнился не-сколькими новыми сборниками проповедей, богослужебными книгами, а также двумя книгами об искусстве политического красноречия «Orator polityczny».
Наибольшее число новых поступлений произошло среди «греко-латинских» книг. Эта часть библиотеки пополнилась сочинениями Ксенофонта, Ликофрона (вероятно, поэмой о предсказательнице гибели Трои Кассандре), трактатами по этике Эпиктета и Аристотеля, учениями Григория Агриколы и доктора Петра Арсения, поэтическими произведениями Христиана, а также греко-латинской Библией в четырех частях, сборником Псалмов Давида, греческо-латинским словарем и толковым словарем (Annotationes verborum).
Сложно объяснить отсутствие собственно греческих книг, подробно опи-санных в инвентаре 1688 г. Ни одна из книг этого отдела не упоминается в инвентаре 1732 г. Вероятно, члены комиссии папской Нунциатуры, проводив-
1 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 3. Монастырь Василианов во Львове. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 63 об., 74 об.
2 Там же. Л. 86, 86 об.
550 Глава третья
шие ревизию библиотеки братства, не могли описать эти книги и полностью проигнорировали их. Предположение о том, что все книги на греческом языке (Платон, Сократ, Плутарх, Лукиан, Демосфен и др.) могли быть потеряны или реквизированы, представляется маловероятным.
Одним из последних крупных пополнений библиотеки братства был дар настоятеля Успенской церкви Антона Левинского, члена братства, одного из образованнейших людей своего времени. Сохранился реестр этой библиотеки (составленный, видимо, в 1777 г.1), который позволяет заглянуть во внутрен-ний мир этого человека. Попытка заглянуть в личную библиотеку, которая изначально собиралась для себя, для нужд греко-католического священника, позволяет также выявить круг наиболее популярной литературы среди укра-инских горожан в конце XVIII в. Конечно, рассматривая эту коллекцию, необ-ходимо помнить о том, что такое собрание не было рядовым и такую подборку литературы имел не каждый священник. И все же некоторые обобщения мож-но сделать, поскольку библиотека стала впоследствии достоянием обществен-ной организации и была доступна каждому заинтересованному человеку.
Каковы же главные отличия библиотеки второй половины XVIII в. от би-блиотеки XVII в.? В инвентарном описании книги нет ни одного указания на материал, из которого сделана книга. Судя по составу описанных книг, все они были печатными (см. табл. 37). Рукописная книга, а тем более пергаменная, вряд ли была в частной библиотеке в XVIII в. Более доступными были печат-ные книги, они не были редкостью и не представляли для их владельцев такой ценности, как в начале XVII в., когда ценилось каждое издание каждой типо-графии. Предположение, что в библиотеке Антона Левинского не было руко-писных книг, можно подтвердить тем, что основная доля этих книг приходи-лась на богослужебные книги. Эти книги в библиотеке греко-католического священника занимают далеко не первое место. Книги, которые имели перво-степенное значение, можно отнести к разряду «латинских» книг, хотя в инвен-таре особо это не оговорено. Латиноязычная литература составляет основную часть библиотеки и помещена составителем инвентаря (возможно, им был сам владелец библиотеки) на первое место. Интересно, что раздел «греческих» книг отсутствует. Все греческие авторы, имеющиеся в библиотеке, — в латин-ском переводе. Интересной особенностью также является то, что описание книг приводится на том языке, на котором они написаны, с некоторыми уточ-нениями по-польски. Все более ранние инвентари книг библиотеки братства составлялись на одном языке (украинском или польском), что говорит о хоро-шей образованности составителя инвентаря, свободно владеющего латинским и украинским (в конце XVIII в. знание украинского языка становилось боль-шей редкостью среди украинских горожан, чем знание латыни, даже некото-рые члены братства «родным» языком не владели).
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1197. Л. 136—137 об.
551§ 3. Инвентари, описи и реестры
Таблица 37
Количественный состав библиотеки антона левинского 1777 г.
Книги латинские
Книги польские
Книги «русские» Всего
Наименований 93 9 15 117Экземпляров 253 19 18 290
Состав библиотеки также значительно изменился. Большое место занимает литература по теологии. Это фундаментальные труды видных богословов, поль-зовавшиеся большой популярностью в то время и входившие в круг «программ-ной» литературы каждого образованного католического священнослужителя. В библиотеке Антона Левинского были четыре тома «Моральной теологии» Франческо Генетто (Genetto F. Theologia moralis juxta Sacrae Scripturae. Venetiis: Apud Paulum Balleonium., 1713. 7 v.; или Theologia moralis, seu Resolutio casuum conscientiae, juxta Sacrae Scripturae. Parisiis: Apud Jacobum-Henricum Pralard, 1718. 5 v.; или Parisiis: Apud Andraeam Pralard …, 1702—1703. 7 v.; или Parisiis: apud Jacobum-Henricum Pralard, 1718); два тома «Моральной теологии» Петри Коллета (Collet P. Institutiones theologiae moralis. Lugduni: Bruyset, 1768 или Parisiis, 1775) и «Моральная теология» Ф. Потестатио; пятитомник «Теология схоластическая» Петри Коллета (Collet P. Institutiones theologi scholastic. Lugduni: apud Ioannen Mariam Bruyset, 1768 или Parisiis, 1775); «Теология догматико-моральная» Даниэля Концина в 10 томах (Concina D. Theologia christiana dogmatico-moralis. Romae: prostant venales Venetiis, apud S. Occhi, 1749—1751). Из религиозной лите-ратуры отец Левинский имел историко-богословский трактат папы Бенедикта «Деяния Соборов» (возможно, идет речь о папе Бенедикте XIII (1724—1730) или о папе Бенедикте XIV (1740—1758)), или же о издании Declaraciones, y addi-ciones a las constituciones del synodo del obispado de Huesca, celebrado en el aγno de 1738. / Dispuestas, y reflexionadas por … D. D. Antonio Sanchez Sardinero obispo de dicho obispado; del el consejo de Su Magest. &c. y publicadas en el synodo. Impressas en Huesca: Por Joseph Diego de Larumbe, [1745], включающем «Ven. fratri Antonio Episcopi Oscensi. Benedictus Papa XIV. Venerabilis frater, salutem, & apostolicam Benedictionem». В библиотеке имелись анонимные трактаты об институте свя-щеннослужителей, о церковной иерархии, о христианстве; полемические сочи-нения, направленные против кальвинизма и лютеранства, полемическое сочи-нение Людовика Хедера «Суд конфессиональный»; настольные книги священ-ника — катехизис католический, сочинения Отцов церкви; сборники для про-поведей «Библиотека моральная» в 4-х томах и «Библиотека поучений» Локнери в 3-х томах. Патристика была представлена сочинениями Иоанна Златоуста, Григория Нисского, Ефрема Сирина, Клементия Александрийского, Блаженного Августина и др. Были также современные авторы: «Толкование на Евангелия» Николая Мостини, комментарии к Библии «Камень» Корнелия. Интересно, что
552 Глава третья
особое место в библиотеке занимает юридическая литература: Свод канони-ческого права, Свод гражданского права, Законы королевства Польши в двух томах, «Буллариум» (Bullarium) папы Бенедикта XIV в двух томах, «Церковный канон», трактаты Теодора Бальзамо «Общее право», о. Николая «Церковное право», комментарии к церковному праву, «Право каноническое».
Особый интерес вызывает подборка классической античной литерату-ры. Именно эти книги наиболее ярко могут раскрыть сферу интересов и при-страстий человека. Антон Левинский имел несколько книг Вергилия, Овидия, Цицерона «Оратор», Юстиниана «Руководство законоведения» (Institutiones). Но самой большой была подборка книг по истории. Это сочинения Тита Ливия, Иосифа Флавия, Прокла, Саллюстия «Заговор Катилины» (Cjniuratio Catilinae), Сульпиция Севера «Очерки всемирной истории». Эту библиотечку истори-ческой литературы дополняли произведения современных авторов по исто-рии: «Breviarium Annaliu Baroni» (Разные краткие истории), «Анналы» Георгия Кедрени, «Краткая история христианства» Франса Паги, «История духовная» Наталиса Александрийского, «Становление патриаршества» и др., а также «Хроника Польши» (Chronica Polonorum) Мачея Меховского. Кроме истори-ческих сочинений в библиотеке были книги и по другим областям знаний: «Всеобщая география» Самюэля Бохарда, Грамматика Эммануила Альвареса, различные словари (латинские, греко-латинские), в том числе «Агиолексикон» До миника Марки.
Среди немногочисленной подборки польских книг большинство — доволь-но старые и редкие к тому времени издания: ставшие к середине — второй половине XVIII в. обязательными полемические сочинения конца XVI — на-чала XVII в. Петра Скарги «О единстве церкви» (O jedności kościola Bożego pod jednym pasterem i o greckiem od tej jedności odstąpieniu, z przestrogą i upominaniem do narodów ruskich, przy Grekach stojących. Вильно, 1577), которое знамено-вало, по мнению многих историков, начало литературной полемики между католиками и православными в конце XVI в.; «Диспутация Любельская» — антикатолическое произведение Петра Статория «Люблинская диспутация с иезуитом ксендзом Андрианом Радзиминским» (Piotr Statorius. Dysputacya Lubleska. Kraków, 1592), эта книга впервые упоминается в инвентаре библиоте-ки братства 1601 г.; сборник проповедей «Постыла» (Martin Białobrzecki. Postilla ortodoxa. Kraków, 1585.), а также «Проповеди» Бальзамо. Две книги отражают основное направление развития греко-католического монашества того време-ни: «Правила (чин) Св. Василия» и жития святых Василианского ордена. Среди польских книг значится «Политика» Аристотеля, но, вероятнее всего, ее следу-ет отнести к латиноязычным книгам.
Подборка «русских» книг включила в себя практически все наиболее зна-чительные произведения украинской литературы XVII в. Примечательно, что начинается этот перечень с острожского издания Библии 1581 г. — первой
553§ 3. Инвентари, описи и реестры
печатной библии на церковнославянском языке. В собрании были две книги Иоанна Златоуста киевского издания «Беседы на 14 посланий Св. Апостола Павла» (Киев, 1623) и «Беседы на Деяния Апостолов» (Киев, 1624), Сильвестра Коссова «Патерикон» (Paterikon abo zywoty SS. Oycow pieczarscich. Киев, 1635), Требник Петра Могилы (Киев, 1646), Иоаникия Галятовского «Ключ разумhния священником законным и свhцким належачий» (Киев, 1659), две книги Антония Радивиловского «Огородок Марии Богородицы» (Киев, 1676) и «Вhнец Христов. Казаня на всh недели» (Киев, 1688), Стефана Яворского «Камень веры» (Москва, 1728 или Киев, 1730). Также собрание включало не-кую Грамматику «на способ Альвареса» (составленную по типу граммати-ки Эммануила Альвареса) и «Лексикон з руськоi на грецкей и латинский». Именно эти книги составляли основной круг чтения в конце XVII в. и остава-лись наиболее читаемыми в XVIII в.
Читателями библиотеки были не только члены братства, но главным об-разом ученики и учителя братской школы, работники братской типографии, монахи Онуфриевского монастыря, горожане Львова и других городов, свя-щеннослужители, приезжавшие за книгами со всего края. Сохранились мно-гочисленные свидетельства о том, как именно использовался библиотечный фонд братства. Например, в апреле 1613 г. Памво Берында взял в бибилотеке латинский словарь, который был ему необходим для работы над своим тол-ковым словарем «Лексикон славеноросский», вышедшем в Киеве в 1627 г. («Далем отцу Памвh десят граматик и 20 книжок “О воспитанiи” чад до ро-спроданя, зас далем ему ж книгу дикционар»1). Член братства Михаил Слёзка, талантливый типограф, работавший не только в типографии братства, но и основавший собственную типографию, в предисловии к «Апостолу» цити-рует многие книги из библиотеки Львовского братства: Плутарха «Морали» и «Сравнительного жизнеописания», биографию Юлия Цезаря, Цицерона, Вергилия «Энеиду», Лукиана, басни Эзопа, «Одиссею» Гомэра, Блаженного Августина, епископа Никейского Анастасия, сочинения отцов церкви Наталия, упоминает Муция Сцеволу2.
Библиотека, которую братство собирало в течении XVII—XVIII вв., была уничтожена пожаром 1779 г. Количественный состав библиотеки в XVII в. можно реконструировать по сохранившимся инвентарям. В XVIII в. мате-риалы ревизии библиотеки братство отправляло на рассмотрение Папской Нунциатуры в Варшаве, поэтому в архиве братства сохранились лишь фраг-ментарные сведения о составе библиотеки. Установить численность библиоте-ки перед пожаром точно по известным на сегодняшний день источникам не-возможно. Однако можно предположить, что это собрание состояло из почти тысячи томов (см. табл. 38).
1 АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 350.2 Апостол. Львов: Тип. Михаила Слёзки, 1639. Л. [3], [4], [5], [7 об.], [8], [9], [10].
554 Глава третья
Таблица 38
Количественный состав библиотеки братства по материалам инвентарных описаний книг 1579—1777 гг.
Годсоставленияинвентаря
Книгиславян-
ские
Книгилатинские
Книгигреческие
Книгипольские Общее число книг
наимено-ваний
экземпля-ров
1579(Усп. церкви) 28 — — — 30 55
1579(Онуфр.
м-рь)13 — — — 13 33
1601 93 31 7 24 120 1551611 102 19 23 29 173 250
[1611](Онуфр.
м-рь)36 41
1619 147 11 20 28 206 2661637 145 16 68 32 263 2801688 192 80 79 33* 384 449
1697 (ноты) — — — 467** —1732 214 86 27 34 344 3611758 23+[63]*** [60] [5] [19] 23+[137] 48+[137]
[1771] Книги Ивана
Горбачев-ского
1 14 — 2 17 29
[1777]Б-ка АнтонаЛевинского 15 93 - 9 117 290
*В том числе 3 чешские книги.**Число хоровых произведений партесного пения (мотетов или концертов на 3—12 голо-
сов).***В скобках указаны максимальные инвентарные номера книг описи 1758 г., которая не со-
хранилась, данные приводятся на основании извлечений 1760 г. из этой описи.
Несмотря на то, что состав библиотеки постоянно изменялся, многие книги из собрания братство дарило, продавало, некоторые экземпляры терялись, им на смену приобретались новые книги, к концу XVII в., то есть за столетний пе-риод существования библиотеки, книжное собрание было увеличено почти в 5 раз, спустя еще 100 лет и это количество томов было удвоено (см. диаграмму 3). Следует отметить, что издания типографии братства включались в описания
555§ 4. Исходящая и входящая корреспонденция
книг библиотеки только в первой половине XVII в., и то частично. Во второй половине XVII—XVIII вв. издания типографии братства хранились отдельно от библиотечного фонда, на специальных книжных складах. Во время пожара 1779 г., уничтожившего книги библиотеки, складские помещения пострадали не так сильно и бóльшая часть тиражей книг сохранилась.
Диаграмма 3. Изменение количественного состава библиотеки братства в конце XVI—XVIII вв.
Но при огромной роли библиотеки братства в городской среде XVII—XVIII вв. отношение к ней было особенным и своеобразным с точки зрения современного человека. Библиотека не была целостным и самодостаточным институтом в представлении львовских братчиков. Ценились отдельные книги, но не книжное собрание как объект культуры, гордость вызывали те или иные книги, но не уникальная коллекция, собиравшаяся по опреде-ленным принципам. Библиотека не осознавалась братчиками как самостоя-тельный институт, как отдельный целостный и самодостаточный механизм, требующий особого, специфического подхода к ее организации и функцио-нированию. В библиотеке не было постоянного библиотекаря, который сле-дил бы за порядком использования книг, не велся ни учет библиотечных поступлений, ни контроль за использованием книг читателями, в результа-те чего книги часто терялись, о чем свидетельствуют пометы в инвентарях: «нет», «нет давно», «не нашолся». Лишь иногда братство назначало «до-зорцев» для составления описи имеющихся в библиотеке книг. Можно ска-зать, что из всех заведений братства (школа, типография, госпиталь) библи-отека даже не воспринималась братчиками как отдельное самостоятельное «заведение». Библиотека не имела постоянного места хранения, инвентари книг являлись составной частью описания движимого имущества братской Успенской церкви. Это свидетельствует о высокой ценностной значимости
Число наименований книги
Количество экземпляров книг
556 Глава третья
книг для членов Львовского братства, которые ставили их в одном ряду с предметами сокровищницы церкви, иконами и другими предметами церков-ного убранства, которые имели прежде всего сакральное значение для людей XVI—XVII вв. Но в то же время можно проследить наметившиеся в обществе изменения в восприятии библиотеки как «духовного», «сакрального» фено-мена, имевшего отношение к главной в мировосприятии людей той эпохи, но все же одной стороне жизни человека и общества, к общекультурному, более широкому и более рационалистическому отношению к книжному наследию. Формировалось восприятие собрания книг как объекта культуры, призван-ного решать конкретные практические задачи во всех сферах жизнедеятель-ности человека. Об этом свидетельствуют книги библиотеки, которые актив-но использовались в братской школе по разным дисциплинам и отраслям знаний: литература юридическая, необходимая братству для ведения различ-ных судебных процессов, научные трактаты.
Роль библиотеки в системе деятельности братства скорее прикладная, би-блиотека мыслилась как необходимая, но все же вспомогательная часть куль-турно-просветительской деятельности братства. Интересно, что после пожа-ра братство тщательно пытается составить реестры книг, изданных в своей типографии и поврежденных пожаром значительно меньше, чем библиотеч-ное собрание, скрупулезно переписывались названия книг, количество экзем-пляров, цена. Но ни один документ не содержит записей о потерях ни ма-териальных, ни моральных, понесенных братством в результате гибели книг библиотеки. Известно, что библиотека сразу же начала комплектоваться за-ново. Заботы по собиранию новой библиотеки взял на себя член братства, настоятель Успенской церкви, ученик Антона Левинского Иван Горбачевский. Горбачевский продолжал собирать библиотеку согласно тем принципам, по которым собирались книги и ранее: литература по богословию, истории, учебные пособия на латинском, греческом, польском, немецком и украин-ском (церковнославянском) языках1. Благодаря сохранившимся инвентарным описаниям книг библиотеки братства, отдельным дошедшим до нас книгам, имеющим свою судьбу и биографию, мы можем глубже осознать идеологию Львовского братства, глубже понять те мотивы, которыми руководствовались простые горожане Львова, вырабатывая приоритетные направления деятель-ности своей организации, а это в свою очередь поможет поиску ответов на более общие вопросы о направленности братского движения Украины и его роли в национально-культурном Возрождении конца XVI — начала XVII в. Библиотека братства вместе с его типографией и школой выполняли в тече-ние всей его истории одну из главных функций его национальной культурно-просветительской программы.
1 Андрохович А. Отець Іван Горбачевський, примірний парох Ставропігійського брат-ства (1743—1806) // Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 93, 95.
557§ 3. Инвентари, описи и реестры
личные библиотеки членов львовского братства
Личные библиотеки XVI в. представляют особый феномен в изучении как истории функционирования книги в культуре, так и распространения книго-собирательства среди представителей разных социальных групп. Для изуче-ния истории украинских книжных собраний особый интерес представляют библиотеки львовских горожан. Только среди львовских архивных докумен-тов конца XVI—XVII вв. сохранились перечни книг горожан. Лишь отдельные свидетельства имеются о библиотеках жителей Луцка, Перемышля, Каменца и некоторых других городов1. Сохранившиеся источники о личных библиотеках XVI—XVII вв., собранных львовскими горожанами, представляют значитель-ный интерес не только для осмысления круга чтения этих людей, сфер их ин-тересов, возможностей и желания покупать книгу, ценности самих книжных собраний как существенной части движимого имущества и т. д., но и для более глубокого понимания духовно-религиозных, культурных конфликтов между горожанами — представителями разных конфессий, национальностей.
Личные библиотеки имели уже основатели братства — Лесько Малецкий, братья Юрий и Иван Рогатинцы. Л. Малецкий завещал свою библиотеку в пол-ном составе братству, а в 70-х гг. XVIII в. ему подарил свое книжное собрание Антон Левинский, поэтому их характеристика была дана выше при рассмотре-нии истории братской библиотеки. Многие члены братства в XVII—XVIII вв. имели книжные собрания. К сожалению, не все описания этих библиотек со-хранились. Один из членов братства Гавриил Ярошевич в 1618 г. говорил, что он имеет много книг отеческих и богословских2. Источниками о количествен-ном и качественном составе книжных собраний членов Львовского братства являются инвентарные описания имущества, составленные при решении во-просов наследования имущества после их смерти.
* * *Нам известно и еще одно собрание книг основателей организации — бра-
тьев Юрия и Ивана Рогатинцев (в документе 1603 г. говорится о части разделен-ной между братьями библиотеке — собрании Ивана Рогатинца). Впервые ис-следование сохранившегося инвентаря книжного собрания провел В. С. Алек-сандрович3.
Братья были выходцами из местечка Рогатина, что недалеко от Львова, ко-торый был значительным торговым и ремесленным центром. Их отец Кузьма был ремесленником среднего достатка, владел ремеслом седельника, которое
1 Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002. С. 357.2 Ісаєвич Я. Д. Книгозбірні й книгарство // Історія Львова. Львів, 2006. Т. 1. С. 187.3 Александрович В. С. Бібліотека братів Рогатинців // Записки наукового товариства
імені Шевченка. Т. 233: Праці Історично-філософської секції. Львів, 1996. С. 251—256.
558 Глава третья
передал своим сыновьям. Братья поселились в предместье Львова в 1570-х гг. Они стали активными деятелями Львовского братства, в 1588 г. они были из-браны его старейшинами. Именно они выступали за создание при братстве школы и руководили выкупом типографского оборудования Ивана Федорова и налаживанием деятельности братской типографии1. Юрий и Иван Рогатинцы отличались широтой взглядов, что проявилось в их общественной, политиче-ской и религиозной деятельности. Так, в 1593 г. Юрий вместе с полемистом Стефаном Зизанием был приглашен Виленским братством вести «сильную и великую войну с римляны»2. В октябре 1596 г. он принимал участие в Брестском церковном соборе, отстаивая антиуниатскую позицию Львовского братства.
Полемику с Юрием Рогатинцем вел Иван Вишенский. Свои аргументы афонский монах изложил в 1605 г. в «Послании к Домникии»3. Активное уча-стие братьев Рогатинцев в религиозно-полемической деятельности позволили в свое время И. Я. Франко рассматривать Юрия Рогатина как автора одного из выдающихся полемических произведений начала XVII в. — «Перестороги»4. Однако эта гипотеза не нашла поддержки у исследователей этого произведе-ния. Деятельность братьев Рогатинцев позволяет утверждать, что это были хо-рошо образованные люди, что подтверждает и библиотека, которую они со-брали.
Известие о библиотеке сохранилось в материалах судебного процесса за наследство отца между детьми младшего из братьев — Ивана Рогатинца, ко-торый умер в 1603 г. К сожалению, материалы дела не содержат полного ин-вентарного описания книг библиотеки, а содержат перечень только тех книг, которые принадлежали наследникам Ивана5. Так как эта часть составляла 39 томов, можно предположить, что библиотека братьев составляла не менее 80 книг. А учитывая, что Юрий в большей степени проявил себя в полемиче-ской деятельности, возможно, ему принадлежала и более значительная часть книжного собрания.
В собрании книг, отошедшем наследникам Ивана Рогатинца, были дублеты книг, поэтому 39 томов дают 27 наименований книг. Среди них первенцы ки-риллической печати на Украине — львовские и острожские издания. В собра-нии значатся три экземпляра острожской Библии (1581), причем одна в пере-плете, а две — без переплета. Также в описании значится еще одна «Библия рус-
1 О братьях Рогатинцах см.: Капраль М. Брати Рогатинці — старійшини Львівського Успенського братства // Україна в минулому. Київ; Львів, 1992. Вип. 2. С. 50—60.
2 Кулиш П.А. Материалы для истории воссоединения Руси. М., 1887. Т. 1. С. 57. (Барку-лабовская летопись).
3 Вишенський Іван. Твори. Київ, 1986. С. 172—180.4 Franko I. Z dziejów synodu brzeskiego 1598 r. // Kwartalnik Historychny. Lwów, 1895. S. 22.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52. Оп. 2. Д. 391. С. 947. Опубл.: Александрович В.С. Бі-
бліотека братів Рогатинців. С. 256.
559§ 3. Инвентари, описи и реестры
ская», возможно, это рукописная книга. Из острожских изданий в библиотеке имелось четыре экземпляра Нового завета с Псалтирью (Острог, 1580), «Книга о постничестве» Василия Великого (1594), Маргарит Иоанна Златоуста (1595) и «Апокрисис албо отповедь на книжкы о соборе берестейском» Христофора Филарета ([Острог, 1598—1599]). В описании значатся две «Псалтири русские», которые можно атрибутировать как Псалтирь с восследованием (Острог, 1598) или одно из виленских изданий Псалтири 1576, 1596 или 1600 гг. Из виленских изданий — два экземпляра, один из которых в переплете, «Сборник поучений Геннадия патриярха Константинопольскаго, по наречению Сколяриса, диалог или само друга розмова» (Тип. Мамоничей. [не ранее 11 марта 1585]), а так-же «Катехизис русский», который можно атрибутировать либо как Катехизис Симона Будного (Несвиж, 1562), либо как Катехизис Петра Канизия (Вильно: [Тип. Мамоничей], 1585).
В описании библиотеки указывались две книги, которые можно атрибутиро-вать как Апостол: «Dzieje apostolskie ruskie» («Деяния апостольские русские»), которых было два экземпляра, один из них — «в досках», и «Powieść dziei spo-stolskich ruska s. Łukasza» («Повести деяний апостольских русcкая Св. Луки»). Возможно, речь идет о львовском издании Апостола Ивана Федорова (1574), на фронтисписе которого изображен евангелист Лука. Также Рогатинцы имели первую книгу, изданную в типографии Львовского братства, — «Адельфотес. Грамматику доброглаголиваго еллинословенскаго языка, совершеннаго иску-ства осми частей слова» (1591).
Значительную часть собрания составляли рукописные книги, среди кото-рых сочинения Григория Назианского, «Беседы» Иоанна Богослова, «Никон, или повесть святого Иоанна Златоуста о святых отцах», «Повесть» Максима Свято горца. Рукописи братья Рогатинцы не только покупали, но и специально заказывали их изготовление для своего собрания. Сохранилось свидетельство о том, что некий юноша Иванко «книги святых отцов писал Рогатинцам»1.
Собрание включало три книги на польском языке. Это Библия в переплете, Новый завет и «Травник» («Herbarz рolski»). Вероятнее всего речь идет о двух-томном издании доктора Мартина Ужендова «Herbarz polski, to iest O przyrodze-niu zioł y drzew rozmaitych, y innych rzeczy do lekarztw nalezących» (Kraków, 1595). Значительную часть собрания составляли книги на греческом и латинском язы-ках. Рогатинцы имели две Библии на греческом и латинском языках, в том числе одну в четырех томах и три экземпляра Нового Завета также с параллельными текстами на греческом и латинском, а также Лексикон греческий с латинским. Среди книг на греческом языке — Новый завет в двух экземплярах и «Органон» Аристотеля. Из латинских книг — «Epistole familiaris» Цицерона, две книги (воз-можно речь идет о венецианских изданиях «Epistolae ad familiars»70-х — 90-х гг. XV в.) и две грамматики — «Throdori grammatika» и «Ursini grammatika».
1 MCS. Р. 419.
560 Глава третья
Судьба библиотеки братьев Рогатинцев не известна. Частично об этом со-брании говорится в документе 1618 г. — завещании Ивана Ивановича Ро га-тинца, который завещал своему брату Кузьме «Библию руську» (Острог, 1581), «Руський Завет», который можно атрибутировать как Новый завет с Псалтирью (Острог, 1580) и несколько польских книг1.
Ценными являются владельческие записи, которые позволяют просле-дить судьбу книг из библиотеки братьев Рогатинцев вплоть до сегодняшнего дня. На экземплярах Нового завета с Псалтирью (Острог, 1580) из собрания Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге имеются владель-ческие записи Ивана Рогатинца: «Иван Козмич Рогатинский» (шифр экзем-пляра I.5.37) и «Иван Козмич» (шифр экземпляра I.5.37а)2. Недавно в научный оборот была введена запись из рукописной книги «Слова» Иоанна Богослова, которая хранится в отделе рукописей Харьковской научной библиотеки им. В. Короленко НАН Украины (№ 81916). На первом листе книги написана аббре-виатура: «Ю.И.К.Р.С.М.Л.», которую можно прочитать как владельческую за-пись: «Юрий, Иван Кузьмичи Рогатинцы седельники, мещане львовские». На обороте листа запись свидетельствует о том, что эта книга входила в часть со-брания, отошедшего наследникам Ивана Рогатинца, а впоследствии, не позд-нее 1616 г. перешла в библиотеку Дерманского монастыря: «Книга монасты-ра Дерманского потомком Ивана Рогатинця сполнего розделу досталася»3. Эту книгу можно атрибутировать как значащуюся в перечне «Rozmowy ruskie świetego Jana».
Библиотека братьев Рогатинцев показывает, что основатели братства были весьма образованными людьми, знающими греческий и латинский языки, чи-тающими сочинения отцов церкви и полемическую литературу, античных авто-ров и научные сочинения, библейские книги на разных языках. Особенностью этой частной библиотеки является то, что здесь не было богослужебных книг, за исключением Апостола и Псалтири, которые в данном контексте можно рассматривать как составные части Библии, которые дополняли эти тексты в составе других книг Ветхого и Нового заветов.
* * *Сохранился инвентарь библиотеки влиятельного члена братства Романа
Стрилецкого, который называет 23 книги4. Он был составлен после смерти
1 Александрович В. С. Бібліотека братів Рогатинців. С. 254.2 Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. Львів,
1983. С. 86, 141; Немировский Е. Л. Начало книгопечатания на Украине: Иван Федоров. М., 1974. С. 118; Он же. Иван Федоров (около 1510—1583). М., 1985. С.182; Ісаєвич Я. Д. Літера-турна спадщина Івана Федорова. Львів, 1989. С. 157.
3 Цит. по: Александрович В. С. Бібліотека братів Рогатинців. С. 255.4 Skoczek J. Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu. S. 419—420.
561§ 3. Инвентари, описи и реестры
братчика в 1651 г. Подавляющее большинство книг (19) — латинские. Это со-чинения гуманистов Франческо Петрарки, Джовани Пико делла Мирандолы (Pico della Mirandola. «Illustrium poеtarum flores»), математика и филосо-фа Джироламо Кардано (Girolamo Cardano), французского автора Иоанна Равизия (Johannes Ravisius Textor) «Theatrum poeticum atque historicum» (Basileae, 1595; Basiliae [Basel]: typis Conr. Waldkirchii, 1600), учебник римского права «Institutiōnes» Юстиниана, «Комментарии» на книги Аристотеля, Петра Ломбарда, Псалмы, Евангелия и Послания апостола Павла.
Также в инвентаре указана некая «греческая книжечка» («Libellus Graecus»), учебник греческого языка. Из славянских книг — «старая» Псалтырь. Также имелось сочинение Мелетия Смотрицкого «Апология…» (Smotrycki Meletiusz. Apologia peregrinatiey do kraiow wschodnych… sporządzona y podana a. 1628 Augusti, die 25… Львов: Тип. Шелиги, 1628).
Это собрание позволяет проследить смену круга чтения членов братства к середине XVII в. В большей степени читаемы были сочинения античных ав-торов, итальянских гуманистов, а вот сочинений отцов церкви среди книг Романа Стрилецкого нет совсем.
* * *Книжное собрание Константина Мадзапеты заметно отличается от пре-
дыдущих как по количеству книг, так и по языковому составу. Сохранившийся инвентарь содержит 136 позиции, но число книг библиотеки можно опреде-лить как более 212 книг (некоторые позиции реестра содержат указание на число одноименных книг, а некоторые обозначены как «связка книг»).
Первое сообщение в историографии о библиотеке Мадзапеты содержится в монографии С. Баронча1. Публикацию книжного реестра с атрибуцией боль-шей части указанных в инвентаре книг предпринимает Й. Скочек2. Однако до сих пор в работах, посвященных как истории Львовского братства, так и исто-рии книжной культуры Украины, это собрание книг, равно как и другие библи-отеки членов Львовского братства конца XVI—XVIII вв., не рассматривалось.
Библиотека, известная нам по инвентарю 1650 г., составленному после смерти Константина Мадзапеты, собиралась на протяжении многих лет как минимум двумя поколениями этого рода. Как владелец крупного книжного со-брания известен был Мануил (Манолис) Мадзапета. Он был одним из видных представителей греческой общины Львова, где поселился во второй половине XVI в.3 Жил он на улице Руськой — в квартале, где проживало украинское на-
1 Barącz S. Pamiętnik Dziejów Polskich, z Aktów urzędowych lwowskich i z rękopismów ze-brań. Lwów, 1855. S. 40.
2 Skoczek J. Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu. S. 391—400.3 Лило І. М. Нариси з історії грецької громади Львова XVI—XVII століть. Львів,
2002. С. 119.
562 Глава третья
селение города, где располагалась православная Успенская церковь. Для жи-телей Львова XVI—XVII вв. самоидентичность этнических групп осущест-влялась в первую очередь по религиозному признаку. Именно поэтому мно-гие греки, преимущественно купцы, осевшие во Львове и посещавшие право-славный храм, воспринимались не как «чужие», а как «свои» — представители одной греческой веры. Именно поэтому греки принимали активное участие в общественной жизни украинской общины города. На протяжении всей исто-рии Львовского братства среди его членов постоянно присутствуют предста-вители греческих фамилий, часто в нескольких поколениях.
В «Терминале реестра до братства вступаючих з датком року Божого на-роженя 1586»1 значатся пять греков, в том числе и Манолис Мадзапета. Как видный братчик он был захоронен в крипте Успенской церкви. Манолис Мадзапета был успешным купцом, образованным человеком, знающим не-сколько языков. Среди прочего он торговал и книгами. В свое книжное со-брание он вкладывал значительные средства, и современники отмечали значи-тельную библиотеку Мадзапеты, которая была, безусловно, одной из лучших среди частных библиотек горожан. Собирание книг продолжил сын Манолиса Константин Мадзапета.
Константин, как и его отец, был активным членом Львовского братства. В 1633 г. на элекционном собрании братства он был избран заместителем стар-шего братчика и ему были вверены ключи от братской сокровищницы. Ему и писарю братства В. Буневскому братство поручило следить за уровнем церков-ного пения среди учеников братской школы. В 1636 г. он был избран предста-вителем Коллегии сорока мужей (Collegium quadraginta virorum) — представи-тельство городской общественности (поспильства) при Магистрате города.
О точной дате смерти Константина Мадзапеты не известно. В литературе существует несколько предположений о времени и месте его смерти, согласно которым называется 1648 или 1649 г. Известный нам инвентарь библиотеки 1650 г. был составлен уже после смерти Константина Мадзапеты. Его един-ственный сын, тоже Константин, не был членом братства, уехал из Львова и служил в Черниговском военном гарнизоне, где получил звание майора2.
Инвентарь сохранился в числе актов городского архива в составе описа-ния имущества Константина Мадзапеты. В нем содержится перечень книг би-блиотеки без какой-либо систематизации. Указано 136 наименований книг. Мадзапеты собрали очень богатую библиотеку, включавшую книги на пяти языках: греческом, славянском (русские книги), латинском, польском и чеш-ском. В основном это были печатные книги, хотя встречается и несколько руко-писей («Xięga Varia… z Herbem Boiarskim» и пергаменный привилей (диплом) доктора медицины на имя Филиппа Феодосия Лясковского). Около трети книг
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 82. Л. 1.2 Лильо І. М. Нариси з історії грецької громади Львова. С. 120—121.
563§ 3. Инвентари, описи и реестры
составляли религиозные сочинения, остальные — книги по философии, клас-сической филологии, юриспруденции.
На греческом языке указано пять книг. Среди них две значатся просто как «книга греческая» («ksiąszka graecka», «ksiąszka graecka in 8uo»). Остальные кни-ги — библейские тексты: Библия in folio, Новый Завет («Grecka ksiąszka Noui Testament») и «Theologorum Graecorum liber in fol.»
Славянских («Ruskih») или кириллических книг отмечено 13 позиций, но книг в библиотеке было больше, так как среди них значатся «книги в секстер-нах русской печати», то есть непереплетенные книги, без указания на название книг и их количество. Интересно, что это собрание включало в основном так называемые четьи книги, предназначенные для душеполезного чтения и обуче-ния, и в меньшей степени богослужебные. Собрание содержит две Псалтыри. Одну из них «Psałterz Ruski wilenski in fol.» можно атрибутировать как издан-ную в Вильно в типографии Мамоничей в 1576 г., другая — «Psałterz Starj Ruski in 4to» — атрибуции практически не поддается, поскольку до 1650 г. только во Львове было издано 6 Псалтырей in 4, в Киеве — 3 книги такого же формата и т. д. Также практически невозможно атрибутировать имевшуюся в библиоте-ки Мадзапеты Триодь («Triodion Ruska in fol.»), поскольку к середине XVII в. многие кириллические типографии издавали и переиздавали Триодь Постную и Триодь Цветную. Среди книг библиотеки значатся еще Полуустав («Połustaw Ruski in folio») и Требник (это может быть одно из изданий: Киев: Тип. Лавры, 1646; Львов: Тип. Арсения Желиборского, 1645; Львов: Тип. Михаила Слёзки, 1644; Стрятин, 1606; Острог, 1606). Значащаяся в инвентаре Минея («Minecha Ruska in fol.»), возможно, «Минея общая Кириллом Философом учителем сла-вян и болгар… составленная» (Киев: Тип. Спиридона Соболя, 1628).
К книгам, которые служили для начального обучения грамоте, относятся прежде всего часословы и буквари. Они издавались и переиздавались доволь-но часто, поэтому сложно атрибутировать Часословец («Czasłowiec Ruski») и Букварь русский («Elementarz Ruski»). Украшением библиотеки можно счи-тать «Книгу о постничестве» Василия Великого (Острог, 1594), «Книгу о свя-щенстве» Иоанна Златоуста (Львов: Тип. братства, 1614), Вертоград душевный (Вильно, 1620), «Беседы огласительные» Макария Египетского (Вильно, 1627).
Из трех книг на чешском языке в инвентаре указаны два Евангелия и одна Библия.
Наибольшую группу книг составляют книги на польском и латинском язы-ках. Однако установить точное их количество довольно сложно, так как мно-гие книги довольно сложно или невозможно атрибутировать. Можно подсчи-тать, что не менее 52 изданий на польском языке и соответственно около 60 книг на латинском.
Среди польских книг библиотеки Мадзапеты в инвентаре указаны Биб лия польская, Новый завет польский (два издания), трижды упоминается Молит-венник с молитвами на польском, переведенными с русского («Modlitwy Polskie
564 Глава третья
z Ruskich przetłumaczone»), Псалтырь польская, «Псалтырь Богородицы» Бона-вентуры (Sw. Bonawentura. Psałterzyk Bogarodzice Nayśw. Maryey. Warszawa, 1624; 1641), «Наука об исповеди» (Nauka o pokucie prawdziwej a mianowicie o gotowaniu się dobrze na spowiedź. Poznań, 1623), Постилла (Postylla Kościelna. Toruń, 1594), «Наука умирать» Яна Янушовского (Januszowski J. Nauka umie-rania chrześcijańskiego. Kraków, 1604 и последующие издания 1608, 1612, 1615, 1619 гг.).
В числе польских книг следует отметить два экземпляра книги Мелетия Смотрицкого «Апология…» (Smotrycki Meletiusz. Apologia peregrinatiey do kraiow wschodnych… sporządzona y podana a. 1628 Augusti, die 25… Львов: Тип. Шелиги, 1628). Здесь же несколько книг Петра Скарги. Два экземпляра кни-ги проповедей — Skarga Piotr. Kazania na niedziele y Święta (Kraków, 1595 и по-следующие издания 1597, 1602, 1609 и 1618 гг.) и два экземпляра житий свя-тых — Skarga Piotr. Żywoty Świętych (Kraków, 1579 и последующие переизда-ния). В библиотеке Мадзапеты была и книга проповедей Фабиана Бирковского (Birkowski F. Kazania na niedziele y Święta doroczne (Kraków, 1620 и последую-щие издания)). Следует отметить «Разговор католического теолога с равви-ном…» Марека Короны (Korona M. Rozmowa Theologa katholickiego z Rabinem żydowskim przy arianinie. Lwów, Druk. kollegiuma, 1645).
Среди польских книг в библиотеке имелись издания Киево-Печерской Лав ры. Значащийся в инвентаре «Раterik Kiiowski» можно атрибутировать как «Патерикон» Сильвестра Коссова (Кossow Silwestr. Paterikon… Киев: Тип. Лавры, 1635), а «Rzewny płacz Mohiły» как сборник стихотворений в честь Петра Могилы, которые декламировались учениками Киевской братской школы «Mnemosyne sławy prac y trudow… Piotra Mohiły… Na pożądany onego wiazd do Kiowa od studentow gymnasium w Bractwie Kiowskim» (Киев: Тип. Лавры, 1633).
В библиотеке Мадзапеты довольно хорошо были представлены книги исто-рической тематики. Среди польских следует отметить «Историю Польши», «Хронику Польскую» (атрибутировать их не представляется возможным), «Хронику» Павла Пясецкого (Chronicon gestorum in Europa singularium a Paulo Piasecio, episcopo Praemi sliensi accurate ac fideliter conscripta. Cracoviae, 1645), «Истории римские разные о разных временах», «О начале народа римского» (Frol J. O początku y dziejach narodu rzymskiego. Kraków, 1646), ряд книг содер-жащих описание двора турецкого султана (Twardowski S. Przeważna legacja… Krzysztofa Zbarackiego… do cesarza tureckiego. Kraków, 1633; Starowolski S. Dwór cesarza tureckiego i residencya iego w Konstantynopolu. Kraków, 1646) и другие трактаты исторической тематики.
Латинские книги составляли самую значительную часть библиотеки Кон-стантина Мадзапеты. Среди них значительную часть представляли сочинения античных авторов. Это книги Демосфена, «Энеида» Вергилия (польское из-дание in 4to, возможно Краков, 1640), басни Эзопа, значатся в инвентаре две книги Овидия, сочинения Цицерона, Тита Ливия. Большая доля среди латин-
565§ 3. Инвентари, описи и реестры
ских книг приходится на книги религиозной тематики. Это Библии, Катехизис, Сочинения Иоанна Златоуста, Житие Фомы Аквинского, сочинения Николая Опацкого, Альберта Магнуса, Мацея Сарбевского, Якуба Заборовского и др.
Самую большую тематическую группу книг библиотеки Мадзапеты со-ставляют словари и грамматики. Среди описанных в инвентаре книг значатся латино-немецкий, латинский, польско-латино-греческий (в 2-х томах) слова-ри, словарь четырехязычный, польско-латино-славянский словарь синонимов, политический тезаурус, словарь А. Калепина (Calepinus A. Dictionrium unde-cim linguarum); несколько латинских грамматик, а также другие грамматики (Alvarus E. De institutione grammatica; Vergara F. De Graecae linguae grammatica. Parissis, 1557); риторики, в том числе Soares Cyprian S. J. De arte Rhetorica libri tres; а также два издания книги Я. Грецера (Gretser J. Rudimenta linguae graecae).
В библиотеке Мадзапеты были представлены книги и из других областей зна ния. В описании книг значатся «Арифметики» как на польском, так и на ла-тинском языках, «Медикохимическая фармакопея», трактат о сохранении здо-ровья «Школа салернитанская» (Szkoła Salernitańska, to iest Nauka doktorów sa-lernitańskich o sposobie zachowania zdrowia dobrego: z dawńa Krolowi angielskie-mu przypisana / przez Hieronyma Olszowskiego. [s.l.] 1637; 1640), «Хронография» Гильберта Генебрарди (Genebrardus Gilbertus. De sancta Trinitate. Parisiis, 1569). Книга, названная в инвентаре «Гиппика о конях» — одно из изданий тракта-та Кшиштофа Миколая Дорохостайского Krzysztof Mikolaj (Dorohostajski K. М. Hippika to iest o koniach xęgi), выходившее в 1603 и 1647 гг. (Kraków: w drukar-ni Andrzeiá Piotrkowczyká, 1603; Kraków: w drukarniey Łukassa Kupisza, 1647). В библиотеке имелись два «Травника», которые в инвентаре обозначены как «Herbarz Polski in folio» и «Zielnik in folio» (возможно, речь идет о изданиях in folio: Marcin (z Urzędowa). Herbarz polski, to iest O przyrodzeniu zioł y drzew roz-maitych, y innych rzeczy do lekarztw nalezących. Kraków, 1595; Syrenski, Szymon. Zielnik Herbarzem z ięzyka lacinskiego zowia, to iest Opisanie własne imion, kształ-tu, przyrodzenia, skutkow y mocy zioł wszelakich drzew krzewin y korzenia ich kwiatu owocow, sokow miasg, zywis y korzenia do potraw zaprawowania takze trun-kow, syropow… etc… Przytym o ziemiach y glinkach roznych, o perlach y drogich Kamieniach, tez ozwierzętach czworonogich czołgaiaczych ptactwie, rybach y tych wszytkich rzeczach ktore od nich pochadzą… Polskiem iezykiem zebrany y na 8 ksiag rozłożony… przez Simona Syrenniusa. Kraków, 1613). Также здесь представлен был «Календарь христианской церкви» (Dubowicz J. Kalendarz prawdziwy cerkwi chrystusowey. Wilna: w druk. Oycow Bázylianow, 1644). Среди книг библиотеки значительное число составляли правовые документы: статьи магдебургского права, сеймовые конституции за разные годы, Луцкая конфедерация 1632 г.
Константин Мадзапета, видимо, был хорошим знатоком музыки. Среди книг значатся 73 книги партесного пения «религии греческой» и «партесы раз-ные шнурами связанные», печатные книги с музыкальными произведения-ми, а также «Табулатура музыки» (Gorczyn J. A. Tabularum muzyki abo zaprawa
566 Глава третья
muzykalna. Kraków, 1647). Можно предположить, что многие произведения из этого собрания исполнялись учениками Львовской братской школы, так как музыкальному образованию в середине — второй половине XVII в. в ней уделяли большое внимание. И, видимо, не случайно именно Константину Мадзапете было поручено следить за уровнем исполнения музыкальных про-изведений школьников.
Анализ состава библиотеки Константина Медзапеты на основании со-хранившегося инвентаря 1650 г. дает основания рассматривать это книжное собрание как одно из значительных среди личных библиотек львовских го-рожан в XVII в. Библиотека позволяет судить о высоком уровне образова-ния представителей рода Мадзапетов, их круге интересов. Библиотека была доступна для желающих, так, книгами пользовались ученики братской шко-лы, а возможно, и другие братчики. Судьба этой библиотеки не известна. Возможно, часть книг оказалась в библиотеке Львовского братства или же в составе других книжных коллекций. Судьбу книг библиотеки Мадзапетов, может быть, возможно проследить, изучая книги Львовских и других книго-хранилищ.
* * *Большую историческую ценность представляют инвентарные описания
имущества Успенской церкви и Онуфриевского монастыря, в которых со-держатся интересные и уникальные сведения о предметах церковного обихо-да (Напрестольные Евангелия, иконы, кресты, посуда, предметы церковного обихода, различные украшения, одежда священнослужителей). Инвентари церковного имущества часто содержат описания уникальных произведений искусства, сделанных львовскими мастерами и привезенных из разных стран1. В инвентарях часто содержатся уникальные сведения, позволяющие узнать от-ношения членов братства, прихожан к тем или иным предметам церковного обихода, понять их значимость в жизни людей того времени. Материалы этих инвентарей позволяют не только ощутить отношения людей к высокохудоже-ственным предметам, но и узнать подробности их повседневной жизни, осо-бенности быта горожан конца XVI—XVIII вв.
В архиве братства сохранился целый комплекс инвентарных описаний иму-щества Успенской церкви и Онуфриевского монастыря:
1) инвентарное описание имущества Успенской церкви и Онуфриевского монастыря 1579 г. с дополнениями 1583 и 1588 гг.2;
1 См. Шустова Ю. Э. Инвентари Львовского Успенского братства конца XVI — середины XVII в. как источники по истории материальной культуры // Ювелирное искусство и мате-риальная культура: Тезисы докладов участников пятнадцатого коллоквиума. С.-Петербург, 10—16 апр. 2006 г. СПб., 2006. С. 113—116.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1033. Л. 1—4 об.; 1034. Л. 1—3.
567§ 3. Инвентари, описи и реестры
2) инвентарное описание имущества Успенской церкви и Онуфриевского монастыря 1611 г.1;
3) инвентарное описание имущества Успенской церкви, составленное в сен-тябре 1619 г.2;
4) «Инвентарь, сиреч порядное описание вещей, обретающихся в скарб-цы церковном при храме Успения Пречистыя приснодевы Мария, во граде Львове, в месте, списанный в року збавеном 1637 марта в 10 дня, мною, негодным рабом Божим Константином Медзапетою, на сей час писарем братским. З старого инвентаря и з прибытком, по леты старейших во бра-тиях зацне славетных п. Гаврилия Ланкгиша, п. Григория Романовича, пана Миколая Добранского, пана Александра Прокоповича»3;
5) инвентарь имущества Успенской церкви 11 мая 1658 г.4;6) «Реестр сосудохранительны инвентару в церкви Успения прсвятыя
Богородица в року 1664, которую отдает пан Василий Леонович пану Ми-хаилу Слезцh при братиях менших депутованых ниже подписанных»5;
7) «Инвентарь братской церкви Успения пресвятыя Богородицы» 9 июля 1666 г., составленный Петром Афендиком6;
8) «Ревизия сосудохранительницы» Успенской церкви 1688 г.7;9) инвентарное описание движимого имущества Успенской церкви и Ону-
фриевского монастыря 19 марта 1692 г.8;10) инвентарное описание сокровищницы Успенской церкви 1695 г.9;11) инвентарное описание движимого имущества церкви Онуфриевского
монастыря 1727 г. с дополнениями 1765 г.10;12) перечни отсутствующих церковных вещей и документов, составленные
комиссией нунциатуры в 1733, 1755 и 1756 гг.11;
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 365—367, 375—381, 394, 396—398. Опубл.: Акты, относящиеся к истории Юж-нозападной Руси / Сост. А. С. Петрушевич. Львов, 1868. № 31. С. 402—408.
2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 1 — 5 об., 12 об. — 17 об. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 11—26.
3 ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 5. Оссолинских. Ед. хр. I, 2170. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 145—178.
4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1069. Л. 24—25.5 Там же. Д. 1086.6 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 22—28.7 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1101. Л. 11—24.8 Там же. Д. 1125. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 35—52.9 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1127. Опубл.: АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 54—56.10 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1162. Л. 1—7.11 Там же. Д. 977. Л. 1—3.
568 Глава третья
13) реестр церковных вещей, составленный в связи с передачей дел дозора церкви Юрия Коцьо Христофору Дейме 1751 г.1;
14) описания имущества Успенской церкви в актах комиссии папской нун-циатуры о результатах ревизии движимого имущества братства 1758—1760 гг. (Inventarium Suppellectitis Eclesiastia)2;
15) инвентарное описание движимого имущества Успенской церкви, со-ставленное после пожара 1779 г. в апреле-мае 1780 г.3;
16) инвентарное описание движимого имущества Успенской церкви с ука-занием их стоимости 1789 г.4
Первые инвентарные описания имущества Успенской церкви и церкви Ону-фриев ского монастыря были составлены еще до организационного оформле-ния братства. В инвентаре указано, что «была схожка мещан львовских ру-ских до манастыря святого Онофрия для осмотреня скарбу всех речей церковных»5. Под «скарбом церковным» подразумевали церковные книги, облачения священнослужителей и особо ценные вещи церковного обихода. В инвентарях 1579 г. это книги, серебряные вещи и некоторые предметы облаче-ния священнослужителей (фелони, стихари, епитрахили). Особо описывались серебряные вещи («сребро церковное»). Особенностью инвентарей 1579 г. яв-ляется указание на стоимость особо дорогих вещей, например при описании «серебра церковного»: «Килих (кубок или потир. — Ю. Ш.) срhбрный позлоти-стый важити 8 гривен срhбра»6, «Една кадилница срhбрная позлотистая ва-жит 7 гривен срhбра», «Кубок, и дискос, и звhзда и лыжка, тое все срhбное и все позлотистое, важит 3 гривны срhбра»7, «Един кухиль з древа чорного срhбром оковани и позлочен — все важит и з древом 4 гривны»8.
Среди предметов церковного обихода описаны кресты, кадильницы, даро-хранительницы, мирницы, венцы, звездицы, дискосы, потиры и другие предме-ты церковной утвари, а также ризы и стихари. В числе имущества церкви опи-сывались и книги, причем особо отмечались оклады напрестольных Евангелий. Заслуживает внимание описание оклада напрестольного Евангелия: «срhбром оправлено на чотырех углhх 4 евангелисты позлотистых, а посредку табли-ца срhбрная позлотистая, а на другой стороне 5 пуклев самых срhбрных». Здесь же описан еще один переплет, более скромный, поэтому описываются
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1178. Л. 1—13.2 Там же. Д. 980, 981. Л. 23—30, 986. Л. 22 об. — 30.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1193. Л. 1—14.4 Там же. Оп. 2. Д. 1382. Л. 1—12.5 Там же. Оп. 1. Д. 1034. Л. 1.6 Там же. Д. 1033. Л. 1.7 Там же.8 Там же. Л. 1 об.
569§ 3. Инвентари, описи и реестры
только его среребряные элементы: «На служебнику 8 пуклев срhбрных и та-блица на срединh сребрная и защhпки срhбрныи»1.
При описании предметов, подаренных церкви, указывалось имя дарителя: «Един кухиль з древа чорного срhбром оковани и позолочен, все важит и з древом 4 гривны. То есть наданя благочестивого и христолюбивого господа-ря Александра воеводы землh Молдавской», «Кадилница срhбрная важит шести гривен срhбра, которую дала церкви Ксения Ивановая Богатирцовая по Иванh мужи своем, з роботою, коштует сhмыдесят золотых», «Третий стихар пьстрый полугатласовый, того дала Ивановая Богатырцевая»2. В ин-вентари при последующих ревизиях церковного имущества вносились поправ-ки. Запись 1581 г. гласит, что «прибыл до церкве образ святой Пречистой», икона была в серебряном окладе, с дорогими каменьями, за который было за-плачено 8 злотых («Филип Волошин дал сhм золотых полских, а мы додали золотый»). Согласно ревизии 1583 г. в церкви «над то прибыло» напрестоль-ное Евангелие в серебряном окладе, «котрый важат гривен срhбра», а также «прибыл крест срhбрный бhлый и з столцем», кадильница, ризы (фелони), в том числе «ризы китайчаный блакитный, который сут обложеный чирвоным аксамитом и нараквицh тогож аксамиту чирвоного»3. При повторной реви-зии имущества Онуфриевского монастыря в 1588 г. было подтверждено, что «все есть уцhлh манастырское, так скарб, як убир церковный», но настоя-тель монастыря отец Леонтий сознался, что 80 злотых, выданных ему на содер-жание церковного имущества в 1579 г., он отдал типографу Ивану Федорову «на Апостолы», а после смерти Федорова он взял 40 экземпляров книги «за тый осьмдесят золотых церковных»4. Это одно из немногочисленных доку-ментальных свидетельств о последнем периоде жизни первопечатника.
Инвентари начала XVII в. отличаются от первых известных инвентарных описаний церковного имущества системностью, более полным описанием каждой вещи. Отдельные разделы инвентарей составляют описания церков-ных вещей: потиров («келихи»), дароносицы («пушечка тайн Христовых», «Гробница для запасного тела Христова»), мирницы, венцов и корон («ко-руны вhнчальные», «коруны на образ»), звездиц, кадильниц и ламп, крестов, икон (в том числе «образы московские оправные» и «образы неоправные мо-сковские», общим числом 10 икон московских иконописцев5), «перстнh» и других предметов.
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Л. 2.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1033. Л. 1 об., 2 об.; 1034. Л. 1 об.3 Там же. Д. 1033. Л. 3 об., 4.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1034. Л. 2 об. — 3. Опубл.: Немировский Е. Л.
Документальные материалы Львовских архивов о последнем периоде жизни и деятельно-сти Ивана Федорова // Исторический архив. М., 1961. С. 235; ПIФ. С. 7.
5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1101. Л. 11.
570 Глава третья
Первый полный инвентарь имущества Успенской церкви, включавший так-же описание книг библиотеки братства, был составлен 31 марта 1611 г. и впи-сан в «Альбом» братства как наиболее важный документ1. Он имеет заголовок «Инвентар скарбу церковнаго: сосудов от срhбра, от злота, от перел, так готовых грош церкви Успения пречистыя богородица во Львове мhсте на-лежный» и содержит дополнения и пометы более позднего времени, вероятно, 1615 г. Инвентарь церковного имущества состоит из 10 разделов (не включая разделы библиотеки), из них восемь имеют заголовки: «Ризы», «Стихарh», «Петрахелh», «Орарh», «Наруквицы», «Понявицы», «Завhсы», «Образы». Два раздела без заголовков содержат описания разных предметов церковной утвари, а именно: кадильниц, киотов, крестов, кубков и чаш, перстней, ло-жек, блюд, мирниц, ламп, панагий, венчальных корон, дискосов, антиминсов, а также жемчуга, ковриков, различных тканей и пр. Среди статей описания следует отметить предметы ювелирного искусства, к которым, судя по более поздним припискам, было особое отношение у самих членов братства. Так, ря-дом с описанием серебряного позолоченного киота другим почерком добав-лено его описание и стоимость: «з трома вежиками (башенками. — Ю. Ш.), на котрых 3 кресты, важит гривен осм и пул»2. Выделяется из всех имевших-ся в церкви крестов — мраморный с шелковым шнуром: «Крест мармуровый срhбром оправный, снурком едвабным». Другим почерком, ниже, сделана за-пись: «Крест самый золотый с камянмh и с перлами, от пани Потоцкой»3, дочери Иеремии Могилы Анны, замужем четвертым браком за коронным гетманом Станиславом Потоцким4. Здесь описаны и некоторые нетипичные для церковного имущества предметы: «Единорожец правдивый», «Шабля ко-зацкая мосюндзом (медью. — Ю. Ш.) оправна»5. Некоторые статьи описания новых поступлений, записанные в инвентаре другим почерком, указывают имена дарителей. Среди них — братчик Габриель Лангиш, который подарил Успенской церкви две серебряные лампы и две серебряные коновочки (круж-ки): «Лhхтаре два срhбрные бhлые, еще коновочок 2 срhбрные бhлые от пана Кгабриеля»6. Лангишовская лампа упоминается и в последующих инвен-тарных описаниях имущества церкви, например 1658 г. Большой золоченый кубок дала церкви Магда Гревская, и «нhякий жолнер» (солдат. — Ю. Ш.), уми-
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 365—367, 375—381.
2 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 365.
3 Там же. С. 366.4 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883. Т. 1. С. 44.5 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского
братства». С. 366, 379.6 Там же. С. 366.
571§ 3. Инвентари, описи и реестры
рая, подарил позолоченного серебра две гривны. Среди икон особо отмече-ны образа московской работы. Из 17 икон, которые описаны были во время составления инвентаря, девять были работы московских мастеров. Другим почерком был добавлен список из 17 икон, среди которых только одна была московская1. Также в описи значилась и лампа московская. Многие предметы, описанные в инвентаре 1611 г. с дополнениями 1615 г., можно встретить в бо-лее поздних инвентарях, однако чаще всего идентифицировать их довольно сложно, так как статьи описания довольно скупые.
Инвентарь 1619 г.2 содержит описание церковного имущества по тематиче-ским разделам. Структура инвентаря следующая: кубки, дароносицы и «мир-ницы», лампы, «коруны» (венцы), кадильницы, кресты, некоторые иконы, пер-стни, «перлы», книги (подробное описание книг библиотеки, в том числе «книг церковных», греческих, латинских, польских). Среди книг имеются описания икон общим числом 35 и 21 иконы «простомалеваных». После инвентаря би-блиотеки следуют описания: фелони («ризы») — всего 15, поручи («наракви-ци») — всего 9, епитрахили, орари, стихари, воздухи, антиминсы, плащаницы, «понявы», катапетасмы («завhсы»), пояса, платки, ковры («коберцы»).
По этим описаниям можно сделать наиболее полное представление о внеш-нем виде тех или иных предметов, среди которых были уникальные высоко-художественные произведения искусства. Вот как описана одна из мирниц: «Мирница срhброная, гранистая, з образом Спасителевым, со евангелисты и святыми, злоцhстая вколо, зверху шробка ангелозка злоцhстого держа-чи, важит грывен 2 и лутов шести». Уникальным произведением искусства был серебряный голубь: «Голуб срhброзлотистый весь, на головцh— корун-на з трома туркусиками, з двома ножками и с крыдлами двhма, зверху два ланцушки, бhлый, з кольцем, моги важит гривен 4»3. Среди кадильниц опи-сание одной также позволяет говорить об этой вещи как о произведении ис-кусства: «Кадилница срhбрнозлотистая, з вевжинами вся, и вершок у кола верхнего также злоцhстый, з кольцем единым великим, а другим малым, з ланцужками белыми трома, а у кождого з них ве сродку крестик зе звонком и з колцами двhма срhброзлотистыми, а четвертый ланцушок от сродку также бhлый, важет гривен седм и лутув чтырнадцат»4. В этом инвентаре отмечались предметы, на которых была изображена геральдическая символи-ка, например, дарохранительница: «Пушечка тайн Христовых гладкая, з на-писом в коло и з гербом долу» — или кружки: «коновочок двh гладких, у споду
1 ЛИМ. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 135: «Альбом Ставропигийского братства». С. 380—381.
2 Частично опубликован: Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 17—19.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 1 об.4 Там же. Л. 2 об.
572 Глава третья
з листовками и по три ножки у каждой, на котрых гербы, важит гривен 1 и лутов чтырнадцат»1.
В инвентаре церковных книг встречаем описание переплетов Евангелия и Служебника, упоминавшихся в инвентаре 1579 г. Причем здесь статьи описа-ния более подробные. Так, о Служебнике мы узнаем, что это рукописная кни-га, а на серебряной табличке имеется изображение Распятия Иисуса Христа: «Служебник старый писаный з осма пуклями срhбрными, табличка з распя-тием и клавзулh обh срhбрные»2. Очень ценная информация и о Евангелии. Это была печатная книга на греческом языке, здесь также имеется описание изображений на серебряных табличках: «Евангелие друкованое грецкое акса-митом чорным одhтое, з распятием Пречистого и Иоанном и чтырма еван-гелисты з клавзулами двhма и пуклями чтырма, тое все зе срhбра отлива-но». Также очень важная помета о судьбе книги: «Тое давно поменяно»3.
В инвентаре 1619 г. отдельную статью описания составляет жемчуг («пер-лы»), который, видимо, был предназначен для дальнейшей ювелирной обра-ботки или украшения одежды священнослужителей. Весь жемчуг был отсорти-рован и хранился в отдельных «узелках»: «В едном узелце перел дробнhиших, що кроме нитце… В другом узелце перел середних без нитий, важат мало що на лот 1. На злотh тягненом перлами саженых тианиц три, важат лутов зо всеми девятнадцати»4.
Инвентарь 1658 г. содержит уникальные сведения о людях, которые при-носили в дар Успенской церкви разные предметы. В основном это члены брат-ства или члены их семей, а из вещей чаще всего приносили в дар или жертво-вали лампы. В реестре упомянут дар старейшины братства: «Лямпа великая Кгабриелю Лангишовска», членов братства «Лямпа з таблицею Кгеоргия Папары», Стефана Нестеровича, Андрея Стрелецкого, Стефана Лясковского, Матияша Федоровича и др. В память о своих мужьях жертвовали церкви наи-более ценные предметы вдовы (пани Лангишовая), ряд вещей поступил от «потомков» в память «небощыка Третякого» и др. Дары церкви приносили и простые ремесленники («Лямпа пана Иоана маляра влошка»), и люди, ранее сотрудничавшие с братством («Лямпа от отца Иосифа, наместника нынеш-него Львовского, котрый у нас бывал дияконом»5). Однако многие пожертво-вания часто делались членами братства, горожанами анонимно, жертвовали на церковь не только богатые, но и бедные люди. Поэтому в инвентарях столь редкие указания на имя дарителей и обстоятельства, при которых были приоб-ретены или получены те или иные предметы.
1 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 17—18.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 9.3 Там же.4 Там же. Л. 5 об.5 Там же. Д. 1069. Л. 24—24 об.
573§ 3. Инвентари, описи и реестры
К середине XVII в. в церкви имелось довольно большое число ламп, пожерт-вованных как членами братства, так и самыми разными православными людь-ми. Светильники размещали как в самой Успенской церкви, так и в часовне Трех Святителей. Огонь лампы должен был символизировать жизнь человека или память о нем. Лампы вкладывались жертвователями и «за спасение» жи-вущих, и «на помин души». И. И. Шараневич отмечал, что такой обычай, ви-димо, утвердился после восстановления Успенской церкви, то есть в 30-х годах XVII в. и лампы горели в церкви «от имени живущих, или в память умерших членов братства»1.
Инвентарь церковного имущества 1666 г. включает список 12 напрестоль-ных Евангелий с описанием их окладов. Здесь встречается более детальное описание книг, чем в предшествующих реестрах книг братства, например: «Евангелие виленского друку вшистко в сребрh позлоцhстом» и «Еван-гелие друкование грецкое в аксамите Чорном з распятием сребрним»2. Значатся среди книг и новые, например, купленное братчиками у Прокопа Желиборского Евангелие в серебряном позолоченном окладе. Первым в спи-ске значится Евангелие в золотом переплете, подаренное в 1664 г. братству Анной Могилянкой Потоцкой. Ею была составлена дарственная с внесением записи об этом в Львовские гродские акты. В архиве братства сохранились оригиналы документа от 2 апреля 1664 г. и извлечение из Львовских грод-ских актов за 1666 г.3, что говорит о ценности этого вклада и его значении для братства.
В инвентаре среди прочих предметов имеются описания реликвариев и мо-щевиков: серебряный позолоченный киот с мощами Св. Стефана, позолочен-ный реликварий с мощами Св. Пантелеймона и «Крест великий злоцhстый з мощами святых и с столпцем»4. Особое место в реестре занимает перечисле-ние лапм с обязательным указанием имен вкладчиков, большинство из кото-рых — братчики и члены их семей.
Но в некоторых инвентарях целые группы предметов, которые не использо-вались в данный момент в церковном богослужении, не описывались деталь-но. Такие статьи описания позволяют узнать, как именно хранились церков-ные вещи: «В ворку» (в торбе) или в сундуке («В скрине железной»5). Наиболее мелкие предметы (перстни, крестики и т. п.) хранились в небольших шкатул-ках: «Пушочка з дробязгами сребрными», а более крупные по размерам пред-
1 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 24.2 Там же. С. 22.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 638. Опубл.: Юбилейное издание в память
300-летняго основания Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1886. № LXXX. C. 5—54.
4 Шараневич И. И. Николай Красовский. С. 22—23.5 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1050. Л. 3.
574 Глава третья
меты — в сундучках: «Скрынка кгданская малая з речами»1. В инвентарях XVIII в. часто отмечаются особенности и качество ювелирной работы: «Крест деревяный, тонкая работа», помечались старинные предметы: «Крест дере-вяный позолоченный старый», а также дефекты или повреждения таких ве-щей: «Крест большой серебряный позолоченный, на диадеме перлы, которых осталось только 7»2. Особый интерес представляют описания мощей «розных святых, обретаемых в скарбци церковном и в рожных начынях». Впервые та-кое описание встречается в инвентаре 1637 г. (всего описано 24 святыни3), ин-вентарь 1688 г. содержит описание 5 святынь, а 1760 г. — всего три реликвария (Relikuiy Swiętych Pańskich): Св. Стефана, Св. Меркурия и Св. Пантелеймона4. Интересно, что мощи Св. Меркурия были подарены братству Павлом Тетерей5. Уменьшение числа святынь в Успенской церкви объясняется тем, что братство дарило реликварии другим церквям, которые не имели ни одной реликвии, так как наличие в церкви такой святыни способствовало увеличению ее авторите-та среди верующих.
Особый интерес представляет сохранившееся в архиве братства инвентар-ное описание движимого имущества Креховского монастыря, составленное бывшим игуменом Сильвестром для братства в 1637 г.6 Особенная ценность этого описания состоит в том, что сохранилось очень мало комплексных опи-саний имущества церквей и монастырей XVI в., большинство из таких ве-щей не сохранились до наших дней. Особого внимания заслуживает реестр вещей, пожертвованных на часовню Трех Святителей («Балабановскую») за 1691—1704 гг.7 Интересно, что реестр составлен на польском, украинском и греческом языках. Жертвовали на часовню, кто сколько мог: «Под час коме-сии жолнер (солдат) дал табличку 1», «Пане якась дала крестик на святого Георгия», «Крестик дано сребный. Также баба госпитальная крестик дала». Пожертвования делались в основном анонимно, как правило среди дарителей указывались имена членов братства: «Пан Василий Грегорович дал табличку на образ Пресвятая Богородици». Помимо описания церковных вещей этот источник дает возможность узнать о силе православной веры среди украин-ского народа на рубеже XVII—XVIII вв., когда православие было подорвано униатской и католической церквями.
В архиве братства сохранился уникальный в своем роде инвентарь имущества члена братства, настоятеля Успенской церкви Антона Левинского: «Inwentarz
1 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1069. Л. 24 об.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 986. Л. 23—23 об.3 АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 157—158.4 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1101. Л. 15 об.; 981. Л. 2; 986. Л. 24.5 Там же. Д. 677.6 Там же. Д. 539. Л. 1—10.7 АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 52—61.
575§ 3. Инвентари, описи и реестры
rzeczy do stolu y innego uyzwania słuzących do uzywania na potoczne czasy od sp. Antoniego Lewinskiego proboszosa Katedralnego y tutej v rego. Stawropigialnego y oficiala generalnego», составленный в 70-х годах XVIII в. Этот инвентарь позво-ляет реконструировать домашнюю обстановку этого человека, позволяет «по-бывать в гостях» у одного из членов братства. Однако это не полное описание предметов повседневного домашнего обихода, а только его значительная часть, завещенная Антоном Левинским «Дому священников», в котором жили все священнослужители Успенской церкви и вели совместное хозяйство. Большую часть инвентарного описания составляют предметы кухонной утвари, которые описаны в рамках разделов: серебро, посуда фарфоровая и глиняная, оловян-ная и стеклянная. Хотя Левинский был довольно состоятельным человеком, серебряных столовых приборов у него было не много. Это в основном набо-ры ножей, вилок и ложек, в том числе разливная ложка и маленькие кофейные ложечки, а также конфетница. Среди предметов из фарфора и глины — куб-ки, соусник, шоколадница, блюдо, тарелки белые и с рисунком («malowanych»). Наибольшее число предметов описано в отделе «Стекло». Здесь перечислены рюмки «чистого стекла», рюмки для «крепкой водки», маленькие рюмки для ликера и большие для вина, 10 «белых бутылок», пивные кружки со стеклян-ными и оловянными крышечками, стаканы, ящички для бутылок. Среди сто-лового белья указаны скатерти праздничные и повседневные («surowi»), на-боры салфеток, в том числе черные для кофе. Предметы мебели описаны, ви-димо, не полностью, о чем говорит и название этого отдела «Столы и кресла». В доме священника был большой стол с дубовой ножкой, дубовый раскладной стол и 6 маленьких столиков, раскладное кресло, обитое кожей, и 16 стульев, обитых кожей, а также 2 бюро, одно из которых «старинный, с 4 ящичками». Постельное белье составляли 2 пуховых одеяла, 3 подушки и набор сменного белья к ним, покрывала и несколько ковров, один из которых — китайский. Особый интерес представляет описание инструментов, которые необходимы были в хозяйстве — молотков, гвоздей, лопат, пил и пр. Интересно, что зна-чительную часть инструментов составлял сельскохозяйственный инвентарь. Это описание повседневных вещей одного из членов братства уникально в сво-ем роде и позволяет реконструировать представления о предметах, которыми пользовались простые горожане второй половины XVIII в. Аналогичных ис-точников, позволяющих комплексно представить основной набор предметов домашнего обихода горожан, больше не сохранилось, поэтому этот инвентарь имеет большое значение для изучения жизни не только членов братства, но и быта городского населения.
Комплекс инвентарных описаний имущества Успенской и Онуфриевской церквей является уникальным, так как содержит описания предметов матери-альной культуры, памятников искусства, большинство из которых не сохра-нились, и сведения о них мы можем почерпнуть только из этих источников. Инвентарные описания предметов церковного обихода позволяют не только
576 Глава третья
реконструировать комплекс церковного имущества, проследить механизмы изменения и пополнения церковной сокровищницы, но и понять значимость этих предметов церковного обихода в жизни горожан конца XVI—XVIII вв.
Проведенное источниковедческое исследование корпуса документов по истории Львовского Ставропигийского братства показало большую инфор-мационную насыщенность материалов, отложившихся в результате деятель-ности братства, разнообразных по составу и содержанию, что требует разной методики при изучении и использовании отдельных видов источников.
Заключение
Львовское Успенское Ставропигийское братство является уникальным социокультурным феноменом как организация длительного времен-
ного существования, хронологические рамки которого можно обозначить 1586—1788 годами. В сферу деятельности братства входили почти все основ-ные направления жизнедеятельности современного ему общества. Членами Львовского братства были ремесленники и купцы — люди, принадлежавшие к социальной группе, которую французский историк Леруа Ладюри называл «людьми без архива». Между тем, своеобразие Львовского братства состоит как раз в том, что его члены старательно заботились о сохранении своего ар-хива, тщательно фиксируя основные, по их мнению, свидетельства функцио-нирования их организации, в результате чего мы имеем редчайшую возмож-ность вступить в обстоятельный диалог с представителями той части обще-ства конца XVI—XVIII вв., которое, как правило, остается «немотствующим большинством» и о жизни которого историки узнают преимущественно по косвенным свидетельствам. Сохранившийся архив Успенского братства по-зволяет всесторонне рассмотреть мировоззрение людей одной социальной ориентации, объединенных общими задачами. Изучение этого архива позво-ляет выявить ту общую документальную основу, которая формирует инфор-мационную структуру исследования социальных групп, взаимосвязей лично-сти и общества, функционирования особых конфессиональных, этнических или социокультурных организаций в реальности их исторического времени. Материалы архива братства, объединявшего лучших представителей украин-ского населения города Львова, позволяют историку изучать феномен коллек-тивной психологии горожан, в которой выражается социально и культурно детерминированное поведение людей, разглядеть за отдельной группой людей реальные общественные потребности и изменения социальных отношений в обществе, а также глубже понять психологию отдельного человека — члена социальной группы, которая в значительной мере моделирует его сознание и определяет его поступки. В монографии впервые рассмотрена документальная целостность всего комплекса архива братства, а также источников по истории Львовской Ставропигии, отложившихся в разных архивохранилищах. Впервые была предпринята попытка указать все имеющиеся публикации и место хране-
578 Заключение
ния оригинала того или иного документа, что должно облегчить дальнейшее использование данных источников.
В историографии братского движения Украины на материалах архива Львовского братства проводились исследования философских, религиозных, политических и культурных воззрений членов братства, братского движения в целом. Дошедшие до нас источники с их многообразной видовой структурой, создававшиеся с разными целями, по разным поводам, разными людьми, но при этом сохранившие одну социокультурную ориентацию людей, объединен-ных общей идеей и общими задачами в рамках Львовского братства, позволя-ют проникнуть в специфику культуры, сконцентрировать внимание на образе мира, который заложен культурой в сознание людей, рассмотреть за общими теориями и учениями более глубокий пласт реальности, прочно укорененный в сознании людей. Однако обширный комплекс разноплановых источников до сих пор оставался малоисследованным, несмотря на наличие многочисленных публикаций и более чем полуторавековую историографию истории братского движения Украины. В монографии рассмотрены виды источников, раскрыва-ющих функционирование братства как средневековой организации в рамках корпоративного городского устройства; анализируются документы, отразив-шие отношения братства с властными структурами — городом, церковью и государством; особый комплекс источников исследуется с точки зрения дея-тельности братства в сфере культуры.
Сохранившийся комплекс источников необходимо рассматривать в тес-ной связи с историей Львовского братства, со сферами его деятельности. Многогранная деятельность братства достаточно хорошо отражена в много-численных и разнообразных по форме, структуре, характеру, происхождению текстах, использование которых невозможно без серьезного источниковедче-ского исследования. Документы братского архива чрезвычайно разнообраз-ны по своему составу и содержанию. Видовая структура сохранившихся до-кументов составляет более 20 видов и разновидностей источников, отличаю-щихся целевыми и функциональными назначениями, формами, стилистикой. Особенностью документов из архива Львовского братства является то, что они написаны на многих языках — украинском, церковнославянском, поль-ском, латинском, греческом и др., причем доминирование документов на том или ином языке в разные периоды является отражением многих политических, социальных и религиозных влияний, которым было подвержено не только Львовское братство, но и все украинское население в составе Речи Посполитой. Большое значение для понимания отношения украинских горожан ко многим важнейшим историческим событиям представляют копии, черновики, проек-ты документов, составлявшихся членами братства, в которых часто содержатся сведения, не вошедшие в окончательную редакцию текста. Документы архива Львовского братства представляют большой интерес не только как носители социальной информации, переданной языковым способом. При обращении к
579Заключение
ним следует иметь в виду, что тексты этих документов сохранили и другие спо-собы передачи информации: гравюры, рисунки, орнаментальное оформление, переплеты книг, элементы символики; особое значение представляет корпус сохранившихся печатей многих учреждений из разных стран, организаций, личные печати горожан.
В монографии рассмотрены вопросы происхождения братства, его органи-зационная структура, основные формы деятельности как организации в целом, так и ее подразделений — школы, типографии, архива и библиотеки, имеющих самостоятельное культурологическое значение. Это дает возможность понять природу данного образования в общей структуре средневекового города и его корпоративных объединений. Освещение двухвековой истории организации позволяет рассматривать документы братства не только как источник факти-ческих сведений, но прежде всего — как объективированное, документальное отражение его деятельности, функционирования в определенной историко-культурной среде и на протяжении XVI—XVIII вв.
Сохранившийся почти полностью архив Львовского братства — единствен-ный в своем роде дошедший до нас архив общественной организации, функци-онировавшей 200 лет, — в совокупности с другими источниками по его исто-рии (издания братской типографии, книги братской библиотеки, документы, отложившиеся в архивах учреждений, с которыми братство поддерживало от-ношения, и др.) дает современной исторической науке богатейший материал для решения культурно-антропологических задач, то есть изучения человека в том его конкретном социальном и ментальном облике, который он обретал в разные эпохи своего существования. Документы братского архива часто яв-ляются единственными источниками сведений об утраченных объектах куль-туры, памятниках письменности. Так, только на основании таких источников можно реконструировать репертуар книг братской библиотеки, которая почти полностью погибла в конце XVIII в. В монографии впервые представлена ре-конструкция уникальной библиотеки — основных этапов ее формирования, комплектации библиотечного фонда, изменения репертуара книг на протяже-нии практически двухвековой истории городской библиотеки. По материалам архива братства можно реконструировать репертуар издаваемых в братской типографии книг, сведения о типографах, технологии типографского дела. Документы архива Львовского братства являются практически единственны-ми источниками о тиражах старопечатных книг XVII—XVIII вв. При анализе источников по истории книгоиздания удалось уточнить сведения о тиражах отдельных изданий, установить имена ранее не известных типографов, а также дополнить список изданий типографии братства двумя ранее не известными в библиографии книгами, не сохранившимися до наших дней.
Проведенный анализ источников по истории Львовского братства дал воз-можность разработать детальную классификационную схему, в основу кото-рой была положена видовая структура источников, отложившихся в результа-
580 Заключение
те деятельности Львовской Ставропигии. Исследование источников в рамках каждого вида позволяет расширить представление об информативных воз-можностях сохранившихся документов, о возможных сферах их применения и использования. Корпус источников по истории Львовского братства позволя-ет не только детально изучать деятельность Львовской Ставропигии и других братств Украины, архивы которых не сохранились, но и является единствен-ным в своем роде собранием сведений, позволяющих по-новому взглянуть на историю экономических, политических, культурных и религиозных отноше-ний в обществе конца XVI—XVIII вв. Это — важнейшие источники по исто-рии торговли, ремесел, быта горожан, ценнейшие источники по истории куль-туры, литературы, языка, науки, музыки. Львовское братство как социокуль-турная общность в процессе своего функционирования создало совокупность произведений, которые можно рассматривать как феномен культуры, реально существующий и сохраняющийся во времени, который открывает возмож-ности компаративного изучения явлений городской культуры, ее типологии, структуры, функций и максимально полной интерпретации социальной ин-формации.
Впервые предпринятое комплексное изучение документов архива Львовского братства, общее число единиц хранения которого составляют свы-ше 1200 дел, стало возможным благодаря специально разработанным компью-терным программам, значительно облегчившим систематизацию и поиск раз-ного рода информации. Изучение такого вида источников, как списки членов братства, при помощи компьютерных технологий позволяет идентифициро-вать каждого из членов братства, которые в конце XVI—XVII вв. вносились в списки под разными именами. Это дает возможность уточнить количествен-ный состав братства в конце XVI—XVII вв. Применение новых технологий в гуманитарных исследованиях позволяет не только значительно расширить фактографию и тематику исследований, но и извлечь качественно новую ин-формацию из многих ранее изучавшихся источников.
Завершая свою книгу, представляющую собой итог многолетней работы, хо-телось бы выразить благодарность людям, без которых эта работа не состоялась бы. Прежде сего слова благодарности хочу сказать моим учителям, которые, к сожалению, уже не увидят этой книги — Ольге Михайловне Медушевской, Елене Ивановне Каменцевой, Евгении Платоновне Маматовой, Владимиру Борисовичу Кобрину. Они способствовали моему профессиональному станов-лению, поддерживали мои начинания в изучении этой темы и помогали ценны-ми советами и замечаниями. Помощь и постоянная поддержка моего Учителя — Ольги Михайловны Медушевской позволили осуществить данное источнико-ведческое исследование. Хочется выразить благодарность всем моим коллегам по кафедре Источниковедения и вспомогательных исторических Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного универ-ситета — В. А. Муравьеву, С. М. Каштанову, М. Ф. Румянцевой, Е. В. Пчелову, Р. Б. Казакову, А. Е. Чекуновой, Л. А. Молчанову, Д. Н. Рамазановой за помощь и дружескую поддержку, а также М. В. Бибикову, Ю. Н. Афанасьеву, Я. Д. Исаевичу, Н. П. Коваль скому, С. Г. Яковенко, которые поддержали мою диссертацию, а их советы и замечания были учтены при подготовке этой книги.
От всего сердца хочется поблагодарить Бориса Львовича Фонкича за ценные замечания и колоссальную помощь при подготовке этой книги к изданию.
Особые слова благодарности хочется выразить всем сотрудникам Централь-ного государственного исторического архива Украины во Львове, и прежде всего Оресту Ярославичу Мацюку и Наталии Николаевне Царёвой, которые создавали благоприятные условия для работы в архиве. Хочется выразить бла-годарность сотрудникам Отдела редкой книги и Отдела рукописей Львовской национальная библиотеки им. В. Стефаника Национальной Академии наук Украины, Львовского государственного исторического музея, Российского государственного архива древних актов, Отдела редкой книги (Музея книги) Российского государственной библиотеки, Отдела письменных источников Государственного исторического музея в г. Москве.
Самые теплые слова благодарности хочу высказать моей семье. Без по-мощи, поддержки и заботы родителей — Эдуарда Иосифовича и Людмилы Григорьевны, брата Всеволода эта работа не осуществилась бы. Слова благодар-ности моему супругу и дочери Аннушке за любовь и колоссальное терпение.
* * *
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
I. ИСТОЧНИКИ
a) О П У б Л И К О В А Н Н Ы Е И С Т О Ч Н И К И1. Акты относящиеся к истории Львовского Ставропигиального братства /
Петрушевич А. С. // Временник Ставропигийского Института. 1880. С. 137—148.2. Акты относящиеся к истории Южно-Западной Руси / [Изд. А. С. Петруше-
вич] // Временник Ставропигийского Института. 1878. С. 127—136.3. Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Вильно,
1908. Т. 33.4. Акты, относящиеся к возобновлению во Львове сгоревшей Ставропигиальной
Успенской церкви, с больницею, странноприимным домом, школою и типогра-фиею / Изд. А. С. Петрушевич // Временник Ставропигийского Института. 1874. С. 113—128.
5. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1848. Т. 3; СПб., 1851. Т. 4.
6. Акты, относящиеся к истории Южнозападной Руси. / Сост. А. С. Петрушевич. Львов, 1868.
7. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и из-данные Археографическою комиссиею. СПб., 1863. Т. 1; 1865. Т. 2.
8. Арсений Елассонский. Мемуары из русской истории // Хроники Cмутного времени / Конрад Буссов. Арсений Елассонский. Элиас Геркман. «Новый летопи-сец». М., 1998. С. 163—210.
9. Архив Юго—Западной России. Киев, 1904. Ч. 1 Т. 4, 10—12.10. Буквар Івана Федорова. Київ, 1975.11. Вишенский Иван. Сочинения / Подгот. текста, ст. , и коммент. И. П. Еремина.
М.; Л., 1955.12. Вишенський Іван. Твори / Пер. з книжної української мови В. О. Шевчука.
Київ, 1986.13. Вытяг из списи актов братского Института Ставропигийского (крестонос-
ного) // Временник Ставропигийского Института. 1866. С. 161—172.14. Галятовський Іоанікій. Ключ розуміння. Київ, 1985.
584 Источники
15. Головацкий Я. Ф. Порядок школьный или устав Ставропигийской греко-русской школы во Львове 1586 года. Львов, 1863.
16. Головацкий Я. Ф. Хронологическая роспись вписных братий прежде брат-ства Львовского Успения Пресвятыя Богородицы, ныне же Института Ставропи-гийского // Временник Ставропигийского Института. 1864. С. 81—91.
17. Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883—1898. Т. 1—2. Приложения.
18. Голубев С. Т. Материалы для истории Западно-русской церкви. Киев, 1891. Приложения.
19. Голубев С. Т. Материалы для истории Западно-русской церкви. Киев, 1891.20. Грамматика Івана Федорова. Київ, 1964.21. Два епізоди з історії боротьби Гедеона Балабана з Львівським братством //
ЗНТШ. 1914. Т. 117 і 118. С. 207—209.22. Добрянский А. История епископов трех соединенных епархий — Пере-
мыской, Самборской и Сяноцкой от найдавнейших времен до 1794 г. Львов, 1893. Приложения.
23. Добрянский А. История епископов трех соединенных епархий — Пере-мыской, Самборской и Сяноцкой от найдавнейших времен до 1794 г. Львов, 1893.
24. Документи Богдана Хмельницького / Упорядн. І. Крип’якевич, І. Бутич. Київ, 1961.
25. Документы, объясняющие историю Западно-русского края и его отношение к России и к Польше. / М. О. Коялович. СПб., 1865.
26. Дополнение к материалам, относящимся к истории Львовскаго Ставро-пигиона в XVIII ст. // Юбилейный сборник в память 350-летия Львовскаго Ставропигиона. Ч. 2. Львов, 1937. С. 145—163.
27. Жукович П. Н. Протестация митрополита Иова Борецкого и других западно-русских иерархов, составленная 28 апреля 1621 г. // Сборник статей по славянове-дению. СПб., 1910. Вып. 3. С. 135—153.
28. Збірник документів і грамот Скитських. Львів, 1887.29. [«Из рукописного сборника, содержащего в себе старинную переписку
Ставропигийского братства с разными лицами»] / Изд. Петрушевич А. С. // Вре-менник Ставропигийского Института. 1871. С. 129—152.
30. Иларион. Слово о законе и благодати // Златоструй. Древняя Русь: X—XIII вв. М., 1990.
31. Исторические связи народов СССР и Румынии в XV — начале XVIII в.: Документы и материалы. М., 1965. Т. 1.
32. Історія Львова в документах і матеріалах: Збірник документів і матеріалів / Упор. У. Я. Єдлінська, Я. Д. Ісаєвич, О. А. Купчинський та ін. Київ, 1986.
33. Кленович С. Ф. Роксоланія: Поема / Перекл. В. Маслюк // Українська поезія XVI ст. Київ, 1978. С. 114—167.
34. Кльонович С. Ф. Роксоланія: Поема / Перекл. з латин. М. Білика. К., 1987.35. Корреспонденции между Климентом Папою VIII и князем Константином
Острожским // Временник Ставропигийского Института. 1865. С. 83—87.
585Источники
36. Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство: Опыт церковно-исторического исследования. Киев, 1904. Приложения.
37. Материалы для истории западно-русской церкви // Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883—1898. Т. 1—2. При-ложения.
38. Науковый сборник, издаваемый литературным обществом Галицко-русской Матицы. Львов, 1868. Вып.3—4.
39. Немировский Е. Л. Острожская Азбука Ивана Федорова. М., 1983.40. Описание документов архива западно-русских униатских митрополитов.
1470—1700. СПб., 1897. Т. 1.41. Пам’ятки братських шкіл на Україні, кінець XVI — початок XVII ст. : Тексти
і дослідження. Київ, 1988.42. Памятники полемической литературы. СПб., 1903. Т. 3.43. Памятники, издаваемые Временною комиссией для разбора древних актов.
Киев, 1898. Т. 1, 3.44. Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов.
Киев, 1852. Т. 3.45. Панегирическая литература петровского времени. М., 1979.46. Патриаршия грамоты изданы в пользу Львовского Ставропигийского брат-
ства при храме Успения Пресвятыя Богородицы / Изд. А. С. Петрушевич// Вре-менник Ставропигийского Института. 1869. С. 113—140.
47. Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI — перша половина XVII ст. ): Збірник документів. Київ, 1975.
48. [Письма из Молдавии Львовскому Ставропигийскому братству о помощи в востановлении Успенской церкви] / Изд. А. С. Петрушевич // Временник Ставро-пигийского Института. 1883. С. 147—176.
49. Письма князя А. М. Курбского к разным лицам. СПб., 1913.50. Письма князя Константина Острожского / Изд. Я. Ф. Головацкий // Времен-
ник Ставропигийского Института. 1867. С. 66—84.51. Письма Молдавского господаря Александра к русским гражданам во Львове,
занимающимся созданием городской Успенской церкви с 1558 — 1566 года / Петру-шевич А. С. // Временник Ставропигийского Института. 1881. С. 149—168.
52. Письмо Дионисия Балабана, митрополита Киевского к Ставропигийскому братству в 1659 г. / [Изд. И. И. Цьорох] // Временник Ставропигийского Института. 1903. С. 191—193.
53. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое. СПб., 1830. Т. 2.
54. Полное собрание русских летописей. М., 1962. Т. 2: Ипатьевская летопись.55. Порядок школьный или устав Ставропигийской греко-русской школы во
Львове 1586 г. / Изд. Я. Ф. Головацкий. Львов, 1863.56. Посольская книга по связям России с Грецией (православными иерархами и
митрополитами), 1588—1594 / Подгот. М. П. Лукичев, Н. М. Рогожин. М., 1988.57. Прение Лаврентия Зизания с игуменом Илиею // Летописи русской литера-
туры и древности. М., 1859. Т. 2. Отд. 2. С. 80—100.
586 Источники
58. Привілеї національних громад міста Львова XІV—ХVІІI ст. : Збірник доку-ментів / Упроряд. М. Капраль. Львів, 2000. (Львівські історичні пам'ятки. Т. 2.).
59. Продолжение писем Молдавских господарей, писанных ко Львовскому Ставро пигийскому братству при церкви Успения пресвятыя Богородицы, зани-мающемуся вторично постройкою сей церкви после пожара тойже в 1571 г. / Изд. А. С. Петрушевич // Временник Ставропигийского Института. 1882. С. 149—164.
60. Русский первопечатник. «Азбука» Ивана Федорова 1578 г. М., 2000.61. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государ-
ственной коллегии иностранных дел. М., 1819. Ч. 2.62. Соціальна боротьба в місті Львові в XVI—XVIIIст. : Збірник документів.
Львів, 1961.63. Спаська Л.І. Будинок «шкільний» Ставропігійського братства в Руському
кварталі // Записки наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Львів, 1994. Вип. 4. С. 83—89.
64. Срібний Ф. Два епізоди з історії боротьби Гедеона Балабана з Львівським братством // ЗНТШ. Львів, 1914. Т. 117 і 118. С. 207—214.
65. Тітов Ф. І. Матеріали для історії книжкової справи на Вкраїні в XVI— XVIII вв.: Всезбірка передмов до українських стародруків Київ, 1924.
66. Томашивский С. Ватикански матерьялы до истории Украины: Донесения римских нунциев про Украину 1648—1657 // Жерела до історії України. Львів, 1919. Т. 16.
67. Українська література XIV—XVI сТ. Апокрифи. Агіографія. Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори. Перекладні повісті. Поетичні тво-ри. Київ, 1988.
68. Українська поезія XVI ст. / Упоряд. В. Яременко. Київ, 1987.69. Українська поезія. Кінець XVI — початок XVII cт. / Упорядники: В. П. Коло-
сова, В. І. Крекотень. Київ, 1978. 70. Устав братства Свято-Онуфриевского или так званого меньшаго, при мо-
настырской церкви во Львове стоящего под покровительством Львовского Успен-ского-Ставропигиального братства / Изд. А. С. Петрушевич // Временник Ставро-пигийского Института. 1870. С. 129—148.
71. Федоров И. [Азбука]. Подготовка издания Г. В. Карпюка. М., 1974; 2-е изд. М., 1977.
72. Франко І. Я. Чотири пастирські листи єпископів Афанасія і Лва Шептицьких (1745—1759) // Збірник історично-філософської секції НТШ. 1902. Т. 5. С. 1—11.
73. Царьова Н. М. Олександр Іляшевич та перша розвідка з історії Львівського Успенського ставропігійського братства // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2002. Вип. 37. Част. 2. С. 73—87.
74. Шараневич И. И. Важнейший из давных тестаментарных легаций (фон-дацийных записов последной воли) Ставропигийского братства // Временник Ставропигийского Института. 1875. 146—148.
75. Шараневич И. И. Николай Красовский (Миколай Красувський) от года 1686 до года 1692 писарь управления, а от г. 1692 до г. 1697 — старейшина Ставро-пигийского братства во Львове. Исторический очерк с прибавкою современных
587Источники
записок из сессийных книг и регестов Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1895.
76. Шараневич И. И. Першии члены Ставропигийского братства и деятельность их от року 1586 до 1609 // Временник Ставропигийского Института. 1875. С. 139—145.
77. Шараневич И. И. Юрий Ельяшевич (Георгий Ильяшевич) от 1720 г. член и в 1722—1735 годах один из сениоров Ставропигийского братства во Львове. Исторический очерк с прибавкою списка современных счетоводных книг и сес-сийных протоколов Львовского ставропигийского братства. Львов, 1895.
78. Юбилейное издание в память 300 летняго основания Львовского Ставро-пигийского братства. Львов, 1886. С. а̃ — чв͠.
79. Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона: Ма-териалы, относящиеся к истории Львовского Ставропигиона в 1700—1767 гг. / Изд. А. Копы стянский. Львов, 1936. Ч. 1.
80. Копыстянский А. Дополнение к материалам, относящимся к истории Львовскаго Ставропигиона в XVIII ст. // Юбилейный сборник в память 350-летия Львовскаго Ставропигиона. Ч. 2. // Временник: Научно—литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 145—163
81. Acta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwa-nego Bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1872—1876. T. 3—6.
82. Adelphotes. Die erste gedrückte griechisch-kirchenslavische Grammatik. L’viv-Lemberg 1591. München, 1988.
83. Bostel F. Przycrynek do dyiejów pierwszej ruskiej drukarni we Lwowie // Pamiętnik literacki. R. 1. Lwów, 1902.
84. Diplomata Statutaria a Patriarchis Orientalibus Confraternitati Stauropigianae Leo poliensi a. 1586—1592 data, cum aliis litteris coaevis et appendice. / Edidit I. Kristi-niacki. Leopoli, 1895. T. 2.
85. Hurmuzaki B. Documente privitoare la istoria Romanilor. Bucureşti, 1893. Supl. 2. V. 2.
86. Grasshoff H., Simmons J. S. G. Ivan Fedorovs griechisch-russisch / kirchenslawisches Lesebuch von 1578 und der Lothaer Bukvaâr von 1578/1580. B., 1969.
87. Ivan Fedorov’s Primer of 1574. Facsimile edition with commentary by Roman Jakobson and appendix by William A. Jackson. Cambridge, Mass., 1955.
88. Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis: Diplomata et episto-lae Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis ab anno 1518 usque ad annum 1600. / Edidit W. Milkowicz. Leopolis, 1895.
89. Monumenta Poloniae et Lithvaniae ab August-Theiner. Romae, 1863. T. 3.90. Moschovia sive brevis narratio de moribus magnae Russorum monarchiae.
Dantisci, 1670.91. Pecalidis S. De bello Ostrogiano. Cracoviae, 1600.92. Roxolania. Sebastiani Sulmyrcensis Acerni, civis Lubliensis. Cracoviae, 1584.93. Ustawy Bractwa, ktore pod Tytulem Nayswietszych Serc Jezusa y Maryi zaprowa-
dzone iest w Polockim Xiezy. 1759.94. Zimorowicz B. Historia miasta Lwowa. Lwów, 183595. Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko—słowiańskich w Galicji.
Lwów, 1836.
588 Источники
б ) Н Е О П У б Л И К О В А Н Н Ы Е И С Т О Ч Н И К И
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ДРЕВНИХ АКТОВ
1. Ф. 12. Разряд XII. Оп. 1. Д. 103, 111.2. Ф. 52. «Сношения России с Грецией». Оп. 1. Д. 1, 3, 15, 17.3. Ф. 79. «Сношения России с Польшей». Оп.1. Ед. хр. 1656. Кн. 87; 1673. Кн. 1;
1674. Кн. 20; 1683. Кн. 9, 13, 208, 209, 214, 1686—1687. Кн. 225—228; 1688. Кн. 235; 1689—1691. Кн. 233—239, 1691—1696. Кн. 241—244; 251, 252; 1699. Кн. 255.
Оп. 2. Д. 10, 99, 123, 134;Оп. 5. Д. 32, 42.4. Ф. 124. «Малороссийские дела». Оп. 3. Д. 3, 5, 7.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ УКРАИНЫ ВО ЛЬВОВЕ
1. Ф. 9. «Львовский гродский суд; г. Львов, Львовской земли Руского воевод-ства». Оп. 1. Д. 349, 354, 359, 369, 379, 390.
2. Ф. 52. «Магистрат города Львова». Оп. 1. Д. 337;Оп. 2. Д. 11, 54, 77, 266, 267, 391;Оп. 3. Д. 20, 77. 3. Ф. 129. «Львовский Ставропигийский Институт». Оп. 1. Д. 3—5, 9, 10, 12,
22—24, 32, 33, 36, 44, 47—55, 67, 70—243, 245—267, 271—274, 276—327, 329—360, 362—372, 375—379, 381—410, 413, 415, 417—431, 433—483, 485—491, 493—507, 509—525, 527—545, 547—570, 572—575, 577—579, 581—600, 606—608, 610—619, 622, 623, 625, 626, 628, 634, 638, 640, 645—655, 657, 659—664, 666, 668—678, 681—684, 687—703, 705, 707—717, 719—723, 726, 727, 729, 736—739, 742—769, 773, 776—788, 790—792, 794—797, 800—808, 811, 813—853, 862, 863, 867—878, 880—891, 893—927, 929—931, 938—1022, 1024, 1025, 1027, 1028, 1030—1222;
Оп. 2. Д. 9, 11, 15, 772—777, 778, 781, 782—785, 787, 788, 792, 795—802, 852, 854, 855—857, 1382, 1427—1437, 1451—1470, 1473—1497, 1513—1525, 1537—1549;
Оп. 3. Д. 275.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (г. Москва)
ОТДЕЛ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Ф. 45. Собрание Н. Н. Бантыш—Каменского. Ед. хр. 4.2. Ф. 450. Собрание Е. В. Барсова. Ед. хр. 820, 889.
ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ:
3. Ф. Синодальное собрание. Ед. хр. 299.
589Источники
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ в г. ЛЬВОВЕ
1. Отдел фондов (собрание рукописей). Инв. № 5, 63, 134, 135 «Альбом Ставро-пигий ского братства».
2. Отдел фондов (собрание старопечатных книг). Инв. № СД 1.
НАЦИОНАЛЬНАЯ бИбЛИОТЕКА УКРАИНЫ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО.ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ
Собрание Киево-Печерской Лавры. Ед. хр. 542.
ЛЬВОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ бИбЛИОТЕКА АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ им. ВАСИЛИЯ СТЕФАНИКА
ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ
1. Ф. 1. Библиотека Научного товарищества им. Т. Г. Шевченко. Ед. хр. 15, 136, 258.
2. Ф. 3. Собрание Василианских монастырей. Ед. хр. 132 (144); 275; 370 (Оп. 1, 394); 816/1.
3. Ф. 4. Баворовских. Ед. хр. 1136 «Теки Зубрицкого».4. Ф. 5. Собрание Оссолинских. Ед. хр. 280, 2111, II—2125. 5. Ф. 36. Я. Ф. Головацкого. Ед. хр. 653/п.45.6. Ф. 76. Архив Павликовских. Ед. хр.129.7. Ф. 77. А. С. Петрушевича. Ед. хр. 113, 116, 204, 370, 445, 449, 908/п. 93.8. Ф. 170. Архив И. И. Шараневича. Ед. хр. 14/п. 1, 17/п. 2.9. «Теки Козловского». Ед. хр. 54—IV. № 2, 6.
HILANDAR RESEARCH LIBRARY. ONIO STATE UNIVERSITY Columbus, Ohio, USA
Collection of Manuscripts on Microform. Sinai. 9 B.
ЛИТЕРАТУРА
1. Александрович В. С. Бібліотека братів Рогатинців. // ЗНТШ. Т. 233: Праці Історично-філософської секції. Львів, 1996. С. 251—256.
2. Александрович В. С. Малярі — члени Успенського братства кінця XVI — першої половини XVII ст. // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 31—35.
3. Александрович В. С. Украинская иконопись XVII века: национальная тради-ция и европейские влияния в контексте развития религиозной ситуации // Славяне и их соседи. Католицизм и православие в средние века. М., 1991. С. 69—72.
4. Алексютович Н. А. Культурно-просветительская деятельность братьев Зиза-ниев // Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избранные произведения XVI — начала XIX вв. Минск, 1962. С. 126—132.
5. Амвросий. Взгляд православного на Замостьский собор в 1720 г. // ТКДА. 1862. Ч. II.
6. Андрохович А. Отець Іван Горбачевський, примірний парох Ставропігійсь-кого братства (1743—1806) // Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 55—98.
7. Андрусяк М. Иосиф Шумлянский. Львов, 1934. 8. Антонович В. Нарис становища православної церкви на Україні від полови-
ни XVII до кінця XVIII ст. // Розвідки про церковні відносини на Україні—Руси XVI—XVIII вв. Львів, 1900. С. 81—146.
9. Антонович В. Б. Об унии и состоянии православной церкви с половины XVII до конца XVIII ст. // Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Введение. Киев, 1871. Ч. 1. Т. 4.
10. Антонович В. Б. Очерк отношений Польского государства к православию и православной церкви // Моя сповідь: Вибрані Історичні та публіцистичні твори. Київ, 1995. С. 458—469.
11. Антонович В. Б. Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с половины XVII до конца XVIII столетия // Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ, 1995. С. 470—532.
12. Антонович Д. Хто був будівником братської церкви у Львові // Записки Українського Історично-філологічного товариства у Празі. 1926. Т. 1.
13. Антонюк Г. Д., Захара І. С. Боротьба братства проти суспільно-політичних та філософських поглядів діячів контрреформації // Прогресивна суспільно-
591Литература
політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні. Львів, 1988. С. 28—29.
14. Аристов Ф. Ф. И. И. Шараневич: К 100-летию со дня рождения. Львов, 1929. 15. Аристов Ф. Ф. Карпато-русская библиография. Львов, 1930. 16. Архангельский А. С. Борьба с католичеством и умственное пробуждение
южной Руси к концу XVI в. Киев, 1886. 17. Архангельский А. С. Очерки из истории западнорусской литературы XVI —
XVII вв. Борьба с католичеством и западнорусская литература конца XVI — перв. пол. XVII в. М., 1888.
18. Аскоченский В. Гедеон Болобан, еп. Львовский // Временник Института Ставропигийского за 1868 г. Львов, 1867.
19. Бантыш-Каменский Н. Н. Историческое известие о возникшей в Польше унии. Вильно, 1864.
20. Барвінський О. Ставропигийское брацтво Успеньске у Львове, его засноване, деяльность и значене церковно-народное. Львов, 1886.
21. Барвінський О. Ставропігійська церква Успіня Пр. Богородиці у Львові і за-ходи коло її обнови і прикраси // Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 1—54.
22. Беляновский А. С. Стефан Зизаний. Почаев, 1897. 23. Бендасюк С. Ю. Культурное подвижничество Львовского Ставропигиона //
Юбилейный сборник в память 350-летия Львовскаго Ставропигиона. Ч. 2. // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 34—38.
24. Бендасюк С. Ю. Общерусский первопечатник Иван Федоров и основан-ная им Братская ставропигийская печатня во Львове // Временник. Научно—литературные записки львовского ставропигиона на 1935 г. Львов, 1934. С. 3—64.
25. Блажейовський Д. Берестейська ре-унія та українська історична доля і недо-ля. Львів, 1995. Т. 1.
26. Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1973. 27. Ботвинник М. Б. Лаврентий Зизаний Тустановский — педагог, просвети-
тель и гуманист второй половины XVI — начала XVII вв. Минск, 1970. 28. Боянівська М. Львівське Успенське братство і книгописання (кінець XVI —
середина XVII ст.) // Успенське братство і його роль в українському національно—культурному відродженні. Львів, 1996. С. 51—54.
29. Боянівська М. Б. Братства та антиуніатська полемічна книжність: к. XVI — 30-ті pp. XVII ст. // Прогресивна суспільно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні. Львів, 1988. С. 70—72.
30. Будилович А. С. Русская православная старина в Замостье. Варшава, 1885. 31. Булгаков С. В. Православие: Праздники и посты. Богослужение. Требы.
Расколы, ереси, секты. Противные христианству и православию учения. Западные христианские вероисповедания. Соборы Восточной, Русской и Западной церквей. М., 1994.
32. Ваврик В. Р. И. И. Шараневич: Сборник статей. Львов, 1929.
592 Литература
33. Ваврик В. Р. Основныя черты литературной деятельности Исидора Ива-новича Шараневича // Ваврик В. Р. И. И. Шараневич: Сборник статей. Львов, 1929.
34. Ваврик В. Р. Черные дни Ставропигийского Института. Львов, 1928. 35. Ваврик В. Р. Члены Ставропигиона за 350 лет (1586—1936) // Юбилейный
сборник в память 350-летия Львовскаго Ставропигиона. Ч. 2. // Временник: Науч-но-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 62—143.
36. Ваврик В. Р. Школа и бурса Львовского Ставропигиона // Временник Ставро-пигийского Института. 1932. С. 25—54.
37. Василенко Н. П. Очерки по истории Западной Руси и Украины. Киев, 1916. 38. Винар Л. Праця Михайла Грушевського в НТШ до 1897 року // Винар Л.
Михайло Грушевський історик і будівничий нації: Статті і матеріали. Київ; Нью-Йорк; Торонто, 1995.
39. Виноградов И. Львовское ставропигиальное братство и его деятельность в защиту православия в XVI в. до насильственного введения унии в западнорус-ском крае // Волынские епархиальные ведомости. 1867. № 13. С. 303—316; № 15. С. 393—406; № 19. С. 543—560.
40. Возняк М. С. Діалог Іоанікія Волковича з 1631 р. // ЗНТШ. Львів, 1920. Т. 129. С. 33—79.
41. Возняк М. С. Історія української літератури. Львів, 1921. Т. 2. 42. Возняк М. С. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у
Львові. Львів, 1954. 43. Возняк М. С. Причинки до студій над питаннями Лаврентія Зизанія //
Записки НТШ. Львів, 1908. Т. 88. 44. Возняк М. С. Школа Успенського братства у Львові. Львів, 1936. 45. Вуйцик В. С. Архітектурний ансамбль Успенського братства: реставрація та
обнови // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 23—31.
46. Гавриленко В. Символіка цехового шкіряного промислу міста Львова // Шоста наукова геральдична конференція. Львів, 1997. С. 16—18.
47. Генсиорский А. И. Книги Ставропигийской печати и их роль в культурной жизни Галицкой Руси // Юбилейный сборник в память 350-летия Львовскаго Ставропигиона. Ч. 2. // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 58—62.
48. Генсиорский А. И. Сатира на митрополита Афанасия Шептицкого // Юби-лейный сборник в память 350-летия Львовскаго Ставропигиона. Ч. 2. Львов, 1937. С. 38—44.
49. Гербільський Г. Ю. Петро Перший в Західній Україні. Львів, 1948. 50. Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, матері-
али, карти. Київ, 2000. 51. Головацкий Я. Ф. Библиографические находки во Львове. СПб., 1873. 52. Головацкий Я. Ф. Львовского Ставропигийское братство и князь Острож-
ский // Временник Ставропигийского Института. 1867. С. 66—84.
593Литература
53. Головацкий Я. Ф. Начало и действование Львовского Ставропигийского братства по историко-литературному отношению. Львов, 1860.
54. Головацкий Я. Ф. Порядок школьный или устав Ставропигийской греко-русской школы во Львове 1586 года. Львов, 1863.
55. Головацкий Я. Ф. Хронологическая роспись вписных братий прежде брат-ства Львовского Успения Пресвятыя Богородицы, ныне же Института Ставро-пигийского. // Временник Ставропигийского Института. 1864. С. 81—91.
56. Головацкий Я. Ф. Юбилейное издание в память 300-летнего основания Львовского Ставропигийского братства. Вильна, 1887.
57. Голубев С. Т. Библиографические замечания о некоторых старопечатных церковнославянских книгах, преимущественно конца XVI и XVII столетий // ТКДА. 1876. Т. 1. Февраль.
58. Голубев С. Т. История Киевской духовной Академии. Киев, 1886. 59. Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев,
1883—1898. Т. 1—2. 60. Голубев С. Т. Материалы для истории Западно-русской церкви. Киев, 1891. 61. Голубев С. Т. Панегирик, поднесенный в 1591 г. львовским братством ми-
трополиту Михаиле Рогозе // Киевские епархиальные ведомости. 1874. № 5. Отд. 2. С. 113—133, № 6. Отд. 2. С. 145—157.
62. Голубець М. Українське малярство XVI — XVII ст. під покровом Ставропігії // Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 247—324.
63. Гординський Я. Рукописи бібліотеки монастиря св. Онуфрія Чину св. Василя Великого у Львові. Жовква, 1927. Вип. 1.
64. Грицай М. С. Давня українська драматургія XVII—XVIII ст. Київ, 1974. 65. Грушевський М. С. До біографії митрополита Онисифора Дівочки // Духовна
Україна: Збірка творів. Київ, 1994. С. 517—520. 66. Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні // Духовна Україна:
Збірка творів. Київ, 1994. С. 5—135. 67. Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 1—2. 68. Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 6. 69. Грушевський М. С. Культурно-національний рух на Україні в XVI—XVII віці.
Київ—Львів, 1912. // Духовна Україна: Збірка творів. Київ, 1994. С. 136—255. 70. Грушевський М. С. Історія України—Руси. Львів, 1905. Т. 5: Суспільно-полі-
тичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV—XVII вв.; 2-е вид. Київ, 1994.
71. Грушевський М. С. Історія України—Руси. Київ; Львів, 1907. Т. 6: Життя еко-номічне, культурне, національне XIV—XVII вв. ; 2-е вид. Київ, 1995.
72. Ґудзяк Б. Київська ієрархія, Берестейські собори і укладення унії // Істо-ричний контекст, укладення Берестейської униії і перше поунійне покоління: Ма-теріали Перших «Берестейських читань». Львів, Івано-Франковськ, Київ, 1—6 жов-тня 1994 р. Львів, 1995. С. 101—136.
73. Гудзяк Б. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський ратріархат і генеза Берестейської униії. Львів, 2000.
74. Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993.
594 Литература
75. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 76. Гуревич А. Я. Смерть как проблема исторической антропологии // Одиссей.
М., 1989. С. 117—135. 77. Гурська Л. І. Православні братства в Українi як чинник формування
нацiональної самосвiдомостi (кiнець XVI — перша половина XVII ст.): Автореф. дис… канд. філос. наук. Київ, 2000.
78. Гусева А. А. Идентификация экземпляров украинских изданий кириллов-ского шрифта второй половины XVI — XVIII вв.: Методические рекомендации. М., 1997.
79. Гусева А. А. Символика в орнаментике изданий Ивана Федорова и Петра Тимифеева Мстиславца // Книга. Исследования и материалы. М., 1993. Сб. 66. С. 125—130.
80. Дергачева И. В. Типология Синодиков в русской письменности XV—XVII вв. М., 1990.
81. Дзюба О. М. До 400-річчя з часу заснування на Україні першого братства // Український історичний журнал. 1986. № 9. С. 132—136.
82. Дідицький Б. Львовская Ставропігія и 300-летній праздник ее существова-ния. Львов, 1886.
83. Дмитриев М. В. Между Римом и Царьградом: генезис Брестской церковной унии 1595—1596 гг. М., 2003.
84. Дмитриев М. В. Научное наследие А. И. Клибанова и перспективы срав-нительно-исторического изучения истории христианства в России // Отече ствен-ная история. 1997. № 1. С. 77—93.
85. Дмитриев М. В. Православие и реформация. Реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI века. М., 1990.
86. Дмитриев М. В. Религиозно-культурная и социальная программа греко-католической церкви в Речи Посполитой в конце XVI — первой пол. XVII в. // Славяне и их соседи. Католицизм и православие в средние века. М., 1991. С. 66—68.
87. Дмитрієв М. В. Концепції унії в церковних і державних колах Речі Посполітої кінця XVI ст. // Історичний контекст, укладення унії і перше поунійне покоління: Матеріали Перших «Берестейських читань». Львів, 1995. С. 39—73.
88. Дмитриевский А. А. Архиепископ елассонский Арсений и мемуары его из русской истории. Киев, 1899.
89. Дмитриевский А. Арсений архиепископ Элассонский (Суздальский тож) и его вновь открытые исторические мемуары // ТКДА. 1898. Т. 1. Январь.
90. Добрянский А. История епископов трех соединенных епархий — Пере мы-ской, Самборской и Сяноцкой от найдавнейших времен до 1794 г. Львов, 1893.
91. Долиньска М. «Хронiка ставропiгiйського братства Дениса Зубрицького як джерело для вивчення нерухомої властностi Ставропiгiї // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних. Львiв, 1999. С. 390—401.
92. Дорошенко Д. І. Нарис історії України. Львів, 1991.
595Литература
93. Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії. Прага, 1923. 94. К. В. [Драгоманов М. П.] По поводу юбилея первого русского первопечатни-
ка Ивана Федорова // Вестник Европы. 1884. № 3. С. 413—419. 95. Драгоманов М. Попередне слово // Громада: Українська збірка, упорядкована
М. Драгомановим. Женева, 1878. 96. Драгоманов М. П. Вибране: … мій задум зложити очерк історії цивілізації на
Україні. Київ, 1991. 97. Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу //
Драгоманов М. П. Вибране: … мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні. Київ, 1991.
98. Ефименко А. Я. Южнорусские братства // Южная Русь. СПб., 1905. Т. 1. С. 200—209.
99. Ефименко А. Я. Южнорусские церковные братства // Слово. 1880. № 10—12. 100. Ефименко П. Братства и союзы нищих // Киевская старина. 1883. Т. 7.
С. 312—317. 101. Єфремов С. О. Історія українського письменства. Київ, 1995. 102. Жукович П. Н. Борьба против унии на современных ей литовско-польских
сеймах (1595—1600 гг. ). СПб., 1897. 103. Жукович П. Н. Брестский Собор 1591 г. (по новооткрытой грамоте, содер-
жащей деяния его) // Известия отделения русского языка и словесности импера-торской Академии наук. СПб., 1907. Т. 12. Кн. 2.
104. Жукович П. Н. Отзыв о сочинении К. Харламповича «Западно-русские православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к инославным, рели-гиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви». СПб., 1902.
105. Жукович П. Н. Протестация митрополита Иова Борецкого и других за-падно-русских иерархов, составленная 28 апреля 1621 г. // Сборник статей по сла-вяноведению. СПб., 1910. Вып. 3. С. 135—153.
106. Жукович П. Н. Сеймовая борьба православного западнорусского дворян-ства с церковной унией. СПб., 1901—1912. Вып. 1—6.
107. Жуковський А. Петро Могила — засновник Київської колегії-академії і реформатор освіти в Україні // Український історик: Журнал історії і україноз-навства. Нью-Йорк; Торонто; Київ; Львів; Мюнхен, 1997. № 1—4 (132—135). С. 61—69.
108. Жуковський А. Петро Могила і питання єдности церков. Київ, 1997. 109. Завитневич В. З. Высшее начало, положенное в основу западнорусских
братств, и причины стремления последних к ставропигиальности // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. 1902. Т. 16. № 4. Отд. 1. С. 24—28.
110. Завитневич В. З. Палинодия Захарии Копыстенского и ее место в истории западно-русской полемики XVI и XVII вв. Варшава, 1883.
111. Загайко П. К. Українські письменники полемісти кінця XVI — початку XVII ст. в брортьбі проти Ватікану і унії. Київ, 1957.
112. Заикин В. Участие светского элемента в церковном правлении. Варшава, 1930.
596 Литература
113. Замалеев А. Ф. Восточнославянские мыслители: Эпоха средневековья. СПб., 1998.
114. Запаско Я. П. Мацюк О. Я. Львівські стародруки: Книгознавчий нарис. Львів, 1983.
115. Захара И. С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже XVI—XVIII вв. Киев, 1982.
116. Збірник Львівсьвої Ставропігії /під ред. К. Студинського. Львів, 1921. Т. 1. 117. Зеленин Д. К. Древнерусская братчина как обрядовый праздник сбора уро-
жая // Сборник отделения русского языка и словесности АН СССР. 1928. Т. CI. № 3. 118. Зеньковский В. В. История русской философии. Париж, 1948; Л., 1991. 119. Зилитневич В. С. Арсений Елассонский // Словарь книжников и книжно-
сти Древней Руси. Вып. 3 (XVII в. ). Ч. 1. СПб., 1992. С. 108—110. 120. Зноско К. Исторический очерк церковной унии, ее происхождение и харак-
тер. Варшава, 1933; М., 1993. 121. Зубрицкий Д. И. Критико-историческая повесть временных лет Червонной
или Галицкой Руси. М., 1845122. Зубрицкий Д. И. Летопись Львовского Ставропигиального братства //
Журнал министерства народного просвещения. 1849. № 5—6. Ч. 62. Отд. 2; 1850. № 5. Ч. 66. Отд. 2; №6. Ч. 67. Отд. 2.
123. Зубрицкий Д. Летопись Львовского Ставропигиального братства / Пер. с польск. Львов, 1926.
124. Зубрицкий Д. И. Начало унии // ЧОИДР. 1848. № 7. Отд. III. С. 1—36. 125. Зубрицкий Д. И. О славяно-русских типографиях в Галиции и Лодомирии //
Журнал министерства народного просвещения. 1838. Ч. 19. № 9. С. 560—585. 126. Iванис В. Церковнi братства та їх значення для українського народу //
В оброні віри. Торонто, 1954. Т. 1. 127. Ильинский Ф. М. Большой катехизис Лаврентия Зизания // ТКДА. Киев,
1898. № 2, 5, 6, 8, 10; 1899. № 3. 128. Ильинский Ф. М. Юго-западное русское общество и его умственное и
религиозно-нравственное состояние в конце XVI и первой половине XVII вв. (в период Брестской унии). Почаев, 1891.
129. Исаевич Я. Д. Зубрицкий Денис Иванович // Славяноведение в дореволю-ционной России. Библиографический словарь. М., 1979. С. 161—162.
130. Исаевич Я. Д. Издательская деятельность Львовского братства в XVI—XVIII ве ках // Книга. Исследования и материалы. М., 1963. Сборник 7. С. 199—238.
131. Исаевич Я. Д. Книгопечатание во Львове XVI — XVII вв., XVIII в. // 400 лет русского книгопечатания. М., 1964. С. 73—77, 218—221.
132. Исаевич Я. Д. Круг читательских интересов городского населения Украины в XVI — XVII вв. // Федоровские чтения. 1976; Читатель и книга. М., 1978.
133. Исаевич Я. Д. Новые каталоги книг кириллической печати // Археорга-фический ежегодник за 1977 г. М., 1978.
134. Исаевич Я. Д. Преемники первопечатника М., 1981. 135. Исаевич Я. Д. Роль братств в издании и распространении книг на Украине и
Белоруссии (конец XVI — XVIII вв. ) // Книга и графика. М., 1972. С. 127—136.
597Литература
136. Исаевич Я. Д. Церковные братства на Украине и в Белоруссии в конце XVI — перв. пол. XVII вв. // Славяне и их соседи. Католицизм и православие в сред ние века. М., 1991. С. 64—66.
137. Ісаєвич Я. Д. «Lycaum trilingue»: концепція тримовної школи у Європі в XVI ст. // Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів, 1996. С. 308—318.
138. Ісаєвич Я. Д. «Навіти» — невідома пам’ятка української публіцистики XVII ст. // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. 1964. № 6. С. 57—58.
139. Ісаєвич Я. Д. Books and book Printing in Ukraine in the sixteenth and the first half of the seventeenth centuries // Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів, 1996. С. 214—240.
140. Ісаєвич Я. Д. The book trade in eastern europe in the seventeenth and early eighteenth canturies // Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів, 1996. С. 241—261.
141. Ісаєвич Я. Д. Архів Львівського братства // Архіви України. 1968. № 1. С. 88—93. 142. Ісаєвич Я. Д. Бібліотека Львівського братства // Бібліотекознавство та
бібліографія: Республіканський міжвідомчий науково-методичний збірник. Харків, 1966. Вип. 3. С. 126—132.
143. Ісаєвич Я. Д. Братства і українська музична культура XVI—XVIII ст. // Українське музикознавство. Київ, 1971. Вип. 6. С. 48—57.
144. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI— XVIII століття. Київ, 1966.
145. Ісаєвич Я. Д. Д. І. Зубрицький і цого діяльність в галузі спеціальних історич-них дисциплін // Науково-інформаційний бюлетень архівного управління УРСР. Київ, 1963. № 1. С. 48—58.
146. Ісаєвич Я. Д. Деякі питання бібліографії видань братств // Архіви України. 1970. № 6. С. 9—16.
147. Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму XVI— VIII ст. Київ, 1972.
148. Ісаєвич Я. Д. Джерела про суспільно-політичну діяльність братств України XVI — XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання. Київ, 1969. Вип. 4. С. 37—47.
149. Ісаєвич Я. Д. Джерельні матеріали з історії українського мистецтва XVI—XVIII ст. в архіві Львівського братства // Третя республіканська наукова конфе-ренція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Друга секція: Спеціальні історичні дисципліни. Київ, 1968. С. 99—111.
150. Iсаєвич Я. Д. До питання про діяльність Львівського братства в галузi мiжслов'янських культурних взаємин у XVI—XVIII ст. // Українське слов'яно-знавство. 1970. Т. 1. С. 137—140.
151. Ісаєвич Я. Д. Документи з історії боротьби міських братств проти націо-нально-релігійного гніту в першій половині XVII ст. // Середні віки на Україні. Київ, 1971. Вип. 1. С. 208—313.
152. Ісаєвич Я. Д. З історії викладання філософії на Україні (XVI—XVII ст.) // Від Вишенського до Сковороди. Київ, 1972. С. 24—35.
598 Литература
153. Ісаєвич Я. Д. Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог. Львів, 1981—1984. Кн. 1—2.
154. Ісаєвич Я. Д. Зв'язки братств з запорізьким козацтвом // Середні віки на Україні. Київ, 1973. Вип. 2. С. 149—150; То же // Київська Старовина. 1992. № 1. С. 7—11; То же // Україна давня і нова. Львів, 1996. С. 105—113.
155. Ісаєвич Я. Д. Історія Львівського Успенського братства: проблеми періо-дизації // Успенське братство і його роль в українському національно-куль тур ному відродженні. Львів, 1996. С. 5—8.
156. Ісаєвич Я. Д. Книгозбірні й книгарство// Історія Львова / Редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2006. Т. 1. С. 186—190.
157. Iсаєвич Я. Д. Львівське братство і його роль в мiжслов'янських культур-них зв'язках в XVI—XVIII ст. // V Республiканська славiстична конференцiя. Тези докладiв. Ужгород, 1962. С. 241—242.
158. Ісаєвич Я. Д. Найдавніші документи про діяльність братств на Україні // Історичні джерела та їх використання. Київ, 1966. Вип. 2. С. 13—22; То же. // Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів, 1996. С. 50—62.
159. Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. Львів, 1983.
160. Ісаєвич Я. Д. Слов'янські стародруки в історії слов'янської і світової куль-тури. Київ, 1983.
161. Iсаєвич Я. Д. Суспiльно-полiтична та культурна дiльнiсть братств: про-блеми перiодизації // Прогресивна суспільно-політична думка в боротьбі про-ти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні. Львів, 1988. С. 7—9.
162. Ісаєвич Я. Д. Українська археографія в XVII—XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання. Київ, 1964. С. 174—185.
163. Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002.
164. Ісаєвич Я. Д. Успенське братство // Історія Львова / Редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2006. Т. 1. С. 141—147.
165. Історія Львова. Київ, 1984. 166. Історія Львова. Короткий нарис. Львів, 1956. 167. Історія Української СРСР. Київ, 1953. 168. Капраль М. Актові матеріали до біографії Івана Красовського // Україна в
минулому. Київ; Львів, 1993. Вип. 4. С. 90—131. 169. Капраль М. Боротьба за рівні права: судові конфлікти Ставропігігйського
братства та української громади Львова з магістратом у 30—50-х роках XVIII ст. // Наукові зошити Львівського національного університету ім. Івана Франка. Львів, 2003. Вип. 5. С. 77—85.
170. Капраль М. Брати Рогатинці — старійшини Львівського Успенського брат-ства // Україна в минулому. Київ; Львів, 1992. Вип. 2. С. 50—60.
171. Капраль М. Історіографія Львівського Успенсткого братства // Україна в минулому. Київ; Львів, 1992. Вип. 1. С. 54—71.
599Литература
172. Капраль М. Між двома уніями: правові конфлікти української громади та магістрату Львова у другій половині XVI ст. // Київська старовина. Київ, 2002. № 1. С. 50—62.
173. Капраль М. Національні громади Львова XIV—XVIII ст. (соціально-правові взаємини). Львів, 2003.
174. Капраль М. Неопублікований фрагмент документа стосовно релігійних по-глядів Стефана Зизанія // ЗНТШ. 1993. Т. 225. С. 307—309.
175. Капраль М. Огляд історіографії національних взаємостосунків у Львові XVI—XVIII століть // Український археографічний щорічник. Київ, 2002. Нова се-рія: Вип. 7. С. 216—231.
176. Капраль М. Привілеї міста Львова XIV—XVIII ст. (Історико-джерелознавчий огляд) // Привілеї міста Львова XIV—XVIII ст.: Зб. док. Львів, 1998. С. 7—25.
177. Капраль М. Привілеї національних громад міста Львова XIV—XVIII ст. (Історико-джерелознавчий огляд) // Привілеї національних громад міста Львова XIV—XVIII ст.: Зб. док. Львів, 2000. С. 5—37.
178. Капраль М. Українська громада на вулиці Руській Львова в 1550—1585 ро-ках // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2002. Вип. 37. Ч. 1. С. 145—160.
179. Капраль М. Чи існувало Львівське Успенське братство перед 1586 роком? // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відро-дженні. Львів, 1996. С. 8—12.
180. Карпович В. Дзвони церкви Успенія Пр. Д. Богородиці // Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 160—184.
181. Карсавин Л. П. Культура средних веков. Пг., 1918. 182. Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М., 1992. 183. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1993. Т. 1; 1992.
Т. 2. 184. Кашуба М. В. З історії боротьби проти унії XVII—XVIII ст. Київ, 1976. 185. Кашуба М. В. Проблема ренесансу в українській духовній культурі Записки
НТШ. Львів, 1994. Т. 128. С. 357—371. 186. Київ в історії філософії України / В. С. Горський, Я. М. Стратій, А. Г. Тихолаз,
М. Л. Ткачук. Київ, 2000. 187. Киричук О. Перехід Львівського Ставропігійського братства під юрисдик-
цію Св. Апостольського престолу (за матеріалами ЦДІА України у Львові) // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відро-дженні. Львів, 1996. С. 95—99.
188. Киселев Н. П. Греческая печать на Украине в XVI в. // Книга. Исследования и материалы. М., 1962. Сб. 7. С. 171—198.
189. Киселев Н. П. Книги греческой печати в собрании Государственной библи-отеки СССР им. В. И. Ленина // Книга. Исследования и материалы. М., 1973. Сб. 26. С. 124—147.
190. Клибанов А. И. А. С. Лаппо-Данилевский — историк и мыслитель // Лаппо-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культуры XVII—XVIII вв. М., 1990. С. 249—280.
600 Литература
191. Клименко П. В. Цехи на Україні. Київ, 1929. 192. Ковальский Н. П. Деятельность русской дипломатии в 70—90-х годах
XVII века по отношению к украинским землям в составе Речи Посполитой // Из истории местного края: Тематический сборник статей профессорско-препода-вательского состава кафедры истории СССР и УССР. Днепропетровск. 1968. С. 158—176.
193. Ковальский Н. П. Источники по истории Украины XVI — первой пол. XVII в. в Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА. Днепропетровск, 1979.
194. Ковальский Н. П. Источники по истории Украины XVI — первой полови-ны XVII в. // Анализ публикаций источников по отечественной истории. Днепро-петровск, 1978. С. 20—48.
195. Ковальский Н. П. Источники по социально-экономической истории Украи-ны (XVI — первая пол. XVII века): Структура источниковой базы. Днепро петровск, 1982.
196. Ковальский Н. П. Источниковедение истории украинско-русских связей (XVI — перв. пол. XVII века). Днепропетровск, 1985.
197. Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины (XVI — первая по-ловина XVII века). Часть 1. Анализ советских археографических публикаций до-кументальных источников. Днепропетровск, 1977.
198. Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины XVI—XVII вв. Часть II. Днепропетровск, 1978.
199. Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины XVI — первой пол. XVII в. Часть IV. Обзор основных отечественных собраний архивных источников. Днепропетровск, 1979.
200. Ковальский Н. П. Источниковедение социально-экономической истории Украины (XVI — перв. пол. XVII в. ): Акты о городах. Днепропетровск, 1983.
201. Ковальский Н. П. Мыцык Ю. А. Анализ архивных источников по истории Украины XVI—XVII вв. Днепропетровск, 1984.
202. Ковальский Н. П. Связи западно-украинских земель с Русским государ-ством (вторая пол. XVI—XVII вв.): Автореф. … канд. истор. наук. Львов, 1958.
203. Ковальський М. П. Львівські братства. Діяльність Івана Федорова. Зв'язки Львова з Росією в XVI — першій половині XVII ст. Львів, 1956.
204. Ковальський М. П. Політичні зв'язки західно-українських земель з Россійсь-кою державою в другій проловині XVII ст. // Питання історії СРСР. Львів. 1957. Вип. 6.
205. Козак У. Історія бібліотеки Ставропігії // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 72—77.
206. Колосовська О. Видання Успенського братства у львівських збірках // Ус-пенське братство і його роль в українському національно-культурному відроджен-ні. Львів, 1996. С. 84—88.
207. Коляда Г. І. Друкарський знак Івана Федорова // Українська книга. Київ; Харків, 1965. С. 185—193.
601Литература
208. Коляда Г. И. Книгоиздательство Львовского братства в XVII веке // Ученые записки Сталинабадского объединения педагогического и учительского институ-та им. Т. Г. Шевченко. 1952.
209. Коляда Г. І. Гаврило Дорофеєвич, український літератор XVII ст. // Радянсь-ке літературознавство. 1957. № 3. С. 49—59.
210. Коляда Г. І. До питання про автора «Перестороги» в світлі гіпотези Івана Франка // Іван Франко. Статті і матеріали. Зб. IV. Львів, 1958.
211. Конев С. В. Синодикология: Ч. 1. Классификация источников // Историческая генеалогия. Вып. 1. Екатеринбург, 1993.
212. Копыстянский А. Исторический очерк сооружения Успенской церкви во Львове. Львов, 1931.
213. Копыстянский А. Патриаршая грамота от первого старого стиля янва-ря 1586 г. и ее значение в истории львовского ставропигиона и Галицкой Руси // Юбилейный сборник в память 350-летия Львовскаго Ставропигиона. Ч. 2. // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 3—8.
214. Копыстянский А. Дополнение к материалам, относящимся к истории Львовскаго Ставропигиона в XVIII ст. // Юбилейный сборник в память 350-ле-тия Львовскаго Ставропигиона. Ч. 2. // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 145—163.
215. Корзо М. А. Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI — XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований. М., 2007.
216. Кос Г. І. Українська дільниця середньовічного Львова (До питання історії будівництва та архітектури XV—XIX ст.) // Україна в минулому. Львів, 1994. Вип. 5. С. 66—75.
217. Кос Г. І., Федина Р. Й. Вулиця Руська у Львові. Львів, 1996. 218. Костомаров Н. И. Автобиография. Киев, 1992. 219. Костомаров Н. И. Князь Константин Константинович Острожский //
Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 1874. Вып. 3. С. 535—561.
220. Костомаров Н. И. Об отношении русской истории к географии и этногра-фии // Собр. соч. СПб., 1903. Т. 3. С. 717—731.
221. Костомаров Н. И. Южная Русь в конце XVI в. // Собр. соч. СПб., 1903. Т. 3. С. 619—698.
222. Костюк С. Копії портретів родини Корняктів у фондах ЛНБ ім. В. Стефа-ни ка НАН України // Успенське братство і його роль в українському національно-куль турному відродженні. Львів, 1996. С. 77—80.
223. Коялович М. О. Историческое исследование о Западной России, служа-щее предисловием к собранию документов // Документы, объясняющие историю западно-русского края и его отношение к России и к Польше. СПб., 1865. С. IV—CCIII.
224. Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памят-никам и научным сочинениям. СПб., 1884.
602 Литература
225. Коялович М. О. Литовская церковная уния. СПб., 1859—1861. Т. 1—2. 226. Коялович М. О. Чтения о церковных западно-русских братствах. М., 1862. 227. Крат М. М. Братства в iсторiї України. Лондон, 1950. 228. Крип’якевич І. П. До історії львівського книгарства в XVIII ст. // Українська
книга. 1938. № 2. 229. Крип’якевич І. П. До історії львівської гравюри в XVII в. // Бібліологічні
вісті. 1927. № 1. 230. Крип'якевич І. П. Дещо зі звичаїв у львівській школі та бурсі // Життя і
знання. 1934. № 6. 231. Крип'якевич І. П. Джерела з історії Галичини періоду феодалізму (до 1772 р.):
Огляд публікацій. Київ, 1962. 232. Крип'якевич І. П. Зв'язки Західної України з Росією до середини XVII ст.
Київ, 1953. 233. Крип'якевич І. П. Каталог бібліотеки Львівської Ставропігії з 1619 р. //
Українська книга. 1937. № 7—8. С. 157—166. 234. Крип'якевич І. П. Львівська братська школа XVI — XVII в. // Українська
школа. 1926. № 17—18. 235. Крип'якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI в. // Записки НТШ.
Т. 77—79. 236. Крип'якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і
матеріали. Львів, 1994. 237. Крип'якевич І. П. Ставропігійська літографія в роках 1847—1854 // Збірник
Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 143—159. 238. Крип'якевич І. П. Українські шпиталі у Львові в XVI—XVII ст. // Лікарський
вісник. Львів, 1930. № 1. 239. Криса Б. Писемність і літературна творчість // Історія Львова / Редкол.
Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2006. Т. 1. С. 191—197. 240. Криса Б. Поетичний доробок Львівської братської школи // Успенське
братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 39—43.
241. Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство: Речь перед за-щитой диссертации. Киев, 1904.
242. Крыловский А. С. Львовское Ставропигиальное братство: Опыт церковно-исторического исследования. Киев, 1904.
243. Кудрик Б. Огляд історії української церковної музики. Львів, 1937. 244. Кулиш П. А. История воссоединения Руси. СПб., 1874. Т. 1: От начала ко-
лонизации опустошенной татарским погромом Киево-Галицкой Руси до начала столетней козацко-шляхетской войны; М., 1877. Т. 3: Религиозное, социальное и национальное движение в эпоху Иова Борецкого.
245. Купчинский О. А. Документы об Иване Федорове и его сыне Иване Друка-ревиче в ЦГИА УССР в г. Львове и их использование в отечественной археогра-фии // Советские архивы. 1975. № 4. С. 81—83.
246. Лаппо-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культу-ры XVII—XVIII вв. М., 1990.
603Литература
247. Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. 4-е изд. Пг., 1923. Т. 1. 248. Ле Гоф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 249. Левинсон К. А. История ментальности в Европе. Очерки по основным те-
мам / Под ред. П. Динцельбахера (Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen / Hrsg. von P. Dinzelbacher. Stuttgart, 1993) // История менталь-ностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефе-ратах. М., 1996. С. 97—118.
250. Левицкий О. И. Об актовых книгах, относящихся к истории Юго-Западного края и Малороссии. М., 1900.
251. Левицкий О. И. Социнианство в Польше и Юго-Западной Руси // Киевская старина. 1882. Т. 2. С. 25—27, 193—224, 401—432.
252. Левицький О. Внутрішній стан західно-руської церкви в Польсько-ли-товській державі в кінці XVI ст. та Унія // Розвідки про церковні відносини на Україні—Руси XVI—XVIII вв. Львів, 1900. С. 1—80.
253. Лильо І. М. Нариси з історії грецької громади Львова XVI—XVII століть. Львів, 2002.
254. Лимонов Ю. А. Культурные связи России с Европейскими странами в XV—XVII вв. Л., 1978.
255. Лукашова С. С. Взаимоотношения клира и объединений мирян на восточ-ных землях Речи Посполитой в конце XVI в.: Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 2002.
256. Лукашова С. С. Конфликт епископа Гедеона Балабана и львовского Успен-ского братства в 80-х гг. XVI в.: попытки реформы церкви или борьба за имуще-ственные интересы // Славянский альманах за 1999 г. М., 2000. С. 36—52.
257. Лукашова С. С. Миряне и церковь: религиозные братства Киевской митро-полии в конце XVI века. М., 2006.
258. Лукашова С. С. «Мы, нижей подписанные…»: Львовский синод 1595 г. в истории Брестской унии // Славянский альманах за 2000 г. М., 2001. С. 12—19.
259. Лукомский В. К. К вопросу о родопроисхождении Ивана Федорова // Иван Федоров первопечатник. М.; Л., 1935. С. 167—175.
260. Лурье В. М. Православие в XVI в. Особенности богословствования в зонах контакта с западными конфессиями // Славяне и их соседи. Католицизм и право-славие в средние века. М., 1991. С. 58—61.
261. Луцiв В. Церковнi братства в Українi // Богословия. Рим, 1973. С. 89—123. 262. Луцык Р. Я. Храм Успения Богородицы во Львове // Юбилейный сбор-
ник в память 350-летия Львовскаго Ставропигиона. Ч. 2. // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 48—51.
263. Люзняк М. Історико-філософський зміст національної ідеї в діяльності Ус-пенського братства (XVI—XVIII ст.) // Успенське братство і його роль в україн-ському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 100—102.
264. Макарий (Булгаков). История русской церкви. СПб., 1900. Т. 9; М., 1996. Т. 5.
604 Литература
265. Макарий (Булгаков). Первое двадцатипятилетие церковной унии в запад-норусском крае. М., 1880.
266. Макаров А. М. Світло українського бароко. Київ, 1994. 267. Малышевский И. И. Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его уча-
стие в делах русской церкви. Киев, 1872. Т. 1—2. 268. Малышевский И. И. Западная Русь в борьбе за веру и народность. СПб., 1879. 269. Маслов С. І. Етюди з історії стародруків. Київ, 1928. Вип. 11—12. 270. Маслов С. И. Кирилл Транквилион-Ставровецкий и его литературная дея-
тельность. Киев, 1984. 271. Маслов С. І. Культурно-національне відродження на Україні в кінці XVI і
першій половині XVII ст. // Матеріали до вивчення історії української літератури. Київ, 1959. Т. 1. С. 198—212.; // Наукові записки Інституту мови та культури АН УРСР. Київ, 1946. С. 3—20.
272. Матковська О. Ідеї социніян в ідеології та практиці братств в Україні (кінець XVI — перша половина XVII століття) // Записки НТШ. Львів, 1994. Т. 128. С. 372—388.
273. Матковська О. Львівське братство: Культура і традиції. Кінець XVI — перша половина XVII ст. Львів, 1996.
274. Матюхіна О. А. Вплив античної культури на укладачів Адельфотесу // Записки наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Львів, 1994. Вип. 4. С. 76—82.
275. Мацюк О. Я. Папір з гербом міста Львова // Третя наукова геральдична конференція. Львів, 1993. С. 55—56.
276. Мединський Є. М. Братські школи України і Білорусії в XVI—XVII століттях. Київ, 1958.
277. Медынский Е. М. Братские школы Украины и Белоруссии в XVI—XVII в. и их роль в воссоединении Украины с Россией. М., 1954.
278. Медушевская О. М. Источниковедение: теория, история и метод. М., 1996. 279. [Мерунович Кл.] Константин Корнякт // Временник Ставропигийского ин-
ститута с месяцесловом на год простый 1867. Львов, [1866]. С. 60—66. 280. Милюков Н. П. Очерки по истории русской культуры. СПб., Ч. 1—3.
1899—1909. 281. Митюров Б. Н. Из истории Львовской братской школы // Советская педа-
гогика. 1954. № 2. С. 82—89. 282. Митюров Б. Н. Памятник педагогической литературы начала XVII в.
«О воспитании чад» // Наукові записки Львівського педагогічного інституту. Т. 4. Вип. 2. Серія педагогічна. Львів, 1955. С. 101—109.
283. Мицько І. З. Ідеологічна боротьба на Україні в XVII ст. і формування та склад бібліотек // Бібліографічна інформація і сучасність. Київ, 1981. С. 102—111.
284. Мицько І. З. Львівські священники та вчителі останньої чверті XVI — першої третини XVII ст. // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 12—23.
285. Мицько І. З. Острозька слов'яно-греко-латинська академія (1576—1636) Київ, 1990.
605Литература
286. Мірчук І. Історія української культури. Мюнхен, 1949; Мюнхен; Львів, 1994. 287. Могитич І. Р. Ансамбль вулиці Руської . Львів, 1982. 288. Москаленко Н. А. Нарис історії української граматичної термінології. Київ,
1959. 289. Назарко I. Братства i їх роль в iсторiї української церкви. Париж, 1966. 290. Науменко Ф. І. Педагог-гуманіст і просвітитель І. М. Борецький. Львів, 1963. 291. Немировский Е. Л. Документальные материалы Львовских архивов о по-
следнем периоде жизни и деятельности Ивана Федорова // Исторический архив. М., 1961.
292. Немировский Е. Л. Иан Федоров и его эпоха: Энциклопедия. М., 2007. 293. Немировский Е. Л. Издательский знак Ивана Федорова // Мир єтикетки. М.,
2002. № 9. С. 52—56. 294. Немировский Е. Л. Первопечатник Иван Федоров: Жизнь и деятельность.
М., 1964. 295. Ничик В. М. Из истории молдавско-украинских культурных связей в пер-
вой половине XVII в. // Очерки по истории молдавско-русско-украинских фило-софских связей (XVII—XX вв. ). Кишинев, 1977.
296. Овсійчук В. Ансамбль Руської вулиці. Львів, 1972. 297. Огієнко І. Історія українського друкарства: Історично-бібліографічний
огляд українського друкарства XV—XVIII вв. Київ, 1994. (Львів, 1925)298. Огієнко І. Українські церковні братства, їх діяльність та значення //
Огієнко І. Українська Церква: Нариси з історії Української Православної Церкви: У 2 т. Київ, 1993. С. 123—133. 1937; Прага, 1942.
299. Огієнко І. І. Українська культура. Коротка історія культурного життя ук-раїнсь кого народу. Київ, 1918; 1991.
300. Оглоблин Н. Арсений архиепископ Елассонский и его «Описание путеше-ствия в Московию» (1588—1589 гг. ) // Историческая библиотека. 1879. № 8—9.
301. Огоновский О. История литературы руской. Львов, 1887. 302. Оксиюк И. Ф. Единство церкви и церковные унии // Львовский церковный
Собор: Документы и материалы. 1946—1981. М., 1982. 303. Ольховский Т. А. Князь К. К. Острожский. Холм, 1908. 304. Орлевич І. Денис Зубрицький — автор «Хроніки міста Львова» // Зуб-
рицький Д. Хроніка міста Лвова. Львів, 2002. С. I—XI. 305. Орлевич І. Ставропігійський інститут у Львові (кінець XVIII — 60-і рр.
XIX ст.). Львів, 2000. 306. Отчет из Археологическо-библиографической выставки в Ставро пи гий-
ском Институте, открытой 28 сентября (10 октября) 1888 г., закрытой 16 (26) фев-раля 1889 г., и опись фотографически снятых предметов из той же выставки / Шараневич И. И. Львов, 1889.
307. Папков А. А. Братства как мощная защита православия вплоть до вос-становления православной иерархии в 1620 г. // Богословский вестник. 1898. № 1. С. 26—52; № 3. С. 335—364.
606 Литература
308. Папков А. А. Братства. Очерк истории западно-русских православных братств. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. 1-я публ.: «Богословский вест-ник». 1897—1899.
309. Папков А. А. Древне-русский приход. Краткий очерк церковно-приходской жизни в восточной России до XVIII в., и в западной до XVII в. // Богословский вест-ник. 1897. Т. 1. Февраль. С. 251—284; Март. С. 373—395; Т. 2. Апрель. С. 42—67.
310. Папков А. А. Жизнь и деятельность братств во второй половине XVII и в XVIII веках. Троеце-Сергиева Лавра, 1900.
311. Папков А. А. Оживленная деятельность православных братств в эпо-ху митрополита П. Могилы: 1632—1647. // Богословский вестник. 1898. № 8. С. 141—182.
312. Папков А. А. Охранительная деятельность православных братств в послед-ние годы царствования короля Сигизмунда III: 1620—1632 // Богословский вест-ник. 1891. № 5. С. 166—188; № 7. С. 16—42.
313. Папков А. А. Эпоха преобразования западнорусских церковных братств: 1586—1600 гг. // Богословский вестник. 1897. № 9. С. 193—224; № 11. С. 200—239.
314. Паславський I. В. Берестейська унія і українська християнська традиція. Львів, 1997.
315. Паславський I. В. Мiж Сходом i Заходом. Нариси з культурно-полiтичної iсторiї Української Церкви. Львів, 1994.
316. Паславський І. В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI — першій третині XVII ст. Київ, 1984.
317. Паславський І. В. Суспільний ідеал братств: до питання про характер ідеології братського руху // Прогресивна суспільно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні. Львів, 1988. С. 21—24.
318. Паславський І. В. Суспільно-культурна діяльність Львівського братства кінця XVI — першої половини XVII ст. в оцінці української історіографії // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 43—51.
319. Перетц В. Н. Исследования и материалы по истории старинной украин-ской литературы XVI—XVIII вв. Л., 1929; М. ; Л., 1962.
320. Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и материалы. Т. 1. СПб., 1900.
321. Петров В., Чижевський Д., Глобенко М. Українська література. Мюнхен; Львів, 1994.
322. Петров Н. И. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // ТКДА. 1870. № 5, 8, 11; 1871. № 2, 5—7; 1872. № 1, 2.
323. Петров Н. И. Львовский епископ Гедеон Балобан и его деятельность в поль-зу православия и русской народности в Галиции и юго-западном крае России // Памятники русской старины в западных губерниях / Изд. П. Н. Батюшков. СПб., 1885. Т. 8. С. 261—308.
324. Петрушевич А. С. Дополнения к сводной Галицко-Русской летописи с 1600 по 1700 год. Львов, 1891.
607Литература
325. Петрушевич А. С. Каталог церковно-словенских рукописей и старопечатных книг кирилловского письма, находящихся на Археологическо-библиографической выставке в Ставропигийском заведении. Львов, 1888.
326. Петрушевич А. С. О начале книгопечатания на Руси вообще, а в горо-де Львове в особенности // Временник Ставропигийского Института. 1884. С. 113—133.
327. Петрушевич А. С. Сводная Галицко-Русская летопись с 1600 по 1700 год. Львов, 1874.
328. Петрушевич А. С. Сводная Галицко-Русская летопись с 1700 до конца авгу-ста 1772 года. Львов, 1887.
329. Петрушевич А. С. Хронологическая роспись церковных и мирских русско-словенских книг, напечатанных кирилловскими буквами в городе Львове, начиная с 1574 до 1800 года // Временник Ставропигийского Института. 1885. С. 113—133.
330. Пилипчук Р. Початки українського шкільного театру в Галичині: Ярослав Ісаєвич про «Просфониму» // Προσϕώνηµα. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича. Львів, 1998. (Україна: культур-на спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 5). С. 465—473.
331. Пилипчук Р. До історії українського шкільного театру кінця XVI — поч. XVII ст. // ЗНТШ. Т. 237. С. 15—42.
332. Пилявец Л. Б. Идеология братского движения на Украине и в Белоруссии (конец XVI — первая половина XVII в. ) // Исторические традиции философской культуры народов СССР и современность. Киев, 1984. С. 185—191.
333. Питирим, епископ (Нечаев). Арсений архиепископ Елассонский и его поэ-ма об учреждении русского патриаршества // Богословские труды. М., 1968. Сб. 4. С. 251—280.
334. Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. Л., 1924. Т. 2. 335. Полонська-Василенко Н. Д. Братства на Україні // Минуле і сучасне. Мюнхен,
1947. 336. Полонська-Василенко Н. Д. Братства на Україні // Рідна церква. Ч. 17. 1955. 337. Полонська-Василенко Н. Д. Історія України. Мюнхен, 1972—1976. Т. 1—2;
Київ, 1995. Т. 1—2. 338. Полонська-Василенко Н. Д. Історія української церкви. Мюнхен, 1949. 339. Попов А. Пиры и братчины. М., 1854. 340. Предтечевский Н. Значение кн. К. К. Острожского в истории западно-
русской народности и церкви. Вильна, 1913. 341. Пришляк В. В. Роль братств у пожвавленні зв'язків з наддніпряньскою
Україною і Росією на початку XVIII ст. // Прогресивна суспільно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні. Львів, 1988. С. 138—139.
342. Проблема людини в українській філософії XVI—XVII ст. / Відп. ред. М. В. Кашуба. Львів, 1998.
343. Рамазанова Д. Н. Бытование первой Греко-славянской грамматики (Львов, 1591 г. ) в славянских землях в XVII—XVIII в. // Федоровские чтения. М., 2003. С. 277—283.
608 Литература
344. Реєстр нотних зошитів, що належали Львівському Ставропігійському брат-ству (1697 р. ) // Українське музикознавство. Київ, 1971. Вип. 6. С. 245—251.
345. Рєзанов В. Драма українська. Київ, 1926. Вип. 1. 346. Рибчинська Н. Книготорговельні каталоги Львівської Ставропігії XVIII —
початку XX ст. в контексті західноукраїнської торговельної бібліографії // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 81—84.
347. Рогожин Н. М. «Око всей великой России»: Об истории русской диплома-тической службы XVI—XVII веков. М., 1989.
348. Рогожин Н. М. Посольские книги России конца XV — начала XVII вв. М., 1994.
349. Ружицький Е. Невідомий документ про смерть Стефана Зизанія // Архіви України. 1972. № 1. С. 63—64.
350. Русская старопечатная литература (XVI — первая четверть XVIII в. ). Тематика и стилистика предисловий и послесловий / Под ред. А. С. Дёмина. М., 1981.
351. Савич А. А. Западно-русские униатские школы XVII—XVIII в. // Труды Белорусского государственного университета. Минск, 1922. Т. 1. С. 164—175; 1923. Т. 2—3. С. 130—197.
352. Савич А. А. Нариси з історії культурних рухів на Вкраїні та Білорусі в XVI—XVIII ст. Київ, 1929.
353. Сазонов С. В. К ранней истории синодичных предисловий // Сообщения ростовского музея. Ростов, 1991. Вып. 1. С. 8—24.
354. Сазонов С. В. О видах синодика-памятника // История и культура Ростов-ской земли. Ростов, 1993. С. 110—119.
355. Сазонова Л. И. Украинские старопечатные предисловия конца XVI — пер-вой половины XVII в. (борьба за национальное единство) // Русская старопечатная литература (XVI — первая четверть XVIII в. ). Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М., 1981. С. 129—152.
356. Сазонова Л. И. Украинские старопечатные предисловия конца XVI — пер-вой половины XVII в. (особенности литературной формы) // Русская старопечат-ная литература (XVI — первая четверть XVIII в. ). Тематика и стилистика преди-словий и послесловий. М., 1981. С. 153—187.
357. Сварник І. І. До питання про вплив Львівського братства на формування братської символіки // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 36—39.
358. Свенцицкий И. С. Библиотеки и музеи г. Львова. СПб., 1907. 359. Свенцицкий И. С. Опись музея братства. Львов, 1905. 360. Свенцицкий И. С. Опись музея Ставропигийского института во Львове.
Львов, 1908. 361. Свєнціцкий І. «Временник Ставропигийского Института» і його значіння
для розвитку історично-філологічних дослідів Галичини // Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 333—339.
362. Свєнціцкий І. Дещо про печатню Успенського братства у Львові та її видан-ня // Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 325—332.
609Литература
363. Свєнціцький І. У справі музейних збірок Ставропігії і Народного Дому. Львів, 1929.
364. Свєнціцький І. С. Початки книгопечатання на землях України. Жовква, 1924.
365. Сенык С. Брестская уния: подведение итогов // 400 лет Брестской церков-ной унии (1596—1996): Критическая переоценка. Сб. мат-ов межд. симпозиума, Неймеген, Голландия. [М. ], 1998. С. 13—28.
366. Січинський В. Вежа і дім Корнякта у Львові. Львів, 1933. 367. Скабалланович Н. Западно-Европейские гильдии и западно-русские брат-
ства // Христианское чтение. 1875. Ч. 2. 368. Скрипник І. Нариси історії Скиту Манявського. Богородчани, 1996. 369. Скрынников Р. Г., Алексеев А. И., Штейндорф Л. Поминание усопших в
Древней Руси: Исследование форм христианской заботы о мертвых. Штутгард, 1994 // Отечественная история. 1997. № 2. С. 201—203.
370. Сметинский И. А. Музей Ставропигийского Института // Юбилейный сборник в память 350-летия Львовскаго Ставропигиона. Ч. 2. // Временник: Научно-литературные записки Львовского Ставропигиона на 1936 и 1937 годы. Львов, 1937. С. 52—63.
371. Соловьев С. М. Братчины // Русская беседа. № 4. 1856. С. 108—117. 372. Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII—XVIII вв. Польша.
Россия. Украина. М., 1981. 373. Софронова Л. А. Старинный украинский театр. М., 1996. 374. Срібний Ф. Два епізоди з історії боротьби Гедеона Балабана з Львівським
братством // ЗНТШ. Львів, 1914. Т. 117—118. С. 207—214. 375. Срібний Ф. Рецензія на книгу: Крыловский А. Львовское Ставропигиальное
братство. Киев, 1904 // Записки НТШ. 1907. Т. 75. Кн. 1 С. 176—190. 376. Срібний Ф. Студії над організацією Львівської Ставропігії від кінця XVI до
полов. XVII ст. // ЗНТШ. Львів, 1911. Т. 106. С. 25—40; 1912. Т. 108. С. 5—38; Т. 111. С. 5—24; Т. 112. С. 59—73; 1913. Т. 114. С. 25—56; Т. 115. С. 29—76.
377. Стратій Я. М. Філософія в Киево-Могилянській академії // Київ в історії філософії України / В. С. Горський, Я. М. Стратій, А. Г. Тихолаз, М. Л. Ткачук. Київ, 2000.
378. Студинський К. Й. «Адельфотес» — граматика, видана в Львові в р. 1591 // Записки НТШ. 1895. Т. 7. С. 1—42.
379. Студинський К. Й. «Пересторога» — руський пам'ятник поч. XVII в. Іс-торично-літературна студія. Львів, 1895.
380. Сычевская А. Памва Берында и его вирши на Рождество Христово и другие дни. Киев, 1912.
381. Терновский Ф. А. Изучение византийской истории и ее тенденциозное при-ложение в древней Руси. Киев, 1876. Вып. 2.
382. Титов Ф. И. Типография Киево-Печерской Лавры. Исторический очерк (1606—1616—1916). Киев, 1916. Т. 1. Приложения. Киев, 1918.
383. Тітов Ф. І. Матеріали для історії книжкової спрпви на Вкраїні в XVI—XVIII вв.: Всезбірка передмов до українських стародруків Київ, 1924.
610 Литература
384. Тодийчук О. В. Украина XVI—XVIII вв. в трудах Общества истории и древ-ностей российских. Киев, 1989.
385. Томазов В. Из генеалогии рода Мазараки // Україна — Греція: історія та суча-сність: Тези II міжнародної конференції 22—24 лютого 1995 р. Київ, 1995. С. 128—131.
386. Томашивский С. Ватикански матерьялы до истории Украины: Донесения римских нунциев про Украину 1648—1657 // Жерела до історії України. Львів, 1919. Т. 16.
387. Турилов А. А. К истории проектов ликвидации брестской унии (Неизвестное послание К. К. Острожского патриарху Иову) // Славяне и их соседи. Католицизм и православие в средние века. М., 1991. С. 72—74.
388. Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996.
389. Фаворський В. Церква та національний рух на Україні в XVI—XVII ст. Київ; Харків, 1929.
390. Фефелова О. А. Православные братства на восточнославянских террито-риях Речи Посполитой во второй половине ХVI — первой половине ХVII веков: Автореф. дис. канд. ист. наук. Томск, 2001.
391. Филарет (Гумилевский). История Русской церкви. Рига, 1847. Т. 4: Период патриаршества. 1588—1720.
392. Флеров И. О православных церковных братствах, противоборствовавших унии в Юго-Западной России в XVI, XVII и XVIII столетиях. СПб., 1857.
393. Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937; Вильнюс, 1991. 394. Флоря Б. Н. Брестская уния 1596 г. и некоторые вопросы конфессио-
нальных отношений на Украине и в Белоруссии в первой половине ХVII века // Славяноведение. 1996. № 2. С. 22—28.
395. Флоря Б. Н. Брестские синоды и брестская уния // Славяне и их соседи. Католицизм и православие в средние века. М., 1991. С. 59—75.
396. Флоря Б. Н. Восточные патриархи и западнорусская церковь // Дмит-риев М. В., Флоря Б. Н., Яковенко С. Г. Брестская уния 1596 г. и общественно-поли-тическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI — начале XVII в. Ч. 1. Брестская уния 1596. Исторические причины события. / Отв. ред. Б. Н. Флоря. М., 1996. С. 117—130.
397. Флоря Б. Н. Епископы, православная знать и братства. Вопрос о рефор-ме церкви в последние десятилетия XVI в. // Дмитриев М. В., Флоря Б. Н., Яко-венко С. Г. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI — начале XVII в. Ч. 1. Брестская уния 1596. Исторические причины события / Отв. ред. Б. Н. Флоря. М., 1996. С. 95—116.
398. Флоря Б. Н. Отношения государства и церкви у восточных и западных сла-вян: (Эпоха средневековья). М., 1992.
399. Фонкич Б. Л. «Кодекс» Львовского Успенского братства // Чтения памя-ти профессора Николая Федоровича Каптерева. Москва, 15—16 октября 2003 г.: Материалы. М., 2003. С. 56—57.
400. Фонкич Б. Л. Греческие писцы эпохи Возрождения // Византийский времен-ник. М., 1981. Т. 42. С. 124—128.
611Литература
401. Фонкич Б. Л. Греческо-русские культурные связи XV—XVII вв.: Греческие рукописи в России. М., 1977.
402. Фонкич Б. Л. Заметки о греческих рукописях советских хранилищ // Памятники культуры. Новые открытия. 1981. Л., 1983. С. 11—27.
403. Фонкич Б. Л. К вопросу о происхождении Ивирского списка гомилий Фотия о нашествии россов на Константинополь // Byzantinoslavica: Revue interna-tionale des etudes Byzantines. 1981. T. XLII/2. Fasc. 2. С. 154—158. Рис. 1—10.
404. Фонкич Б. Л. Новые работы по истории греческой культуры послевизан-тийского периода // Византийский временник. 1975. Т. 36. С. 194—199.
405. Фонкич Б. Л. Палеография греческих грамот Львовского братства // Palaeo-slavica. Х/2002. № 2. Р. 282—292.
406. Франко І. Я. «Старинний Львів» (Із латинської поеми Себ[астіана] Кльо-новича «Roxolania // Франко І. Я. Зібр. творів: У 50 Т. Т. 11. С. 366.
407. Фрис В. Рукописна книга в бібліотеці Львівського Ставропігійського брат-ства // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 55—60.
408. Харлампович К. Борьба школьных влияний в допетровской Руси // Киевская старина. 1902. Июль—август.
409. Харлампович К. В. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви. Казань, 1898.
410. Хойнацкий А. Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обря-дах. Киев, 1871.
411. Хрущевич. История Замойского собора. Вильно, 1880. 412. Худаш М. Лексика українських ділових документів кінця XVI — початку
XVII ст. Київ, 1968. 413. Царьова Н. М. Олександр Іляшевич та перша розвідка з історії Львівського
Успенського ставропігійського братства // Вісник Львівського університетуі Серія історична. Львів, 2002. Вип. 37. Част. 2. С. 73—87.
414. Целевич Ю. Історія Скиту Манявського. Львів, 1887. 415. Цьорох И. И. Первые неуниатские школы на Руси // Временник Ставропи-
гийского Института. 1902. С. 156—161. 416. Чижевський Д. І. Історія української літератури (від початків до доби
реалізму). Тернопіль, 1994. 417. Чижевський Д. І. Історія української літератури. Прага, 1942; Нью-Йорк,
1956. 418. Чижевський Д. І. Культурно-історичні епохи. Авгсбург — Монреаль: Накла-
дом товариства прихильників УВАН // Slavistica. № 78. 1978. 419. Чіжевський Д. І. Філософія на Україні. Прага, 1929. 420. Шараневич И. И. Важнейший из давных тестаментарных легаций (фон-
дацийных записов последной воли) Ставропигийского братства // Временник Ставропигийского Института. 1875. 146—148.
421. Шараневич И. И. Иосиф Шумлянский, епископ Львовский от 1667 до 1708 г. Львов, 1896.
612 Литература
422. Шараневич И. И. Исторический очерк о Ставропигийской церкви Успения Богородицы // Юбилейное издание в память 300 летняго основания Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1886.
423. Шараневич И. И. Николай Красовский (Миколай Красувський) от года 1686 до года 1692 писарь управления, а от г. 1692 до г. 1697 — старейшина Ставро-пигийского братства во Львове. Исторический очерк с прибавкою современных записок из сессийных книг и регестов Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1895.
424. Шараневич И. И. Першии члены Ставропигийского братства и деятель-ность их от року 1586 до 1609 // Временник Ставропигийского Института. 1875. С. 139—145.
425. Шараневич И. И. Промова д-ра Исидора Шараневича, сениора Ставро-пинийского Института по поводу 300-летн. ювилея Львовской Ставропигии. Львов, 1886.
426. Шараневич И. И. Прочии братства при церквах (на предместьях) города Львова в XVI и XVII столеттю // Временник Ставропигийского Института. 1875. С. 148—160.
427. Шараневич И. И. Ставропигийская церковь во Львове // Временник Ставро-пигийского Института. 1875. С. 134—139.
428. Шараневич И. И. Укрухи из надгробных плит в Ставропигийской церк-ви Успения Пресвятой Богородицы во Львове // Временник Ставропигийского Института. 1890. С. 178—190.
429. Шараневич И. И. Церковная уния на Руси и влияние ее на смену обще-ственного положения мирского русского духовенства. Львов, 1897.
430. Шараневич И. И. Юрий Ельяшевич (Георгий Ильяшевич) от 1720 г. член и в 1722—1735 годах один из сениоров Ставропигийского братства во Львове. Исторический очерк с прибавкою списка современных счетоводных книг и сес-сийных протоколов Львовского ставропигийского братства. Львов, 1895.
431. Шляпкин И. А. История литературы Юго-Западной Руси (XVI—XVII). СПб., Б. г.
432. Шляпкин И. А. К истории полемики между москвичами и малорусскими учеными в конце XVII в. // ЖМНП. 1885. № 10.
433. Шмидт С. О. Источниковедческие вопросы изученияистории русской книжности // Археография. Архивоведение. Памятниковедение: Сб. статей. М., 1997. С. 51—55.
434. Шокотко В. До питання про історію братств і їх шкіл на Україні в кінці XVI — на поч. XVII ст. // Наукові записки Донецького педінституту. 1956. Вип. 4.
435. Шустова Ю. Э. «Альбом» Львовского Ставропигийского братства: пробле-ма атрибуции // Бранденбурговские чтения: Письменные памятники в музейных собраниях. Вып. 2. СПб., 2007. С. 87—2.
436. Шустова Ю. Э. Архив Львовского братства как исторический феномен в современном культурном пространстве // Архивоведение и источниковеде-ние отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе:
613Литература
Доклады и тезисы выступлений на третьей Всероссийской конференции. М., 1999. С. 133—142.
437. Шустова Ю. Э. Архив Львовского Успенского Ставропигийского братства как феномен культуры // Текст в гуманитарном знании: Материалы межвузовской научной конференции. М., 1997. С. 94—97.
438. Шустова Ю. Э. Библиотека члена Львовского братства Константина Мад-за петы // Вторые чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева (Москва, 28—29 октября 2004 г. ): Материалы. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 139—145.
439. Шустова Ю. Э. Библиотека члена Львовского Успенского братства Леська Малецкого // Третьи чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева (Москва, 26—27 октября 2005 г. ): Материалы. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 101—104.
440. Шустова Ю. Э. Записи в изданиях типографии Львовского братства вто-рой половины XVII в. из собрания Российской государственной библиотеки // Румянцевские чтения. Историко-культурные традиции и инновационные пре-образования России. Просветительская ответственность библиотек: Материалы междунар. науч. конф. (21—23 апреля 2009 г.). М., 2009. Ч. 1. С. 281—286.
441. Шустова Ю. Э. Инвентари Львовского Успенского братства конца XVI — середины XVII в. как источники по истории материальной культуры // Ювелирное искусство и материальная культура: Тезисы докладов участников пятнадцатого коллоквиума. СПб., 2006. С. 113—116.
442. Шустова Ю. Э. История издания Октоиха 1739 г. в типографии Львовского Успенского братства: новые архивные документы // Наука о книге: Традиции и инновации: К 50-летию сборника «Книга. Исследования и материалы»: Материалы XII междунар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 28—30 апр. 2009 г.). М., 2009. Ч. 1. С. 92—96.
443. Шустова Ю. Э. Источники о продаже книг типографии Львовского Успен-ского братства во второй половине 60-х — первой половине 70-х гг. XVII в. // Бібліо течний вісник: Науково-теоритичний та практичний журнал. 2008. № 1. С. 19—28.
444. Шустова Ю. Э. Книга контрактов Львовского Ставропигийского братства c ти пографами (1680—1757): проблемы источниковедческого исследования // Вестник РГГУ: ежемес. науч. журн. Сер. Ист. науки М., 2009. № 4. С. 108—123.
445. Шустова Ю. Э. «Посланейцо краткое к Семену Седларю, мещанину львов-скому, мужу честному, о духовных делах вопрошающему» А. М. Курбского в кон-тексте украинского национально—культурного движения 70—80-х гг. XVI в. // Источниковедение и краеведение в культуре России: Сборник к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта Историко-архивному институту. М., 2000. С. 85—89.
446. Шустова Ю. Э. Продажа книг типографии Львовского Успенского братства Пером Семяновичем в 1692—1696 годы // Книга в пространстве культуры: [сб. ст.]: Вып. 1(5)'2009. М., 2009. (Прил. к журн. «Библиотековедение»). С. 42—55.
447. Шустова Ю. Э. Распространение книг типографии Львовского Ставро-пигийского братства на Христианском Востоке во второй половине XVII в. // Каптеревские чтения 6: Сб. статей. М., 2008. С. 94—103.
614 Литература
448. Шустова Ю. Э. Типография Львовского братства как преемник книго-издательской традиции Ивана Федорова // Федоровские чтения: 2003. М. / Сост. М. А. Ермолаева, А. Ю. Самарин; Отв. ред. Е. Л. Немировский. М.: Наука, 2003. С. 257—276.
449. Шустова Ю. Э. Школа Львовского Успенского ставропигийского братства в конце XVI — начале XVII в.: взаимодействие греко-славянских культурных тра-диций // Россия и Христианский Восток. Вып. II—III. М., 2004. С. 163—185.
450. Эйнгорн В. О. Книги киевской и львовской печати в Москве в третью чет-верть XVII в. М., 1894.
451. Яковенко С. Г. Православная иерархия Речи Посполитой и планы церков-ной унии в 1590—1594 гг. // Славяне и их соседи. Вып. 3. Католицизм и правосла-вие в средние века. М., 1991. С. 41—58.
452. Яременко П. К. «Пересторога» — український антиуніатський памфлет по-чатку XVII ст. Київ, 1963.
453. Яременко П. К. Исследование украинской полемично-публицистической литературы конца XVI — начала XVII вв. Киев, 1966.
454. Яременко П. К. Іван Вишенський. Київ, 1982. 455. Яременко П. К. Стефан Зизаній — український полеміст кінця XVI ст. //
Радянське літературознавство. 1958. № 2. С. 39—54. 456. Ясиновський Ю. П. Львівське Успенське братство та українська музи-
ка // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львів, 1996. С. 60—67.
457. Ясиновський Ю. П. Перші східно-слов’янські нотні видання: До 400—річчя книгодрукування на Україні // Українське музикознавство. Київ, 1974. С. 45—54.
458. Ясіновська О. Колекція євангелій з бібліотеки Львівської Ставропігії // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відрод-женні. Львів, 1996. С. 67—71.
459. Ясіновський А. Грецька колонія у Венеції в ранньомодерну епоху: Quasi alterum Byzantium // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, дер-жавність. ΠΡΟΣΦΟΝΗΜΑ. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річ-чю академіка Ярослава Iсаєвича. Львiв, 1998. С. 703—714.
460. Ясіновський Ю. Львівські нотні першодруки // Какофонія. Львів, 2002. Вип. 1. С. 25—36.
461. Ясіновський Ю. Музичне мистецтво // Історія Львова / Редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2006. Т. 1. С. 270—272.
462. Ясіновський Ю. Музика // Історія Львова / Редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2006. Т. 1. С. 209—212.
463. «Voluntary Religion»: Papers Read at the 1985 and 1986 Meetings of the Ec-clesiastical History Society. (Studies in Church History, 23). Worcester, 1986.
464. An Orthodox Pomjanyk of the Seventeenth-Eighteenth Centuries (Saint Catherine’s Monastery, Mount Sinai) / Edited by M. Altbauer, I. Ševcenko, B. Struminsky. Cambridge, Massachusetts, 1989.
465. Badecki K. Zaginione ksęgi średniowiecznego Lwowa. Lwów,1928.
615Литература
466. Barnicot J. D. A., Simmons J. S. G. Some unrecorded early-printed slavonic books in English libraries // Oxford Slavonic Papers. 1951. Vol. 2. P. 98—118.
467. Barącz S. Pamiętnik Dziejów Polskich, z Aktów urzędowych lwowskich i z ręko-pismów zebrań. Lwów, 1855.
468. Barwiński E. Archiwum miasta Lwowa. Lwów, 1933. 469. Bassi I. B. Tractatus de sodalitiis seu de confraternitatibus ecclesiasticis et laicali-
bus. Roma, 1725. 470. Boniecki A. Herbarz polski. 1902. T. 4—5. 471. Bragone M. С. La grammatica greco-slavo-ecclesiastica. Adelphotes. Roma, 1999. 472. Chodynecki X. Historia miasta Lwowa. Lwów, 1865. 473. Crołowski A. Archiwa rządowe we Lwowe, ich obecna zawartość i znaczenie dla
historji Galicji. Kraków, 1905. 474. Deschamps J. Les confréries au Moyen Age. Bordeaux, 1958. 475. Die griechisch-katholische Stauropigiankirche in Lemberg und das mit ihr ver-
einigte Institut // Neuestes Archiv für Geschichte, Staatenkunde und Literatur. Lemberg, 1830. Nb. 77.
476. Dmitriev M. V. Les confréries de Ruthénie dans la deuxième moitié du XVI-e siècle — une «Réforme orthodoxe»? // Etre catholique, être orthodoxe, être protestant. Confessions et identités culturelles en Europe médiévale et moderne. Études réunies et publiées par Marek Derwich et Mikhaïl V. Dmitriev. Wroclaw, 2003. P. 208—220.
477. Dupront A. Problèmes et méthodes d’une histoire de la psychologie collective // Annales E. S. C. 1961. № 1.
478. Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen. Hrsg. von P. Dinzelbacher. Stuttgart, 1993.
479. Fedalto R. Ricerche storiche sulle posizione giuridica ed ecclesiastica dei Greci a Venezia nei sec. XV e XVI. Firenze, 1967
480. Fiamingo R. Le confraternitate nel diritto canonico e civile. Napoli, 1917. 481. Fiorani L. Discusioni e ricerche sulle confraternitate romane negli ultimi cento
anni // Storiografia e archivi delle confraternitate romane. Ricerche per la storia religiosa di Roma, 6. Roma, 1985.
482. Fortescue A. The Uniate Eastern Churches of Byzantine, rite in Italy, Sicily, Syria and Egypt. New York.
483. Franco I. Characterystyka literatury ruskej XVI—XVIII wieku // Kwartalnic Historychny. Lwów, 1892. Wyp. 6. S. 693—727.
484. Franko I. Z dziejów synodu brzeskiego 1598 r. // Kwartalnik Historychny. Lwów, 1895.
485. Gasparini G. De Sandre. Appunti per uno studio sulle confraternitate medievali: problemi e prospettive // Studia Patavina. 1968. V. 15. № 1. P. 116—122.
486. Geanakoplos D. J. Greek Scholars in Venice. Studies in Dissemination of Greek learning from Byzantium to Western Europe. Cambridge Mass., 1962.
487. Guzman A. Tratado del origen de la Confraternitad. Madrid, 1730. 488. Harasiewicz M. Annales ecclesiae Ruthenae. Leopoli, 1862. 489. Historja drukarń i stowarzyszeń drukarskich we Lwowe. Lwów, 1926.
616 Литература
490. Isaievych Ia. Between Eastern Tradition and Influences from the West Con-fraternities in Early Modern Ukraine and Belorussia // Ricerche Slavistiche. 1990. Vol. 37. P. 270—294.
491. Isaievych Ia. Eastern Rite Lay Confraternities in Ukraine and Byelorussia // Con-fraternitas: The Newsletter of the Society for Confraterniti Studies. 1991. Vol. 2. № 2.
492. Isaievych Ia. Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine. Edmonton; Toronto, 2006.
493. Isajewicz J. Bractwa cerkiewne w diecezjach przemyskich obrządku wschodnie-go w XVI—XVIII wieku // Polska—Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 3. Przemysl, 1996. S. 63—73.
494. Jakobson R. Iwan Fedorov’s Primer // Harvard Library Bulletin. 1955. Vol. 9. № 1. P. 1—39, 12 tabl.
495. Kumor B. Kościelne stowarzyszenia świeckie na ziemiach polskich w okresie pre-drozbiorowym // Prawo Kanoniczne. 1967. S. 289—356.
496. Kuźmak E. Bractwa Matki Boskiej Wspomożycielki Chrzescjan na ziemiach pol-skich w XVIII st. Rzym, 1973.
497. Le confraternitate romane: esperienza religiosa, società, commitenza artistica // Ricerche per la storia religiosa di Roma, 5. Roma, 1984.
498. Le mouvement confraternelle en Moyen Age: France, Italie, Suisse: Actes de la table ronde organisée par l’Université de Lausanne … Lausanne 9—11 mai 1985. Genève, 1987.
499. Legrand E. Bibliographie hellenique … XVIIe siècle. Paris, 1896. Vol. IV. 500. Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo Lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwów, 1892. 501. Łoziński W. Złotnictwo lwowskie w dawnidh wiekach. 1380—1640. Lwów, 1889. 502. Mackenney R. Tradesmen and traders: The world of the guilds in Venise and
Europe. 1250—1650. London; Sydney, 1987. 503. Manipulating the Saints: Religious Brotherhoods and Social Integration in
Postconquest Latin America / Meyers A., Hopkins D. E. (editors). Hamburg, 1988. 504. Meersseman G. G. Ordo Fraternitatis: Confraternitate e pietà dei laici nel medio-
evo (Italia sacra). Roma, 1977. Vol. 1—3. 505. Muzeum Instytutu Stauropigijskego we Lwowe // Rocznik kola c. k. konserwato-
row starożytnych pomników Galicji wschodniej. Lwów, 1892. 506. Paree F. Historia Lwowa. Lwów, 1894. 507. Ptaśnic J. Lwowianie w nacji polskiej w Padwie // Kwartalnik Historyczny. 1923.
T. 37. 508. Ptaśnic J. Walki o demokratyzacje Lwowa // Kwartalnik Historyczny. 1925.
S. 240—250. 509. Rassmussen K. On the Information Level of the Muskovite Posol’skij Prikaz in
the Sixteenth Century // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Wiesbaden, 1978. Bd. 24. S. 87—99.
510. Rothe Hans. Die älteste ostslawische Kunstdichtung 1575—1647. Erster Halland. Giessen, 1976—1977. Hbd. 1—2.
511. Schnyder A. Die Ursulabruderschaften des Spätmittelalters: Ein Beitrag zur Erfor-schung der deutschsprachigen religiösen Literatur des 15. Jahrhunderts, Stuttgart, 1986.
617Литература
512. Simmons J. S. G. Early printed Cyrillic books in Marsh’s library Dublin // The Irish Book. 1963. Spring.
513. Skoczek J. Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu. Lwów. 1939. 514. Steindorff Ludwig. Memoria in Altrussland. Untersuchungen zu den Formen
christlichte des östlichen Europa. Stuttgart, 1994. 515. Szaraniewicz I. Muzeum Instytutu Stauropigijskiego we Lwowie // Teka Konser-
watorska. 1892. 516. Thomas Ch. Two East Slavonic Primers: Lvov, 1574 and Moscow, 1637 // British
Library Journal. 1984. Vol. 10. № 1. P. 32—47. 517. Tyrrell E. P., Simmons J. S. G. Slavonic books before 1700 in Cambridge libra-
ries // Transactions of the Cambridge Bibliographical Society. Vol. III, 5. 1963. 518. Vauchez A. Les confréries au Moyen Age: esquisse d’un bilan historiographique //
Revue historique. 1986. T. 275. P. 267—277. 519. Vauchez A. Les laics au Moyen Age. Paris, 1987. 520. Vlasovsky I. Outline History of the Ukrainian Orthodox Church. New York, 1956. 521. Wipszycka E. Les confréries dans la vie religieuse de l’Egypte chretienne //
Proceedings of the XIIth International Congress of Papyrology. 1970. P. 511—525. 522. Wipszycka E. Swieckie bractwa w zyciu religijnym chrescijansiego Egiptu //
Przeglad Historyczny. T. 59. 1968. P. 447—462. 523. Wiśniowska E. Bractwa religijne na ziemiach polskich w średniowieczu //
Roczniki Humaniostyczne. 17. 1969. Z. 2. S. 51—81. 524. Wynar L. History of the early Ukrainian printing 1491—1600. Denver, 1963. 525. Zagórski W. O szkole grecko-słowiańskiei we Lwowe // Muzeum czasopismo to-
warzystwa nauczycielei szkól wyższych. 1893. Zeszyt 9, 10—11. S. 819—825, 935—940. 526. Zaremska H. Bractwa w sredniowiecznym Krakowie. Warszawa, Wroclaw,
Kraków, Gdańsk, 1977. 527. Zimorowicz B. Historia miasta Lwowa. Lwów, 1835528. Zoric K. Le confraternitate in Dalmazia studiate nei loro manoscritti ed il loro
influsso sulla vita religiosa. Roma, 1949. 529. Zubrycki D. Die griechisch-katholische Stauropigiankirche in Lemberg und das
mit ihr vereinigte Institut // Neuestes Archiv fűr Geschichte, Staatenkunde, Literatur und Kunst. Wien, 1830. Nb. 77.
530. Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. Lwów, 1836.
531. Zubrycki D. Kronika miasta Lwowa. Lwów, 1844. 532. Zubrycki D. Rys historyi narodu ruskiego. Lwów, 1836. 533. Bελούδος I. Χρυσόβουλλα καὶ γράμματα τῶν οἰκουμενικῶν πατριαρχῶν ἀνήκο-
ντα εἰς τοὺς Φιλαδελφείας μητροπολίτας, ὑπερτίμους καὶ ἐξάρχους πατριαρχικοὺς καί προέδρους πνευματικοὺςτῆς Ἑνετίησι τῶν ỏρθοδόξων Κοινότητος. Ἐν Βενετίᾳ, 1873.
534. Bελούδος I. Ἑλλήνων ο ̓ρθοδόξων ἀποικία ἐν Вενετίᾳ. Ἱστορικὸν ὑπόμνημα. Βενετία, 1893.
535. Δημητρακόπουλος Φ. Ἀρ. Ἀρσένιος Ἐλασσόνος (1550—1626). Βίος καί ἔργο. Συμβολή στή μελέτη τῶν μεταβυζαντινῶν λογίων τῆς Ἀνατολῆς. Ἀθήνα, 1984.
618 Литература
536. Мανούσακας М. І. Ἀνέκδοτα πατριαρχικὰ γράμματα (1547—1806) πρὸς τοὺς ἐν Вενετίᾳ μητροπολίτας Φιλαδελφείας καὶ τὴν ὀρθόδοξον Ἑλληνικὴν Ἀδελφότητα. Βενετία, 1968.
КАТАЛОГИ И СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Claus H. Slavica—Katalog der Landesbibliothek Gotha. Berlin, 1961.2. Estreicher K. Bibliografia polska: Stólecie XV—XVIII. Kraków, 1882—1951.
T. 8—34.3. Gębarowicz M. Katalog rękopisów biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego. Lwów,
1938.4. Grimsted P. K. Archives and manuscript repositories in the USSR: Moscow and
Leningrad. Studies of the Russian Institute. Columbia University. New Jersey, 1972.5. Grimsted P. K. Archives and manuscript repositories in the USSR: Ukraine and
Moldavia. New Jersey, 1988.6. Katalog rękopisów biblioteki zakładu nar. Im. Ossolińskich / W. Kętrsyński. Lwów,
1881—1898. T. 1—3.7. Kasinec E., Struminskyj B. The Millenium Collection of Old Ukrainian Books at the
University of Toronto Library: A Catalogue. Toronto, 1984.8. Barwiński E. Archiwum miasta Lwowa. Lwów, 1933.9. Crołowski A. Archiwa rządowe we Lwowe, ich obecna zawartość i znaczenie dla
historji Galicji. Kraków, 1905.10. Kjellberg L. Catalogue des imprimés slavons des XVI-e, XVII-e et XVIII-e siècles
conservés à la Bibliothèque de l’Université royale d’Uppsala / Par Lennart Kjellerg. Uppsala, 1951.
11. Muzeum Instytutu Stauropigijskiego we Lwowe // Rocznik kola c.k. konserwato-rów starożytnych pomników Galicji wschodniej. Lwów, 1982.
12. Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий, напечатанных кириллицей: 1689 — январь 1725 г. М.; Л., 1958.
13. Головацкий Я. Ф. Дополнение к очерку славяно-русской библиографии В. М. Ундольского, содержащее книги и статьи, пропущенные в первом выпуске хронологического указателя славяно-русских книг церковной печати с 1491-го по 1864 год, в особенности же перечень галицко-русских изданий церковной печати. СПб., 1874.
14. Горский А. В. Описание славянских рукописей московской синодальной би-блиотеки. М., 1862.
15. Горфункель А. Х. Каталог книг кирилловской печати XVI—XVII веков. Л., 1970.16. Гусева А., А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века:
Сводный каталог. М., 2003. Кн. 1—2. 17. Гусева А. А. Книги кирилловской печати XV—XVIII вв.: Каталог. М., 1979.18. Дамаскин (Семенов-Руднев). Библиотека Российская или сведение о всех
книгах в России с начала типографии на свет вышедших. СПб., 1881.19. Евгений (Болховитинов). Словарь исторический о бывших в России писате-
лях духовного чина греко-российской церкви. СПб., 1827.
619Литература
20. Ісаєвич Я. Д., Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. Львів, 1981—1984. Кн. 1—2.
21. Ісаєвич Я. Д. Львівські видання XVI—XVIII ст. Львів, 1970.22. Каратаев И. П. Библиографические заметки о старославянских печатных
изданиях 1491—1730. СПб., 1872.23. Каратаев И. П. Описание славяно-русских книг, напечатанных кириллов-
скими буквами (1491—1652 гг.). СПб., 1883. Т. 1.24. Каратаев И. П. Хронологическая роспись славянских книг, напечатанных
кирилловскими буквами: 1491—1730. СПб., 1861.25. Львівські видання XVI—XVIII ст. : Каталог / Уклав Я. Д. Ісаєвич. Львів, 1970.26. Каталог Археологическо-библиографической выставки Ставропигийского
Института во Львове, открытой дня 10 октября 1888 г., а имеющей быти закрытою дня 12 януария 1889 по н. ст. продолжается до дня 28 февруария 1889. По указани-ям знатоков составил д-р Исидор Шараневич. Львов, 1888.
27. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Сте-фаника НАН України. Вип. I: Видання Івана Федорова / Укладачі Я. Д. Ісаєвич, В. Я. Фриc. Львів, 1993.
28. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Національної Академії наук України. Вип. II: Видання друка-рень Острога, Дермані, Сірятина, Крилоса, Угорець, Рохманова / Автор-укладач В. Я. Фриc. Львів, 1996.
29. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Сте-фаника Національної Академії наук України. Вип. III: Видання друкарень Льво ва: Михайла Сльози, Арсениія Желіборського, Йосифа Шумлянського, Монастиря Св. Юра / Автори—укладачі О. М. Колосовська, С. В. Гайкова. Львів, 2000.
30. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Сте-фаника Національної Академії наук України. Вип. IV: Видання друкарні Львівсь-кого Успенського ставропігійського братства (1591—1644 рр.) / Автори-укладачі О. М. Колосовська, С. В. Гайкова. Львів, 2002.
31. Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. 1233—1799 / Упор. О. Купчинський, Е. Ружицький. Київ, 1972.
32. Петрушевич А. С. Каталог церковнословенских рукописей и старопечатных книг кирилловского письма, находящихся на Археологическо-библиографической выставке в Ставропигийском заведении. Львов, 1888.
33. Максименко Ф. П. Кириличні стародруки українських друкарень, що збері-гаються у львівських збірках (1574—1800). Львів, 1975.
34. Обзор посольских книг из фондов—коллекций, хранящихся в ЦГАДА (ко-нец XV — начало XVIII вв.) / Сост., вступ. ст. Н. М. Рогожина. М., 1990.
35. Описание документов архива западно-русских униатских митрополитов. 1470—1700. СПб., 1897. Т. 1.
36. Описание документов и дел, хранящихся в архиве Св. Правительствующего Синода. М., 1914. Т. 22.
37. Петров Н. И. Указатель церковно-археологического музея при Киевской ду-ховной Академии. Изд. 2. Киев, 1897.
620 Литература
38. Подробный словарь русских граверов XVI—XIX вв. / Сост. Д. А. Ровинский. СПб., 1895.
39. Свенцицкий И. С. Каталог книг церковной печати. Жовква, 1908.40. Систематическое описание рукописей графа А. С. Уварова / Сост. архиман-
дрит Леонид. М., 1894. Ч. 4.41. Славянские книги кирилловской печати XV—XVIII вв., хранящихся в
Государственной публичной библиотеке УССР / Сост. С. О. Петров. Киев, 1958.42. Строев П. М. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских
и российских, хранящихся в библиотеке тайного советника, сенатора двора его императорского величества действительного камергера и кавалера графа Федора Андреевича Толстого. М., 1829.
43. Строев П. М. Описание старопечатных книг славянских, находящихся в би-блиотеке московского первой гильдии купца и общества истории и древностей российских благотворителя Ивана Никитича Царского. М., 1836.
44. Строев П. М. Описание старопечатных книг славянских, служащее дополне-нием к описаниям библиотек графа Ф. А. Толстого и купца И. Н. Царского. М., 1841.
45. Украинские книги кирилловской печати XVI—XVIII вв.: Каталог изданий, хранящихся в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. Вып. II. Ч. 1.: Киевские издания 2-й половины XVII в. / Сост. А. А. Гусева, Т. Н. Каменева, И. М. Полонская. М., 1981; Ч. 2.: Львовские, новгород-северские, черниговские, унев-ские издания 2-й половины XVII в. / Сост. А. А. Гусева, И. М. Полонская. М., 1990.
46. Ундольский В. М. Очерк славяно-русской библиографии В. М. Ундольского. М., 1871.
47. Центральний державний історичний архів України, м. Львів: Путівник / Автори-упорядники: О. Гнєвишева, У. Єдлінська, Д. Пельц, Г. Сварник, І. Сварник, Н. Франко // Серія «Архівні зібрання України. Путівники». Київ, 2001.
48. Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник / Упоряд.: О. Гнєвишева, У. Єдлінська, У. Кришталович та ін.; Центральний держав-ний історичний архів України, м. Львів, Державний архів у м. Перемишлі. 2-е вид. Львів; Перемишль, 2003.
КНИГОТОРГОВЫЕ КАТАЛОГИ
1. Такса книг в Типографии святия обители Почаевския обретающихся. Почаев, 1760.
2. Табель цены книгам печатным в Типографии Киевопечерския Лавры. Киев, 1774.
3. Taksa ksiąg w seksternach jako i oprawnych w drukarni uprzywilejow. Konfraternii Stauropigianéj lwowskiéj będącéj, d[nia] 24 m[iesąca] Lipca r[oku] 1761 sessionaliter uczyniona.
ИЗДАНИЯ ТИПОГРАФИИ ЛЬВОВСКОГО БРАТСТВА1
1. Иеремия II, патриарх Константинопольский. Окружная рамота Михаилу Рогозе. [ноябрь 1589]. Михаих Рогоза, митрополит Киевский. Епископы. Соборная рамота. [20 июня 1590]. 23.01.1591. 2º.
2. Просфонима. Привет преосвященному архиепископу кир Михаилу. 1.02.1591. 4º.3. Адельфотес. Граматика доброглаголевого еллинословенского языка. 1591. 8º.4. Пигас Мелетий. О христианском благочестии к иудеом ответ. 4.04.1593. 8º.5. Грамота митрополита Монемвасийского. Кон. XVI—нач. XVII вв.]6. [Грамота Львовского братства о притеснениях украинского населения и о дея
тельности братства]. 1608.7. [Псалтирь. ок. 1608]. 4º 2.8. [Часослов. Не позднее 1608. 4º].9. Иоанн Златоуст. О воспитании чад. 29.07. 1609. 8º.10. Часослов. 2. 01. 1609. 12º.11. [Букварь. Не позднее 1611].12. Иоанн Златоуст. Книга о священстве. 30.07.1614. 4º.13. Собор в богоспасаемом граде Вильне бывший. 1614. 4º.14. Плач альбо Лямент по зестю з света сего... Григория Желиборского. 1615. 4º.15. Псалтирь. 13.01.1615. 4º.16. Беринда Памва. На рождество вирши для утехи православным христианом.
1616. 4º.17. Октоих. Типограф Андрей Скольский. 15.12.1630. 2º.18. [Скольский Андрей. Вирши з трагодии Христос Пасхон Григория Богослова.
28.03.1630. 4º.].19. Волкович Иоаникий. Розмышляне о муце Христа Спасителя нашего, притим
веселая радость з триумфального его воскресения. 1631. 4º.20. Анфологион. Типограф Андрей Скольский. 1632. 2º.21. [Каноны Богородицы. Типограф Михаил Слёзка. 1634. 2º].
1 В основу списка положены данные каталога: Ісаєвич Я.Д., Запаско Я.П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог. Львів, 1981—1984. Кн. 1—2.
2 В квадратных скобках указаны издания, не сохранившиеся до наших дней. Сведения о них получены из косвенных источников.
622 Издания типографии Львовского братства
22. [Псалтирь. Типограф Михаил Слёзка. 1634].23. Евангелие. Типограф Михаил Слёзка. 20.08.1636. 2º.24. Псалтирь.1637. 4º.25. Служебник. Типограф Михаил Слёзка. 1637. 4º.26. Анфологион. Типограф Иван Кунотович. 26.10.1638. 2º.27. Октоих. Типограф Иван Кунотович. 14.09.1639. 2º.28. Бутович Григорий. Еуодия альбо Арсения Желиборского духовных цнот за
пах... 1642. 4º.29. [Косов Сильвестр]. О тайнах церковных в посполитости. 1642. 4º.30. [Месяцеслов. 1642. 4º].31. Поучение новоставленному иерею. 1642. 4º.32. Часослов полууставный. 1642. 4º. Тир. [1105 экз.].33. Анфологион. Типограф Андрей Скольский. 12.04.1643. 2º. Тир. [1360 экз.] 1
(факт. [1358 экз.]). 34. Псалтирь. 1643.35. Евангелие. Типограф Михаил Слёзка. 25.05. 1644. 2º. Тир. [1065 экз.].36. Октоих. Типограф Михаил Слёзка. 23.09.1644. 2º.37. Анфологион. Типограф Михаил Слёзка. 24.05.1651. 2º.38. [Букварь (Грамматичка). Типограф Дмитрий Кульчицкий. 1662. 8º]. Тир. [650 экз.]. 39. [Часословец малый. Типограф Дмитрий Кульчицкий. 1662. 8º]. Тир. [650 экз.].40. Триодь цветная. Типографы [Дмитрий Кульчицкий, Симеон Ставницкий].
1663. 2º. Тир. [860 экз.].41. Триодь постная. Типограф Симеон Ставницкий. 24.10.1664. 2º. Тир. [914 экз.].42. Псалтирь. 1665. 4º. Тир. [1417 экз.].43. [Часослов малый. Типограф Симеон Ставницкий. 1665. 8º]. Тир. [1275 экз.].44. Таблица невидимая серца чоловичаго [Апостол]. 16.02.1666. 2º. Тир. [1240 экз.].45. Служебник. Типограф Симеон Ставницкий. 15.10.1666. 4º. Тир. [1289 экз.].46. Орологион, сиречь Часослов. 1668. 4º. Тир. [400 экз.].47. Псалтирь. 1668. 4º.48. Требник. Типограф Симеон Ставницкий. 1668. 4º. Тир. [1200 экз.].49. [Часовник школьный. 1669. Типограф Степан Половецкий. 8º]. Тир. [1540 экз.].50. Нектарий, патриарх Иерусалимский. Грамота. 1670.51. Евангелие. Типограф Степан Половецкий. 11.06.1670. 2º. Тир. [1503 экз.].52. [Ирмолойчик. Типограф Степан Половецкий. 1670 или 1671]. Тир. [300 экз.].53. Устав молитвенный 21.02.1670. 12º. Тир. [1337 экз.].54. Букварь языка славенска. Типограф Степан Половецкий. 1671. 8º.55. Октоих. Типограф Степан Половецкий. 1671. 4º. Тир. [812 экз.].56. Псалтирь. Не ранее 1677. 4º.57. [Часослов малый. 1667]. Тир. [1998 экз.].58. [Псалтирь. Типограф Симеон Ставницкий. 1679 или 1680]. Тир. [1987 экз.].
1 Данные о тираже по источнику: ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1057. Л. 1. (Здесь и далее указаны сведения о тираже книги, опубликованные в каталоге Запаско Я. П., Исаевича Я. Д., и новые сведения о тираже).
623Издания типографии Львовского братства
59. Служебник. Типограф Симеон Ставницкий. 1681. 4º. Тир. [800 экз.] (факт. 825 экз.]).
60. Требник. Типограф Симеон Ставницкий. 1682. 4º. Тир. [1000 экз.].61. [Акафисты с молитвами. Типограф Симеон Ставницкий. 1682. Тир. [1000 экз.]
(факт. [2000 экз.]) 1.62. Октоих. Типограф Симеон Ставницкий. 1686. 2º. Тир. [1200 экз.] (факт. [1240 экз.]).63. Псалтирь. Типограф Симеон Ставницкий. [1687]. 12º. Тир. [1200 экз.].64. Триодь цветная. Типограф Симеон Ставницкий. 9.01.1688. 2º. Тир. [1260 экз.].65. [Часослов. Типограф Василий Ставницкий. 1688. 8º]. Тир. [1502 экз.].66. Октоих. Типограф Симеон Ставницкий. 1689. 4º. Тир. [1000 экз.].67. Триодь постная. Типограф Симеон Ставницкий. [1689; на титульном листе
ошибочно указана дата 12.10.1699]. 2º. Тир. [1250 экз.].68. Евангелие. Типограф Симеон Ставницкий. 28.11.1690. 2º. Тир. [1050 экз.] (факт.
[1500 экз.])2.69. Служебник. Типограф Симеон Ставницкий. 1691. 2º. Тир. [1500 экз.].70. Букварь языка славенска. Типограф Симеон Ставницкий. 1692. 8º. Тир. [1950 экз.].71. [Месяцеслов. Типограф Симеон Ставницкий. 1692. 4º.]. Тир. [120 экз.].72. Орологион, сиреч Часослов. Типограф Симеон Ставницкий. 1692. 4º. Тир. [1000 экз.
на гданьской бумаге], [200 экз. на простой] (факт. общий [1078 экз.]).73. Месяцеслов (для присоединения к Часослову). Типограф Симеон Ставницкий.
1692. 4º. Тир. [125 экз. на бумаге местной] (факт. [120]).74. Псалтирь. Типограф Симеон Ставницкий. 1692. 4º. Тир. [1494 экз.].75. Букварь. Типограф Симеон Ставницкий. 1692. 8º. Тир. [1950 экз.].76. Анфологион. Типограф Симеон Ставницкий. 1694. 2º. Тир. [1495 экз.].77. Анамнисис альбо припоминание... Переведенное с помничка, писанного около
року 1605. 28.05.1695. 2º.78. Требник. Типограф Симеон Ставницкий. 5.03.1695. 4º. Тир. [1500 экз.]3 (факт.
[1495 экз.]). 79. Апостол. Типограф Симеон Ставницкий. 1696. 2º. Тир. [1000 экз.] (факт. [993 экз.]).80. [Молитовнички. Типограф Симеон Ставницкий. 1696. 8º.]. Тир. [998 экз.].81. [Часослов малый. Типограф Симеон Ставницкий. 1696]. Тир. [1500] (факт.
[1492 экз.]).82. Псалтирь. Типограф Симеон Ставницкий. 24.07.1697. 4º. Тир. [1000 экз.].83. [Букварь. Типограф Василий Ставницкий. 1698]. Тир. [7000 экз.].84. Ирмологион или Катавасия. Типограф Симеон Ставницкий. 1698. 12º.85. Требник. Типограф Василий Ставницкий. 1698. 8º. Тир. [600 экз.] (факт. [599]).86. [Букварь. Типограф Василий Ставницкий. 1698]. Тир. [7000 экз.].87. Ирмологион. Типограф Василий Ставницкий. 1698. 12º.88. Акафисты с стихиры и каноны. Типограф Василий Ставницкий. 1699. 4º.
1 Данные о тираже по источнику: ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 3 — 3 об.
2 Там же. Л. 8 об. — 9.3 Там же. Л. 15.
624 Издания типографии Львовского братства
89. Проскомидия. Типограф Василий Ставницкий. 1699. 2º. Тир. [500 экз.] (факт. [600 экз.]).
90. Псалтирь с часословцем. Типограф Василий Ставницкий. 1699. 4º. Тир. [1200 экз.].91. Октоих. Типограф Василий Ставницкий. 1700. 2º. Тир. [1200 экз. ] (факт. [1210 экз.]).92. [Букварь (Грамматика). Типограф Василий Ставницкий. 1701]. Тир. [6000 экз.].93. Молитвослов повседневный. 1701. 12º.94. [Полуустав. Типограф Василий Ставницкий. 1701. 8º]. Тир. [1500 экз.].95. Триодон си есть триписнец Св. Великой пятидесятницы. 1701.96. [Часословец малый. Типограф Василий Ставницкий. 1701]. Тир. [2000 экз.].97. Служебник. Типограф Василий Ставницкий. 1702. Тир. [1000 экз.] (факт. [990 экз.]).98. Псалтирь. Типограф Василий Ставницкий. [1703]. 4º. Тир. [994 экз.].99. Евангелие. Типограф Василий Ставницкий. [1704 (на тит. л. ошибочно указан
1690]. 2º. Тир. [1200 экз.].100. [Часослов малый. Типограф Василий Ставницкий. 1704]. Тир. [1190 экз.] (факт.
[1290 экз.]).101. [Молитвенничек. Типограф Василий Ставницкий. 1705]. Тир. [2000 экз.].102. [Пасхалии к Псалтири малой. Типограф Василий Ставницкий. 1705]. Тир.
[2000 экз.]1.103. [Псалтирь малая. Типограф Василий Ставницкий. 1705. 12º.]. Тир. [1500 экз.]
(факт. [2000 экз.])2.104. Евангелия и апостолы. Типограф Василий Ставницкий. 1706. 8º. Тир. [800 экз.]
(факт. [794 экз.])3.105. [Триодь посная. 1707].106. Проскомидия. [1708].107. Псалтирь. Типограф Василий Ставницкий. 1708. 4º. Тир. [1200 экз.].108. Венец победы. [1709].109. Ирмологион. Типограф Василий Ставницкий. 15.05. 1709. 2º. Тир. [800 экз.].110. Букварь языка славенска, писаний, чтения, учения хотящим в полезное руко
вождение. Типограф Василий Ставницкий. 1710. 8º. Тир. [6000 экз.].111. [Часослов малый. Типограф Василий Ставницкий. 1710]. Тир. [1500 экз.] (факт.
[2995 экз.])4.
112. [Полуустав. Типограф Василий Ставницкий. 1711. 12º]. Тир. [2000 экз.].113. Служебник. Типограф Василий Ставницкий. 1712. 2º. Тир. [1000 экз.].114. [Триодь цветная. Типограф Василий Ставницкий. 1714]. Тир. [1200 экз.] (факт.
[2000 экз.])5.
1 Данные по источнику: ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 24 об.2 ЦГИА Украины во Львове. Ф.129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 24 об.3 По контракту от 16 июня 1706 г. предполагался тираж 800 экземпляров, а издано было
794. (ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 25 об.).4 По контракту от 1 февраля 1710 г. предполагался тираж 1500 экземпляров, а издано
было 1995. (ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 25 об.).5 Данные о тираже по источнику: ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106.
Л. 27 об.
625Издания типографии Львовского братства
115. Октоих. Типограф Василий Ставницкий. 1715. 4º. Тир. [600 экз.].116. Псалтирь. Типограф Василий Ставницкий. 1715. 4º. Тир. [1500 экз.] (факт.
[1497 экз.]).117. [Молитвенничек малый. Типограф Василий Ставницкий. 1716]. Тир. [1920 экз.].118. [Служебник. 1717].119. Триодь постная. Типограф Василий Ставницкий. 1717. 2º. Тир. [1200 экз.].120. Устав чиннаго исправления вписующимся правоверним християнам в брат
ство чудотворния иконы... Девы Марии Трембовельской... при церкви катедральной Львовского храму Св... Георгия. 12.03.1717. 2º.
121. Апостол. Типограф Василий Ставницкий. 1719. 2º. Тир. [1200] (факт. [1197 экз.]).122. Требник. Типограф Василий Ставницкий. 1719. 4º. Тир. [1200 экз.].123. [Часослов малый. Типограф Василий Ставницкий. 1719]. Тир. [2985 экз.] (факт.
[1985 экз.])1.124. [Букварь (Грамматика). Типограф Василий Ставницкий. 1720]. Тир. [6000 экз.].125. Евхологион или Требник. Типограф Василий Ставницкий. 1720. 8º. Тир.
[800 экз.] (факт. [1000 экз.])2.126. Молитвослов повседневный, в нем же чин часов церковных и прочих спаси
тельных молений. [1720]. 12º.127. [Полуустав. Типограф Василий Ставницкий. 1720]. Тир. [2000 экз.] (факт.
[1195 экз.]).128. [Служебник. 1720. 4º].129. Чин погребения мирских священников [из Требника]. 1720. 8º.130. Евангелие. Типограф Василий Ставницкий. 1722. 2º. Тир. [1200 экз.].131. Псалтирь. Типограф Василий Ставницкий. 1722. 4º. Тир. [2000 экз.] (факт.
[1996 экз.]).132. Ермологион или Катавасия, содержащая в себе церковная пения. Типограф
Василий Ставницкий. 1723. 12º. Тир. [1500 экз.] (факт. [1499 экз.]).133. [Букварь (Грамматика). Типограф Василий Ставницкий. 1723]. Тир. [6000 экз.]
(факт. [6004 экз.])3.134. Часослов полууставный. Типограф Василий Ставницкий. 1726. 4º. Тир. [1000 экз.].135. Триодь цветная. 1730. 2º.136. Октоих. 1733. 2º.137. Анфологион. 11.12.1738. 2º.138. Шептицкий Афанасий. [Послание об исправлении богослужебных книг. 3 мая
1738 г.]. [1738]. 2º.139. Октоих. 1739. 2º.140. [Полуустав. 1739].141. [Тропари или дополнения к полууставу. 1739].142. Полуустав. 1740. 12º.
1 Данные о тираже по источнику: ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 30 об.
2 Там же. Л. 32.3 ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 34 об.
626 Издания типографии Львовского братства
143. [Каноник (акафисты). Типограф Иван Грозевкий. 1741. 8º]. Тир. [1000 экз.] (факт. [1200экз.])1.
144. Псалтирь. 1741. 4º.145. Акафист седмичный. Типограф Иван Грозевкий. 1742. 8º. Тир. [1200 экз.].146. Евангелие. Типограф Иван Грозевкий. 1743. 2º. Тир. [1200 экз.].147. Парфений Кумила, патриарх Иерусалимский. [Грамота с просьбой о милосты
не]. 1743. 2º.148. Уставы Св. собора Замойского. 1744. 8º.149. Козачинский Михаил. Благоутробие Марка Аврелия Антонина Кесаря Рим
скаго. Диалог с прологом и эпилогом. 1745. 2º.150. Козачинский Михаил. Философия Аристотелева по умcтвованию перипатети
ков издания. 1745. 2º.151. [Шептицкий Леон. Письмо о порядках церковных]. 1745.152. Вослидование праздника блаженаго священномученика Иосафата. [1746]. 2º.153. Календарь на 1747 г. [1746]. 8º.154. Триодь цветная. Типограф Иван Грозевкий. 1746. 2º. Тир. [1200 экз.].155. [Шептицкий Леон. Письмо о сборе налогов]. 1750.156. Возглас, акафист к Прч. страстем Христовым о душах в мучении чиститель
ном болезнуемых. 1751. 12º.157. Богословия нравоучительная (Казусы). Типограф Иван Грозевкий. 1752. 8º.
Тир. [1400 экз.] (факт. [2500 экз.]).158. [Часословец. Типограф Иван Грозевкий. 1752. 8º]. Тир. [1200].159. [Часословец. Типограф Иван Грозевкий. 1752.]. Тир. [2500]2.160. Триодь посная. Типограф Иван Грозевкий. 1753. 2º. Тир. [1200 экз.].161. Букварь языка славенскаго чтения и писания учащимся в полезное руковож
дение. 1754. 8º.162. Грамматика языка руссийскаго чтения и писания учащимся в полезное руко
вождение. Типограф Иван Грозевкий. 1754. 8º. Тир. [6000 экз.].163. Октоих. 1755. 4º.164. [Служебник. 1755]. 2º.165. [Шептицкий Леон. Письмо о заведении статистики и созыве епархиальных
соборничков]. 1755.166. Богословия нравоучительная. 1756. 8º.167. ЛубинецкийРудницкий Сильвестр. [Грамота церкве Св.Георгия в с. Накваша
на сооружение церкви и организацию братства из 12 пунктов]. [1756 экз.]. 2º.168. Ирмологион. Типограф Иван Грозевкий. 1757. 2º. Тир. [800 экз.].169. Часослов. Типограф Иван Грозевкий. 1757. Тир. [2000 экз.].170. Форма благословения опустного. 1758. 8º.171. Служебник. 14.04.1759. 2º.
1 Данные о тираже по источнику: ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 37 об.
2 Там же. Л. 40 об. — 41.
627Издания типографии Львовского братства
172. Полуустав си есть молитвослов, в нем же чин часов церковных, акафисты, правила, каноны святым, прочия спасительныя мольбы. 1759. 12º.
173. Шептицкий Леон. [Окружное послание об отпусте 1757 г. Форма благословения отпустного больным и умирающим]. 24.04.1759. 8º.
174. Богословия нравоучительная. 1760. 8º.175. Требник. [60е годы XVIII в.]. 2º.176. Ифика иерополитика, или философия нравоучительная символами и припо
доблении изъяснена. 1760. 12º.177. Требник или молитвослов. 1761. 4º.178. Последование в неделю православия. 1762. 8º.179. Прибыль духовная. 1.03.1762. 12º.180. Псалтирь. 1763. Тир. [1450 экз.]. 4º.181. Октоих. 1765. 2º.182. Букварь языка славенскаго. 1766. 8º.183. Каноник в нем же акафисты. 1766. 8º.184. Часослов. 1766. 8º.185. Молитвослов. 16.02.1768. 8º.186. Акафисты всеседмичнии благоизбраннии. 1769. 8º.187. Апостол. 1772. 2º. Тир. [1000 экз.].188. Служба за царя и люди во время брани. [1775]. 2º.189. [Шептицкий Лев. Грамота от 30 апреля 1776 г. о «вселенском ювелионе». 1776. 2º].190. Милостивое лето или благотребник молений к душеполезному лета оставле
ния провождению собрание. 4.06.1776. 8º.191. Требник. 1780. 8º.192. Служебник. 11.10.1780. 2º.193. Чин на поставление епископа Петра Биелянскаго. 1781. 2º.194. [Катехизис большой. 1788. 8º].195. Баумейстер Христиан. Наставления любомудрия нравоучительного содержа
щая любомудрие практическое всеобщее право естественное, ифику и политику с латинскаго на российский язык преведеная от Петра Лодия. Тип. Ст. Инта. 1790. 8º.
196. Букварь. 1790. 8º.197. Даннемайр Матфей. Наставления истории церковныя н[ового] з[авета] латин
ски изданная Феодором же Захариасиевичом... на русский язык переведенная. Ч. 1—2. 1790. 8º.
198. Лодий Петр. Ономастикон превелебнейшему господину Николаю Скородинскому… 1790. 4º.
199. Служба за царя и люди во время брани. [1790, до 2 февраля]. 2º.200. Служба с акафистом Св. Николаю. 1790. 4º.201. Лодий Петр. Ономастикон превелебнейшому господину Антонию Ангеловичу.
1791. 4º.
Абрамович Давид, кровельщик 299Август II, король польский 125, 130, 143,
209, 411, 417, 430Август III, король польский 131, 210,
411, 417Августин Блаженный 551, 553Агрикола Григорий 549Адам, мастер-строитель 329Адриан, патриарх московский 448 Актомедий Себастьян 545Алвизий Андрей, член братства 323Александр, учитель братской школы
188Александрович В. С. 69, 531, 557, 558, 560,
590Александрович Павел, член братства
351, 352Алексеев А. И. 275, 609Алексей Алексеевич, царевич 278Алексей Михайлович, царь 115, 143, 278,
440, 452Алексютович Н. А. 63, 165, 590Алозий Михаил, член братства 117Алуизе-Бенуэ Мария 244Альварес Эммануил 534, 545, 552, 553,
565Альвизии, род 70Альвизий Михаил, член братства 169Альвизий Николай, член братства 336Амвросий 45, 590Анастасий Никейский 553Анастасий Синаит, патриарх Антио-
хийский 545Ангелович Антоний 215, 627Андреас, купец 328
Андреевая, мещанка львовская 154Андреевич Иоанн, член братства 238Андрей, переплетчик 357, 361Андрий, горняк 327Андрохович А. 40, 556, 590Андрусяк М. 590Анна Иоанновна, императрица России
204Антоний Великий 546Антонович В. Б. 34, 42, 43, 133, 136, 141,
142, 441, 442, 590Антонович Д. 299, 590Антонюк Г. Д. 64, 590Аполлоний Александрийский 546Аристов Ф. Ф. 30, 591Аристотель 200, 214, 460, 461, 533,
534, 543, 545, 546, 549, 552, 559, 561, 626
Арсений, архиепископ элассонский, рек-тор братской школы 45, 67, 75, 165, 177, 436, 491, 583, 594, 596, 605, 607, 617
Архангельский А. С. 454, 591Аскоченский В. 32, 591Афанасевич Фома, член братства 238Афанасий Великий 545Афендик Василий Григорьевич, член
братства 323Афендик Петр (Зот), член братства 111,
257, 258, 336, 358, 366, 384, 450, 567Афендик Ян (Афендикович Яней), член
братства 114, 169, 238Афендики, род 70Ахмед III, султан Османской империи
437
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
630 Именной указатель
Бабич Матвей, член братства 127Бабич Хома (Фома), член братства 95,
124, 238Базилевич, композитор 175Базилевич, учитель братской школы 192Балабан Алексей, член братства 323Балабан Гедеон, епископ львовский 21,
45, 72, 101, 114, 190, 195, 197, 198, 408,414, 417—419, 433, 458, 499, 500, 501,584—586, 591, 603, 606, 609
Балатовая З. 244Бальзамо Теодор 552Бантыш-Каменский Н. Н. 16, 24, 53, 138,
139, 443, 459, 591Баранович Лазарь 173, 204, 339, 385, 474,
544Барвинский А., см. Барвінський О. Барвінський О. 40, 591Баронч С., см. Barącz S.Барсов Е. В. 16, 96Батюшков П. Н. 45Баумейстер Христиан 215, 627Бебер Петр, архитектор 260Белдага Андрей, член братства 114, 127,
136, 427, 453Белецкий Роман 515Бельский Мартин 533, 534Белявский Евстафий, член братства 323Беляновский А. С. 165, 591Бендасюк С. Ю. 32, 591Бенедикт XIII, папа Римский 551Бенедикт XIV, папа Римский 551, 552Бенес Франческо 545Бернавский Мирон, воевода и госпо-
дарь молдавский 200, 328, 490Бернардин, католический епикоп львов-
ский 94Бернацкий, мещанин львовский 314Берында Памва 184—186, 190, 191, 199,
403, 407, 438, 453, 542, 553, 609, 621Биелянский Петр, епископ львовский
627Билык М. 183, 584Бирковский Фабиан 564Бишевский, композитор 174Блажейовський Д. 211, 423, 591
Блок М. 591Богатырец Иоанн, член братства 238Бонавентура 564Борецкий Иов (Иван), учитель братской
школы, митрополит киевский 20, 42,52, 63, 135, 136, 162, 168, 172, 173, 177,190, 199, 202, 278, 400, 438, 453, 455,456, 459, 460, 466, 467, 584, 592, 595
Бородецкий Яцентий, купец 202Ботвинник М. Б. 63, 591Бохард Самюэль 552Боянівська М. Б. 64, 69, 512, 516, 517, 591Боярский Василий, настоятель Успен-
ской церкви 529, 541Брагоне М. К. см. Bragone M. С. Бруханский Иоанн, член братства 238Будилович А. С. 228, 468, 591Будный Симон 541, 559Булгаков С. В. 277, 591Буневский В., член братства 187, 562Буссов Конрад 165, 583Бутич І. 452, 584Бутович Григорий 213, 522Бутурлин Иван Васильевич, боярин, по-
сол русский в Польше 443Быкова Т. А. 618
Ваврик В. Р. 30, 32, 38, 40, 193, 236, 240,591, 592
Валерий Максим 534, 545Васиан, священник Успенской церкви
389Василевич Лука, член братства 169Василевич Ян, член братства 117Василевич, студент 154Василенко Н. П. 167, 592Василий Великий 186, 515, 534, 541, 545,
552, 559, 563Великолук Алексей Григорьевич, член
братства 242Вергилий Марон Публий 534, 545, 552,
553, 564 Винар Л. 34, 81, 592, 617Винницкий Антоний, митрополит ки-
евский 139, 382Виноградов И. 50, 592
631Именной указатель
Вистерник Никола 539Вишенский Иван 13, 64, 104, 154, 164,
180, 190, 453, 456, 459, 474, 477, 523,541, 558, 583, 597, 614
Вишловский Георгий, гравер 199Вишневецкий Адам, князь 128, 146, 240,
415, 438Вишневецкий Иеремия Михайлови (Яре-
ма), князь 401Вишневецкий Михаил Михайлович,
князь 438Владислав II Ягайло, король польский 84Владислав IV Ваза, король польский 110,
116, 189, 197, 206, 242, 317, 411, 424,507
Возницын Прокофий Богданович, по-дьячий, посол русский в Польше 444,446, 450
Возняк М. С. 39, 135, 178, 181, 187, 209,455, 459, 467, 479, 592
Войтек, помощник-строитель 329Волков Иван Михайлович, дьяк, посол
русский в Польше 444, 447Волкович Иоаникий 186, 187, 213, 455,
592, 621Вороцовский Павел, покупатель книг
356Вощанка Максим, типограф 460Вуйцик В. С. 69, 592Вурбо Станислав, словолитец 310Выгановская Катерина, мещанка львов-
ская 401Выговский Иван, писарь гетмана укра-
инского 254
Гавалевич, композитор 175Гавендович Яков, член братства 323Гавриил (Петров), архиепископ санкт-
петербургский и Ревельский 452Гавриил, архиепископ орхидский, бол-
гарский и сербский 436Гавриленко В. 286, 592Гайкова С. В. 619Галас Андрей, член братства 251, 465Галятовский Иоаникий 173, 460, 474,
515, 544, 549, 553, 583
Гдешицкий Василий, член братства 238Гедеон, настоятель Онуфриевского мо-
настыря 389Гелиодор 546Гендлик Мартин, купец 328Генебрарди Гильберт 549, 565Генетто Франческо 551Геннадий, архимандрит Дерманский 240Геннадий II Схоларий, патриарх кон-
стантино-польский 559Генрих Валуа, король польский 85, 121,
503, 506Генсиорский А. И. 420, 592Георгиевич, член братства 187Георгий, иеродиакон, гравер 199Гербільський Г. Ю. 157, 592Гербурт Николай, староста львовский
156Геркман Элиас 165, 583Глинский Иоанн, гравер 199Глобенко М. 455, 606Гнатовский Петр, литейщик меди 300,
301Гнєвишева О. 620Головацкий Я. Ф. 18, 21, 23, 32, 34, 45, 87,
88, 110, 132, 138, 146, 171, 232, 236,239, 522, 584, 585, 592, 593, 618
Головецкий Ян, товарищ-строитель 329Головкин Гавриил Иванович, граф 398Голуб Олифер Остапович, гетман укра-
иснкий 438Голубев С. Т. 20, 44—46, 82, 103, 104, 106,
115, 133, 136, 158, 167, 178, 181, 188,189, 199, 202, 205—207, 212, 227, 228,268, 400, 401, 407, 408, 426, 428, 434,458, 459, 468, 517, 519, 523—525, 533,570, 584, 585, 593
Голубец М. 40, 593Гомер 553Гораций 534, 545Горбачевский Иван, член братства 40,
201, 330, 516, 520, 554, 556, 590Гординський Я. 593Горошко Михаил, член братства 202,
262Горский А. В. 618
632 Именной указатель
Горский Ян Федоров 118Горський В. С. 462, 599, 609Горфункель А. Х. 618Готфрид Гергольд, купец гданьский 311Гревская Магда, мещанка львовская
570Грецер Я., см. Gretser J.Григориевич Савва, писец 516Григорий IX, папа Римский 79Григорий Богослов 186, 200, 213, 467,
515, 545, 621Григорий Критский 549Григорий Назианзин (Богослов) 559Григорий Нисский 467, 551Григорий, протонотарий 101Григорович Алексей из Великих Лук,
см. Великолук Алексей ГригорьевичГригорович Василий, член братства 117,
256, 374, 574Грицай М. С. 187, 593Грозевский Иван (Ян), типограф 199,
200, 303—305, 626Грушевский М. С. 13, 24, 34—37, 81,
83, 86, 93, 98, 104, 105, 122, 133, 138, 146, 147, 160, 161, 172, 173, 180—184, 191, 221, 224, 225, 253, 286, 419, 426—428, 434, 455, 458—460, 465, 466, 468, 469, 474, 477, 478, 422, 592, 593
Грушецкий Иван, гончар 312Грыцко, помощник-строитель 329Губа Лука (Лукаш), член братства 127,
238, 327Губина Лукашевая, жена члена братства
153, 155, 241Гудзяк Б. 71, 593Гунашевский Михаил 522Гуревич А. Я. 100, 275, 593, 594Гуревич М. М. 618Гурська Л. І. 68 594Гусева А. А. 175, 179, 180, 198, 291, 310,
369, 370, 372, 594, 618, 620Густав II Адольф, король шведский 329
Давидович Арон, словолитец 310Дамаскин (Семенов-Руднев) 618
Даниил Галицкий, князь 292Данило, переплетчик 361Даннемаер Матфей 215, 627Девочка Онисифор, митрополит киев-
ский 227, 593Дейма Антон, член братства 119Дейма Христофор, член братства 119,
334, 497, 508, 568Дёмин А. С. 484, 608Демокрит 173Демосфен 546, 550, 564Демьянович Андрей, член братства 262,
514Дергачева И. В. 275, 594Дзёковский Андрей, член братства 119,
323Дзюба О. М. 594Димитракопулос Ф. см. Δημητρακόπου-
λος Φ.Дилецкий Николай, композитор 174Динцельбахер П., см. Dinzelbacher Hrsg.
von P.Дионисий Ареопагит 536, 537, 541, 545,
546Дионисий, митрополит адрианополь-
ский 436Дідицький Б. 594Длугош Ян 28Дмитриев М. В. 71, 72, 94, 594, 610, 615Дмитриевский А. А. 45, 165, 594Дмитровая, жена Дмитрия Кульчицко-
го, типографа 199 Добрянский А. 223, 228, 584, 594Добрянский Иван Фомич, мещанин
львовский, сын члена братства Доб-рянского Хомы 325
Добрянский Михаил, мещанин львов-ский 325
Добрянский Николай, член братства426, 567
Добрянский Хома (Фома), член брат-ства 325, 326
Долиньска М. 69, 594Доминик Марка 545, 552Доминичи Павел из Рима, см. Римля-
нин Павел
633Именной указатель
Домникия, мещанка львовская 459, 558
Дорофеевич Гавриил, член братства 63, 177, 453, 456, 601
Дорофей, иеромонах, гравер199Дорошенко Д. И. 59, 84, 594, 595Драбик Федор, член братства 238, 239Драгоманов М. П. 34, 42, 44, 595Древинский Лаврентий, чашник волын-
ский 53, 138, 240Дропан Стефан, мещанин львовский
88, 504Друкаревич Иван, см. Иван Друкаре-
вичДука Иоанн, воевода молдавский 212Дука Константин, господарь молдав-
ский 278Дюби Ж. 265Дюпрон А., см. Dupront A.
Евгений (Болховитинов Е. А.) 618Еврипид 186, 546Евстафиевич Василий, член братства
466Евстафий, епископ Фессалоникийский
(Солунский) 546Еленик, купец 328Епифаний Александрийский 546Еремин И. П. 459 583Ермиевич Павел, член братства 157Ерос (Кгерос) Иван, член братства 169,
238Ефименко А. Я. 54, 79, 595Ефименко П. С. 595Ефрем Сирин 545, 551Ефрем Антиохийский 455Ефремов С. А. 180, 187, 455, 595
Єдлінська У. Я. 90, 584, 620Єфремов С. О., см. Ефремов С. А.
Жевусский Станислав, великий гетманкоронный 333
Желиборский Арсений (Андрей), епи-скоп львовский 103, 158, 206, 213,350, 366, 400, 409, 522, 563, 619, 622
Желиборский Афанасий, епископ львов-ский 409
Желиборский Григорий 621Желиборский Прокоп 573Жукович П. Н. 52, 133, 160, 460, 584,
595Жуковський А. 139, 167, 191, 595
Заборовский Якуб 565Завадовский Евстафий, гравер 199Завадовский Евстахий, композитор 174Завитневич В. З. 46, 460, 595Загайко П. К. 64, 165, 456, 595Загурский В., см. Zagórski W. Заикин В. 59, 595Замалеев А. Ф. 470Запаско А. П., см. Запаско Я. П.Запаско Я. П. 65, 66, 137, 162, 170, 171,
174, 175, 178, 181, 184, 187, 194, 196, 197, 200, 208, 210, 214—216, 259, 276, 302, 303, 305, 308, 309, 334, 337, 368—370, 373, 377, 398, 596, 598, 619, 621,622
Заславський І. В. 64Захара И. С. 63, 64, 456, 590, 596Захариасиевич Феодор 215Захаркевич Иван, член братства 158,
331, 334, 358, 361, 362, 366, 627Звиркович Степан, член братства158Зеленин Д. К. 79, 596Зенькович Иван, член братства 127,
238Зеньковичка Ивашковая, жена члена
братства 241Зеньковский В. В. 61, 62, 455, 456, 596Зизаний Лаврентий 39, 63, 165, 173, 176,
178, 191, 453—455, 460, 465, 476, 480,585, 591, 592, 596
Зизаний Стефан 18, 63, 70, 133, 165,189, 191, 438, 453, 456, 458, 460, 480, 558, 591, 599, 608, 614
Зилитневич В. С. 165, 596Зиморович Юзеф-Бартоломей 24, 27,
28, 87, 587, 617Зинькович Иван, член братства 329Зноско К. 59, 596
634 Именной указатель
Зубрицкий Д. И. 11, 16, 18, 19, 24, 28—31, 49, 69, 70, 87—89, 96, 97, 124, 126, 128, 130, 140, 173, 180, 194, 198, 200, 207, 228, 231, 236, 240, 248, 261, 315, 348, 398, 451, 468, 501, 509, 510, 512, 517, 519, 523, 525, 530, 531, 533, 547, 587, 594, 596, 597, 605, 617
Зубрицкий Никодим, гравер 199, 311Зубрицкий Францишек, строитель
305Зычливый Войтих, строитель 330
Иван Друкаревич, переплетчик, сын Ивана Федорова 195, 198, 422, 602
Иван Семоли, митрополит Сучавский 436
Иван, переплетчик 350, 384Иванко, писец 516Игнатий, учитель братской школы 189Иеремия II, патриарх константино-
польский 26, 101, 102, 114, 197, 230, 271, 272, 406, 407, 410, 427, 458, 497—499, 504, 505, 621
Иларион, митрополит Киевский 469, 470, 584
Илия, гравер 199Илляшевич Василий, член братства
264, 317Илляшевич Юрий (Георгий), член брат-
ства 12, 31, 262, 274, 313—316, 322, 332, 587, 612
Ильинский Ф. М. 460, 596Илько, помощник-строитель 329Илья, игумен 173, 460, 585Иляшевич Александр, член Ставропи-
гийского института 27—29, 586, 611Инкмар, епископ реймский 78Иоаким, патриарх антиохийский 10, 87,
96—98, 14, 163, 195, 197, 220—222, 226, 230, 231, 239, 404, 407, 427, 464, 488, 499, 504, 505
Иоаким, патриарх московский 279Иоанн, маляр 572Иоанн Алексеевич, царь 115, 278, 452Иоанн Васильевич IV (Грозный), царь
115, 278
Иоанн Богослов 559, 560Иоанн Дамаскин 172, 488, 545, 549Иоанн Златоуст 162, 283, 292, 295, 459,
467, 489, 492, 515, 516, 521, 528, 530, 534, 536, 537, 541, 542, 544, 546, 551, 553, 559, 563, 565, 621
Иоанн Лествичник 528, 534, 541, 545Иоанн Ревенец, священник 448Иоасаф, Свмч. 626Иоасаф, священник 384Иов (Княгиницкий), схимонах, основа-
тель Скита Манявского 460Иосиф II, император австрийский 10,
193, 215Иосиф Флавий 552Иосиф, дьякон Успенской церкви 572Ирина, царица 278Исаевич Я. Д. 13, 14, 27, 28, 54, 64—69,
78, 80, 88, 90, 91, 97, 98, 104, 106, 108, 109, 111, 116, 117, 119, 124, 125, 129, 131, 133, 137, 155, 157, 160—165, 169—171, 173—176, 178, 181, 182, 184, 187—192, 194—204, 208, 213—216, 218, 221, 222, 228—230, 233, 237, 239—241, 243, 251, 259, 269, 276, 280, 286, 291, 302, 303, 305, 308—311, 316, 329, 333, 334, 337, 368—370, 373, 377, 386, 390, 398, 407, 423, 426, 427, 441, 450, 452, 456, 468, 496, 497, 501, 506, 507, 512, 515, 519, 522, 530—532, 540, 557, 560, 584, 596—598, 602, 607, 614, 616, 619, 621, 622
Исакий (Борискович), игумен Дерман-ского монастыря 528, 542
Исарович Зот, член братства 331Исарович Кириак, член братства 323,
441, 450Исократ 173
Iванис В. 60, 596Ісаєвич Я. Д., см. Исаевич Я. Д.
Кавак Микей, купец константинополь-ский 515, 537
Казимир III (Великий), король поль-ский 90, 504, 506
635Именной указатель
Казимир IV, король польский 87, 88, 506
Калепин А., см. Calepinus A.Каменева Т. Н. 398, 620Канизий Петр 559Капинос Войтих, архитектор 299, 328Капраль М. 23, 25, 69, 70, 90, 116, 120,
125, 163, 586, 598, 599Каптерев Н. Ф. 73, 358, 531, 610, 613Каратаев И. П. 175, 194, 309, 369, 483,
619Кардано Джироламо 561Карл XII, король шведский 261, 398Карпович В. 40, 599Карпюк Г. В. 170, 586Карсавин Л. П. 54, 55, 77, 79, 599Карташев А. В. 61, 599Касияновая, жена члена братства 241Касиянович Федор, учитель братской
школы, проповедник, переводчик с греческого 177, 516
Касиянович, наборщик 211Кассандра 549Кашуба М. В. 63, 64, 68, 456, 461, 599,
607Квяткевич Ян 28Кгерос Иван, член братства, см. Ерос
ИванКедрени Георгий 552Кирилл Александрийский 545Кирилл Философ 539, 563Кирилл Лукарис, патриарх александ-
рийский, констатинопольский 102, 103, 174, 177, 278, 407, 490
Кирилович Иосиф, типограф 199Киричук А. 70, 599Кирницкий Г. 522Киселев Н. П. 178, 181, 197, 599Кисель Адам, воевода киевский 129,
140, 240, 255, 348Кисельницкий Киприян, член братства
158, 258, 280, 331Кит Яков, купец вроцлавский 311Кларор Н. Н. 546Клементий Александрийский 551Кленович Себастьян Фабиан 183, 584
Кленарди Николаи 176, 534, 543Клибанов А. И. 55, 594, 599Клименко П. В. 83, 600Климент VIII, папа Римский 22, 502,
584Климентий XI, папа римский 410, 420Кноп, цензор 216Ковальский Н. П. 13, 63, 217, 415, 426,
439, 444, 450, 452, 460, 600Ковальський М. П., см. Ковальский Н. П. Ковасила Дейма, член братства 262Кожух Павел, купец 327Козак У. 69, 512, 523, 600Козачинский Михаил 200, 214, 461, 626Козловский Исаия Трофимович 453Коллет Петри 551Колосова В. П. 178, 179, 484, 586Колосовська О. М. 69, 523, 600, 619Коляда Г. И. 63, 63, 64, 291, 456, 600, 601Колядчин, композитор 174Комарницкий Иван, купец 202Коменский Ян Амос 193, 233Конев С. В. 275, 601Константин, епископ Супрасльский 508Концин Даниэль 551Копа Роман, архимандрит Киево-Пе-
черской лавры 204Копинский Исаия 453Копыстенский Захария 191, 453, 460, 515Копыстянский А. 20, 131, 202, 208—210,
410, 423, 430, 452, 546, 587, 601Корендович Василий, член братства 111,
254, 335, 384Корендович Юрий, член братства 119Корес Ф. 545Корзо М. А. 173, 601Корнелий Лапиде 515, 551Корнелий Валерий 545Корницкий Василий, переплетчик 202,
263Корнякт Константин, купец, член брат-
ства 117, 238, 239, 241, 324, 604Корнякты, род 69, 70, 601Корона Марек 564Корунка Иван, член братства 144Корунка Сенько, мещанин львовский
636 Именной указатель
195Кос Г. І. 601Кос Петр, член братства 435, 506, 507Коссов Сильвестр, учитель братской
школы, митрополит киевский 140, 189, 191, 213, 453, 460, 544, 553, 564, 622
Костомаров Н. И. 41, 42, 85, 91, 601Костюк С. 69, 601Коц Юрий, член братства 262, 568Коялович М. О. 49, 50, 53, 82, 83, 224,
584, 601, 602Кравец Максим, член братства 238Красовский Василий, член братства
519Красовский Димитрий, член братства
238, 426Красовский Иван Демидович, член
братства 23, 70, 116, 127, 128, 136, 154, 158, 163, 203, 238, 245, 250, 252, 327, 329, 427, 453, 498
Красовский Николай, член братства 12, 31, 32, 119, 167, 168, 192, 193, 254, 256, 258—261, 276, 279, 280, 315, 321, 322, 326, 334, 402, 403, 450, 571—573, 586, 612
Красовский Роман, член братства 434Красовский Самуил, священник Успен-
ской церкви 201, 450Красовский Стефан, член братства 450Крат М. М. 60, 602Крекотень В. І. 178, 179, 484, 586Кремский Стефан, звонарь 332Крип’якевич І. П., см. Крипьякевич И. П.Крипьякевич И. П. 37, 63, 89, 90, 92, 94,
121, 155, 159, 160, 310, 452, 512, 518, 526, 528, 529, 540—542, 584, 602
Криса Б. 68, 178, 181—183, 602Кристиняцкий И. 19, 31Кришталович У. 620Кровницкий Бонифатий 24, 27, 504, 507Крузий Мартин 176Крыловский А. С. 12, 21, 22, 37, 38, 44,
46—48, 88, 92, 98, 103, 106—110, 112, 117, 126, 128, 129, 133, 137, 139—142, 145, 149, 155, 156, 158, 169, 174, 176,
194, 198, 202, 211, 213, 220, 223, 224, 228, 236, 240, 244, 247, 269, 279, 286, 300, 302, 316, 317, 333, 348, 399—401, 403, 406, 409, 411, 412, 416, 424, 428, 429, 431, 440, 441, 459, 460, 464, 465, 468, 475, 502, 585, 602
Ксения Ивановая Богатырцовая, жена члена братства 569
Ксенофонт 545, 549Кудрик Б. 174, 602Кулиш П. А. 34, 42, 43, 558, 602Кульчицкий Дмитрий, типограф 199,
361, 622Кульчич Пафнутий, типограф 199, 403Кунащак Петр, купец 202Кунотович Иван, типограф 199, 281,
285, 622Купенский Андрей, член рады Львова
508Купцовая, вдова члена братства 249Купчинский О. А. 90, 198, 584, 602, 619Курбский А. М., князь 162, 198, 585, 613Куртович Петр, член братства 258Куртый Федор 350Курцбек Иосиф, типограф 215Кушнир Лесько, член братства 144Кушнир Теофил (Тимко) 434Кушнир Федор Конашевич, член брат-
ства 242Кушнир Хома, член братства 114
Лаврецкий Семен, переводчик Посоль-ского приказа 441
Лавришевич Павел, член братства 157, 317, 322, 323, 514
Лавришевич Семен, член братства 157, 322, 323, 331, 335, 336, 358, 366, 371, 373, 391
Лавришевич Степан (Стефан), член братства 111, 257, 258, 322, 323, 334, 339, 354, 355, 357, 366, 374, 389
Лавришевич Яков, член братства 258, 330, 371, 373, 384, 385
Лавришевичова, жена Степана Лаври-шевича 357
Лазарь, учитель братской школы 344
637Именной указатель
Лангиш Габриель (Гавриил), член брат-ства 187, 341, 567, 570, 572
Лангиш Григорий, член братства 322Лангиши, род 70, 117Лангишовая, жена Габриеля Лангиша
572Ланевич Александр, иконописец 300Лапиде Корнелий 549Лаппо-Данилевский А. С. 55, 56, 160,
456, 599, 602, 603Лапчинский Георгий, учитель братской
школы 168, 193Ласкарис Константин 176Ле Гофф Ж. 175, 190, 265, 603Лев Данилович, князь 292, 295Лев Философ 515Левинский Антон, член братства 201,
314, 323, 516, 520, 550—552, 554, 556, 557, 574, 575
Левинсон К. А. 275, 603Левицкий Григорий, гравер 199Левицкий Михаил, митрополит львов-
ский 509Левицкий О. И. 35, 41—44, 413, 454, 603Леонид, архимандрит 620Леонович Василий, член братства 117,
350, 351, 357, 358, 366, 384, 567Леонтий, настоятель Онуфриевского
монастыря 400, 569Лефевр Ж. 265Лещинский Андрей, князь 348Лжедмитрий I, царь 115, 252, 278, 505Либшвагер Иоганн, купец вроцлав-
ский 311Ливий Тит 552, 564Ликофрон 186, 549Лило І. М. 70, 390, 561, 562, 603Лимонов Ю. А. 603Литвин М. 68, 69, 174, 182, 598, 602, 614Лодий Петр 214, 215, 627Лозиньский В., см. Loziński W.Локнери 551Ломбард Петр 561Ломоносов М. В. 176Лопатинский Феофилакт, ученик брат-
ской школы, ректор Славяно-греко-
латинской академии в Москве 191Лопушанин (Лопушняну) Александр,
господарь молдавский 33, 94, 95, 569, 585
Лубинецкий-Рудницкий Сильвестр 626Лукаш, звонарь 383Лукаш, помощник-строитель 329Лукашевич Николай, член братства
169, 238Лукашова С. С. 72, 79, 81, 603Лукашовая Крамарка, вдова члена брат-
ства 250Лукашовский, протопоп 338Лукиан 534, 546, 550, 553Лукичев М. П. 439, 585Лукиянович Андрей, член братства 106Лукомский В. К. 291, 603Лурье В. М. 456, 603Луцiв В. 60, 603Луцкий Семен, член братства 128, 135,
169Луцница, жена члена братства 153Луцык Р. Я. 603Львовчик Ян, товарищ-строитель 329Люзняк М. 68, 603Лясковская Анастасия 119, 244, 334, 339Лясковский Иван (Яков), член брат-
ства 339, 244Лясковский Михаил, член братства
262, 323, 334, 430Лясковский Степан (Стефан), член брат-
ства 119, 258, 261, 317, 318, 320, 322, 325, 334, 424, 425, 506, 572
Лясковский Филипп Феодосий 156, 562
Магнус Альберт 565Мадзапета Константин, член братства
358, 561—567, 613Мадзапета Манолис, член братства 238,
561, 562Мадзапеты, род 70Маерович, купец вроцлавский 311Мазараки Ян (Иван, Яний), член брат-
ства 111, 117, 119, 334, 335, 374, 389, 390, 391
Мазараки, род 70, 610
638 Именной указатель
Мазепа Иван Степанович, гетман ук-раинский 438
Макарий (Булгаков М. П) 50, 51, 88, 97, 221, 603, 604
Макарий Василевич, игумен Вознесен-ского монастыря 447
Макарий Египетский 563Макарий, митрополит молдавский, мо-
нах афонский 203, 436Макаров А. М. 604Максим Грек 534, 541, 559Максим Исповедник 545, 546Максименко Ф. П. 309, 619Малецкий Алексей, член братства 238Малецкий Лесько, член братства 95,
124, 196, 358, 516, 519, 531, 532, 534, 535, 557, 613
Малечкович Прокоп, член братства 421Малиновский А. Ф. 505Малинская Татьяна Мафеевна 118, 244Малышевский И. И. 44, 45, 80, 172, 604Мамонич Кузьма, мещанин виленский
195Мамоничи, владельцы типографии в
Вильно 197, 517, 523, 526, 534, 559, 563
Мандру Р. 265Манолий, мещанин львовский 329Мануций Альд 534Маринетос Манолис Афранис, член
братства 238, 239Мария Терезия, императрица австрий-
ская 215Марк Аврелий 214, 461, 535, 626Марк Целий Руф 545Маркович Даниель, кровельщик 299Мартынова, жена члена братства 153Марфа, царица 278Маслов С. И. 58, 335, 456, 604Маслюк В. 183, 584Матвеев Артамон Сергеевич, боярин
143, 440Матвей, патриарх константинополь-
ский 102, 408, 505Матковська О. 68, 456, 604Матфеевич Федор, член братства 238
Матфей, учитель братской школы 350Матюхіна О. А. 68, 604Мацюк О. Я. 194, 196, 200, 210, 287, 596,
604Медзапета Константин, член братства
423Медушевская О. М. 218, 604Медынский Е. М. 54, 62, 165, 172, 175,
178, 190, 232, 233, 604Меерссеман Г. Г., см. Meersseman G. G.Мейеркович Иоль, мещанин львовский
314Меланхтон Филипп 176Мелетий Пигас, патриарх александ-
рийский 45, 80, 171, 177, 211, 458, 485, 500, 505, 536, 541, 604, 621
Мелисс Самосский 545Меншиков Александр Данилович 214,
398Меркурий, св. 398, 574Мерунович Кл. 604Мешенина Захар, член братства 434Мефодий, патриарх константинополь-
ский 102Меховский Мачей 28, 552Миколаев Иван 153Миколаева Анна 153Миколаевич Ян, член братства 258Милькович В. 19, 31, 587Мильчевский Альберт, типограф 207,
208, 422, 508Милюков Н. П. 604Мина, монах Онуфриевского монасты-
ря 198, 199Минан 534Митюров Б. Н. 62, 456, 604Михаил Корыбут Вишневецкий, ко-
роль польский 197, 207, 411, 491Михаил Федорович, царь 115, 143, 278Михайлов Борис Михайлович, столь-
ник, русский посол в Польше 125, 143, 440, 444, 448—451
Михайлович Евстафий, член братства 238, 279
Михалевич Николай, член братства 111, 258, 323
639Именной указатель
Мицько І. З. 68, 161, 188, 516, 604Мірчук І. 60, 604Мнишек Станислав-Бонифатий, львов-
ский староста 412Могила Иеремия, господарь молдав-
ский 129, 254, 403Могила Моисей, воевода молдавский
117Могила Петр, киевский митрополит
20, 45—47, 52, 64, 103, 104, 106, 115, 136, 139, 158, 167, 188—190, 199, 202, 205—207, 210, 211, 227, 228, 268, 339, 340, 344, 345, 377, 400, 401, 407, 408, 434, 438, 458, 459, 468, 491, 517, 519, 523—525, 527, 533, 549, 553, 564, 570, 584, 585, 593, 595, 606
Могилянка (Потоцкая) Анна 244, 348, 398, 570, 573
Могитич І. Р. 605Мороховский Илья, епископ владимир-
ский 200Мороховский Стефан, член братства
238Москаленко Н. А. 176, 605Мостини Николай 551Моциевский Модест 27Мрославский Василий Степанович, член
братства 169, 242Мстиславец Петр Тимофеев, типограф
525, 526, 531, 594Мысько, горняк 327Мытура Станислав, горняк 327Мыцык Ю. А. 13, 600Мышковская Анна, см. Могилянка (По-
тоцкая) Анна
Назарко I. 60, 605Настуся 154Наталий 553Наталис Александрийский 552Науменко Ф. И. 63, 136, 162, 427, 456,
459, 605Негребецкий Павел 177Нектарий, патриарх иерусалимский 26,
388, 622
Немировский Е. Л. 194, 198, 291, 519, 530, 531, 560, 569, 585, 605
Нестерович Стефан, член братства 347, 572
Никитин Алексей Васильевич, столь-ник, посол русский в Польше 444, 446, 450
Никифор 534, 543Никифор (Кантакузин), протосингел
177, 499Николай Месарит 552Николай II Хрисоверг, патриарх кон-
стантинопольский 278Ничик В. М. 63, 64, 605Новакович Станислав, гончар 312
Овидий 534, 545, 552, 546Овсійчук В. 605Огиенко И. И. 38, 39, 162, 194, 196, 199,
200, 205, 206, 207, 209, 213, 423, 547Огієнко І. І., см. Огиенко И. И.Оглоблин Н. 165, 605Огоновский О. М. 40, 455, 605Одровонж Андрей, староста львов-
ский 88, 504Оксиюк И. Ф. 605Ольховский Т. А. 605Омельянович Ярош, портной 329Опацкий Николай 565Орвацкий, композитор 174Ориген 545Орлевич И. 28, 70, 71, 605Острожский Александр Константино-
вич, князь 464, 465Острожский Василий-Константин, см.
Острожский Константин Констан-тинович
Острожский Константин Константино-вич, князь, воевода киевский 22, 32, 41, 114, 115, 129, 156, 161, 164, 167, 211, 418, 433, 438, 464, 465, 502, 504, 528, 542, 584, 585, 601, 605, 607, 610
Павел, крестьянин 155Павлович Стефан, член братства 366Паги Франс 552
640 Именной указатель
Паисий, настоятель Успенской церкви 344
Панин Никита Иванович, граф 452Пантелеймон, св. 573, 574Панькевич, регент церковного хора Ус-
пенской церкви 201Папара Юрий (Георгий), член братства
119, 143, 258, 322, 366, 440, 442, 449, 572
Папары, род 70Папков А. А. 52, 79, 82, 605, 606Парфений, патриарх константинополь-
ский 103, 206, 408Парфений Кумила, патриарх иеруса-
лимский 214, 626Паславский Яков, типограф 199, 307, 308Паславський И. В. 63, 64, 68, 136, 165,
173, 427, 456, 471, 476, 606Пекулицкий Симеон, композитор 174Пелагия Сеньковая Ковалевая 244Пельц Д. І. 620Пенько Юрий, купец 312Перетц В. Н. 484, 606Петр Великий, император 157, 203, 204,
278, 279, 398, 452, 505, 509, 592Петр Арсений 549Петр из Головска, купец 328Петр, хлопец-строитель 329Петрарка Франческо 545, 549, 561Петрахнович Николай, иконописец 300Петров В. 455, 606Петров Н. И. 45, 280, 606, 619Петров С. О. 620Петрушевич А. С. 16, 20, 23, 24, 26, 29,
32—34, 95, 97, 102, 194, 198, 220, 228, 230, 231, 276, 278, 398, 406, 408, 410, 457, 503, 518, 522, 547, 583—586, 606, 607, 619
Пивин Иосиф 546Пико делла Мирандола Джованни 561Пилипчук Р. 69, 178, 607Пилявец Л. Б. 64, 607Питирим, епископ (Нечаев) 165, 607Пихтович Иннокентий, архимандрит
Мелецкого василианского монасты-ря 270
Платон 546, 550Плетенецкий Елисей, архимандрит Ки-
ево-Печерской лавры 438Плутарх 534, 546, 550, 553Подвоев Андрей, член братства 239Подвоевожий Андрей, член братства
239Подтилецкий Иван, купец 202Покровский М. Н. 57, 607Половецкий Степан (Стефан), типо-
граф 199, 302, 305, 622Полонская И. М. 310, 373, 620Полонська-Василенко Н. Д. 59, 97, 444,
607Попелевич Донат 187Попель Гавриил 27Попов А. 79, 607Попович Григорий, мещанин львов-
ский 117Попович Ксения, мещанка львовская
117Порпорити 545Потестатио Ф. 551Потий Ипатий, митрополит киевский
240, 458, 469Потоцкая Анна, см. Могилянка (Пото-
цкая) АннаПотоцкий Павел 441Потоцкий Станислав, коронный гет-
ман 570Предтечевский Н. 607Прерембская Анна, см. Могилянка (По-
тоцкая) АннаПрисциан 545, 546Прихильный Амвросий, архитектор 299Пришляк В. В. 64, 607Прокл552Прокопович Александр, член братства
567Прокопович Иван, строитель 330Прокопович Павел, член братства 256,
319, 333, 353, 354Прокоповна Евстафиевая, жена члена
братства 241Псевдо-Василий I, император визан-
тийский 525, 542
641Именной указатель
Птасьник Й., см. Ptaśnic J.Публий Вергилий Марон 183Путятицкий Симеон (Самуэль), скуль-
птор 300Пясецкий Иван, священник 314Пясецкий Павел 564Пятницкий Иоанн, член братства 239
Равизий Иоанн 561Радзейовский Иероним, староста лом-
жинский 431Радзиминский Андриан 534, 552Радивиловский Антоний 173, 544, 549,
553Разумовские, род 214Разумовский Алексей 214Разумовский Кирилл 214Рамазанова Д. Н. 73, 607Рассмуссен К., см. Rassmussen K. Репнин-
Оболенский Борис Александрович, боярин 141
Рєзанов В. 187, 608Рибчинська Н. 69, 335, 608Римлянин Павел (Доминичи из Рима),
архитектор 299, 327, 328, 330Рифца Израилева, мещанка львовская
402Ровинский Д. А. 287, 620Рогатинец Иван Иванович, мещанин
львовский, сын члена братства Ива-на Рогатинца 560
Рогатинец Иван Кузьмич, член братст-ва 13, 23, 69, 70, 238, 239, 245, 330, 426, 453, 516, 531, 557—560, 587, 598
Рогатинец Кузьма Иванович, мещанин львовский, сын члена братства Ива-на Рогатинца 560
Рогатинец Кузьма, мещанин львовский 557
Рогатинец Юрий Кузьмич, член брат-ства 23, 39, 69, 70, 107, 127, 133, 238, 239, 426, 434, 453, 458, 516, 531, 557—560, 587, 598
Рогатинцовая Юрковая, жена члена братства 241
Рогожин Н. М. 439, 585, 608, 619
Рогоза Михаил, митрополит киевский 26, 101, 103, 114, 135, 163, 164, 174, 178, 180, 181, 197, 198, 240, 271, 278, 408, 418, 469, 504, 505, 593, 621
Роман, архимандрит Киево-Печерской лавры 204
Романович Григорий, член братства 114, 567
Рудкевич Теодор, учитель братской шко-лы 168, 174, 431
Ружинский Кирилл, князь 128, 146, 415, 438
Ружинский Роман, князь 240, 416, 438Ружицький Е. 63, 165, 456, 608, 619Румянцев Петр Александрович, князь
452Русянович Василий, член братства 323Русянович Григорий, член братства 111,
258, 322, 332, 334Русянович Иван 508Русянович Яков-Андрей, член братст-
ва 201, 262, 322, 332, 430Рутский Вениамин, митрополит киев-
ский 200
Сабелико М. А. 534, 545Савва, Преподобный 549Савелович Яний, член братства 152Савин Игнатий, учитель братской шко-
лы, про-поведник Успенской церк-ви 516
Савич А. А. 58, 82, 608Савич Марк, член братства 187Сагайдачный Конашевич Петр, гетман
украинский 117, 169, 399, 438, 522Садовский Г. 522Сазонов С. В. 275, 608Сазонова Л. И. 484, 485, 488, 489, 608Сакович Касиян 460Саллюстий 552Сантини Викентий, нунций 547Сапега Богдан, воевода минский 115,
240, 433, 438Саприка Дорофей, член братства 238,
239Сарбевский Мацей 565
642 Именной указатель
Сафиан Александр Стефанович, член братства 242
Сах Петр, горняк 327Сахнович Иоанн, член братства 239Сварник Г. І. 620Сварник І. І. 68, 608, 620Свенцицкий И. С. 32, 34, 40, 197, 204,
209, 510, 512, 518, 522, 529, 608, 609, 620
Свєнціцький І. С., см. Свенцицкий И. С. Свидерский Михаил, посол польский в
России 441Своровский Станислав, провизор Ону-
фриевского монастыря 313Святковский, священник Успенской
церкви 201Седларь Сачко, мещанин львовский 192Седларь Семен, мещанин львовский
162, 198, 613Семенович Василий, член братства 169Семянович (Симеонович) Петр, член
братства 258—260, 317, 334Сенкевич Дионисий, гравер 311Сенык С. 71, 609Сигизмунд I Старый, король польский
85, 94, 121, 274, 313, 411, 503, 504Сигизмунд II Август, король польский
85, 121, 139, 411, 498, 503Сигизмунд III Ваза, король польский
101, 103, 116, 121, 127, 146, 164, 197, 243, 271, 272, 278, 410—412, 416, 418, 434, 506, 507, 606
Сидорович Федор, протопсалт, учитель братской школы 174
Симон Борисовский, игумен Уневского монастыря 414
Синкевич Дионисий, гравер 199Синявский Адам-Николай, львовский
староста 333, 412Січинський В. 609Скабалланович Н. 53, 82, 609Скарга Петр 552, 564Сковорода Григорий Савич 164, 456, 597Скольский (Скульский) Андрей, типо-
граф 186, 187, 199, 200, 202, 205, 206, 213, 334, 422, 423, 621, 622
Скорина Франциск, типограф 525, 526, 534, 535
Скородинский Николай 215, 627Скочек Й., см. Skoczek J.Скрипник І. 452, 609Скрынников Р. Г. 275, 609Скумин Тышкевич Федор, воевода ново-
грудский 115, 129, 164, 202, 240, 433, 438
Слёзка Михаил, член братства, типо-граф 117, 199, 205, 206, 207, 213, 302, 305, 322, 341, 344, 348, 350, 422, 423, 429, 460, 486, 519, 544, 553, 563, 567, 619, 621, 622
Слонский Михаил, член братства 210, 497
Сметинский И. А. 609Смотрицкий Мелетий 176, 178, 190, 191,
453, 561, 564Собесский Константин Владислав, ко-
ролевич польский 333Соболь Спиридон, типограф 563Согникевич Зосима, проповедник 515Сокальский Стефан, член братства 250Сократ 546, 550Соловьев С. М. 37, 53, 81, 609Софронова Л. А. 184, 187, 609Спаська Л. І. 68, 586Спиридон, покупатель книг 342Срибний Ф. 21, 37, 38, 117, 152, 236, 239,
243, 586, 609Ставницкий Василий, типограф 199,
200, 259, 304, 305 307, 309, 623—625Ставницкий Петр, типограф 199, 303Ставницкий Семен (Симеон), типо-
граф 199, 200, 302—308, 361, 372, 376, 389, 622, 623
Ставровецкий Кирилл Транквилион 173, 177, 189, 191, 453, 456, 460, 604
Станислав Август Понятовский, король польский 264, 411
Старый Адам, товарищ-строитель 329Статорий Петр 534, 552Стеблій Ф. 68, 69, 174, 182, 598, 602, 614Стефан Баторий, король польский 85,
121, 278, 503, 506
643Именной указатель
Стефан Св. 186, 573, 574Стефан Хомич, мещанин львовский 114Стефанович Василий, см. Мрославский
Василий Степанович Стратій Я. М. 462, 599, 609Стрелецкий Андрей, член братства 106,
110, 254, 316, 322, 342, 343, 345, 347, 366, 506, 572
Стрилецкий Романа, член братства 119, 317, 328, 424, 508, 560, 561
Строев П. М. 164, 176, 212, 483, 620Студзинский Станислав, ротмистр, хо-
рунжий густынский 213, 348Студинський К. И. 39, 176, 454, 455, 596,
609Сувальский, студент 154Судейкин Любим, стольник, посол рус-
ский в Польше 444Сульпиций Север 552Сусальский, студент 192Сцевола Гай Муций 553Сычевская А. 184, 609
Тваровский Василий, член виленского братства 400
Теофил, священник 548Терлецкий, студент 154Терновский Ф. А. 45, 609Тетеря Павел, гетман украинский 240,
398, 438, 574Тимко из Яворова, ученик братской
школы 245Тимофей, патриарх константинополь-
ский 106, 269, 278Тисаровский Иеремия, епископ львов-
ский 103, 114, 139, 184, 409Титов Ф. И. 58, 483, 586, 609Тихолаз А. Г. 462, 599, 609Тітов Хв., см. Титов Ф. И. Ткачук М. Л. 462, 599, 609Тодийчук О. В. 610Толстой Ф. А., граф, библиофил 164, 176,
212, 483, 620Томазов В. 390, 610Томашивский С. 586, 610Томкевич Феодосий, член братства 119
Томпсон Э. П. 265Третяков, мещанин львовский 572Третяцкая, вдова мещанина львовкого
153Тромбетти Стефан, префект папской
коллегии 410Трофимович Исаия, учитель братской
школы 189, 191Турилов А. А. 610Турновский, ексарх патриарха 498Тучапский Макар Рафаилович, купец 94Тучапский Макарий, епископ львов-
ский 94, 223Тучинская Агнешка, владелиц бумаж-
ной мельницей в с. Зашково 311, 312Тучинский Викентий, викарий львов-
ский 311Тяпкин Василий Михайлович, посол
русский в Польше 441
Ужендов Мартин 559, 565Уваров А.С., граф, библиофил 176, 620Украинцев Емельян Игнатьевич, дум-
ный дьяк 279, 448Ундольский В. М. 369, 618, 620Устианович Иосиф, член братства 239Ушакевич Василий, гравер 199
Фаворський В. 58, 610Фатович Митрофан, прокурор епи-
скопской курии 546Федина Р. Й. 601Федор Алексеевич, царь 115, 278Федор Иоаннович, царь 114, 115, 278,
433, 505Федор, нищий 389Федор, священник 155Федоров Иван, печатник 17, 23, 32, 44,
95, 96, 162, 170, 171, 194—198, 222, 281, 282, 291, 292, 310, 400, 422, 423, 434, 482, 513, 519, 525, 526, 529—532, 534, 540, 558—560, 569, 583—587, 594, 595, 598, 600, 602, 605, 619
Федорович Матвей (Матияш), член братства 157, 317, 322, 323, 333, 340—342, 348, 357, 358, 508, 572
644 Именной указатель
Федорович Прокопий, член братства 239Федьков, маляр 298Фельштинский Себастиан 174Феодосий, игумен 278Феодосий, монах Уневского монастыря
515Феодосия, царевна 278Феолипт, патриарх константинополь-
ский 101Феофан, патриарх иерусалимский 103,
158, 190, 230, 408Феофилакт 534, 541Ференц, портной 351Ференцова, жена члена братства 153Ферро М. 265Фефелова О. А. 72, 610Филарет (Гумилевский Д. Г.) 48, 610Филипович Иван, типограф, гравер 199,
210, 214Филипп Волошин 569Филиппович Лаврин 135Фиоль Швайпольт, типограф 526, 534,
535Флеров И. 49, 53, 83, 148, 149, 224, 610Флоровский Г. В. 61, 62, 455, 456, 610Флоря Б. Н. 71, 82, 610Фома Аквинский 565Фомич Исаия, член братства 327Фонкич Б. Л. 67, 73, 165, 610, 611Франке Андрей, литейщик меди 300Франко И. Я. 39, 64, 183, 214, 454, 455,
456, 458, 586, 601, 611, 615Франко Н. 620Францишек, строитель 300Фрис В. Я. 69, 512, 611, 619Фубжецкий Иосиф, строитель 300Фучкович Федор, ремесленник 153
Харлампович К. В. 51, 160, 188, 198, 595, 611
Хедер Людовик 551Хмельницкий Богдан, гетман украин-ский 131, 254, 256, 452, 516, 584Ходыницкий И. 291Хойнацкий А. 419, 611Христиан 549
Христофор Филарет 515, 559Хрущевич 611Худаш М. 63, 611
Царёва Н. Н., см. Царьова Н. М. Царский И. Н., купец, библиофил 483,
620Царьова Н. М. 28, 586, 611Цезарь Гай Юлий 545, 553Целевич Ю. 452, 611Цицерон Марк Туллий 173, 534, 545, 549,
552, 553, 559, 564Цьорох И. И. 585, 611
Чаадаев Иван, окольничий, посол рус-ский в Польше 443, 446
Чаманский Степан, подвоевода львов-ский 117
Чарторыйская София, княгиня 475Чернецкий, студент 154, 192Чернущин, композитор 174Чесноковский Иван, член братства 262,
334Чижевский Д. И. 60, 455, 461, 606, 611Чоловский Иоанн, капеллан гетмана
украинского 256, 516
Шаваровский Федор, композитор 174Шанявский Феликс, викарий 270Шараневич И. И. 11, 12, 19, 23, 28, 30—32,
116, 117, 154, 158, 167, 168, 192, 193, 236, 237, 254, 256, 259—262, 274, 276, 279, 280, 314—316, 321, 326, 332, 399, 402, 403, 450, 503, 510, 518, 522, 571—573, 586, 587, 591, 592, 605, 611, 612, 617, 619
Шафранец Ян, товарищ-строитель 329Шевчук В. О. 459, 583Шелига Ян, типограф 564Шептицкий Афанасий, епископ львов-
ский 208, 210, 214, 274, 417, 419, 420, 586, 592, 625
Шептицкий Леон, епископ львовский 214, 586, 626, 627
Шервинский С. 183Шереметев Борис Петрович, боярин, по-
сол русский в Польше 443, 444, 446
645Именной указатель
Шляпкин И. А. 612Шмидт С. О. 162, 512, 6121, 613Шокотко В. 62, 612Шпангенберг Иоганн 174Шпанель Андрей, член братства 238Штейндорф Л. 275, 609Шумлянский Иосиф, епископ львов-
ский 31, 103, 143, 144, 207, 210, 259,409, 423, 429—431, 443, 447, 448, 450, 590, 611, 619
Шустова Ю. Э. 68, 159, 162, 194, 204, 244, 245, 302, 358, 377, 493, 495, 531, 566, 612—614
Щербатов Константин Осипович, князь 441
Эзоп 546, 553, 564Эйнгорн В. О. 203, 614Эразм Роттердамский 161Эпиктет 549Эсхил 186
Юзефович Томаш, каноник 270Юстин 545Юстиниан 552, 561
Яблонский Михаил, типограф 307, 308Яворский Стефан 553Яжевский, композитор 174Яковенко С. Г. 71, 610, 614Якович Анна, мещанка львовская 314Якович Павел, мещанин львовский 314Якубович Израиль, мещанин львов-
ский 195, 196, 422Ян II Казимир, король польский 116,
140, 254, 313, 323, 348, 411, 429, 506Ян III Собесский, король польский 142,
189, 207, 208, 260, 333, 385, 411, 431, 444 451
Ян, переплетчик 356Янович Павел, член братства 262Янушовский Ян 564Яременко В. 484, 586Яременко П. К. 63, 64, 136, 165, 427, 456,
614Яремковы, дети 153
Ярмолинская Прасковия Боговитивна 202
Ярошевич Гавриил, член братства 152, 557
Ясиновський Ю. П. 69, 174, 175, 614Ясіновська О. 80, 512, 523, 614Ясіновський А. 80, 614
Altbauer M. 276, 614
Badecki K. 512, 614Baltazar Opecij 532Barącz S. 561, 615Barnicot J. D. A. 203, 484, 615Barwiński E. 615, 618Bassi I. B. 73, 615Białobrzecki Martin 552Boniecki A. 119, 615Bostel F. 195, 587Bragone M. С. 75, 176, 615
Calepinus A. 565Chodynecki X. 56, 615Claus H. 618Cleonardi Nikolai 515Crołowski A. 615, 618
Deschamps J. 74, 615Dinzelbacher Hrsg. von P. 275, 603Dmitriev M. V., см. Дмитриев М. В. Dorohostajski K. M. 565Dubowicz J. 565Dupront A. 265, 615
Estreicher K. 187, 532, 618
Fedalto R. 80, 615Fiamingo R. 74, 615Fiorani L. 74, 615Fortescue A. 615Franco I., см. Франко И. Я. Frol J. 564
Gasparini G. 74, 615Geanakoplos D. J. 80, 615Gębarowicz M. 176, 618
646 Именной указатель
Gloger Z. 155Gorczyn J. A. 565Grasshoff H. 587Gretser J. 565Grimsted P. K. 618Guzman A. 73, 615
Harasiewicz M. 192, 615Hopkins D. E. 75Hurmuzaki B. 587
Isaievych Ia., см. Исаевич Я. Д.
Jakobson R. 170, 616Jakson W. A. 170, 587
Kasinec E. 484, 618Kętrsyński W. 618Kjellberg L. 484Kristiniacki I., см. Кристиняцкий И.Kumor B. 75, 616Kupisz Łukasz, типограф 565Kuźmak E. 75, 616
Legrand E. 616Loziński W. 56, 57, 92, 122, 212, 225, 243,
291, 616
Olszowski Hieronym 565
Mackenney R. 74, 616Meersseman G. G. 74, 616Meyers A. 75Milkowicz W., см. Милькович В.
Paree F. 56, 616Pawlikowski G. 618Piotrkowczyk Andrzej, типограф 565Pecalidis S. 161, 587Ptaśnic J. 57, 131, 145, 616
Rassmussen K. 439, 616Rothe H. 484, 616
Schnyder A. 74, 616Ševčenko I. 276, 614Simmons J. S. G. 203, 204, 484, 587, 615,
617Skoczek J. 156, 512, 516, 519, 532, 560, 561,
617Soares Cyprian S. J. 565Starowolski S. 564Steindorff L. 275, 617Struminsky B. 276, 484, 614, 618Syrenski Szymon 565Szaraniewicz I., см. Шараневич И. И.
Thomas Ch. 617Twardowski S. 564Tyrrell E. P. 204, 484, 617
Vauchez A. 73, 74, 617Vergara F. 565Vlasovsky I. 617
Wipszycka E. 74, 617Wiśniowska E. 75, 617Wynar L., см. Винар Л.
Zagórski W. 57, 617Zaremska H. 617Zbaracki Krzysztof 564Zimorowicz B., см. Зиморович Юзеф-Бар-
толомейZoric K. 74, 617Zubrycki D., см. Зубрицкий Д. И.
Bελούδος I. 80, 617Δημητρακόπουλος Φ. 75, 165, 617Мανούσακας М. І. 80, 618
список сокращений
АОИЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1848. Т. 3; СПб., 1851. Т. 4.
АОИЮЗР — Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1863. Т. 1; 1865. Т. 2.
АЮЗР — Архив Юго-Западной России. Киев, 1904.ВСИ — Временник Ставропигийского Института.ГИМ ОПИ — Государственный исторический музей в г. Москве. Отдел письмен-
ных источников.ЖМНП — Журнал министерства народного просвещения.ЗНТШ — Записки наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка.ЛИМ — Львовский государственный исторический музей.ЛНБ им. В. Стефаника НАН Украины — Львовская национальная библиотека
им. В. Стефаника Национальной Академии наук Украины.ПІФ — Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI — перша
половина XVII ст.): Збірник документів. Київ, 1975.ПКК — Памятники, Временною комиссией для разбора древних актов. Киев, 1852.
1-е изд.; 1898. 2-е изд.РГАДА — Российский государственный архив древних актов.РГБ. НИО РК (МК) — Российская государственная библиотека. Научно-исследо-
вательский отдел редких книг (Музей книги)ЦГИА Украины во Львове— Центральный государственный исторический архив
Украины во ЛьвовеЧОИДР — Чтения в обществе истории и древностей российских.ЮИЛСБ Юбилейное издание в память 300 летняго основания Львовского Ставро-
пигий ского братства. Львов, 1886.
DS — Diplomata Statutaria a Patriarchis Orientalibus Confraternitati Stauropigianae Leopoliensi a. 1586—1592 data, cum aliis litteris coaevis et appendice. Leopoli, 1895. T. 2.
MCS — Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis: Diplomata et epistolae Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis ab anno 1518 usque ad annum 1600 / Milkowicz W. Leopolis, 1895.
Юлия Эдуардовна Шустова
ДОКУМЕНТЫ ЛЬВОВСКОГО УСПЕНСКОГО СТАВРОПИГИЙСКОГО БРАТСТВА (1586—1788)
Источниковедческое исследование
Издатель А. Кошелев
Зав. редакцией М. Тимофеева
Корректор А. Полякова Оператор Е. Зуева
Оригинал-макет подготовлен И. Богатыревой Художественное оформление переплета С. Жигалкина
Подписано в печать 29.06.2009. Формат 70×100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Minion Pro Усл. печ. л. 19,2. Тираж 800. Заказ №
Издательство «Рукописные памятники Древней Руси».
№ госрегистрации 1067746430102. Phone: 95-171-95 E-mail: [email protected] Site: http://www.lrc-press.ru, http://www.lrc-lib.ru
Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис». Тел./факс: 8 (499) 255-77-57, тел.: 8 (499) 246-05-48, e-mail: [email protected]
Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.). Адрес: Зубовский проезд, 2, стр. 1 (Метро «Парк Культуры»)
Foreign customers may order this publication
by E-mail: [email protected]
Под
твер
жде
ние
конс
тант
иноп
ольс
кого
пат
риар
ха И
ерем
ии п
рав
Льв
овск
ого
брат
ства
.Д
екаб
рь 1
587
г. Ц
ГИА
в г.
Льв
ове.
Ф. 1
29. О
п. 1
. Д. 9
0
Ирмологий. Типограф Василий Ставницкий. Львов, 15 мая 1709.Оборот титульного листа. Колокольня Корнякта
Служебник. Львов, 14 апр. 1759. Титульный лист. Успенская церковьи колоколня Корнякта. Гравюра на меди И. Филиповича




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































![“Yu Laid out the Lands:" Georeferencing the Chinese Yujitu [Map of the Tracks of Yu] of 1136. Cartography and Geographic Information Science, Vol. 39, No. 3.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63205cf6c5de3ed8a70db1d5/yu-laid-out-the-lands-georeferencing-the-chinese-yujitu-map-of-the-tracks.jpg)

![]YU?mo'Ll - Pragjyotish College](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631584f86ebca169bd0b311e/yumoll-pragjyotish-college.jpg)