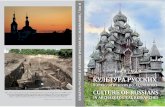культура русских в археологических исследованиях culture ...
Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое...
Transcript of Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое...
1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
На правах рукописи
Алешина Ольга Николаевна
СЕМАНТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЛИНГВОМЕТАФОРОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ (на материале русского языка)
Специальность 10.02.01 – русский язык
Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук
Научный консультант: доктор филологических наук
профессор Н. А. Лукьянова
Новосибирск 2003
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………… ГЛАВА ПЕРВАЯ. МЕТАФОРИКА КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОБЪЕКТ ОБЩЕЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРОЛОГИИ……………………………….
1. Объект метафорологии и краткая история его изучения……………………….. 2. Понятия общей и частной метафорики…………………….……………..………. 3. Лингвистические исследовательские подходы к описанию метафорики……… 4. Метафора как языковая универсалия..……………………………………………. 5. Специфика объектно-предметных приоритетов метафорологии…..……………
ГЛАВА ВТОРАЯ. СЕМАНТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА …………………...………………………………………………….
1. Моделирование как исследовательский метод лингвистической науки в свете проблем метаописания………………………………………………………………… 2. Логические основы описания метафоризации...…………………………………. 2.1. Дивиатологический подход……………………………………………………….. 2.1.1. Метафора как результат логической девиации..…………………………….. 2.1.2. Метафора как результат языковой девиации…………………………………. 2.2. Сущность метафоры и ее феномен..……………………………………………… 3. Семантическое моделирование как метод структурно-семантических исследований…………………………………………………………………………… 3.1. Общее понимание структурно-семантического лингвометафорологического исследования……………………………………………………………………………. 3.1.1. Объект структурно-семантического исследования…….……………………. 3.1.2. Семантическая структура слова и семная структура лексического значения: некоторые онтологические проблемы…………………………………….. 3.2. Тематическая и семантическая таксономии в лексикологических исследованиях. Тематическая классификация метафоризаторов…..……………….. 3.3. Семантическое моделирование метафоризации (кодирования и декодирования)…………………………………………………………………………. 3.3.1. Понятия “модель” и “моделируемый объект”..………………………………. 3.3.2. Параметры семантической модели метафоризации.………………………… 3.3.2.1. Направления метафоризации-декодирования..……………………………… 3.3.2.2. Мотивирующие перенос наименования признаки..………………………… 3.3.3. Матрица моделей и их формальная запись.………………………………….. 4. Модели русской субстантивной метафоризации-декодирования.……………… 4.1. Метафоризация номинаций первой семантической сферы.……………………. 4.2. Метафоризация номинаций второй семантической сферы.…………………… 4.3. Метафоризация номинаций третьей семантической сферы.…………………… 5. Понятие “метафорическая омонимия”.…………………………………………… 6. Результаты семантического моделирования русской субстантивной метафоризации…………………………………………………………………………. ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕМАНТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЛИНГВОМЕТАФОРОЛОГИИ………………………………….. 1. Применение результатов семантического моделирования в ассоциативно-когнитивных исследованиях. Метафорическое “мировидение” русскоговорящих.. 1.1. Понятия ассоциата и концепта…………………………………………………….
3
1.1.1. Ассоциаты и проблема естественной и лингвистической категоризации..… 1.1.2. Концепты……………………………………………………………………….. 1.2. Метафоризация как объект когнитивистики……………………………………. 1.3. Ассоциативно-когнитивный анализ результатов структурно-семантического описания русских субстантивных метафор.………………………………………… 1.4. Метафорическое “мировидение” русскоговорящих…..………………………. 1.4.1. Метафорический облик русского “внутреннего человека” (метафорические концепты и метафоры души и духа).……………………………. 1.4.2. Метафорический облик русского “внешнего человека” (метафорические концепты и метафоры общества)…………………………………………………….. 1.4.3. Метафорический облик русского “природного человека” (метафорические концепты и метафоры природы)……………………………………………………… 1.4.4. Метафорический облик русского “предметного человека” (“предметные”метафорические концепты и метафоры)……………………………. 1.5. Лингвоаксиологический анализ метафорических концептов и метафор……… 1.6. Возможности применения результатов ассоциативно-когнитивного анализа в интерпретационной лингвометафорологии.……………………………… 2. Применение результатов ассоциативно-когнитивного анализа русской субстантивной метафорики в лингводидактике и теории перевода……………….. 3. Применение результатов семантического моделирования в лексикографической практике………………………………………………………… 3.1. Формирование традиции лексикографического описания метафор.…… 3.2. Концепция толкового словаря метафорики..…………………………….. 3.2.1. Принципы организации и структура словарной статьи метафоры в специальном толковом словаре метафорики………………………………………… 3.2.2. Примеры использования результатов семантического моделирования в лексикографическом описании метафор…………………………………………….. 4. Выводы.…….………………………………………………………………………. ЗАКЛЮЧЕНИЕ..………………………………………………………………………. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК..……………………………………………….
ПРИЛОЖЕНИЕ.……………………………………………………………………….
4
ВВЕДЕНИЕ
Данная диссертация посвящена определению познавательных возможностей
метода семантического моделирования, применяемого в системных исследованиях русской метафорики.
Актуальность темы, цель и задачи исследования. В диссертации описываются результаты применения указанного метода при лингвистическом изучении русской метафоры.
Хотя моделирование — один из основных методов познания действительности и модели рассматриваются наукой как наиболее продуктивный способ представления знаний, тем не менее, ни межнаучных, ни узкоспециальных единых определений понятий “модель” и “моделирование” не существует. Более того, в современных исследованиях моделирование и модель регулярно описываются метафорически. Недостаточная разработка целого ряда объектных, предметных и метадискурсивных проблем, освещаемых в собственно метафорологических трудах, обусловливают актуальность выбранной темы и последовательность решения соответствующих объектных, предметных и метаязыковых задач.
Целью данного исследования является онтологизация возможностей семантического моделирования метафоризации и применение полученных результатов в междисциплинарных лингвистических описаниях русского метафорического материала.
Метафора как научный объект в русистике до сих пор не имеет непротиворечивого определения. За последние 70 лет, начиная с 30-х гг. ХХ в. – с периода, когда зарождается неудержимое номенклатурными дисциплинарными рамками стремление к познанию необычной, двойственной, ускользающей от всех природы метафоры, – о ней написано много1. Настолько много, что, с одной стороны, постепенно стала складываться легенда об априорной непостижимости метафорического объекта исследования, а с другой — ученые постепенно стали приходить к выводу о том, что метафорология как междисциплинарная наука вполне имеет право на существование.
1. Соответственно одной из главных задач диссертационного исследования стала систематизация понятийно-терминологического аппарата описания метафоры, а именно определение современных границ метафорологических объектов и содержания описывающих их базовых терминов: метафоризатор, метафора, общая метафорика, частная метафорика, лингвистическая метафорика, метафорический перенос, мотивирующий перенос наименования признак, метафорогенная деятельность, метафоризация-кодирование,
1 См., например, статью М. И. Панова “Эта неуловимая метафора (Обзор)” [1991].
5
декодирование 2 метафор, метафорический термин и термин-метафора, ассоциат, номинат-метафора, номинат-метафоризатор, метафорический концепт, метафорический омоним, метафорический вариант и некоторых др. Решение данной задачи представляется особенно важным, поскольку изучение одних объектов имеет давнюю традицию, что обусловлено их реальным существованием, другие же имеют статус объектов теоретических, и их “бытие” ограничено рамками особых исследовательских подходов.
2. Описание истории формирования перечисленных исследовательских объектов, их осмысления и собственно метаязыковой интерпретации определяет новый комплекс исследовательских задач, а именно: ретроспективное описание метафорологических объектов с опорой на достижения ведущих научно-исследовательских подходов, характерных для античной и медиевальной метафорологии, а также для метафорологии Нового времени и ХХ в. Нас интересует история формирования метафоры как специального исследовательского объекта (история взглядов, например, на поэтическую метафору освещается в монографии “Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания” [1994], но поэтическая метафора представляет собой только один из компонентов метафорики).
3. Частной задачей становится определение границ, объема, содержания и структуры понятия “метафорология” (общая метафорология и частная метафорология, в том числе и лингвометафорология). Как и любое другое, это понятие имеет свои границы и объем, предопределяемые объектно-предметными параметрами. Метафору трудно ограничить рамками ментально-языковой деятельности говорящего, в сущности, метафорогенная деятельность человека – это еще одно “то”, что отличает нас всех от прочих земных созданий, а сам термин “метафора” давно вышел за рамки поэтико-риторического употребления: как метафорические рассматриваются элементы ландшафта, предметы дизайна, исторические и социальные события, художественные стили и средства, направления в развитии информационных технологий и многое др. Именно всплеск всестороннего интереса к метафорогенной деятельности и механизму метафоризации, глубокое исследование различных ее сторон дали все основания А. Вежбицка, вслед за H. Blumenberg [1960], утверждать, что “метафорология” – это отдельная самостоятельная ветвь лингвистических исследований [Вежбицка 1990: 149]. Анализ ситуации в современной науке позволяет внести существенное дополнение: не только лингвистических, но и общенаучных. 2 Термин “декодирование” мы используем здесь и далее как дань традициям теории речевой коммуникации. Конечно же, целесообразнее было бы ввести термин “перекодирование”. Ср., например: “понимание есть процесс перекодирования, который позволяет осуществить переход от линейной структуры текста, образуемый последовательностью материальных знаков языка, к структуре его содержания” [Красных 2001: 228]. Подробнее см. гл. III нашей диссертации.
6
Современные отечественные исследователи метафоры полагают, что имеются все предпосылки создания специальной междисциплинарной науки – метафорологии, объектом которой является метафора в совокупности всех своих свойств и признаков [Староселец 1997], а обилие литературы, посвященной метафоре, свидетельствует о том, что фундаментальная наука выходит на новый этап осознания ее сущности [Толочин 1996].
4. Собственно лингвистическое изучение метафоры (лингвометафорология) имеет давнюю традицию, но ряд предметных проблем связан с общеметафорологическими. Лингвометафорология объединяет в своей предметной сфере целый ряд исследовательских подходов, и соответствующая проблематика связана с решением особого комплекса задач, а именно:
определение основных исследовательских подходов к описанию метафоры как лингвистического объекта. Особое внимание, на наш взгляд, требует анализ ассоциативно-когнитивных, интерпретационных (в том числе и герменевтических), лингвоаксиологических, лингводидактических и лексикографических направлений, однако наиболее актуальным по своим исследовательским возможностям является структурно-семантическое направление в лингвометафорологических исследованиях: результаты таких описаний могут быть применены при изучении метафоры, метафоризации-кодирования и декодирования со всех прочих исследовательских позиций.
6. Решение перечисленных выше задач позволяет подойти к рассмотрению
онтологических междисциплинарных возможностей структурно-семантического описания русской языковой метафоры через семантическое моделирование-декодирование результатов метафоризации. Постановка такой задачи предопределяется и рядом сопутствующих факторов: 1) в литературе непоследовательно разработан вопрос о моделях метафоризации-кодирования и декодирования метафор, 2) нет комплексного описания моделей, хотя моделирование как метод познания чрезвычайно актуально как в современной науке в целом, так и в лингвистике в частности. Как отмечает в своих работах Г. Н. Скляревская, современная лингвистическая теория метафоры только складывается [Скляревская 1989б; и др.], но многие отдельные вопросы в буквальном смысле решаются с античных времен. Выявление и системно-семантическое описание закономерностей метафоризации по-прежнему остается актуальной задачей. Ее решение даже на материале отдельных фрагментов лексических систем определенных языков может способствовать совершенствованию концепции системности языковой метафоры в целом [Скляревская 1993]. Современные ономасиологические исследования стремятся выявить системные связи, существующие между первичной номинацией и соответствующим семантическим дериватом, и, по словам В. К. Харченко, переносные значения имен существительных при всей их яркости и
7
уникальности характеризуются достаточно четкими системными связями, отражающими остаточную тематическую общность прямых значений [Харченко 1990], поэтому, предваряя анализ метафорического материала, мы обратимся к первичным номинациям, на основе которых возникают метафоры. Для решения поставленной задачи необходимо: 1) дать общую характеристику структурно-семантических исследований и их объекта, а также осветить ряд онтологических проблем, связанных со структурными свойствами объекта, и определить основы классифицирования единиц, формирующих описываемый объект; 2) определить задачи семантического моделирования метафоризации (кодирования и декодирования); 3) определить границы и объем понятий “модель” и “моделируемый объект”; 4) определить параметры семантической модели метафоризации (кодирования и декодирования); 5) выявить и описать модели русской субстантивной метафоризации-декодирования; 6) охарактеризовать результаты применения данного метода в структурно-семантических исследованиях.
7. Комплекс задач сформировало определение возможностей использования
результатов структурно-семантического описания русской метафоризации в ассоциативно-когнитивных, интерпретационных, лингводидактических и лексикографических исследованиях. По нашему мнению, не следует возводить теоретические барьеры между различными направлениями исследований разных сторон одного и того же объекта. “Онтология, гносеология, логика, языковая семантика и грамматика составляют те дисциплины, которые совместно должны участвовать в определении как общих законов выражения мыслительного содержания в языке, так и системы и структуры формальных средств, участвующих в коммуникативном процессе” [Колшанский 1976: 29]. На участке под названием “метафора” “взаимная каузация мышления и языка” (Г. Гийом) проступает наиболее ярко. Применение результатов семантического моделирования позволит детально и системно описать метафорическое “мировидение” русскоговорящих, унифицировать интерпретацию и лексикографическое описание метафорического материала. Соответственно, частными задачами диссертационного исследования станут следующие:
1) описать метафоризацию как объект когнитивистики и определить соответствующие метаязыковые единицы (базовый/исходный концепт, ассоциат, номинат-метафора, номинат-метафоризатор);
2) выявить на основе описанных нами семантических моделей базовые/исходные концепты, формирующие метафорическое “мировидение” русскоговорящих;
3) описать концептуальную метафорическую систему русскоговорящих на основе проанализированных номинатов-метафоризаторов;
8
4) определить возможности применения результатов моделирования метафор в интепретационных, лингвоаксиологических и лингводидактических исследованиях по русистике;
5) разработать концепцию унифицированного лексикографического описания русского метафорического субстантивного материала через эксплицирование результатов семантического моделирования метафоризации.
Научная новизна исследования. В диссертации впервые 1) структурированы области знания: общей и частной метафорологии,
определены и систематизированы объекты и структурированы предметные задачи лингвистической метафорологии. Рассмотрены соотношения “метафора как результат логической девиации vs метафора как результат языковой девиации” на русском метафорическом материале, охарактеризован онтологический статус метафоры, потенциальных сем, метафорического концепта и т. д.
2) Применен историко-эпистемологический подход к описанию метафорических объектов. Выделены четыре основных периода в формировании европейской метафорологии: античный, медиевальный, период Нового времени и современный, закономерно отражающие развитие европейских общенаучных тенденций. Определены основные достижения и объектные приоритеты метафорологических изысканий каждого периода. Описана характерная для каждого периода динамика границ метафоры как исследовательского объекта.
3) Определены границы понятий и введены соответствующие термины (метафорогенная деятельность, общая и частная метафорология, лингвометафорология, лингвометафорология кодирования и лингвометафорология декодирования, историческая метафорология, лингвоаксиология, метафорический объектный максимум, метафорический объектный минимум, метафорические универсалии и уникалии, общая и частная метафорика и их компоненты, метафоризация-кодирование (метафорообразование), метафоризация-декодирование, метафорическая энтимема, ложная метафора, реметафоризация, номинат-метафоризатор, номинат-метафора, базовые/исходные концепты “природный человек” и “предметный человек”), уточнены содержания терминов, прежде использованных нами [Алешина 1987, 1988, 1996, 1997, 2001а, 2001б, 2001в, 2001г, 2002а, 2002б и др.; Лагута 2003в] и/или другими исследователями: метафора, метафоризация, метафорология, лингвистическая метафорика, метафорический термин, термин-метафора, модель метафоризации, метафоризатор, моделируемый объект (собственно моделируемый и фактически моделируемый), типы метафорического переноса (метакатегориальный, категориальный, тематический), мотивирующие перенос наименования признаки (физические, консистенциальные,
9
функциональные, реализационные, динамические, квантитативные, реляционные, субъектно-психологические), метафорическая омонимия, метафорический концепт, номинат, ассоциат, демономорфизм, теоморфизм, исходные/базовые концепты “внутренний человек” и “внешний человек”).
4) Сформулированы цели и задачи семантического моделирования метафоризации, определены актуальность тематических объединений в русском субстантивном метафорообразовании, а также актуальность направлений русской узуальной метафоризации-декодирования в сфере исследуемых единиц, актуальность мотивирующих метафорический перенос наименования признаков и моделей метафоризации-декодирования для каждого таксономического подразделения и для проанализированного русского метафорического материала в целом.
5) На основе семантического моделирования метафоризации и анализа русской субстантивной метафорики детально описано эксплицируемое субстантивами метафорическое “мировидение” русскоговорящих. Продемонстрированы возможности использования результатов семантического моделирования в интерпретационных исследованиях: выявленные нами модели и ассоциативно-когнитивный анализ метафорического материала позволил “систематизировать” метафорическое “мировидение”, “зафиксированное”, например, в некоторых публицистических и гомилетических текстах.
6) Освещены возможности применения результатов семантического моделирования в лингвоаксиологических и лингводидактических исследованиях по русистике.
7) Описана история отражения метафор в отечественных лексикографических изданиях. На основе семантического моделирования метафоризации разработана концепция специального словаря метафор, сформулированы структурные принципы организации словарной статьи метафоры и метафоризатора в этом словаре.
Методы и приемы исследования. Поскольку работа посвящена конструктивному методу моделирования, его задачи и способы применения описываются отдельно во второй — пятой главах диссертации. Поставленная в исследовании цель определила использование многообразных методов и приемов исследования. Общие методы – сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, индукции, дедукции и т. д., а также научной интерпретации – сочетались с частнонаучными: структурными (системный и структурный анализ, таксономическое описание) и конструктивными (метод интроспекции и упомянутый выше метод моделирования). Ряд выбранных частных методик исследования непосредственно связан со структурно-семантическим описанием. Комбинаторность лексического значения слов, получившая широкое признание в лингвистике с 70-х гг. ХХ в., дала исследователям возможность объективно
10
считать компонентный анализ одним из наиболее признанных способов лексикологических исследований (Э. В. Кузнецова). Кроме компонентного анализа, в структурно-семантических исследованиях мы широко применяли контекстный (А. А. Уфимцева) и словообразовательный (И. С. Улуханов) виды анализа, а также количественные подсчеты. По замечанию А. А. Уфимцевой, в настоящее время в ранг метода лингвистических исследований возведено и использование словарных дефиниций как особого приема описания лексической семантики [Уфимцева 1984: 134]. Признавая, что семантическая структура слова эксплицируется через свою словарную дефиницию, и рассматривая отдельные части словарных толкований как показатели соответствующих сем (Д. В. Астраускайте), мы регулярно применяли метод словарной идентификации (Ш. Балли), в том числе и ступенчатой (Э. В. Кузнецова), а также лексический сравнительно-сопоставительный анализ.
Источники исследования. Решение поставленных задач осуществлялось на конкретном языковом материале, и эмпирическую базу исследования составили данные толковых словарей3 и контекстов из художественных, гомилетических и публицистических произведений.
1. Ядро эмпирической базы для нашего структурно-семантического описания составили материалы, полученные путем сплошной выборки из “Словаря русского языка в четырех томах” под ред. А. П. Евгеньевой (3-е изд.), а также материалы таких лексикографических изданий, как “Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук” под ред. Я. К. Грота (Т. I), его продолжение под ред. А. А. Шахматова (II–VIII тт.) и под ред. Н. С. Державина, В. И. Чернышева, Л. В. Щербы и др., “Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук в четырех томах” (2-е изд.), “Толковый словарь живого великорусского языка” В. И. Даля (3-е изд.), “Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х гг.”, “Новое в русской лексике: Словарные материалы” – 1977, 1978, 1979, 1980, “Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения” под ред. Г. Н. Скляревской, “Словарь эпитетов русского литературного языка” К. С. Горбачевича и Е. П. Хабло и некоторые другие издания (полный список лексикографических источников см. в разделе “Библиография”). Кроме того, в нашу картотеку вошли контексты Большой
3 Толковые словари как источники материала часто подвергаются критике. Бесспорно, что довольно часто словарные дефиниции строятся эмпирическим путем, иногда без учета системных отношений в лексике, и не всегда такие толкования выдерживают теоретическую проверку [Васенькин 1987], но, с другой стороны, толковые словари являются реализацией огромного лексикографического опыта и результатов теоретических исследований, поэтому их данные достаточно объективны даже для выделения семантических компонентов в значении слов [Цветков 1984; Астраускайте 1989].
11
Картотеки Словарного отдела ЛО Института языкознания АН СССР (в настоящее время это Большая Картотека Словарного отдела Института лингвистических исследований РАН (г. Санкт-Петербург)).
2. В качестве источников материала привлекались также периодические издания 1990–2002 гг. и данные картотек слушателей руководимого нами спецсеминара “Лингвостилистика и культура речи” (Новосибирский госуниверситет, 1993–2002 гг.), собранные ими в процессе работы над дипломными проектами4.
3. Для уточнения ряда значений и в качестве иллюстраций при описании формирования концептов “внутреннего человека”, “внешнего человека”, “природного человека” и “предметного человека” использовались русские переводы и/или материалы следующих изданий: Архиеп. Василий (Кривошеин). Ангелы и бесы в духовной жизни по учению восточных отцов // Книга ангелов. Антология. СПб.: Амфора, 2001; Архиеп. Лука (Войно-Ясенецкий). Дух, душа и тело. М.: Св.-Тихоновский Богословский Институт, 1997; Добротолюбие для мирян. М.: Издание Сретенского монастыря, 2000; Митр. Антоний (Сурожский). Жизнь. Болезнь. Смерть. Клин, 2000; Митр. Николай (Ярушевич). Сила любви. Избранные проповеди. М.: Правило веры, 2000; Отец Серафим (Роуз). Приношение православного американца. Платина (Калифорния): Братство Преп. Германа Аляскинского; М.: Российское отделение Валаамского общества Америки, 2001; Отечник. Сост. Св. Игнатий (Брянчанинов). М.; Минск: Харвест,
4 Рукописи: Варламов А. А. Экспрессивность лексики и фразеологии печатного политического текста в средствах массовой информации. Новосибирск: Новосиб. ун-т, 1998; Зайцева А. П. Стилистика специализированного автомобильного журнала “За рулем”. Новосибирск: Новосиб ун-т, 2000; Савина Е. В. Стилистика современных молодежных периодических изданий (на материале журналов “Птюч” и “Ом”). Новосибирск: Новосиб. ун-т, 2000; Попова А. П. Стилистика общественно-политических журналов в России и США (на примере журналов “Newsweek” и “Коммерсантъ-Власть” конца 90-х гг. ХХ в.). Новосибирск: Новосиб. ун-т, 2000; Ширяева А. Г. Зооморфизм как единица лексико-семантического уровня языка (на материале зооморфных систем русского и финского языков). Новосибирск: Новосиб ун-т, 2001; Прокофьева Т. В. Тропы и фигуры в экономических публицистических текстах. Новосибирск: Новосиб. ун-т, 2001; Скалий А. В. Онтолингвистическая интерпретация малых речевых жанров (на примере русских загадок в детских журналах). Новосибирск: Новосиб. ун-т, 2001; Кискина А. В. Эвфемия и табу в русском дискурсе и газетном тексте (1980–2000 гг.). Новосибирск: Новосиб ун-т, 2001; Новикова О. В. Структурно-функциональная характеристика русских неологизмов двух стилистических подсистем конца ХХ–начала XXI вв. (на материале газетного дискурса и компьютерного сленга). Новосибирск: Новосиб. ун-т, 2002; Мурга Н. А. Субстантивная метафоризация в немецком и русском языках (сопоставительный аспект). Новосибирск: Новосиб. ун-т, 2002; Кузьмина М. А. Метафоризация в сфере прилагательных итальянского языка (в сопоставлении с русским языком). Новосибирск: Новосиб. ун-т, 2002; Семенова А. А. Субстантивная метафоризация в итальянском и русском языках (сопоставительный аспект). Новосибирск: Новосиб. ун-т, 2002.
12
2000; “Поучения и беседы Преп. Серафима Саровского”. М.: Правило веры, 1999; Преп. авва Дорофей. Душеполезные поучения. Св.-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994; Преп. Иоанн Лествичник. Лествица. СПб.: Светослов, 1998; Преподобный Силуан Афонский. Издание Патриаршего Ставропигиального Монастыря Св. Иоанна Предтечи (Великобритания, Эссекс, 1990); Путешествие в микрокосм одним из новых Пифагоровых последователей // Невинное упражнение. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1763. Месяц генварь; Св. Прав. Иоанн Кронштадтский. Мысли христианина. М.: Правило веры, 2000; Св. Тихон Задонский. Наставление о собственных всякого христианина должностях. М.: Правило веры, 1998; Св. Тихон Задонский. Сокровище духовное, от мира собираемое. М.: Правило веры, 2000; Св. Феофан Затворник. Письма о духовной жизни. М.: Правило веры, 1996. Вся картотека насчитывала более 3000 прямых номинаций и около 6500 метафорических словоупотреблений, образованных на их основе.
Теоретическая и практическая значимость работы. В дальнейших исследованиях метафор представляется целесообразным учитывать следующие теоретические и фактические положения, рассматриваемые в данной диссертации.
1. Объект метафорологии — метафорика, включающая как результаты метафорогенной деятельности человека, так и все механизмы этой деятельности (нейрологический, синестетический, когнитивный, коммуникативный), — может получить максимально адекватное эпистемологическое описание только инструментариями всех наук. При этом можно учитывать предлагаемое в диссертации определение современных границ лингвометафорологических объектов и содержания базовых терминов, описывающих данные объекты: метафоризатор, метафора, общая метафорика, частная метафорика, лингвистическая метафорика, метафорический перенос, мотивирующий перенос наименования признак, метафорогенная деятельность, метафоризация-кодирование, декодирование метафор, ассоциат, номинат-метафора, номинат-метафоризатор, метафорический концепт, метафорический омоним, метафорический вариант и некоторые др.
2. В диссертации определяется, что лингвометафорология имеет тесные гносеологические связи с метафорологией логической, поскольку все современные семантические лингвистические теории восходят к логическим теориям значения, а потому, чаще всего, избирают своим объектом единицы лексического уровня. Именно благодаря общему прошлому лингвистические теории метафоры долгое время развивались как теории метафорического слова (чаще всего имени, и только в последнее время макрообъектом лингвометафорологии стала коммуникативная метафорика). Предлагаемый в диссертации логический анализ метафорических энтимем позволяет более
13
последовательно осуществить семантическое моделирование метафорического материала.
3. В диссертации разработаны теоретические основы применения метода семантического двухпараметрового моделирования при описании обширного участка русской метафорики.
4. Данное диссертационное исследование, на наш взгляд, имеет фактическую и практическую ценность, поскольку в нем:
1) разработаны принципы лексикографического толкования субстантивного метафорического материала в специальном Словаре метафорики и приведены примеры использования результатов модельного описания метафор в лексикографической практике;
2) определена ассоциативно-когнитивная система метафорического “мировидения” русскоговорящих, результаты описания которой могут быть использованы в лингводидактических целях;
3) привлечен, систематизирован и описан новый для русистики фактический материал из лексикографических источников, публицистических текстов и разговорной речи. Кроме того, при описании формирования базовой концептуальной системы впервые широко привлекались данные из гомилетических и некоторых агиографических текстов.
Основные положения, выносимые на защиту. Метафорология как наука и лингвометафорология как ее раздел к настоящему моменту имеют свою историю, свой объект, предмет, постижение которого реализуется с помощью множества исследовательских подходов, т. е. вполне отвечают номенклатурным требованиям, предъявляемым ко всем специально выделяемым областям знания.
1. При постижении своих объектов метафорология и лингвометафорология в ее составе должны развиваться не в направлении “от общего — к частному”, а в направлении “от частного — к общему”. Только глубокое всестороннее исследование национальных метафорик, особенно их языковых “участков”, а также изучение истории формирования конкретных национальных метафорических систем позволят описать общую метафорику, т. е. универсальные законы метафорогенной деятельности человека и систему результатов этой деятельности.
2. Наиболее эффективным методом описания метафорических объектов является метод семантического моделирования.
3. Структура лексического значения метафоризатора определяется и внеязыковыми, и внутриязыковыми факторами, из которых наиболее важными являются внеязыковые, поскольку референциальный критерий в отношении выделяемых в лексическом значении слова семантических компонентов не всегда срабатывает: язык — не видеозапись внутренней и внешней действительности, многое он фиксирует обязательно, многое умножает в своей фиксации, отражая
14
не единожды, но многое и пропускает, не удостаивая специальных средств выражения. Это подтверждается и общеизвестным фактом: “донором” для метафорической “картины мира” часто становится консервативная мифическая “картина мира”, а не естественнонаучная. Внутриязыковые факторы представляют собой связи, существующие между лексическими единицами и “принимающие участие” в формировании новых лексических значений, в развитии семантических дериватов, т. е. являющиеся “порождением” самой языковой системы.
4. Центральным понятием при описании метода моделирования является понятие моделируемого объекта. Ментальные операции, а моделирование относится именно к таким операциям, возможны не с объектом — фрагментом реальной или воображаемой действительности — как таковым, а с понятием о данном объекте, поскольку объекты “отражаются” мышлением человека в понятиях. Поэтому при моделировании с о б с т в е н н о м о д е л и р у е м ы е о б ъ е к т ы — фрагменты окружающего реального (или ирреального, выдуманного) мира — не участвуют в процедуре, а участвуют понятия, различные по своему содержанию (ф а к т и ч е с к и м о д е л и р у е м ы е о б ъ е к т ы, в нашей терминологии). Фактически моделируемым объектом оказывается частное понятие (в нашем случае — понятие о метафоре как единице метафорики: языковой, ментальной и проч.), отражающее естественный объект в его общих и существенных признаках.
5. Определение границ фактического моделируемого объекта выявляется в результате применения целого ряда логических приемов — сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения, которые предшествуют моделированию. Только четко очертив границы моделируемого объекта-понятия, исследователь переходит к собственно моделированию. В то же время процедура определения границ моделируемого объекта не является моделированием, и именно поэтому не могут заменять моделирование и все логические операции с фактически моделируемыми объектами: обобщение — категоризация, ограничение, деление, классифицирование и расчленение, определение, а также перечисление результатов этих операций.
6. Семантическое моделирование метафоризации не соотносится с этапами метафоризации-кодирования (метафорообразования), а представляет собой описание параметров моделирования самого процесса метафорической декодировки. И хотя в известных нам исследованиях метафорообразование и декодирование метафор специально не разводятся, очевидно, что их нельзя смешивать.
7. Метафорообразование, осуществляется в несколько этапов: 1) вычленение нового объекта-референта, требующего особого обозначения; 2) соотнесение этого объекта с другим/другими, уже известными; 3) вычленение инвариантного
15
признака/признаков у нового и известного/известных объектов и, соответственно, выбор объекта, номинация которого будет в дальнейшем участвовать в метафорообразовании с одновременным “игнорированием” других объектов, обозначения которых могли бы также участвовать в метафоризации-кодировании (существование гипотетической “неединственности” такого выбора подтверждается данными исследований по онтолингвистике и теории перевода); 4) обозначение нового объекта-референта (а впоследствии, возможно, и всего соответствующего денотативного и/или сигнификативного ряда) уже имеющимся именем известного объекта на основе типовых сценариев и т. д. При моделировании метафорообразования “исходная понятийная сфера” не может быть на первом месте, но она оказывается на нем при описании декодирования метафор.
8. Моделирование метафоризации-кодирования (метафорообразования) возможно только через выявление моделей метафоризации-декодирования. Определив наиболее актуальные при декодировании метафор параметры моделей, понаблюдав за речевой эмпирикой, мы можем предположить, что новые метафоры, скорее всего, станут фактами языковой системы, если будут образованы по тем же моделям, по которым декодируется большинство метафор данного языка. Под метафоризацией-кодированием понимается когнитивный процесс, результат которого эксплицируется в коммуникативном поведении человека, в том числе и в языке. Лексическая метафоризация-кодирование — это формирование у лексемы метафорического значения по определенной семантической модели, выявляемой только в результате анализа моделей декодирования, свойственных другим, уже существующим в языке, метафорам. Метафорический ЛСВ (метафора) возникает на основе актуализации потенциальных сем производящего номинатива как следствия выбора определенных параметров такой модели метафоризации-кодирования. Понятие о метафоре как об исследовательском объекте, таким образом, позволяет считать ее результатом реализации определенной модели метафоризации-кодирования, и все выявленные модели представляют собой научные конструкты.
9. Анализ языковых метафор, определение общих для всех языков и индивидуальных для конкретного языка моделей метафоризации-кодирования и декодирования позволяют выявить те инвариантные “модели смыслопорождения” и “модели смысловосприятия” (метафорические универсалии), которые максимально приближены к априорному фонду и могут считаться в большей степени следствием естественной, а не лингвистической категоризации.
10. Когнитивный анализ русского субстантивного материала позволяет сделать вывод о том, что метафорический “мир” русскоговорящих формируется на основе четырех базовых/исходных концептов: 1) “внутренний человек”,
16
2) “внешний человек”; 3) “природный человек” и 4) “предметный человек”. Данные исходные концепты можно охарактеризовать как метафорические, но их метафоричность выражается в процессе их формирования, а для носителей языка реальность обычного человека и, например “внутреннего”, одинаково объективна. Поэтому имеет смысл вводить определение “метафорический” только в случаях описания истории возникновения данных единиц.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры общего и русского языкознания Новосибирского госуниверситета (1999—2002 гг.), на заседаниях Объединенного специального семинара аспирантов кафедры общего языкознания Новосибирского госуниверситета и Института филологии СО РАН (1989—1991 гг.), на специальном совместном заседании сотрудников Института филологии СО РАН и членов кафедры общего и русского языкознания, кафедры древних языков и кафедры языков и фольклора народов Сибири Новосибирского госуниверситета (май 2002 г.), на научных конференциях: “Гуманитарные исследования: итоги последних лет” (Новосибирск, Новосибирский госуниверситет, 1997 г.); “Наука. Университет. 2001. Вторая научная конференция преподавателей и студентов” (Новосибирск, Новый Сибирский университет, апрель, 2001 г.), “Методологические основания современной филологии: материализм и идеализм в науке” (Калининград, Калининградский госуниверситет, июль, 2001 г.); на IV и V региональных семинарах по проблемам систематики языка и речевой деятельности (Иркутск, Иркутский государственный лингвистический университет, сентябрь, 2001 г., 2002 г.); на Международном конгрессе “Русский язык: исторические судьбы и современность” (Москва, Московский госуниверситет, март, 2001 г.); на Научных чтениях, посвященных Дням славянской письменности и культуры, в Новосибирском госуниверситете 20—21 мая 2002 г.
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав основной части, Заключения, раздела “Библиография” и Приложения.
В Введении формулируются цель и задачи исследования, определяются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, кратко характеризуются методы исследования, определяется круг источников, формулируются те положения исследования, которые выносятся на защиту.
Первая глава диссертации «Метафорика как исследовательский объект общей и лингвистической метафорологии» вводит читателей в круг общеметафорологической проблематики. Общеметафорологические теоретические проблемы всегда прямо или косвенно влияют на возможности собственно лингвистического метаописания. В данной главе рассматривается, что представляет собой метафорика как объект метафорологии, описывается краткая история его изучения, определяются понятия общей и частной
17
метафорологии, приводятся лингвистические исследовательские подходы к описанию метафоры, определяется специфика объектно-предметных приоритетов метафорологии, характеризуются трудности в разрешении проблемы изучения метафор.
В последующих главах излагается то новое, что было выявлено в ходе исследования. Во второй главе “Семантическое моделирование: общая характеристика” определяется онтологическая близость моделирования и метафоризации, характеризуются логические основы описания метафоризации (метафора рассматривается как результат логической и языковой девиации), дается общее понимание структурно-семантического лингвометафорологического исследования (в том числе рассматриваются некоторые онтологические проблемы, связанные с описанием семантической структуры слова и семной структуры лексического значения, определяются понятия “модель” и “моделируемый объект”, характеризуются параметры семантической модели метафоризации), описывается сам метод исследования и возможности его применения на русском материале, строится тематическая классификация русских субстантивных метафоризаторов, определяются наиболее активные модели русской субстантивной метафоризации-декодирования, характерные для каждой тематической группы.
Основной целью третьей главы «Возможности применения результатов семантического моделирования в теоретической и практической лингвометафорологии» стал анализ применения полученных результатов семантического моделирования в ассоциативно-когнитивных исследованиях. В этой главе подробно описываются выявленная на основе семантического моделирования система русских метафорических концептов и соответствующие метафоры, характеризуется применение результатов семантического моделирования в лингвоаксиологических, лингводидактических и лексикографических исследованиях.
В Заключении работы подводятся итоги исследования и формулируются основные выводы по результатам применения семантического моделирования в лингвометафорологии.
Диссертация сопровождается обширными библиографическими списками по метафорологии, собранными за все годы работы автора над темой исследования (1985–2003 гг.) и составленными в хронологическом порядке в целях отражения последовательности развития исследовательской рефлексии, сопутствовавшей определению такого сложного объекта, как метафорика. Составление библиографических списков по проблемам общей метафорологии и ее частных разделов является одной из важных задач, которые автор ставит перед собой. К сожалению, в нашей стране нет библиографических ориентиров подобного рода, хотя в целом следует признать, что общее количество созданных в ХХ в. трудов,
18
так или иначе посвященных изучению метафоры в разных науках, впечатляет. Все это служит косвенным доказательством того, что целесообразно выделить метафорологию в самостоятельную область научного знания. За рубежом неоднократно выходили специальные библиографические сборники, отражающие ситуацию с изданиями по метафорологической тематике [Shibles 1971; Metaphor 1985, 1991; и др.]. Объемные библиографические списки можно найти и в [Philosophical Perspectives on Metaphor 1981; Баранов 1992—1993], мы же предприняли попытку собрать имеющуюся библиографию по изучению метафоры в самых разных научных областях, в целом доступную для отечественного исследователя, имеющего, кроме того, возможность пользоваться Интернет-ресурсами.
В Приложении к диссертации даны таблицы с количественными данными, позволяющими уточнить представление о русской субстантивной метафорике.
19
ГЛАВА ПЕРВАЯ МЕТАФОРИКА КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОБЪЕКТ ОБЩЕЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРОЛОГИИ
В данной главе мы дадим общую характеристику исследовательского объекта
общей и лингвистической метафорологии. Метафорология рассматривается нами как самостоятельная научная дисциплина. Известно, что наука представляет собой такую сферу человеческой деятельности, основной функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности. Уже имеющаяся научная информация о метафоре, на наш взгляд, вполне может быть описана в рамках специальной научной области. Желая того или нет, при любом научном описании метафоры исследователи
сталкиваются с ее метафорическим же “опредмечиванием”. Метафорика – исследовательский объект – становится метафорическим “предметом”, у которого, как у любого реального предмета, есть стороны и грани, есть прошлое и перспективы, есть структура, свойства, функции и т. д., иначе говоря, метафоры описываются через самих себя. Метафорические объекты могут исследоваться в ходе решения разных предметных задач, которые мы условно объединяем в следующие группы.
1. Задачи эссенциалистского направления, ориентированного на изучение природы и сущности метафоры, входят в предмет философской и логической метафорологии и – значительно реже – когнитивистики.
2. Задачи атрибутивного плана связаны с изучением свойств метафоры и входят в сферу предметных интересов лингвистики, когнитивистики и герменевтики.
3. Каузальную сторону метафорики пока исследуют только историки языка, культуры, этологии.
4. Задачи структурного плана реализуются в рамках когнитивистики и интерпретационной семантики.
5. Изучением функциональной стороны использования метафор занимаются представители герменевтики (и литературоведения) и теории речевой коммуникации. Полиаспектное и наиболее полное описание метафорические объекты
получают в традиционно выделяемых лингвистических науках, однако целый ряд предметных задач решается и в других научных сферах, а именно в рамках философской, логической и психологической наук. Рассмотрим, что представляет собой метафора как исследовательский объект и какова история ее изучения.
20
1. Объект метафорологии и краткая история его изучения Любое определение метафоры всегда является тавтологичным, поскольку
содержит толкование по кругу: как известно, метафора – это “перенос наименования”, но толкование “перенос наименования”, собственно говоря, само является генетической метафорой5 и требует дополнительных пояснений, так как не ясно, что представляет собой этот “перенос наименования”. Определение объекта метафорологии усложняется еще и тем, что метафорой можно назвать не только любое речевое высказывание / текст с так называемым переносным смыслом, метафоричными могут быть вся деятельность человека и его постижение окружающего мира, хотя, как отмечали Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей книге “Метафоры, которыми мы живем” [Lakoff & Johnson 1980a], вывод о том, что наша обыденная понятийная система метафорична по своей сути, опирается только на лингвистические данные, и только благодаря языку человек получает в свое распоряжение метафоры, структурирующие его восприятие, мышление и поступки. В то же время метафоры как языковые выражения обретают речевую “плоть” именно потому, что существуют особые ментальные сущности – метафорические концепты в самых глубинных основах понятийной системы человека. Следовательно, если метафорические выражения языка системно связаны с метафорическими понятиями, мы можем обратиться к первым, чтобы исследовать природу вторых и уяснить тем самым метафорическую природу наших действий [Там же].
История изучения метафоры как объекта позволяет нам полнее охарактеризовать его. Мы разделяем мнение известного французского историка наук о языке С. Ору [2000], автора крупного международного проекта “История лингвистических идей”, относительно приоритета историко-научных исследований при описании научных объектов и метаязыков и предлагаем рассмотреть, что представляет собой метафора с позиций историко-эпистемологического подхода.
5 Исследователями отмечалось, что префикс мета- необходимо понимать не только в
пространственно-временном значении ‘после’, ‘за’, ‘над’, ‘через’, но и в смысле ‘совместно’, ‘сообща’, с учетом смыслового оттенка ‘обращения’ на самое себя. При таком онтологическом понимании “метафора” может быть прочитана не как некий необязательный пере-нос, транспортирование (мы бы добавили “пере-вод”, “пере-дача” и все прочие интерпретации отсупинного существительного translatio, -onis, если использовать латинскую кальку вместо греческого эквивалента. – О. А.) какого-либо постороннего груза с одного изолированного места на другое каким-либо единственным субъектом, но как “соотношение” или тождество “носителя” или “носимого”. “Метафора” есть не только “пере-нос”, но и “взнос” нового элемента во всеединство, который принимается в тотальность целого, оставаясь самим собой [Романенко и Чулков 1997].
21
На основе анализа трудов, посвященных изучению метафоры, мы выделили четыре основных периода в формировании европейской метафорологии: античный, медиевальный, период Нового времени и современный, закономерно отражающие развитие европейских общенаучных тенденций. Следует принять во внимание, что западноевропейская гуманитарная мысль в течение тысячелетий не учитывала достижений философских и риторических трудов, созданных за пределами своей цивилизации, и только в ХХ в. исследователи начинают серьезное и глубокое изучение богатейшего наследия философов и лингвистов Востока, прежде всего, древнейших из них – индийских и китайских. Естественно, в нашей периодизации учтены работы, созданные в границах западноевропейского культурного ареала, к которому, по сложившейся традиции, относят также североамериканский и русско-азиатский регионы.
I. Античная метафорология. В лингвистике, как, вероятно, и в любой другой науке, существует целый ряд “предметных мифов”, и один из них – эпистемологический приоритет современных форм знания. Применительно к выбранному нами объекту этот миф может быть выражен следующим образом: онтологически связанные языковые категории “метафора”, “метафоризация”, “метафоричность” получают свое развернутое таксономическое описание только в ХХ в. в рамках терминосистем общей тропологии, лексической семантики, психолингвистики и когнитивистики. Обычно исследователи просто констатируют приоритет Аристотеля в
определении метафоры как элемента поэтики6, однако круг метафорологических вопросов, решавшихся в античности и позже – в средневековый период, – значительно шире. Спектр предметных задач ранней метафорологии описывается нами в [Лагута 2003в и др.]. В период античного синкретизма наблюдается зарождение нескольких
исследовательских подходов к описанию метафоры и, прежде всего, “эстетико-пуристского”, что полностью соответствовало идеологии поэтико-риторических работ того времени: “говорить изящно – значит говорить, высказывая мысль наполовину, но так, что другая ее половина слушателям и без того понятна” [Анаксимен 1996: 181]. При этом в поэтико-риторическом учении древних метафоре отводилось центральное место, а ее использование обязательно получало оценку (как и вообще речевое поведение этоса, например, аристотелевского “человека гордого”, полностью вмещавшего в себя все необходимые этические идеалы-регулятивы). К метафорическим античные философы относили “такие слова, которые ввиду
сходства переносятся с одного предмета на другой” [Цицерон 1996в: 231], иначе говоря, метафора – это слово, и именно в статусе языковой единицы такого 6 Освещение частных вопросов античной теории метафоры см. в [Вremer 1980].
22
уровня она впервые и надолго получает свое определение. Метафора отождествляется со словом, и классическая теория метафоры тесно привязывает ее к этой трудноопределяемой сущности. Отсюда многие более поздние проблемы теории метафоры, в том числе и жесткая связь этой теории с ограниченным набором частеречных объединений. Именно поэтому в ХХ в. широко изучается глагольная и именная метафоризация в разных языках, но почти не исследуются деривационные – метафорические в своей основе – процессы между так называемыми знаменательными и служебными частями речи, падежная метафоризация, метафоризация в кругу грамматических форм наклонений и времен и т. п. Более того, метафорической основе таких языковых явлений, как модальность, каузальность, исследователи вообще редко уделяют внимание (исключение составляют, например, работы [Talmy 1985; Крейдлин 1994; Лабутина 1997, 1998] и опыт описания грамматического строя языка в терминах ассоциативных связей в “Ассоциативной грамматике русского языка” Ю. Н. Караулова [1993]), хотя сами метафорологи отмечают “тропеичность” когнитивных систем как основ систем языковых (ср.: “everyday abstract concepts like time, states, change, causation, and purpose also turn out to be metaphorical. The result is that metaphor (that is, cross-domain mapping) is absolutely central to ordinary natural language semantics” [Lakoff 1992: 4]). В античной метафорологии собственно метафорой считается только та,
которая “в высокой степени обладает ясностью, приятностью и прелестью новизны, и перенять ее от другого нельзя” [Аристотель 1996б: 188]. Впоследствии, в философской и лингвистической метафорологии ХХ в., новизна, или свежесть, метафор станет своеобразным конституентным признаком этих единиц (см., например, работы H. Blumenberg), а само понятие “языковая метафора” будет вызывать много дискуссий в силу своей контекстной обусловленности. Не случайно Аристотель настаивал на том, что “особенно важно быть искусным в метафорах, так как только этому одному нельзя научиться у других; эта способность служит признаком таланта. Ведь создавать хорошие метафоры, значит, подмечать сходство” [Аристотель 1996а: 186]. Метафора изначально рассматривалась исключительно как украшение речи, объект эстетического любования, т. е. как троп, обладающий большой эстетической ценностью, поскольку “сообщает речи известный блеск”, но в то же время к ней предъявлялись требования быть “скромной” (Феофраст. Цит. по [Цицерон 1996г: 229]) и “переходить с достаточным основанием на сходный предмет, дабы не казалось, будто она без разбора, необдуманно и жадно перебежала на совсем несхожий предмет” [Риторика к Гереннию 1996: 228]. Это наблюдение впоследствии выразилось в лингвистической идее об обязательном сходстве как сравниваемых в целях метафоризации денотатов, так и впечатлений, полученных от эмпирического знакомства со “сравниваемыми предметами”.
23
Метафора, таким образом, представляет собой “как бы заимствования, когда то, чего нет в нашем распоряжении, приходится занимать на стороне”7 [Цицерон 1996а: 230]. В античных поэтиках и риториках были поставлены и по-своему решены
некоторые “вечные вопросы” метафорологии: каковы цель создания метафор, причины метафорогенной деятельности, границы метафоры как языкового явления, в чем заключено различие между метафорами и сравнениями. Отмечалась необходимость успешного декодирования метафор как условия их закрепления в языке. Именно в античных трудах были представлены и первые попытки классифицирования метафор, а также установлены правила и стилистические границы их использования (подробнее об этом см. в [Лагута 2003б, 2003в]). Диалектика между логическим и образным мышлением античных философов
неоднократно отмечалась исследователями. По мнению медиевиста С. С. Неретиной, тропы, введенные в философию как термин Аристотелем, связывались им с обозначением формы силлогизма, логической фигуры или модуса8 , что естественно, поскольку поэтика входила в состав философии, а тропы, разумеется, входили в ее состав. Тропологическое предполагало логическое и наоборот, как необратимость определений (в метафоре), так и обратимость, благодаря чему все пространство речи, в том числе и философской, оказывалось синхронно связанным, поскольку тропологические формы переходили одна в другую и при разных сторонах внимания воспринимались то как метафора (ассоциация по сходству), то как метонимия (ассоциация по смежности), то как оксюморон (совпадение противоположностей, производящее эффект преображения, эвристики при столкновении разных логических суждений относительно одного и того же), то как ирония (разворачиваемая в поле осознания ошибки или неправильности суждения) [Неретина 1999]. Философская мысль последующих эпох, за исключением современной, стремилась возвести непреодолимую стену между логическим и тропологическим мышлением. К V в., когда античная традиция прекратила свое существование, имелось
уже развернутое, достаточно стройное метафорологическое учение (в рамках общего тропологического), предметный интерес которого охватывал целый ряд как собственно лингвистических, так и общих эпистемологических проблем. Основные теоретические положения этого учения получили 7 При таком подходе к метафоре мы можем анализировать ее как любое заимствование, но только “внутрисловарное”. С этой точки зрения интересен и вопрос о реальных заимствованных метафорах. 8 Логический анализ метафорообразования и декодирования метафор до сих пор используется в метафорологии, поскольку современная лингвистическая теории метафоры «базируется» на логической (см. гл. II данной диссертации).
24
дальнейшую разработку только в ХХ в., и лишь немногие их частные решения – как правило, нормативно-кодификаторского плана – были переняты составителями средневековых риторик.
II. Медиевальная метафорология. В трудах средневековых риторов теоретические вопросы метафорологии практически не получают должного освещения, хотя многообразные свойства тропологии лежат в основании самого медиевального философствования. Это, в частности, и позволило С. С. Неретиной рассматривать тропы как основной способ средневекового мышления, связанного с модальностью и этическими характеристиками средневекового знания: в силу сотворенности мира Богом, соответственно в силу откровенности знания, любое точнейшее логическое рассуждение оказывается рассуждением вероятным. Формально-логическое знание уступило место знанию, которое можно было бы назвать медитативной диалектикой. Способом “представления” медитативной диалектики стали тропы [Неретина 1999]. Медиевальность как совокупность отличительных мировоззренческих черт,
особенностей мышления и мировосприятия средневекового человека отразилась практически во всех типах текстов средневекового периода. С наступлением ренессансного периода медиевальный тип мышления не исчез полностью. По своим методологическим основам риторики эпохи Возрождения не отличаются от риторик предшествующего периода, поэтому проводить границу между ними не представляется целесообразным: метафорологическая предметная периодизация, естественно, не может зеркально отражать историко-социальную периодизацию. В научных, прежде всего философских, трудах западноевропейского
Средневековья мы находим многочисленные попытки решить многие вопросы эпистемологического характера (которые, кстати сказать, впоследствии, в ХХ в., легли в основу когнитивистских и концептуалистских теорий, относящихся к сфере предметных интересов метафорологии): это решение категориальных проблем общего и частного, а также проблем ассоциаций, аналогий, изоморфизма, равенства, тождества, гомоморфизма и абстракции. Но с проблемой изучения метафоры медиевальные философские успехи никак не были связаны. Основным достижением средневековых риторик следует считать
систематизацию фигур и тропов и упорядочение соответствующей терминологии. Именно в риториках этого периода метафора-слово получает наиболее последовательное и четкое описание своих объектных границ, которое в настоящее время, к сожалению, утрачено: термин метафора объединяет разные языковые явления, поэтому порой различные лингвистические теории метафоры “работают” с разными объектами, а современные классификации метафор фактически не имеют единой объектной базы. В средние века тропеические
25
средства противопоставлялись друг другу достаточно последовательно, однако ряд тропов изначально отождествлялся с символом. Как отмечают исследователи (В. В. Бычков, Т. С. Борисова), понятие символа использовалось, например, раннехристианскими теоретиками (Филон Александрийский, Климент Александрийский, Псевдо-Дионисий Ареопагит) слишком широко, нередко оно совпадало по смыслу с понятиями “образ”, “аллегория”, “загадка”, “знак” и др. В ХХ в., следы такого терминологического неразличения мы находим в литературоведческих трудах: “то, что одни исследователи характеризуют как «средневековый символизм» [Лихачев 1956, 1979; Гуревич 1984], другие определяют как «аллегоризм» [Нахов 1978; Жоль 1984], третьи же для описания подобных фактов оперируют терминами «метафора» [Коновалова 1963] или «постоянная метафора» [Адрианова-Перетц 1947]” [Борисова 2001: 7]. Из раннесредневековых трудов следует отметить работу испанского
архиепископа Исидора Севильского “Этимология”, сочинение англосаксонского летописца Беды Достопочтенного “De Schematibus et Tropos”, заложившее основы интерпретационного подхода к тексту, и труды византийского ученого Георгия Хиробоска “О тропах”, выделившего 27 тропеических разновидностей. Эти работы не утратили своей научной ценности до сих пор9. Для истории отечественной метафорологии важен тот факт, что именно
сочинение Хиробоска вошло в состав сборника болгарского царя Симеона, а впоследствии переведено на славянский язык монахом Иоанном и включено в “Изборники Святослава” (1073 и 1076 гг.) под названием “Об образех”.
По мнению ряда исследователей, отношение к грамматикам и риторикам в Древней Руси было неоднозначным, а негативное отношение вообще могло получать идеологическую окраску (ср., например: Аз бо не во Афинех ростох, ни от философ научихся (Даниил Заточник); Аз… не учихся у философов их ни
плетения риторьска, ни ветийских глагол, ни Платоновых, ни Арестотелевых бесед не стяжах, ни философья, ни хитроречия не навыкох (Епифаний Премудрый); во училищах Философских не бех (Симон Азарьин) (Цит. по [Успенский 1994: 7]). Книжники того времени считали необходимым отмечать свое неприятие “внешней мудрости”, то есть высших филологических знаний, поскольку “гуманитарные науки (в частности, риторика и философия) ассоциировались … с язычеством и вместе с тем с латинством” [Там же]. Именно поэтому в послании образованнейшего для своего времени человека – Филофея, автора доктрины “Москва – Третий Рим”, старца псковского Елеазарова монастыря – на “звездочетцы и латины”, мы находим следующие слова: яз
сельской человек, учился буквам, а еллинских борзостей не текох, а риторских астроном не читах, ни с мудрыми философы в беседе не бывал, учуся книгам
9 См. подробнее [Хазагеров и Ширина 1999: 20–22].
26
благодатного закона [Там же]. В книгах же “благодатного закона” содержится предупреждение против “украшательств речи”, например, против “украшенной” клятвы: Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого (Матф. 5: 37), а язык рассматривается как “неудержимое зло”:
небольшой орган, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает: И язык – огонь, прикраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны; Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, А язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию (Иаков 3: 5–9). С мировоззренческих позиций древних книжников, высказывание Апостола язык – прикраса неправды приобретает особую идеологическую значимость, поскольку отец лжи – дьявол (не случайно среди монашествующих особым уважением пользуются молчальники, а отказ от коммуникации считается монашеским подвигом). Однако словесные украшения допускались доктриной в агиографической и гомилетической литературе, а с конца XIV–начала XV вв., когда утверждается пышный стиль “плетения словес” (см., например, жития Святителя Стефана Пермского и Преподобного Сергия Радонежского, написанные Епифанием Премудрым и содержащие для прославления святости подвижников христианской веры огромное количество повторов, развернутых метафор и сравнений), металогическая речь используется широко в самых разных текстах. Особым богатством изобразительных языковых средств, в том числе и метафорических, отличаются религиозные тексты (Ветхий и Новый Заветы), переведенные на славянский язык и во многом сохранившие языковое богатство источников, считавшихся эталонными. Впоследствии по их образцам создавались многочисленные молитвенные тексты (молитвы, каноны, акафисты), поражающие в наши дни разнообразием использованных в них стилистических приемов. Более того, в самих библейских текстах мы находим неопровержимое для верующих доказательство особой целесообразности использования метафорических в своей основе притч. Поскольку человек из-за собственной слабости и несовершенства может воспринимать Откровение только метафорически, притчи Господни – уступка этому несовершенству, а метафоричность как универсальное свойство человеческого мышления помогает каждому, а не только избранным, приблизиться к Истине. Ср.: Открою уста мои в притче (Пс. 77: 2); Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все живущие во
вселенной, – и простые и знатные, богатый, равно как бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего – знание. Приклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою (Пс. 48: 2–5); И, приступив, ученики
27
сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют (Матф. 13: 10–13); Иисус говорил народу притчами, и
без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира (Матф. 13: 34–35); Когда же остался без народа, окружающие Его, вместе с двенадцатью,
спросили его о притче. И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах; так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют; да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? (Марк 4: 10–13). Эвристическая функция метафор и их гносеологическая ценность в данном случае не являются предметом дискуссии, аналогичной той, что была впоследствии развернута философами Нового времени.
“Украшения в речи” по-особенному воспринимаются в текстах религиозного содержания. Соответственно, риторика с входящими в нее учениями о тропах (включая и метафору) – по крайней мере, так, как это представлено в более поздних сочинениях, например, в риториках псевдоМакария, Софрония Лихуда, Михаила Усачева, – оказывается чаще всего востребованной на Руси в рамках агиографических и гомилетических потребностей, а логико-философские тропологические учения античности вообще не получают достаточных оснований для своего дальнейшего развития. В традициях западного христианства риторическое и логико-поэтическое
учение Аристотеля, Цицерона и Квинтилиана, как уже отмечалось выше, продолжало, если не развиваться, то, по крайней мере, использоваться более активно. Самой известной риторикой позднего Средневековья стало сочинение Филиппа Меланхтона, составленное в популярной форме “квазидиалога” и опубликованное во Франкфурте в 1577 г. На вопрос quid est Metaphora? предлагается определение: Est cum vox a genuine et propria significatione ad non
propriam transfertur, ut ferreum pectus, pro eo, quod flecti aut terreri non potest. Allatrare pro convitiari. Teneo aut video, pro intelligo (Elementorum rhetorices. Цит. по [Аннушкин 1999: 172]). Далее уточняется: Latine translatio (поскольку в латинских грамматиках использовался греческий термин), Cicero brevem similitudinem vocat (хотя о связи метафоры со сравнением писал не только Цицерон, но и Аристотель). Метафора в этой риторике противопоставлена другим тропам: металепсису, синекдохе, метонимии, антономасии, ономатопее, катахрезе, перифразе. Философская компонента античных риторик здесь полностью отсутствует.
28
Для отечественной метафорологии чрезвычайно важным является тот факт, что риторика Меланхтона была не просто переведена на церковнославянский язык (наиболее ранний список относится к 1620 г.), но и переработана и дополнена (см.: [Аннушкин 1999]). Как и во всех средневековых риториках, метафора в ней определяется в кругу прочих тропов и фигур. За вопросом “Что есть метафора?10” следуют объяснение: “Метафора (перенесение или краткое подобие) есть перенос природного и собственного значения слова к новому и ему несвойственному, например, железный человек говорится потому, что человека не могут устрашить и преклонить,… лаять – то есть обвинять кого-либо из зависти; или держу, имею и вижу – вместо понимаю”. Обратим внимание, что в приведенных метафорических примерах отсутствует та связь, которая задается в определении между прямым и переносным наименованием: слово железный не содержит в своем прямом значении “идей” неустрашимости и т. п. В логических и микросемантических исследованиях ХХ в. этот и все подобные примеры неоднократно будут обыгрываться именно вследствие таких “несоответствий”. Метафора в “Риторике” Меланхтона противопоставлена металепсису, в современных работах их, как правило, не разграничивают: в трудах по лексической стилистике ХХ в. термин “металепсис” чаще служит для обозначения результатов такой разновидности метонимии, которая состоит в замене логически предшествующего понятия логически последующим или наоборот: гроб в значении ‘смерть’, хотя “гроб” – логическое “следствие” смерти. Металепсис же в понимании автора “Риторики” не рассматривается как разновидность метафоры: “металепсис (переложение от качества) бывает, когда имя не переносится от подобного имени, как бывает в метафоре, но следует от самого дела и способа совершения, например, бледная смерть говорится потому, что делает бледным человеческое тело; горячее вино – потому, что согревает тело”. Аллегория определяется автором как метафорическая разновидность: “аллегория есть вечная и постоянная метафора – не в одном слове, но в повествовании, когда некая вещь описывается и предъявляется в некотором подобии, например, вместо задушить, давить говорится виновен в безголовном деле”. Выделяется четыре вида таких “вечных метафор”-аллегорий (энигма, паремия, ирония и сарказм), но к метафорическим мы можем отнести только два из них: во-первых, “искусное подобие, загадку или притчу” – то есть метафорический текст; во-вторых, паремию – “удачное изречение, замечательное новым способом изложения, например: псы следуют за хозяевами, то есть слуги подражают нравам господ”; ирония же и сарказм построены на другом механизме – на отрицании метафоры, но метафора может лежать и в основе
10 Первый русский перевод церковнославянского текста этой риторики можно найти в монографии В. И. Аннушкина “Первая русская «Риторика» XVII века. Текст. Перевод. Исследование” [Аннушкин 1999: 95–151].
29
иносказания. В современных работах к метафорам часто относят гипаллаги, однако, в “Риторике” 1620 г. гипаллага рассматривается как самостоятельная фигура “с обратным порядком слов, например, отдайте ветры кораблям, т. е. отдайте корабли ветрам или пустите корабли по ветру”. Самостоятельное описание получает и просопопея (олицетворение), которая также признается в современных исследованиях разновидностью метафоры (“просопопея есть олицетворение или придание неодушевленной вещи разума и смысла. Цицерон называет укреплением. Например: веселитесь, небеса, радуйся, земля”).
Таким образом, в риторических сочинениях XVII в. впервые на церковнославянском языке было представлено все богатство метафорологической терминологии и определено место каждого термина в общей терминосистеме: так, метафора – всего лишь одна из разновидностей восьми словесных тропов (кроме словесных, имеются еще и сказательные, или речения), тропы находятся в классификационной оппозиции к “схемам” и вместе с ними образуют “воображения” как элементы “украшенной” речи. Метафора – элемент системы (хотя само это высказывание “контейнерно-метафорично”, так как предполагает дискретный взгляд на целостный объект). Для истории русской филологической мысли и современного терминологического метаязыка значение переводной “Риторики” 1620 г. трудно переоценить. Метаязык средневековых риторик был без изменений воспринят филологической мыслью Нового времени, а средневековое определение метафоры как исследовательского объекта практически полностью сохраняется до наших дней в большинстве поэтико-стилистических трудов.
III. Метафорология Нового времени. Метафорологию этого периода можно связать с формированием теории ассоциаций, а также с решением вопроса о допустимости использования метафор в научном и даже художественном тексте. Понятие метафоры гносеологически очень тесно связано с понятием
ассоциации, и успехи ассоцианизма – ассоциативной психологии – впоследствии отразились на всех метафорологических исследованиях. В возникшем в Новое время ассоцианизме главным объяснительным принципом всей психической жизни человека становились именно ассоциации, и при описании поведения и сознания человека утверждался строгий причинно-следственный порядок: последовательности идей, возникающих в сознании, отражают последовательность внешних воздействий на организм. В период механистических взглядов на действительность предполагалось, что взаимодействие организма с физическим миром происходит по законам механики и связи идей возникают по тем же законам (Т. Гоббс). Закон ассоциаций сформулировал Б. Спиноза: “Если человеческое тело подверглось
30
однажды действию одновременно со стороны двух или нескольких тел, то душа, воображая впоследствии одно из них, тотчас будет вспоминать и о других” [Спиноза 1957: 423]. Сам термин ассоциация впервые ввел Дж. Локк в своем “Опыте о человеческом разуме” (1698) и, что важно, подразумевал под этим “неверные и неестественные сочетания идей” [Локк 1960: 400]. В середине XVIII в. Д. Гартли выдвинул теорию о том, что все проявления психической жизни, включая разум и волю, подчиняются универсальному закону ассоциаций, иначе говоря, любая связь представлений и действий выводима из ощущений и оставленных ими “следов” в мозгу. Впоследствии механистический взгляд на сознание нашел наиболее полное отражение в концепции Дж. Милля, считавшего, что все здание психической жизни составлено из “кирпичей” – ощущений и связывающего их “цемента” – ассоциаций. Именно подобная — атомарная, механистическая (и, естественно, метафорическая) — идея “кирпичей”, “сетки”, “файлов”, “фреймов”, “решеток” и т. п. (в основе этой идеи – контейнерная метафора) нашла свое продолжение в когнитивистике и когнитивной теории метафоры11. Заметим, что большинство рационалистов, сенсуалистов (а позже – и
11 Ср. с избыточным использованием строительных, контейнерных
персонифицированных и артефактных метафор и катахрез в описаниях работы сознания в популярных сочинениях XVIII в., таких как “Путешествие в микрокосм одним из новых Пифагоровых последователей”, осуществленное его душой по расставании с “грубой одеждой” тела (текст в исследовательской практике приводится впервые): Тело человеческое показалось мне целым светом, которого редкости изведать я намерился… Вошед без труда в… голову, спешил скорее к мозгу. Я скоро увидел себя на большой площади, к которой приходили пять широких улиц; они назывались по имени пяти чувств. Сими улицами непрестанно привозили разные товары: представления, чувственности, смешанные идеи и проч. Тут сильнейший носильщик, называемый память, забирая все, что мог, относил в свои амбары, где он их разбирал, он отделял некоторую часть из оных и укладывал порядочно в сосуды, к которым для знаку привязывал ярлыки так, как бывает при лекарственных смесях в аптекарской лавке: прочее оставалося в беспорядке, от чего превращаяся по большей части в пыль, от времени исчезало. Над сими амбарами жительство имело рассуждение, чьего должность составляло оные рассматривать. Он (рассуждение. — О. А.), выбирая из них некоторые, относил в лабораторию, где Химист, называемый различение, перегоняя через куб, отделял от того одну силу, которая была относима в кабинет понятия. В сем кабинете удивительное позорище глазам моим предстало. Начальные правила тех вещей, кои я видел в амбаре памяти, наилучшим порядком, по приличности свойств, установлены были, и сии начала, как и все спирты, сохранялися долее, нежели то количество, от которого они отделялися. Они и совсем не были подвержены тлению, когда только произведение их было порядочно сделано. Остроумный Министр, называемый разум, их с прилежанием рассматривал. Он, следуя разным соображениям, их равнял, соединял, во многия раздробляя доли, и прилежно замечал того происходство. Потом вписывал в свои реестры и сочинял Метафизику или первую Философию. Последуя своим из сего производства изобретениям, составлял он указы и отсылал для исполнения к воле. Сей Министр имел опасного себе соперника в волхве, называемом воображение. Душа приняла
31
позитивистов) разделяло пуристские взгляды в отношении переносного употребления слов, но при этом все они не могли обойтись без метафор в собственных метаязыках, поскольку общеметодологические задачи метадискурсивного плана эмпирически ими решались. Так, Т. Гоббс сравнивал метафоры с блуждающими огнями (фактически умножая сущности: нельзя критиковать объект через него самого), а Дж. Локк утверждал, что образное употребление слов внушает ложные идеи и вводит в заблуждение рассудок, другими словами, именно в этот период начинаются гонения на метафору как элемент научного и художественного дискурса. Напротив, в XIX в. научные метафоры начинают жить самостоятельной жизнью. Так, в лингвистике, с развитием компаративизма, гумбольдтианства, метафорическое уподобление языка живому организму начинает пониматься даже слишком буквально (А. Шлейхер): язык “обрастает” антропоморфными качествами, у него появляется способность зарождаться, жить, развиваться, взаимодействовать с другими, образовывать семьи, умирать. Соответствующие метафоры, отметим, используются учеными до сих пор12. Метафоры в психологии начинают рассматриваться только как следствие
развитых ассоциативных способностей человека. С такой точки зрения, все поведение человека ассоциативно и метафорично. Но ассоциация – это всегда связывание новой информации со знанием и опытом, которыми говорящий уже обладает, и, с этой позиции, метафору можно было бы рассматривать как скачок в познании (однако подобный подход в XVII—XVIII вв. не получил широкого распространения). Психологические классификации ассоциаций впоследствии использовались при описании мотивирующих перенос наименования признаков, и мы считаем, что для полного построения ассоциативной картины, в свою очередь, необходимо собрать лингвистическую информацию о всех возможных тропеических и фигуральных средствах. Более того, декодирование метафор в
его в свои услуги для некоторых полезных дел, а более для присутствовании его при ея забавах. Сей Волхв с своими дарованиями мог бы быть похвален, естьлибы он повиновался повелениям разума, но будучи наполнен предубеждениями, не знает он никаких законов и часто утешается тем, что препятствует Министру упражняться в его трудах. Он чрезвычайно искусен в живописи: двумя чертами кисти представляет как то, что чувства на площадь приносят, так и те предметы, которые собирает память. Он их соединяет, разделяет, уменьшает и соображает по-своему, отсылает к воле под именем указов разума. Часто способом волшебного фонаря изображает он на внешней стене понятия все пустые призраки” [Путешествие в микрокосм 1763: 22—25]. 12 Современными исследователями (G. Lakoff, М. К. Голованивская и др.) даже отмечен некоторый “агрессивный” характер метафоры как исследовательского объекта, ср.: “метафора в современной лингвистике превратилась в своего рода deus ex machina, она, будучи исходно абстрактным понятием, развила в современном языке образ всесильного мифологического существа, управляющего податливым человеческим сознанием и умом” [Голованивская 1997: 22].
32
идиостиле и их лингвистическое описание может многое раскрыть исследователям психологии творчества. В период Нового времени метафора получает и дальнейшее детальное
таксономическое описание. Своеобразным таксономическим шедевром можно считать блестящий труд E. Tesauro [2000], значительно повлиявший впоследствии на работы У. Эко. В России собственно метафорологическое учение продолжало развиваться в XVIII—XIX вв. в рамках общего классического риторического учения о тропах (см. “Риторическая рука” Стефана Яворского (1705), “Книга всекрасного златословия” Козмы Афоноиверского, риторические сочинения Андрея Белобоцкого, старообрядческая “Риторика о пяти беседах” (1706–1712), а тропеическая терминосистема усовершенствовалась в трудах М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского (“Слово о витийстве”), Амвросия Серебрянникова (“Краткое руководство к оратории российской”), анонимной “Теории словесности” (1851–1860), А. Ф. Мерзлякова, Я. В. Толмачева, Н. И. Греча, Н. Ф. Кошанского, И. И. Давыдова, В. В. Плаксина, К. П. Зеленецкого, А. С. Никольского (история отечественной риторики подробно изложена в [Аннушкин 1997]). В XIX в. знаменитый российский физиолог И. М. Сеченов [1995] отмечал, что между реальным чувствованием и последующим воспоминанием почти никогда не бывает фотографического сходства, а ежедневный опыт показывает, что вспоминать знакомое, испытанное можно по намекам, лишь бы они “входили” прямо или косвенно в воспроизводимое впечатление (это позволило позже Р. Л. Солсо [1996] утверждать, что образы-медиаторы могут выполнять функцию эффективного кода, который облегчает запоминание ассоциативных пар). Огромную роль в последующем структурном и когнитивном изучении метафоризации сыграли фундаментальные по своей значимости работы А. А. Потебни. Основным достижением поздней западноевропейской метафорологии
Нового времени следует считать выявление связей между ассоциативной природой мышления и метафорообразованием.
IV. Метафорология ХХ века. Формирование глубокого разностороннего исследовательского интереса к метафоре происходит в конце XIX–XX вв., когда возрождается традиция комплексного, синкретического взгляда на метафорические объекты, существовавшего в античный период. Метафоризацию начинают чаще рассматривать не столько как способ украшения речи, сколько как важнейший мыслительный механизм, и связано это с тем, что в центр внимания переместился человеческий фактор в языке и языковой фактор в человеке [Арутюнова 1998; Хахалова 2000а]. Метафора оказывается центральным объектом психологического [Muncie 1937; Bachelard 1959, 1978; и др.], философского [Vaihinger 1924; Pepper 1935; Richards 1936; Blumenberg 1957, 1960; Wheelright 1962; Cassirer 1977; Johnson 1981; Жоль 1984; Ортега-и-Гассет
33
1991; Панов 1991; Саркисян 1995; Еременко 2000; и др.], логического [Peirce 1958; Carnap 1937; Forcheimer 1953; Kemeny 1953; и др.] и – позже – лингвистического [Смирницкий 1956; Звегинцев 1957; Лясота 1958; Касарес 1958; Черкасова 1959; Федоров 1967]; и др.) и литературоведческого осмысления [Riffaterre 1969; Жирмунский 1977; Томашевский 1996; и др.]. Исследователи, используя методико-терминологические инструментарии своих наук, вернулись к поиску ответов на вопросы, поставленные когда-то в античности. Следует отметить, что зарубежная метафорология активнее развивается в
логико-философском и когнитивно-психологическом направлениях, а отечественная – в лингвистическом, что обусловлено историко-научными предпосылками. Разумеется, мы сознаем условность противопоставления научных изысканий по признакам “свой” – “чужой”, которая неминуемо возникает при сопоставительном описании отечественных и зарубежных исследований: как известно, наука не имеет административных и национальных границ, но национальные и наднациональные научные школы все-таки существуют. Российская метафорология переживает свой расцвет с 60-х гг. ХХ в., т. е. с того периода, когда представители советской гуманитарной науки после длительного самоизоляционного срока получают возможность творчески осваивать достижения зарубежной когнитивистской (позитивистской в своей основе) науки. Мы ни в коей мере не хотим здесь подчеркивать “вторичность” советской метафорологии (исследования представителей ее “лингвистического крыла” во многом опережали труды своих зарубежных современников), однако не можем не отметить определенной методологической преемственности в работах советских ученых той поры. Это вполне естественно: если в младограмматических, а позднее и в структуралистски ориентированных отечественных научных школах (прежде всего, в московской фортунатовской школе и в трудах последователей Л. В. Щербы) изначально существовал и последовательно разрабатывался терминологический аппарат, то в исследованиях лингвофилософских и когнитивных направлений традиция, идущая от В. фон Гумбольдта, А. А. Потебни и неогумбольдтианцев, была прервана из-за идеологических опасений. Как отмечает В. М. Алпатов, “лингвисты, ранее противостоявшие марризму, включая и структуралистов по идеям, получили с 1950 г. возможность нормально работать, однако им первоначально приходилось вести исследования в полном отрыве от лингвистики за рубежом. Если наука XIX века могла оцениваться объективно, то современная западная лингвистика, как и во времена марризма, продолжала замалчиваться или же резко критиковаться. Новый этап в развитии советской лингвистики начался со второй половины 50-х гг., когда развернулось активное освоение идей и методов зарубежной науки” [Алпатов 1999: 229].
34
Первыми, как уже отмечалось, обратились к метафоре зарубежные психологи. Как только психология окончательно формируется как наука (Р. Декарт, Т. Гоббс, Д. Гартли, З. Фрейд, К.-Г. Юнг и многие др.), в ней активно начинает использоваться “метафорический метод” (см. об этом [Gordon 1978, рус. перевод – 1995; Лэнктон и Лэнктон 1996]). Психологический “шлейф” теории метафоры значительным образом повлиял и на когнитивистику. Волна исследовательского интереса к метафоре в ХХ в. связана с
формированием когнитивной науки. Взаимодействие таких отраслей знания, как лингвистика, философия, логика, литературоведение, психоанализ, семиотика и др., в аспекте изучения метафоры привели к возникновению особой науки, исследующей самые разные стороны человеческого знания [Арутюнова 1990б]. Как известно, когнитивисты ставят своей целью определить организационные основы ментальных систем, т. е. выявить те когнитивные правила, которым следуют люди, и те представления знаний – the knowledge of representation, на операции с которыми эти знания направлены (М. Газзанига, Р. Л. Солсо). Стремление обнаружить то, как воспринимаются, перерабатываются и хранятся огромные объемы информации, привело к дальнейшему развертыванию картезианской (метафорической по своей сути) идеи о существовании структурно организованного сознания. Когнитивисты пытаются описать формирование и функционирование этих структур, доступ к которым, естественно, возможен только через язык. Достижения “внутренней” лингвистики, таким образом, для когнитивной науки оказываются тесно связанными с достижениями лингвистики “внешней” (хотя, к сожалению, и когнитивная наука до сих пор не может ответить на самый главный вопрос: как связаны речевая деятельность и язык как коммуникативная система с отвечающими за них структурами сознания). При таком подходе метафора, естественно, воспринимается как ключ,
открывающий почти все потаенные двери сознания и, в то же время, рассматривается как своего рода “мостик”, позволяющий перешагнуть через научную однодисциплинарность. Благодаря когнитивной функции метафора получила самую высокую оценку своей степени важности; по словам А. А. Ричардса, “каждый из нас овладевает искусством метафоры так же, как мы обучаемся всему, что делает нас людьми” [рус. перевод – Ричардс 1990:45]. Он же провозгласил метафору “вездесущим принципом языка” [Там же: 46].
2. Понятия общей и частной метафорики
Характеризуя в общем объект метафорологических изысканий прошлого
столетия, мы должны прежде всего отметить две исследовательские тенденции.
35
I. Метафора в исследованиях ХХ в. резко расширяет свои объектные границы13. Под этим термином начинают понимать не только классическую, логически “безупречную” метафору (N есть P, хотя на самом деле N не является P), но и металепсис (Зовет, зовет меня твой сон, / Зовет и к гробу приближает. Г. Державин), гипаллагу (Тебя за щекой, как денежку, серебряно сберегу. А. Вознесенский), эналлагу (стариков полусонная стая – Н. Некрасов; хищная стая песков – Н. Гумилев), абузию, катахрезу, или ломаную метафору (Сплетня вкусна, господа. Ф. Достоевский), персонификацию (Невыразимая печаль открыла два огромных глаза. О. Мандельштам; Из всей этой сенсационной
неразберихи вырисовывается препротивнейший образ России – бедная девушка, вечно берущая в долг, оказалась сказочно богатой клептоманкой, к тому же сильно испорченной. “Коммерсантъ-Власть” 1998; Россия выбрала войну.
Выбрала тупо, насупившись от сознания собственного могущества и совершенно не понимая, на что идет. “Коммерсантъ-Власть” 1998) 14 и деперсонификацию (Пение дверей раздавалось по всему дому. Н. Гоголь), прономинацию (Среди этих бюрократов есть и Фамусовы и Скалозубы. А. Луначарский), оксюморон (убогая роскошь наряда – Н. Некрасов), метаморфозу (Положи, Господь, камешком, подыми перышком – пословица; соловьем заливаться о прекрасных перспективах – “Завтра” 1999; стать настоящим немцем, французом, китайцем и т. д.15), эвфемизм (Жизнь тихо покидала нас. “Известия” 2000; уход – о смерти; дипломатия – о лжи) и дисфемизм (беспредел – о любой сложной ситуации), перифразу (Пока Путин
дает некоторую сатисфакцию всем эти потребностям большинства. “Известия” 2000).
13 Н. Д. Арутюнова отмечала, что под метафорой стали понимать любой способ
косвенного или образного выражения смысла [Арутюнова 1990б]. 14 Например, В. Г. Гак вообще определял персонификацию как метафорическую
особенность французского языка. По его наблюдениям, вид метафоры, называемый французскими лингвистами анимизмом, характерен для всего грамматического строя французского языка. Возникновение фраз типа La bouteille a perdu son bouchon обусловлено общей тенденцией французского языка и французской когнитивной системы, в которых метафоризация реализуется более легко, чем в русском. Так, метафоры типа восхищенные цветы могут возникнуть только в русском поэтическом тексте, но подобного типа образования широко используются во французском информационном дискурсе (см. об оценке такого подхода в [Болотова 2000]).
15 Ср.: “немец для нас – пример пунктуальности, итальянец – шумливости, крикливости и вокального мастерства, англичанин – чопорности. И не важно, что ваши знакомые немцы могут постоянно опаздывать на встречи (это они «обрусели», скажем мы), что ваш друг-итальянец тих и задумчив и совсем не умеет петь, а приятели-англичане поразили вас своей неуемностью во время последнего футбольного матча. Все равно в речи вы никогда не назовете спортивного фаната истинным англичанином, вечно опаздывающего человека немцем, а романтически настроенного юного философа итальянцем” [Красных 2002: 203–204].
36
Все подобные единицы, аналоги которых столь скрупулезно описывались в трудах прошлого, в ХХ в. рассматриваются как метафорические, поскольку в их образовании участвует так называемый “перенос по сходству”. Заметим, что исключение при таком “интегрированном” подходе к метафоре составляют отечественные и редкие зарубежные исследования в рамках структурной поэтики (Ш. Балли) и семантики, в которых метафора как теоретический объект получает дополнительное дифференцированное описание, например, через противопоставление художественных метафор языковым, языковых метафор — безобразным производным значениям и т. д. (подробнее об этом см. [Скляревская 1993: 12—43]). В когнитивных, логических, лингвостилистических и др. исследованиях подобное дифференцирование, как правило, не проводится, и, в сущности, любое переосмысление и его результат толкуются как метафорические, даже существование метонимического переноса при более широком подходе интерпретируется как метафорическое16. С другой стороны, метафору противопоставляют символу (Е. Т. Черкасова,
А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман, Д. С. Лихачев, Т. С. Борисова), а не отождествляют с ним, как это делали античные и средневековые авторы. Метафора противопоставляется трем остальным семантическим концептам – образу, знаку и символу, занимающим центральное место во всех концептуальных системах (Н. Д. Арутюнова). Образ прорывается в язык через метафору, а метафора в своем дальнейшем семиотическом развитии либо поднимается до символа, либо опускается до знака. Подробный сопоставительный анализ использования языковых категорий “метафора” и “символ” в современных филологических исследованиях был проведен Т. С. Борисовой [2001]. Как “прямо противоположные основным художественным тропам — метафоре, метонимии, сравнению и т. д.” определяет символы Д. С. Лихачев, считающий, что, в отличие от этих тропов, основанных на “уподоблении, на метко схваченном сходстве, … на реальном наблюдении, на живом и непосредственном восприятии мира”, символы “были вызваны к жизни по преимуществу абстрагирующей, идеалистической богословской мыслью” [Лихачев 1979: 164]. По мнению исследователей (Е. Т. Черкасовой, R. Bartel), различны отношения между словом-названием предмета и его знаком: для метафоры это отношения подобия, сходства, для символа – отношения тождества [Черкасова 1968: 31], более того, 1) символ расширяет язык замещением, а метафора – сравнением, 2) символ
16 В целом, система языка обусловливает преобладание метафорического переноса по
сравнению с метонимическим сдвигом: метафора функционирует в связи с предикатом (шире – в сфере атрибутов). Ее первичная функция – характеризующая, а метонимия выполняет идентифицирующую функцию по отношению к конкретным предметам (Н. Д. Арутюнова, А. В. Прожилов).
37
предлагает не сопоставлять два понятия, а отождествлять их, 3) символическое значение развивается на основе общепринятости и традиционности, метафорическое – на основе новации и оригинальности, 4) символ выигрывает от повторения, а метафора – разрушается [Bartel 1983: 32]. Характер мотивированности символа можно определить через понятие “интертекст”, понимаемое как “функциональное отношение между текстами” [Мейзерский 1987: 8]. В отличие от метафоры, которая мотивирована с точки зрения языка как системы, символ мотивирован (иначе говоря, закодирован) через текст (метатекст), другими словами, метафора чаще контекстуальна, а символ интертекстуален, метафора занимает определенные позиции в системе языка, а символ – в метатексте (подробнее см. [Борисова 2001: 11–13]). Кроме того, у ряда символов контексты могут напоминать метафорические, однако при более внимательном анализе можно обнаружить их символическую природу (так, в Слове на Рождество Богородицы Андрея Критского контекст благословенна ты в
женах, тайная Богонасажденная виноградная лоза, пышно возросшая среди избранных Церкви, зрелую гроздь безъсмертия нам явившая из утробы материнской (перевод Т. С. Борисовой) мог бы считаться метафорическим, если бы не вызывал в памяти читателя соответствующие библейские цитаты (Ос. 10, 1; Ис. 5, 2) [Борисова 2001: 37]). Системы метафор и символов вполне можно рассматривать в кругу прочих
прецедентных феноменов (Ходынка, Смутное время, Ватерлоо, 1937 год), в том числе прецедентных текстов (например, “Репка”, “Евгений Онегин”, “Мертвые души”, “Двенадцать стульев”), высказываний (например, реплик из х/ф “Бриллиантовая рука”, “Белое солнце пустыни”, “Семнадцать мгновений весны” и др.), текстовых реминисценций, имен (Наполеон, Гитлер, Чингисхан, Ален Делон, Мерилин Монро, Ротшильд, Рокфеллер и мн. др.), прономинаций (Золушка, Карабас-Барабас, Дон Кихот, Печорин, Хлестаков, Гаврош, Остап Бендер, Шерлок Холмс, Пуаро, Джеймс Бонд), поскольку сама основа реализации прецедентности метафорична. Расширение объектных границ метафоры во многом связано с изменением
общелингвистических приоритетов в выборе исследовательских объектов (Н. Трубецкой, Р. Якобсон, Л. Ельмслев). Философы и лингвисты стремятся обнаружить системный характер организации единиц не только в языке, но и в дискурсе, тексте. П. Рикер, в значительной степени определивший магистральное направление метафорологических исследований второй половины ХХ в. (метафоры языка – метафоры дискурса – герменевтика метафорического текста), так объяснял свою позицию: “в дискурсе содержится нечто большее, чем в слове, поскольку единицей, образующей дискурс, является фраза, а не отдельное слово… мы не можем построить теорию метафоры, основываясь на слове; для того чтобы построить теорию метафоры, необходимо учитывать роль предиката,
38
приписываемого субъекту, то есть борьбу между субъектом и предикатом во фразе. Рассмотрим в качестве примера известную метафору Шекспира Время – это нищий. Метафора не заключена ни в одном из отдельно взятых слов данной фразы. Метафора рождается из конфликта, из той напряженности, которая возникает в результате соединения слов во фразе. Вот почему следует обратиться к единице более высокого уровня, чем слово, – к дискурсу… Я согласен с тем, что структурализм в ряде случаев был недальновиден, поскольку использовал в качестве модели лишь систему знаков в лексике, а не живое производство дискурса в структуре фразы. Я думаю, что герменевтика имеет больше общего с лингвистикой фразы, чем с лингвистикой слов или лингвистикой отдельных знаков” [Рикер 1995: 101–102]. При метафоризации-кодировании сопоставляемые “представления” сливаются
в одно настолько сильно, что не всегда достаточно ясно просматриваются по отдельности: весь окружающий дискурс поясняет метафору, и она часто существует только в определенном контексте (отсюда возможность выделения таких разноструктурных лингвистических объектов, как генитивная метафора – кисточка свечи, утро года, гвоздик сирени, метафорический эпитет – золотые песчаные дюны, седое море, янтарные восходы). Методом трансформации мы практически всегда можем восстановить исходное содержание: у свечи есть пламя, пламя напоминает по форме кисточку пламя – это кисточка кисточка свечи и т. д. При абсолютизации условия обязательного дискурсивного окружения у
метафоры можно прийти к выводу о том, что идеально соответствующей статусу метафорического объекта является инопия – вынужденная метафора, употребление которой основано на незнании конкретной номинации, обозначающей какую-либо реалию (окказиональные метафороупотребления в детской речи), или на намеренном обыгрывании, авторской стилизации аналогичного явления в художественном дискурсе (ср.: Ух, и зубов! Зубов-то! Вдарить бы! В. Маяковский. Зубы – о клавишах рояля). При таком подходе за метафорой закрепляется статус “однодневки”, а существование языковых (“генетических”, “лексикализованных”, “мертвых”, “окаменелых”, “привычных”, “стертых” и т. п.) метафор оказывается в принципе невозможным. Тем не менее, эти единицы являются фактом словаря каждого языка и даже иногда реализуют в дискурсе некоторый “ресурс изобразительности”: мягкие краски, кричащие цвета, безвкусная одежда [Хазагеров и Ширина 1999: 244–245]. Именно их изучение открывает богатые возможности для междисциплинарных структурно-семантических и нейрологических исследований.
II. Метафора-единица языка (при всей возможной спорности выделения такого объекта), по соссюрианской традиции, противопоставляется метафоре-единице речи, в том числе и речи индивидуальной, с одной стороны, и метафоре-
39
концепту – с другой. Наиболее “очищенный” взгляд на языковые метафорические объекты в оппозиции к неязыковым представлен в исследованиях Г. Н. Скляревской, понимающей под языковой метафорой вторичную косвенную номинацию, сохраняющую семантическую двуплановость и образный элемент [Скляревская 1993: 12]. Ср.: “как категория лексикологии (и материал лексикографии) языковая метафора отграничена от художественной (индивидуально-авторской) метафоры. Как образное языковое средство — от генетической метафоры и от безобразного производного значения”[Там же: 12—13]; “языковая и художественная метафоры различны по своей семантической и коммуникативной сущности и факт их взаимопереходов и взаимовлияний не свидетельствует о разрушении этого различия” [Там же: 34]. Подобный подход вызывал возражения со стороны исследователей художественной метафоры (см., например, [Толочин 1996; 1997]), но представляется нам необходимым при отборе материала и его представлении в общих толковых лексикографических трудах. В специальном словаре метафорики, думается, целесообразнее не противопоставлять языковые метафоры и безобразные производные значения, поскольку, как показал наш когнитивно-ассоциативный анализ (гл. III данной диссертации), они могут являться экпликациями одного метафорического исходного концепта. Кроме того, по данным исследований (М. К. Голованивской, Е. А. Пименова, М. В. Пименовой, В. В. Красных и др.), для говорящих внутренний и внешний миры обладают одинаковой степенью реальности: события, обозначаемые как борьба между желаниями (т. е. безобразным производным значением), экономическая борьба между государствами (т. е. стертой метафорой), для носителей языка не менее реальны, чем событие спортивная борьба. Соответственно, в нашем исследовании мы считаем безобразные производные значения метафорами “внутреннего” и “внешнего человека” (см. подробно в гл. III нашей диссертации), не противопоставляя их “языковым”, и в дальнейшем это специально не оговариваем. Метафоризация-кодирование и декодирование как моделируемые,
закономерные процессы (и как феномены) и метафорогенная деятельность, включенная в общую коммуникативную деятельность человека, приобретают самостоятельные объектные значения, хотя и отождествляются иногда друг с другом на уровне терминоупотреблений. Исследование этих объектов возможно в самых разных направлениях и с разных позиций. Описывая любой объект изучения, мы прежде всего должны отграничить его
от других смежных объектов, и в нашем случае задача определения максимальной и минимальной границ метафоры – чрезвычайно сложная. Если метафорическим объявляется не только речевое, но и все коммуникативное и –
40
шире – социокультурное поведение человека17, не только продукт ментально-речевой деятельности человека – текст со своей семантической стороны, но и грамматические правила организации этого текста, а также программы коммуникативного поведения, реализованные в ходе его создания, то, естественно, встает вопрос о метафорическом объектном максимуме (и его структуре) и метафорическом объектном минимуме. Метафорогенная деятельность человека не ограничивается его креативными
способностями, а “пронизывает” всю его жизнедеятельность. Человек вырастает среди метафор и воспринимает мир через определенную “метафорическую вуаль”, что во многом предопределяет его общую коммуникативную компетентность 18 . Исследователями неоднократно подчеркивался инстинктивный характер метафорогенной деятельности 19 . Мы можем предположить, что искомый метафорический максимум заканчивается там, где заканчивается деятельность человека. Его стремление интерпретировать каждую компоненту своего поведения (порой не только креативного, но и деструктивного) позволяет необычайно расширить границы метафоры-объекта и тем самым ввести ее в фокус, например, этики и этологии, не говоря уже о социальной психологии и всех ее прикладных областях. “Человек, не выбирая, находится в метафорике экзистенциального, что имплицитно «навязывает» определенный «спектр» поведения” [Крюкова 2001: 90–91]. Соответственно, структурная организация метафорического максимума будет существенно отличаться в зависимости от той сферы деятельности, в которой он реализуется, от широкого социокультурного и конкретно реализуемого коммуникативного контекстов.
17 Яркие примеры поведенческих метафор приведены в книге “Дегуманизация
искусства” Х. Ортеги-и-Гассета, который, вслед за H. Werner, считает первоисточником метафорогенной деятельности табу [Ортега-и-Гассет 2002: 213—268].
18 Заметим, что коммуникативная компетенция, конечно же, предполагает знание не только поведенческих метафор и символов метафорической природы. В коммуникации активны и символы метонимической природы. Их примерами, на наш взгляд, могут служить предметные проводники-символы, описанные еще П. А. Сорокиным в книге “Система социологии” [Сорокин 1920]: горсть земли, револьвер, ключи, знамя и многие др. приобретали символическое (уточним, метонимическое) значение в определенных коммуникативных ситуациях. Так, собственник в древности, передавая другому горсть земли, знаменовал передачу права собственности; командир полка, присылая опозорившему мундир полка офицеру револьвер, посредством его передавал приказ застрелиться; ключи от города, переданные победителю побежденными, знаменовали поражение и признание смены власти; знамя полка, захваченное неприятелем, символизировало гибель или полное поражение соответствующей воинской части.
19 Ср., например: “Как отмечал Ф. Ницше, язык состоит исключительно из метафор, постоянное создание которых является основополагающим инстинктом человека, хотя он и не осознает метафорический характер языка” [Маковский 1996а: 15—16]; “Метафора вообще не имела бы смысла, если бы за ней не стоял инстинкт, побуждающий человека избегать всего реального” [Ортега-и-Гассет 2002: 245—246]
41
Например, для адекватной социокультурной и коммуникативной интерпретации метафорических по своей природе номинаций торговых марок, созданных отечественным военно-промышленным комплексом, – таких как “Нежность” (марка наручников), “Аргумент”, “Аргумент–2” (марки дубинок), “Ласка” (марка электрошокового устройства) и т. п., – недостаточно констатировать циничность их авторов, а требуется привлечь анализ всей суммы знаний информационного характера, которыми те обладают и используют в практике общения. Метафора может быть и специальным объектом лингвоаксиологических
гендерных исследований в коммуникативистике: мужская и женская аудитории будут по-разному оценивать, например, степень комического эффекта, создаваемого развернутой метафорой, катахрезой и результатами реметафоризации в псевдонаучном тексте, который можно рассматривать или как анекдот или как загадку: “ЭЛЕМЕНТ: 115. СИМВОЛ: Fm.
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ: Адам. АТОМНАЯ МАССА: 60 кг; также встречаются изотопы от 40 до 250 кг. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ: Очень распространен. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Тает при определенном воздействии. Самопроизвольно закипает и без внешних причин охлаждается. Коэффициент расширения увеличивается с годами. Мнется при сдавливании в определенных местах. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Очень хорошо взаимодействует с Au, Ag, Pt и другими благородными металлами. Поглощает дорогостоящие вещества в больших количествах (результат реметафоризации 20 . – О. А.). Может неожиданно взорваться. Быстро насыщается этиловым спиртом (результат реметафоризации. – О. А.).
Активность варьируется в зависимости от времени суток. ПРИМЕНЕНИЕ: Широко применяется в декоративных целях, особенно в спортивных автомобилях. Является очень эффективным чистящим и моющим средством. Помогает расслабиться и снять стресс. КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ: Приобретает зеленую окраску, если рядом находится другой образец более высокого качества. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При попадании в неопытные руки представляет серьезную опасность. Запрещается иметь более
20 Думается, данные случаи следует отличать от случаев реализации метафоры,
описанных в работах Р. О. Якобсона, В. М. Жирмунского, В. К. Тарасовой, В. П. Москвина (ср.: “стилистический прием реализации метафоры состоит в развертывании метафоры, понятой в нарочито буквальном смысле” [Москвин 2000: 45]). В приведенной загадке метафорические, на первый взгляд, номинации поглощать, насыщаться, используемые для характеристики химических свойств элементов, метафорами не являются. Стилистический прием подобного параллельного ввода метафор и не-метафор, используемый для создания комического эффекта, мы предлагаем определять термином “реметафоризация”. Результаты реметафоризации следует также отличать от ложных метафор [Лагута 2003, I: 104].
42
одного образца. Однако можно иметь и большее количество образцов, но держать их следует отдельно друг от друга, таким образом, чтобы они не взаимодействовали между собой – о женщине (“Весь Академгородок” 2002). Совокупные национальные метафорические максимумы, включающие
системы метафор-языковых знаков, метафор-концептов, метафор-действий (системы поведенческих метафор), результаты всей метафорогенной деятельности человека, как лингвистической, так и нелингвистической природы, в определенных своих участках будут совпадать у носителей разных культурных архетипов одного периода или у носителей одного культурного архетипа в различные исторические периоды. Совпадающие (или несовпадающие) участки позволяют говорить о существовании метафорических универсалий (или, напротив, уникалий) на языковом, когнитивном и этологическом уровнях, и определение этих универсалий должно стать одной из главных задач современных общих метафорологических исследований. Думается, общая метафорология может многое открыть и для частных
метафорологических исследований. “В современной европейской традиции принято рассматривать как текст все, что создано искусственно: не только книги и рукописи, но и картины, здания, интерьер, одежду и многое другое, что еще иначе называется артефактами” [Багдасарьян 1998: 120] 21 . Метафорическим макрообъектом, реализуемым в таком макросемантическом пространстве текста-действительности, можно считать общую метафорику – совокупность всех результатов метафорогенной деятельности человека, а также механизмы самой этой деятельности, включая ее ментальные, поведенческие и языковые составляющие. Другими словами, метафорика включает в себя и общий метафорический максимум и сам механизм метафорогенной деятельности. Естественно, что общая метафорика представляет собой не изолированное явление, а глубинно и системно связанное со всеми прочими лингвистическими и
21 Ср.: Понятие текста изменялось в процессе развития общества. Так, “Ф. Бэкон,
Г. Галилей, Р. Бойль и другие мыслители Нового времени часто уподобляли природу, историю книге. Новое видение мира (природы, истории) позволяло сравнивать его с текстом, книгой. Истолкование природы как книги, как текста позволяло … искать в объектах и явлениях природы некоторое интеллектуальное начало, смысл, который, в принципе, может быть умопостигаемым. Отсюда следовало, что объекты и явления природы, будучи порождениями интеллекта, могут быть поняты так же, как мы понимаем продукты интеллектуальной деятельности” [Боголюбова 2000: 27].
Отметим, что метафора действительность – текст легла в основу другой метафорической идеи: действительность – нелинейный гипертекст. Под гипертекстом стали понимать такую форму организации материала, при которой его единицы представлены в нелинейной последовательности, т. е. как система возможных переходов, связей между ними, и, следуя этим связям, мы можем читать материал в любом порядке, образуя разные линейные тексты [Субботин 1992]. Метафора гипертекст легла в основу создания WWW – “Всемирной паутины”, которая сейчас занимает ведущее положение в системе глобальных компьютерных сетей Интернета.
43
паралингвистическими участками когнитивных и коммуникативных систем. Изучение общей метафорики хорошо вписывается и в область задач общей семиотики, исследующей не только естественные и искусственные языки, но и вторичные моделирующие системы – семиотические системы, построенные на основе естественного языка, но имеющие более сложную структуру. Вторичные моделирующие системы, ритуал, все совокупности социальных и идеологических знаковых коммуникаций, искусство складываются в единое сложное семиотическое целое – культуру [Лотман 1996]. Частные метафорики (метафорики носителей разных языков и социолектов
в пределах одной языковой общности) могут частично совпадать, так как тесно связаны в своей основе с глубинными архетипическими установками. Метафорика текста-действительности может исследоваться как в синхронном, так и диахронном планах, поскольку действительность динамична. Кстати, фундаментальная метафора мир – текст оказывается гносеологическим кладезем для самой метафорологии как науки. Определение окружающей действительности как макросемантического объекта привело к выдвижению такого понятия, как “развернутая метафора” [Riffaterre 1969], которое также может быть описано и средствами поэтико-риторической терминологии, и семантико-интерпретационными терминами. В частных метафорологических исследованиях встает вопрос о статусе
минимальных метафорических объектов. Что представляет собой метафорический минимум? Для всех нелингвистических областей (философии, логики, психологии и т. д.) таким минимумом, следуя античной традиции, признается сущность, репрезентируемая словом, но таковым не являющаяся. В философской, логической и прочих науках проблемы, связанные с определением границ слова, его тождества, частеречных характеристик и т. п., при изучении метафор чаще всего не рассматриваются. С границами лингвистической метафорики – объекта лингвистической
метафорологии, или лингвометафорологии, все обстоит сложнее. Как справедливо отмечает В. П. Москвин, “общей теории метафоры мы до сих пор не имеем. В специальной литературе отсутствует исчерпывающая, а главное, убедительная и непротиворечивая информация о разновидностях метафорических наименований. Прикладная лингвистика, со свойственным этой отрасли языкознания здравым смыслом, реагирует на такое состояние теоретической разработки вопроса вполне предсказуемо: в современных курсах стилистики освещению сложнейшего феномена метафоры обычно отводится не более одной, двух страниц” [Москвин 2000б: 123]. Для решения вопроса о полном описании метафорических наименований исследователь предложил построение классификации метафор на основе следующих пяти критериев: 1) тематического – выделяются следующие типы метафор: “антропоморфные”
44
(кричащие краски, шагающий экскаватор), “зооморфные” (вой ветра, револьверный лай), “флористические” (увядание кожи, расцвести – о женщине), “машинные” (аппарат управления, рычаги власти), “пространственные” (поле деятельности, высокие цены, широкая душа), “медицинские” (предвыборная лихорадка), “спортивные” (избирательная гонка, «Осенний марафон»), “экономические” (парламентский монополист), “финансовые” (политический капитал), “театральные” (суфлеры президента), “военные” (армия безработных, капитуляция власти), “музыкальные” (дуэт президента и спикера), и т. д.; 2) семантического – метафорические наименования группируются по значениям, например, метафоры, обозначающие красный цвет (вишневая шаль, рубиновые ягоды клюквы); количественные метафоры (море людей, армия муравьев) и многие др.; 3) функционального 22 – выделяются номинативные метафоры, впоследствии часто становящиеся “мертвыми”, или лексикализованными, лексическими (спутник Земли); декоративные (золото волос, брильянты росы); эвфемистические ([Ихарев:] Шума нет, да чай конного
войска вдоволь, скакунов? [Алексей:] То есть изволите говорить насчет блох? Н. Гоголь. Игроки); пояснительные, или дидактические (природная линза – о зрачке); оценочные (медведь, осел, змея – о человеке); 4) структурного – в зависимости от количества слов-носителей образа различаются метафоры “простые” (золото заката, море цветов); “развернутые”, или “цепочка метафор” (тот переводчик-перевозчик, который связывает многие дальние берега и все с одним, с этим берегом, русским языком. В. Н. Топоров). Развернутые метафоры могут быть двучленными, трехчленными и т. д., они состоят, по мнению В. П. Москвина, из двух частей – исходной метафоры (перевозчик) и метафорической развертки; 5) контекстуального – если а) названы и субъект, и объект сравнения (бриллианты росы), слово, называющее субъект сравнения (роса), является “ключевым”, или “опорным”, само метафорическое наименование при этом слове обозначается термином “метафора-сравнение”, или “замкнутая метафора”; б) назван только объект сравнения (в траве брильянты висли), такое метафорическое наименование описывается терминами “метафора-загадка”, “незамкнутая метафора”, “симфора”, более того, “при такой метафоре нет ключевого слова, играющего роль “отгадки”, однако есть широкий контекст, подсказывающий смысл слова-носителя метафоры (“загадки”). Иногда такого рода широкий контекст охватывает целое художественное произведение. В этом случае метафора-загадка вводится в заглавие текста: На дне (М. Горький), Обрыв (И. А. Гончаров), Стена. Бездна (Л. Андреев), Метель (А. С. Пушкин), Яма (А. Куприн). Метафора-загадка, опирающаяся на такой контекст и вынесенная в заглавие произведения либо его части, именуется метафорой широкого контекста
22 Количество функциональных типов метафор может варьироваться от двух [Шендельс 1972: 48] до пятнадцати [Харченко 1992].
45
(термин А. К. Аквеличева), ее смысл обнаруживается только после знакомства с произведением [Москвин 2000б: 123–128]. Исходной таксономической единицей классификации В. П. Москвина является единица лексического уровня. Метафорические наименования исследователь противопоставляет метафорическим фигурам – прономинации, персонификации (к этим фигурам мы отнесли бы и деперсонификацию, перифразу и некоторые другие). По свидетельству Ф. Растье, классическая теория метафоры именно потому и имеет недостатки, что слишком тесно связана с лингвистикой слова. “Не отрицая реальности слова, хотя и весьма проблематичной, признаем, что слово – совсем не простое понятие: в его содержание может входить как одна, так и несколько семем”, т. е. содержаний морфем, в концепции Растье, а потому “за основу лучше брать, пожалуй, морфему, содержание которой состоит – в однозначном контексте – из одной семемы23. Например, в устойчивом выражении Les femmes sont des fleurs метафору устанавливают, строго говоря, между содержанием морфем femm- и fleur-, а не между словами femme “женщина” и fleur “цветок” [Растье 2001: 189]. Другое дело, что в процессе самой метафорогенной деятельности автор метафоры или ее редупликатор (воспроизводитель) исходит из своего эмпирического и социокультурного опыта, который складывается в результате знакомства с такими “реалиями”, как женщины и цветы, но это связано уже не с языковыми объектами, а с экстралингвистическими условиями. Особый метафорический объектный статус приобретает и синтагма (если
продолжать использовать терминологию Растье, то это последовательность морфем, частным случаем которой может быть и слово): так в высказывании, содержащем метафорическое сравнение L’equipe se rua dans le camp des All Blacks comme une horde de sangliers, метафорическое отношение устанавливается не только между equipe и horde, но и между equipe и sangliers, в описании учитывается вся синтагма в целом: une horde de sangliers – “стадо диких кабанов” [Там же]. Метафорические синтагмы могут представлять собой одночленные единицы
(кобылка ‘саранчовое насекомое’, мушка ‘приспособление для прицеливания’) и словосочетания, например, двучленные генитивные метафоры (половодье чувств, глубины разума), метаморфозы (выть волком от ревности, сидеть тихой мышкой). Метафорическими могут быть также и целые единицы малых речевых жанров,
например, паремии (Старого пса к цепи не приучишь; На безрыбье и рак рыба;
23 Французские исследователи даже пытались заменить, как им казалось,
литературоведческий термин метафора на лингвистический метасемема [Dubois et al. 1974], но междисциплинарной терминологической раздробленности удалось избежать, хотя французский термин метасемема гармонично вписывается в структурно-семанти-ческую терминосистему.
46
Ворон ворону глазу не выклюнет), загадки, а также более сложные по структуре дискурсивные образования. Загадки вообще представляют собой часто одни метафоры: облачко на стебельке (одуванчик); модница крылатая, платье полосатое (пчела); из горячего колодца через нос водица льется (чайник). Метафорической может стать любая текстовая манифестация, причем успешность декодирования метафорического текста часто зависит не от широты или сложности организации его пространства, а, в большей степени, от коммуникативной компетентности читателя. Особенно это характерно для метафорических по своему происхождению символико-аллегорических текстов (например, морализаторской направленности), семантика которых обладает яркой и устойчивой индивидуальностью. Приведем пример: Один царь решил
задать большой пир. По всей стране разослал глашатаев объявить об этом пире, чтобы пришли люди любого звания и не только насладились щедрым угощением, но и были бы оделены несчетным богатством. Когда глашатаи проходили по городам и замкам, чтобы оповестить всех о царском пире, их в одном городе услышали двое людей – один крепкий и сильный, но слепой, другой хромой и слабый, но наделенный острым зрением. Слепой говорит хромому: “Любезнейший, увы нам: по всему царству объявлено, что царь задает богатый пир, где подадут не только какие кто пожелает кушанья, но и одарят всякого немалым богатством. Ты хромой, а я слепой, значит, мы не можем присутствовать на пиру”. Хромой говорит: “Если послушаешь моего совета, мы попадем туда оба и, как все остальные, получим богатства и насладимся пиром”. Слепой отвечает: “Всякий полезный нам совет я готов принять”. Хромой говорит: “Ты крепок и силен телом, я же слаб, ибо хромаю; посади меня на закорки, и я буду указывать дорогу, так как хорошо вижу, и мы оба сможем побывать на пиру и, как всем остальным, нам дадут подарок”. Слепой сказал: “Аминь, говорю тебе, это отличный совет. Сейчас же садись мне на спину”. Так они и сделали – хромой указывал дорогу, а слепой его нес. Оба побывали на царском пиру и тоже получили свою долю богатства (“Римские деяния”). История о хромом и слепом, попавших на царский пир, получает особую интерпретацию библейской направленности: пир ‘вечная жизнь’, глашатай ‘ангел’; царь ‘Бог, уготовивший людям блаженство вечной жизни’ (пир), “причем, чтобы вкусить радостей этого пира, богатому мирскому человеку (слепой) нужно взять себе на спину бедного и благочестивого (хромой)” и т. д. [Полякова 1980: 374]. Текстовые символико-аллегорические системы могут быть сколь угодно сложными и получать с течением времени дополнительные интерпретации или утрачивать часть своих толкований, и именно потому этот участок метафорики труден для описания (все имеющиеся
47
“словари культур”, “словари сюжетов”, “списки архетипов” и т. п. не содержат исчерпывающей информации24). Таким образом, как лингвистический объект метафора не ограничивается
единицами лексического уровня, и поэтому есть определенные сложности в формулировании ее определения. В нашей работе мы разделяем мнение С. А. Хахаловой [1997; 1998], понимающей под лингвистической метафорой разноуровневые единицы вторичной косвенной номинации, как то: номинативные знаки (слова, словосочетания), предикативные знаки (предложения), сложные предикативные знаки (тексты), основанные на “переносе” форматива с единичного или сложного денотата (часто фиктивного) на реальный (или фиктивный) единичный или сложный денотат / сигнификат. Границы лингвистического метафорического минимума определяются самой
языковой реальностью. В метафорообразовании могут участвовать структурные единицы разных уровней.
1. Основы словоизменительные и словообразовательные. В первом случае грамматические компоненты, выражающие словоизменительные и формообразующие категориальные признаки, могут не участвовать в метафорообразовании (твердый лоб твердолобый политическая твердолобость, мягкое тело мягкотелый мягкотелость законодательных органов). Во втором случае в мотиванте отсутствуют имеющиеся в мотивате словообразовательные форманты (тарельчатый клапан, свайный оголовок, предмедовый месяц В. В. Путина), и если производное слово мотивируется метафорическим ЛСВ производящего, то их связывают отношения так называемой метафорической производности [Лопатин 1975: 53–57].
2. Аффиксы и аффиксоиды с ярко выраженным словообразовательным значением и их конфиксальные сочетания. Ср.: Стоило Собчаку умереть, как он
стал распадаться на множество отдельных частей – хакамад, инфузорий, мафиотропов, антропофагов, путинофилов, либералококков, скуратофобов и прочих простейших (“Завтра” 2000); Чего стоит один только “демократический паханат” Зюганова (“Рос. Вести” 1995); А за окном – какая-то другая действительность, какая-то не жизнь, а антижизнь (“Правда” 1997).
3. Корневые морфемы, часто совпадающие в плане выражения с основами. Например, хомокартофелюс. Ср.: Два старика – фронтовой и энкаведешный –
24 Ср.: “Язык — это своеобразное кладбище метафор: слово, некогда бывшее
метафорой, со временем может утратить свои явно метафорические свойства, но затем снова подвергнуться метафорическим преобразованиям” [Маковский 1996а: 16]; “Едва ли возможно осуществление мечты Х. Л. Борхеса – создание «Всеобщей истории метафор». Конечно, можно умертвить «метафоры, которыми мы живем», сводя их либо к формально-логическим схемам науки, либо к выхолощенным штампам обессмысливающей речи, но в качестве эпифоры – «жертвы по умершему» – всегда возникает новая метафора, символика новой культуры” [Романенко и Чулков 1997].
48
картофельные ветераны. Интеллигент из Москвы картофельный. А я – картофельный писатель. Все мы люди, из земли выкопанные (“Завтра” 1999).
4. Просодические элементы. Исследования последних лет показывают, что метафоризация может затрагивать и этот уровень языка [Ohala 1983; Вундт 1990; Любимова, Пинежанинова, Сомова 1996; и др.]. Работа, обобщающая результаты исследований звуковой метафоры, была выполнена Е. Г. Сомовой [2002]. Впервые механизм естественной звуковой метафоры был описан В. Вундтом [1990] и объяснялся “переходом представления в чувственный образ, аналогичный тому, который свойствен обозначаемой тем же названием фигуре речи” [Вундт 1990: 61]. Естественно, звуковая метафора функционально отличается от метафоры – стилистического приема. Когда говорящий произносит текст, он неосознанно выстраивает свою дыхательную и интонационную кривую и создает особый подтекст, и этот подтекст может поддерживать вербально выраженную информацию, а может и “противоречить” ей. В любом случае, – пишет Е. Г. Сомова, – это оказывает влияние на слушателя, либо сильнее убеждая его, либо заставляя переосмыслить полученное сообщение.
3. Лингвистические исследовательские подходы к описанию метафорики
Лингвистика, в отличие от философии и логики, исследует не просто отдельные метафоры (пусть даже фундаментальные, базисные, ключевые и т. п.), а весь языковой участок метафорики, всю его систему. Для философа интересны ключевые метафоры, для лингвиста — ключевые метафоры в кругу всех прочих, т. е. все метафоры концептуально-языковых систем и все существующие между ними связи, поскольку ни одна наука не может заниматься только частью однородных объектов, игнорируя остальные части. Количество трудов, посвященных лингвистическому изучению метафоры в разных аспектах, достаточно велико, но интерес к этому языковому явлению сохраняется, так как до сих пор не исследованы с должной полнотой все стороны его формирования и существования. Г. Н. Скляревская в докторской диссертации условно выделила 11 аспектов изучения языковой метафоры: семасиологический, ономасиологический, гносеологический, логический, собственно лингвистический, лингвостилистический, психолингвистический, экспрессиологический, лингвистико-литературоведческий, лексикологический и лексикографический [1989б: 3—4], но с учетом синхронного и диахронного описания метафорических объектов, количество “смешанных” подходов может возрасти почти вдвое. Масштабных диахронных исследований русской языковой метафорики пока нет, хотя существует ряд работ, освещающих частные проблемы формирования метафорических систем. Исследуются чаще всего источники заимствования метафор, например, отмечается особая роль
49
древнегреческого языка при формировании символической и метафорической систем церковнославянского и русского языков (С. С. Аверинцев, Т. С. Борисова) и роль французского языка при формировании метафорического языка русского придворного общества XVIII в. (В. В. Колесов). Немаловажным является и то, что в границах стилистики начала выделяться в качестве отдельной дисциплины так называемая историческая стилистика, поскольку было отмечено, что стилистические средства языка исторически изменяются (З. К. Тарланов, Т. С. Борисова). Аналогично можно говорить и о необходимости проведения исследований по исторической метафорологии. Кроме того, трудно найти исследования, в которых бы реализовывался только один подход, и, как уже отмечалось, общая картина лингвистической метафорологии усложняется тем, что метафоризация затрагивает все двусторонние языковые единицы: морфемы, лексемы, словосочетания (в том числе и фразеологизмы), предложения и текст.
Основной целью современной лингвистической метафорологии стало изучение метафоры как языковой универсалии и решение в связи с этим всех таксономических задач для постижения ее сущности и феномена. Ниже мы назовем лингвистические подходы к исследованию метафоры, детальное описание которых можно найти в указанных работах. Анализ лингвометафорологических трудов показал, что метафора и метафоризация могут рассматриваться как особые объекты в исследованиях следующих направлений.
1. Лингвопоэтические объекты, находящиеся на стыке предметных интересов лингвистики, текстовой поэтики, риторики и стилистики (H. Lausberg [1960]; М. Петровиh [1967]; Ш. Балли [1961]; С. Ю. Медведева [1979]; Н. А. Любимова и др. [1996]; В. П. Москвин [1997, 2000а, 2000б, 2000в]; И. В. Толочин [1996]; Н. Е. Цветкова [1997]; Б. П. Иванюк [1998]; и др.).
2. Ментальные сущности, концепты, обладающие особым механизмом образования. Такой подход наблюдается в когнитивистских исследованиях (M. Danesi [1989b, 1990], S. Winter [1989], B. Debatin [1990]; S. Larsen [1990] и др.).
3. Нейролингвистические объекты (M. Danesi [1989a], G. Gillett [1989] и др.). 4. Онтолингвистические объекты (S. Arsh & H. Nerlov [1950]; C. Richardson &
J. Church [1959]; S. Ervin & G. Foster [1960]; R. Klorman & L. Chapman [1969]; J. Piaget [1969]; H. Gardner [1974]; M. & H. Pollio [1974]; R. Billow [1977]; E. Winner [1980]; и др. Устанавливается строгая зависимость адекватного понимания метафорических конструкций от возраста (не ранее 11 лет), четкая корреляция способности к формально-операционному мышлению (в понимании Ж. Пиаже), растущих пропорционально с возрастом. Согласно данным Ж. Пиаже, который исследовал детские интерпретации паремий, невозможность такового до определенного возраста объясняется синкретическим характером мышления и
50
незрелостью соответствующих когнитивных механизмов, оформление которых и начинается примерно в 11 лет).
5. Герменевтические и интерпретационные объекты (В. П. Адрианова-Перетц [1947]; Б. Мейлах [1958]; I. Almeida [1980]; Г. Г. Гадамер [1960, рус. перевод — 1991]; С. С. Аверинцев [1980]; D. Lodge [1988]; M. G. Haley [1988]; M. Stala [1988]; J. Habermas [1991]; F. Fellman [1991a, 1991b]; Е. Добренко [1993]; Архетипы в фольклоре и литературе [1994]; Н. Ф. Крюкова [1999]; Миф — литература — мифореставрация [2000]; и др.).
6. Лексикологические объекты. Семантические исследования метафорических лексических единиц начинают привлекать внимание лексикологов, прежде всего, советских, с конца 50-х гг. ХХ в. (А. И. Смирницкий [1956]; В. А. Звегинцев [1957]; Ю. Л. Лясота [1957]; Ю. И. Левин [1965]; И. В. Арнольд [1966]; А. И. Федоров [1967]; Т. Ф. Кияненко [1968]; В. И. Корольков [1968]; Н. А. Купина [1968]; Н. И. Толстой [1968]; Е. Т. Черкасова [1968]; A. J. Greimas [1969]; и др.). Метафору рассматривают как результат деривации — семантической и словообразовательно-семантической (Ю. Л. Лясота [1957]; В. Д. Пятницкий [1968]; Л. Ф. Плотникова [1976]; Л. Н. Колесникова [1977]; Т. В. Симашко [1977, 1993]; И. С. Улуханов [1977]; Э. А. Лазарева [1982]; О. И. Блинова [1984]; Л. Р. Тиллябаева [1984]; Н. А. Лукьянова [1986]; Л. Н. Пелепейченко [1987]; Г. Д. Басова [1990]; Г. Н. Скляревская [1993]; и др.), как компонент в структуре полисеманта (Р. А. Будагов [1958]; Е. В. Заонегин [1971]; Ф. А. Литвин [1975]; Д. Магрысь [1977]; Л. А. Лисиченко [1978]; П. Н. Денисов [1984]; В. П. Казаков [1984]; Н. И. Бахмутова [1988]; И. С. Кузнецова [1989]; О. Н. Алешина [1992]; и др.), как микросемантический объект (D. Bolinger [1965]; E. N. Bendix [1970]; O. Duchacek [1973]; А. М. Кузнецов [1980, 1986]; Н. В. Цветков [1984]; и др.).
7. Объекты идиолектных описаний (Е. Т. Черкасова [1959]; Н. А. Купина [1968]; Поэтическая фразеология Пушкина [1969]; Е. А. Некрасова [1975]; В. Е. Захарова [1976]; Н. А. Басилая [1976]; В. Б. Гончаров [1977]; Т. Приступенко [1977]; Т. А. Фадеева [1978]; В. Н. Чембай [1976]; Н. С. Болотнова [1985]; Н. А. Кузьмина; Я. Х. Акиль [1992]; Н. А. Туранина [1997]; и др.). Обобщение результатов идиолектных исследований впоследствии позволяло исследователям переходить от “наблюдения над разрозненными стилистическими приемами в художественных текстах к рассмотрению тех универсальных закономерностей построения их речевой ткани, которые позволяют любому художественному тексту выполнять коммуникативную задачу” [Толочин 1996: 3].
8. Лексикографические объекты (Х. Касарес [1958]; О. Н. Селиверстова [1976]; А. И. Киселевский [1977]; Л. С. Ковтун [1978]; В. В. Морковкин [1981]; Анализ метаязыка словаря… [1982]; Дж. Филлмор [1983]; А. А. Уфимцева [1984];
51
Г. Н. Скляревская [1983, 1987, 1988а и 1988б, 1989а и 1989б, 1996]; О. Н. Алешина [1996]; E. Sommer & D. Weiss [1996]; Н. А. Кожевникова и З. Ю. Петрова [2000]; [Лагута 2003] и др.).
9. Лингвокультурологические объекты, отражающие место метафоры в так называемой “языковой картине мира” (В. Н. Телия [1988]; А. А. Уфимцева [1988]; H. Haarmann [1990]; P. J. Flinn [1991]; О. И. Усминский 1994; Н. Д. Арутюнова [1998]; E. Hellberg-Hirn [1998]; и др.). “Моделей, отражающих современный менталитет той или иной лингвокультурной общности, пока не существует. И это вполне понятно — «большое видится на расстояньи», а кроме того, они должны иметь дело не только с архетипами сознания, выявлением которых занимается в основном культурная и социальная антропология, или с «закрытым» набором фольклорного материала, но практически с необозримым массивом текстов, в том числе — художественных и публицистических, в которых обычно отражена индивидуально-авторская модель культуры, культурологическая интерпретация которых, в свою очередь, может носить сугубо индивидуальный характер. Единственный стабильный источник таких моделей — общенародный обиходный язык, являющийся хранилищем, транслятором и знаковым воплощением культуры” [Телия 1996: 235].
10. Объекты коммуникативистики и теории речевых актов (G. Lьdi [1973]; D. Mack [1975]; R. Keller [1975]; J. Nieraad [1975]; M. Shuster & J. Wickert [1989]; E. Paster [1989]; В. А. Банин [1995]; и др.). Не случайно специалисты по метафоре отмечают, что “вся логика развития лингвистической теории в последние десятилетия свидетельствует о том, что в ближайшем будущем основной акцент в научных исследованиях сместится именно на исследование текста как смыслового единства, а также на различные виды речевой деятельности. Главная проблема, которую решает сегодня лингвистика в разных аспектах, — это вопрос о том, каким образом абстрактное языковое значение превращается в конкретный смысл” [Толочин 1996: 3].
11. Объекты прагматических исследований (Н. Д. Арутюнова [2000], Н. А. Басилая [1971, 1972, 1976]; и др.). Исследователи считают, что метафора возникает в процессе использования языка в речи, а область действия живой метафоры (П. Рикер) — не предложение, а речевое высказывание, причем “метафора существует в отдельных предложениях только в лабораторных условиях. В повседневной действительности метафора возникает в неформальном и официальном общении для выполнения определенных коммуникативных целей” [Katz 1992: 626. Цит. по Толочин 1996: 29].
12. Семиотические объекты в исследованиях, рассматривающих собственно метафоры и символы (Ch. S. Peirce [1958] J. Link [1975]; G. Kunz [1988]; E. Hellberg-Hirn [1998]; Н. Д. Арутюнова [1988]; Т. С. Борисова [1997]; и др.).
52
Метафора вполне может быть и объектом социолингвистического описания (Г. С. Баранов [1994]; А. Н. Еремин [1998]; А. П. Чудинов [2001а]; и др.), поскольку различные субкультуры в составе некоторой магистральной культуры обладают базисными ценностями, но присваивают им разные индексы приоритетов [Lakoff & Johnson 1980a]. Социолингвистическое описание метафоризируемой лексики, используемой представителями разных социальных групп — носителями одного языка и/или разных языков, позволяет, с одной стороны, определить специфику их метафорогенной деятельности, а с другой стороны, выявить общие закономерности метафоротворчества (ср.: “Новое время знаменуется новыми словами. Политики всех рангов, включая президентов великих держав, дружно заговорили о ценностях… Чаще всего <этот термин> используется формально, наподобие многих других, набивших оскомину штампов: “дружба народов”, “разрядка напряженности”, “права человека”, “перестройка”, “новое мышление”, “реформы”. Упорное повторение слова “ценности” с определениями “демократические”, “гуманистические”, “общечеловеческие” стало очередным политическим заклинанием” [Розов 1998: 11]). Аналогичным образом нам представляется чрезвычайно интересным описание метафорики в диалектах (например, [Васильева 1979; Коготкова 1979; Лукьянова 1986; Араева 1994; Колосько 2002]) и социолектах в синхронном и диахронном аспектах (А. М. Панченко и И. П. Смирнов [1971]; И. С. Кузнецова [1989]; Л. В. Балашова [1998]), а также анализ политических метафор в разных языках, в том числе и “тоталитарных” (как это осуществлено в [Meyer 1969; Edelman 1976; Enlich 1989; Добренко 1993; Гудков 1999; Федосеев 2000; и др.]), сравнительный анализ метафорики носителей воровского арго и профессиональных жаргонов25 и т. п.
25 Так, возникшие в системах национальных языков в конце ХХ в. подсистемы
компьютерного сленга практически еще не получили достойного метафорологического описания, хотя, например, в русском компьютерном сленге, по данным О. Новиковой, до 40% единиц образовано лексико-семантическим, чаще всего метафорическим, способом. Ср.: у слова альфа в компьютерном сленге сформировалось значение ‘первый пробный выпуск программы’ (как известно, альфа — первая буква греческого алфавита); у существительного астма — значение ‘язык программирования низкого уровня’ (наблюдается актуализация ядерных сем “удушье”, “дискомфорт”); у слов бандура, банка, ящик — значение ‘компьютер’, за счет актуализации семы “вместилище”; существительное бацилла употребляется в значении ‘компьютерный вирус’). Эти новые значения демонстрируют системность референтно-вербальных ассоциаций носителей русского языка, ср.: болтун ‘программа для воспроизведения речи через встроенный динамик компьютера’, дистрофик ‘максимально облегченный интернет-терминал’, напильник ‘чистящая дискета’, маразм ‘резкая нехватка памяти компьютера’, мышь отечественного производства (очень большая по сравнению со стандартной) метафорически обозначается как крыса и т. д.
53
4. Метафора как языковая универсалия
Метафора рассматривается как ярчайшая языковая универсалия (У. Эко;
С. А. Хахалова и др.). Как считают исследователи, основой языковой метафорической универсальности являются, во-первых, единые биологические и психологические начала людей, говорящих на разных языках, во-вторых, единство функции разных языков мира — быть средством вербальной коммуникации, а через метафоризацию осуществляется вербализация даже несуществующих явлений, в-третьих, единство когнитивных механизмов людей, творящих метафоры, в-четвертых, единство самого механизма метафорообразования во всех языках. Языковую метафорическую универсальность формируют:
1) типологические характеристики метафорических объектов как результатов метафорогенной деятельности человека, метафоричность — универсальное свойство этих объектов (“к типологическим характеристикам метафоры как единицы реализации категории метафоричности относятся функциональная транспозия, структурный тип номинации, стилистическая значимость, стилистическая и экспрессивная окрашенность”);
2) типологические характеристики метафоризации (их исследование позволило выявить следующую зависимость: “если возможен полный метафорический перенос, значит, возможно существование односторонней ономасиологической метафоры. Если возможно существование односторонней ономасиологической метафоры, значит, возможно существование односторонней семасиологической метафоры. Если возможны односторонние ономасиологические и семасиологические метафоры, значит, возможны и двусторонние метафоры с полным метафорическим переносом”);
3) отсутствие видимых границ метафорической универсальности, которое объясняется тем, что в каждом языке знак метафорического характера безгранично асимметричен, что и находит отражение в знаковом дуализме метафоры (см. подробнее [Хахалова 2000а: 180—181]).
Анализ всех исследовательских подходов в рамках лингвометафорологии позволяет распределить их по двум основным направлениям: лингвометафорология кодирования (охватывает исследования по нейролингвистике, когнитивистике, онтолингвистике, коммуникативистике и теории речевых актов, прагматике, семиотике) и лингвометафорология декодирования (кроме перечисленных научных направлений, представители которых также занимаются изучением процессов кодирования, включает такие направления, как лингвостилистику, текстовую поэтику, интерпретационную лингвистику и предшествовавшую ее появлению, но фактически сомкнувшуюся
54
с ней современную герменевтику, лексикологию и, в частности, дериватологию, идиолектную лингвистику, лексикографию, лингвокультурологию, социолингвистику). К сожалению, данные направления кодирования и декодирования иногда смешиваются, и одними и теми же терминами описываются метафора, метафоризация-кодирование (метафорообразование) и процесс декодирования метафор.
Существует группа исследовательских подходов в лингвистике, результаты которых могут быть тесно связаны между собой, — это, прежде всего, структурно-семантический, ассоциативно-когнитивный, широко использующий достижения современной психологии и философии, интерпретационный и лексикографический подходы: они, в силу своей особой значимости для лингвометафорологии, будут рассмотрены нами более подробно.
5. Специфика объектно-предметных приоритетов метафорологии
1. Как известно, само понятие “наука” включает в себя как деятельность по
получению нового знания, так и результат этой деятельности — сумму уже полученных в данный момент научных представлений, образующих в совокупности научную картину мира или его фрагмента. Разумеется, полное научное описание метафорики мы можем получить, только познакомившись с результатами всех наук, имеющих метафорический объект в сфере своих интересов, ведь именно на пересечении предметных областей в объектном пространстве метафоры и возникает метафорология как самостоятельная структурная единица знания. Метафора — не просто языковой и/или речевой знак, “неясный” троп, ментальный механизм, поведенческий акт и т. д. (и если мы именно так будем подходить к метафоре, она действительно останется неуловимым для исследователя гетерогенным феноменом), а результат сложнейшей, иерархически (причем иерархически не линейно) организованной коммуникативной деятельности человека.
2. Метафорологию мы можем рассматривать как междисциплинарную отрасль научного знания, исследовательским объектом которой является как собственно метафорогенная деятельность человека, так и результаты этой деятельности. Другими словами, метафорология – это в прямом смысле знание о метафоре. Структура этого знания, как и структура любой науки, формируется в течение продолжительного времени, и мы не можем утверждать, что этот процесс завершен. Скорее, энтропия метафорологии как научной системы только-только начинается и, вероятнее всего, находится на этапе накопления и систематизации научной информации. Как правило, отрасли научного знания возникают в связи с формированием новых исследовательских подходов, а метафорология, напротив, объединяет самые разные подходы на основе
55
тождества объекта исследования, и эта интеграционная тенденция – на общем фоне современного дискретного знания – не может не быть привлекательной.
3. Взаимообогащению на базе предметного разнообразия, безусловно, способствует онтологическая “широта” и “глубина” метафоры – и как результата и как инструмента познания. Метафора вездесущна, она возникает везде, где человек может проявить себя, и пронизывает все человеческое существо, более того, она же может быть источником радости – радости узнавания, декодирования и/или креативного и эстетического познания. Трудно предположить, что существует еще одна подобная универсалия, характерная для понятийного, языкового, психического, социального и прочих человеческих миров. Отсюда сложность описания объектных приоритетов метафорологии, формирующих особый комплекс исследовательских задач, а именно: определение исследовательских предметных приоритетов и структуры общей метафорологии.
4. В зависимости от предмета исследования и применяемых подходов мы можем выделить философскую, логическую (включая девиатологическую), психологическую и лингвистическую метафорологию. Частнообъектное описание метафора получает в рамках этих отдельных наук в границах их предметных задач, и, поскольку она тесно связана с человеком говорящим, мыслящим, социальным и т. д., с наукой о ней происходит то же самое, что и с наукой о Человеке: в настоящее время представить единое синкретичное знание, способное объединить результаты антропологии, этнографии, истории, социологии, психологии, философии, лингвистики, литературоведения, медицины, генетики и т. п. невозможно. Так и метафорогенная деятельность человека и ее результат – собственно метафора – оказываются в фокусе самых разных, порой слишком разобщенных, научных дисциплин.
5. Теория метафоры не может быть простой: метафора слишком сложный объект, но это, как говорится, не вина теории, а свойство объекта (его упрощение, “очищение” переводит метафору из статуса объекта реального в статус объекта теоретического). К истине о метафоре можно приблизиться только после подробной “проработки” всей имеющейся о ней информации. Логики и философы рассуждают о “метафоре вообще”, не видя часто всего того разнообразия, которое предлагает метафора, как если бы ботаники рассуждали о “растениях вообще”, не изучив предварительно все многообразие их конкретных видов и среды обитания. Философская и логическая дедукция в метафорологии явно опережает эмпирическое знакомство с объектом. Исследователи философских и логических направлений часто забывают, что собственно метафора — в некотором роде иллюзия, идеальный научный объект, объект теории, а не реальности.
56
6. Метафоры в языках, сознании и поведении не встречаются изолированно, по одиночке, а существуют только потому, что образуют системы; это те объекты, которые просто не могут существовать вне своих систем — и такая важнейшая черта должна учитываться любой теорией метафоры. Объектом метафорологической теории может быть только система метафор, хотя, как и ботаническая, метафорическая таксономия ограничена. Однако многие “общие” теории вообще не учитывают реального, существующего на настоящий момент положения в метафорике. Мы можем долго и красиво рассуждать о загадочности, разнообразии и сложности организации растительного мира, но если мы не выполним, как К. Линней, элементарных таксономических процедур, то вряд ли приблизимся к истинному постижению выбранного объекта. Путем, подобным линнеевскому, идет лингвистическая метафорология, поэтому в следующих главах диссертации мы рассмотрим самые известные и наиболее результативные лингвистические подходы к описанию метафоры. Максимально доступными объектами для эмпирического наблюдения оказываются метафоры в речи.
Вполне очевидно, метафорология как наука к настоящему моменту имеет свою историю, свой объект, предмет, постижение которого реализуется с помощью множества исследовательских подходов, т. е. вполне отвечает номенклатурным требованиям, предъявляемым ко всем специально выделяемым областям знания. Но до последнего времени метафорология при постижении объекта развивалась, скорее, в направлении “от общего — к частному”, чем “от частного — к общему”. Только глубокое всестороннее исследование национальных метафорик, особенно их языковых “участков”, а также изучение истории формирования конкретных национальных метафорических систем позволят описать общую метафорику, т. е. универсальные законы метафорогенной деятельности человека и систему результатов этой деятельности.
57
ГЛАВА ВТОРАЯ
СЕМАНТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Поскольку целью данного исследования является онтологизация результатов семантического моделирования в лингвометафорологии, то после краткого анализа исследуемого объекта мы должны описать и онтологические свойства данного метода. Предварительные наблюдения показали онтологическое сближение логических основ моделирования “вообще” и метафоризации. Поэтому, прежде чем приступить к характеристике моделей метафоризации (как результатов применения частнонаучного метода), мы должны рассмотреть, что представляет собой моделирование как метод лингвистической науки. Далее мы дадим характеристику семантическому моделированию на примере его применения в структурно-семантических исследованиях метафор. Для этого необходимо будет решить ряд частных задач.
1) Осветить логические основы описания метафоризации. 2) Дать общую характеристику структурно-семантических исследований и их
объекта, а также осветить ряд онтологических проблем, вызванных структурными свойствами объекта, и определить основы классифицирования единиц, формирующих описываемый объект.
3) Определить задачи семантического моделирования метафоризации (кодирования и декодирования).
4) Определить границы и объем понятий “модель” и “моделируемый объект”. 5) Определить параметры семантической модели метафоризации
(кодирования и декодирования). 6) Выявить и описать модели русской субстантивной метафоризации-
декодирования. 7) Охарактеризовать результаты применения данного метода в структурно-
семантических исследованиях.
58
1. Моделирование как исследовательский метод лингвистической
науки в свете проблем метаописания
В ХХ в. общенаучный метод моделирования получает широчайшее
распространение. Как известно, под методом исследования понимают способ построения и обоснования системы знания, а также совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действительности. Лингвистическая методология как учение о принципах исследования в науках о языке включает в себя три уровня: общефилософскую методологию, определяющую ориентацию, направления и принципы исследований в науке вообще, общенаучную методологию, включающую методы и принципы, применяемые в группах наук, и частнонаучную методологию, включающую методы собственно лингвистики.
Под моделированием обычно понимают метод изучения свойств и структуры реального объекта или явления на основании изучения свойств и структуры модели этого объекта или явления. Любое лингвистическое моделирование, в том числе и семантическое, как правило, является аналоговым и приближенным, а это вызывает ряд онтологических трудностей. Во-первых, видовые характеристики моделирования трудноопределяемы вследствие аморфности определения своего родового понятия. Во-вторых, поскольку понятие модели в европейском языкознании вообще стало возможным только потому, что главной единицей лингвистического анализа в течение долгого времени было слово, а не “корень” и “слово”, как, например, в арабской морфологии, и не тонированный слог, как в китайской морфологии, то возникли проблемы с определением статуса и границ моделируемого объекта (что моделируется: концепт? вся лексема? семема? лексико-семантический вариант? словоформа?). В-третьих, существует большое количество метаязыковых “накладок” в терминоупотреблении единиц, описывающих этот метод. Слишком часто моделирование отождествляется с категоризацией как логической операцией, с понятиями и с собственно метафоризацией. Все это предопределило круг задач, ждущих решения на данном этапе исследования, и структуру второй главы.
Как показали наши наблюдения, моделирование в лингвистике тесно связано с метафоризацией, а результаты применения этого метода часто описываются метафорически (подробнее об этом см. [Алешина 2001а, 2001б, 2001в; Лагута 2003в]). Роль метафор в современном отечественном лингвистическом метадискурсе и метафорических подходов в лингвистических исследованиях до сих пор практически не получала специального масштабного освещения26. В то
26 Исследователи, как правило, обращают внимание на отдельные стороны проблемы. См., например, остроумные замечания И. В. Толочина [1996: 33—34].
59
же время за рубежом метафорологические исследования терминосистем самых разных наук, включая и лингвистику, получили чрезвычайно широкое распространение, и некоторые ученые даже абсолютизируют метафорические подходы (см., например, работу Shi-xu “Linguistics as Metaphor: Analysing the Discursive Ontology of the Object of Linguistics” [2000]). Колоссальное количество исследований, посвященных анализу метафор в метаязыках и метафорических подходов в антропологии [Semantic Anthropology 1982; и др.], общей биологии [Haraway 1976; Evolutionary Processes and Metaphors 1988; Emmeche 1994; Keller 1995а, 1995b; Heelan 1998; и др.], генетике [Gelfand 1993; Ji 1997; и др.], химии [Azimov 1959; Knight 1966; Bowen 1992; Bhushan, Rosenfeld, 1995; и др.], когнитивных науках [Gentner, Grudin 1985; Indurkhya 1987; Way 1991; Ortony 1993; McClintock 1995; Jones 1995; и др.], экономике [Henderson 1982; McCloskey 1986; Khalil 1998; и др.], математике [The Machine as Metaphor and Tool 1993; Streefland, van den Heuvel-Panhuizen 1998; Scott 2000; и др.], медицине [Daugman 1991; и др.], философии [Rothbart 1984, 1990, 1997; Soskice 1985; Paton 1992; Paton, Nwana, Shave, Bench-Capon 1994; и др.], физике [Jones 1982; и др.], психологии [Soyland 1994; и др.], — а это далеко не полный перечень, — подтверждает существование постоянного интереса ученых к проблеме метафор в языке науки. Исследовательское внимание к анализу гносеологических и эвристических возможностей метафор в научном метадискурсе даже отразилось в создании упоминавшегося уже специального сайта “Metaphor in Scientific Thinking”, на котором можно познакомиться с многочисленными публикациями, посвященными этим вопросам. Не менее популярным становится выявление метафорических научных подходов к познанию объектов, причем свое продолжение данные подходы находят в прикладных областях и тем самым предопределяют направление развития прикладных наук и, что более важно, производственных технологий.
Таким образом, метафорам отводится особая роль в метадискурсивных описаниях, но в настоящее время в отечественном лингвистическом метадискурсе как метафоры используются центральные, важнейшие межнаучные компоненты терминосистем, такие как модель, категория, универсалия и др.
В философских исследованиях конца ХХ в., посвященных анализу онтологических вопросов (см., например, работы О. А. Донских, Э. Б. Маркаряна, Е. И. Симоновой, Н. М. Таланкиной, Т. Б. Носенко, З. А. Сокулер, Л. И. Тетюева, Ю. Д. Артамоновой, Ю. В. Кругляк, Л. Н. Реснянской, Л. С. Ромащенко, Н. А. Суллаевой, А. М. Брутяна, А. Н. Портнова, В. Н. Семеновой, Р. Мухамадиева и др.), выявление связи языка и познания признается наиболее актуальным для современной науки, но в лингвистических трудах это почти не находит отражения. В 90-е гг. ХХ в. в отечественной философии и лингвистике на первый план выступает переосмысление основных проблем методологии
60
разных отраслей знания, включая и методологию моделирования (И. Н. Ястремский, Н. А. Гречишкина, Н. А. Ратушная), в том числе и философии языка (А. Ф. Грязнов, Д. И. Руденко, В. В. Валейтенок, И. В. Родина, Ю. В. Зартайская, Н. В. Блажевич, М. В. Лебедев, О. В. Крачинская, Ю. В. Баранчик, Н. И. Безлепкин, К. А. Переверзев, А. Б. Бочаров и др.). Несмотря на широчайшее использование в научном узусе терминологии, связанной с описанием моделирования, единого или хотя бы близкого смыслового наполнения она не имеет. Более того, в последнее время наблюдается целый ряд научных направлений, изначально задающих ложную ориентацию исследованиям, так как в них вообще не определяются границы объема и содержания понятий “модель” и “моделирование”. Наиболее часто смешиваются такие явления и соответствующие термины, как модель языка, языковое моделирование и языковая модель. Гармонизация данной терминологии (модель — категория — универсалия — архетип — тип — схема — формула) еще практически не начиналась, а анализ ситуации усложняется тем, что в работах одного и того же исследователя, в трудах представителей одной научной школы, использующих единую терминосистему, единицы данной терминологической лексики употребляются недопустимо “вольно” и порой исключительно метафорически. Наблюдения (а по лингвистическому моделированию только за 1990—2000 гг. было защищено более 150 диссертаций) показывают, что моделирование сейчас отождествляют, кажется, со всеми онтологическими методами — и с категоризацией, и с концептуализацией, и с классифицированием, и со структурно-функциональным анализом, и с типологией и т. д. Подобная интерпретация моделирования находит отражение в учебных пособиях. Надо отметить, что такой подход характерен именно для современной отечественной лингвистики (ср. с осторожностью в использовании терминов модель, моделирование, тип зарубежными исследователями, труды которых, часто при полном игнорировании мировоззренческих и методологических позиций авторов, столь активно осваиваются нашими соотечественниками). Четкие границы описания моделируемого объекта, к сожалению, часто отсутствуют, и из-за незаметной подмены понятий все исследование проводится в неверном направлении. Достаточно последовательно требования, предъявляемые к моделированию как к методу, выполняют только синтаксисты, а наиболее адекватное представление о модели — у исследователей, проблематика работ которых связана с прикладной лингвистикой. Однако, чаще модель метафорически осмысляется как категория (и категориальный признак), универсалия, тип, классификация (результат классификационной процедуры), схема, архетип и т. д., а статус модели приписывают выявлению существенных признаков описываемых объектов и даже результатам расчленения объекта.
61
Словом, все возможные операции с понятиями определяются метафорически как моделирование.
Метафорическое использование терминов реализуется в рамках метафорических же в своей основе исследовательских подходов. В нашей работе мы не ставим перед собой задачу осветить всю металингвистическую метафорику (это может быть целью самостоятельного исследования, см., например, [Лагута 2003в, I: 55—80]), а продемонстрируем некоторые из ее ярких “участков”. Автор обязан предупредить, что ни в коем случае не призывает к невежественной борьбе с метафорами в языке науки, а только отмечает, что, во-первых, метафоры требуют более внимательного отношения к себе со стороны исследователей, а во-вторых, любое моделирование сопровождается метафорическим “опредмечиванием”: события, явления, процессы описываются как статичные расчленяемые исследователем объекты, моделям которых впоследствии могут неожиданно приписывать свойства динамичности и т. п.
Метафорические модель и моделирование — воспринимаемые всеми как термины межнаучного ранга — фактически детерминологизируются не только в рамках языкознания в целом, но и в пределах терминосистем конкретных лингвистических школ. В связи с этим трудно говорить о сохранении их единых значений, фактически употребляются разные термины-омонимы, т. е. “самостоятельные наименования, сохраняющие внешнее сходство и общую изначальную сему, которая в каждой конкретной терминологии претерпевает модификацию” [Даниленко 1996: 252]. Значение слов модель, моделирование оказывается настолько “размытым”, что их терминологическая ценность в гуманитарных науках вообще и в лингвистике в частности утрачивается полностью. Причинами тому, на наш взгляд, являются, во-первых, происхождение данных слов и, во-вторых, их активное использование в конце ХХ столетия, в том числе и как единиц политологической и политической ритуальной лексики. Модель — заимствованное и хорошо освоенное слово — так же, как и
мотивированные им гибриды-кальки моделировать, моделирование, активно вошло в речевой оборот (о чем свидетельствуют просторечные фразеологизмы не модель, для модели) и до сих пор оценивается носителями языка как “престижное”, связанное с книжной культурой, однако по-настоящему осваивается только часть лексического значения этого слова, поэтому и происходит генерализация: моделью называют любую схему, чертеж, изображение, план, образец и т. п., а также все то, что может быть описано как схема, чертеж, план, график, образец и т. п. в переносном (метафорическом и метонимическом) значении. Ср.: схема электрической сети — схема ответа — модель ответа; чертеж детали — чертеж рассуждений — модель рассуждений; план города — план доказательства — модель доказательств и
62
т. д. Способствует детерминологизации и то, что онтологически моделирование ближе всего имитированию — воссозданию образца, поэтому не случайно во многих языках понятия “модель”, “образ” и “образец” описываются одним и тем же словом. Это явилось результатом выстроенных последовательных, ассоциативных по своей природе, метафорических связей: модель < образец (образ) < лучший представитель своего рода < просто представитель своего рода < копия < отпечаток. Подобные ассоциативные связи в результате ономасиологической практики со временем закрепляются и имплицитно выражаются в структуре значения слова модель27. Кроме того, моделирование возможно только там, где существует ряд близких в чем-либо друг другу явлений, существенные признаки которых совпадают. Поэтому очень важными понятиями при описании моделирования (как и метафоризации) являются понятия аналогии, изоморфизма, равенства, тождества (и гомоморфизма), абстракции.
Неоправданное расширение значений слов, наблюдаемое в дискурсе, на наш взгляд, также влияет на употребление их терминологических омонимов в текстах научного стиля (ср., например, употребление слов категория, универсалия в современных текстах: Одна из этих великих универсалий — заповедь “НЕ
УБИЙ!”, которая, в той или иной форме, возникла у всех народов. Универсалии рождаются и сегодняшней практикой жизни. Разве не является универсалией — универсальность технического развития или утверждение элементов планирования в либеральной экономике (Н. Н. Моисеев. Судьба
27 Ср. словарные толкования: модель — “1. Образец, образцовый [1] экземпляр какого-л. изделия (спец.). М. товара. М. платья. 2. Воспроизведенный, обычно в уменьшенном виде, образец [2] какого-л. сооружения (тех.). М. машины. 3. Тип, марка, образец [3] конструкции. Автомобиль новой модели. 4. Натурщик, натурщица <…> (искус.). 5. В литейном деле — образец [4] для изготовления формы, в которой должен отливаться какой-н. предмет (тех.). 6. Геометрический чертеж, схема для пояснения какого-н. физического явления или процесса (науч.). М. строения атома. 7. перен. О ком-чем-н., служащем примером, образцом [5] каких-л. действий. Это не м. для подражания. <> Не модель … (простореч. фам.) — не следует, нехорошо. Это не модель так поступать!” [Толковый словарь русского языка в 4-х тт. под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Русские словари, 1994. – Т. 2. Стлб. 241]; “1. Образец какого-н. изделия, а также образец для изготовления чего-н. Новая м. платья. М. для литья. 2. Уменьшенное (или в натуральную величину) воспроизведение или схема чего-н. М. корабля. 3. Тип, марка конструкции. Новая м. автомобиля. <> Для модели (прост.) — для видимости. Это не модель (прост.) — так не годится делать” [Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. С. 348]. Лексикографы отмечают особую актуальность номинации модель в значении “манекенщица, натурщица, позирующая для рекламы” (С моделями же можно будет работать тогда, когда они поймут, что это труд, а не способ уехать за границу) в 90-е гг. ХХ в. по сравнению c ситуацией прежних лет (в МАС-2 это значение слова было отмечено как “Устар. Тот, кто позирует перед художником; натурщик, натурщица”) [Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения / Под ред. Г. Н. Скляревской. РАН, Ин-т лингв. исслед. Изд-во “Фолио-Пресс”. СПб., 1998. С. 395].
63
цивилизации. Путь разума); Универсалии человечности: от первобытности до глобализации (заголовок в газете); “песок и вода” — совершенно опустошенные
лексемы. Относясь к универсалиям риторики, “образ” руин, как и прежде, необоримо увлекает в свое неослабевающее очарование (А. Драгомощенко. О песке и воде); в стране профессиональных философов (и любителей поэзии)
никто не станет спрашивать, что такое философия, ее понятие есть языковая универсалия нашего культурного ареала (И. Пешков. О(т)речение мысли); отсутствие дидактики,.. оригинальные языковые универсалии (из заметки “Мир его песен” о творчестве Б. Гребенщикова); Эти постановочные
композиции являются воплощением моих представлений о категории жизни и смерти, одиночества, индустриальной драмы и космической энергии, представленной в эстетике эфемерности и сна (из интервью с Kарло Феррарисом); Успех и неудача суть первичные категории жизни, достижение блага и избегания зла — ее высшие интересы, надежда и тревога — господствующие качества опыта (Дьюи); В сущности, сожительство как некая
категория жизни, на время (а может, и навсегда) заменившая брак, оказывается неизменной частью, составным элементом первобытного житья-бытья (А. Козлова. Сожительство вместо замужества)). Надо отметить, что это, видимо, характерно вообще для лексических единиц подобного рода. Так, в исследовании Э. Ханпира есть наблюдения относительно судьбы значений слов идеология и философия в современном русском языке. Если в толковых словарях номинация идеология определяется как “мировоззрение, система взглядов и идей... // Идейное содержание, философское направление” [Словарь под ред. Д. Н. Ушакова]; “система взглядов, идей, характеризующих какую-нибудь социальную группу, класс, политическую партию, общество” [Словарь С. И. Ожегова]; “система идей и взглядов: политических, правовых, философских, нравственных, религиозных, эстетических, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности, выражаются интересы социальных групп” [Современный словарь иностранных слов 1992], то в разговорной речи структура значения этого слова значительно расширяется, причем не в результате, например, калькирования (в языках-источниках подобных значений у соответствующих слов не зафиксировано). Ср.: идеология машинной обработки документов; идеология компьютеризации архивного дела; идеология выпуска колесных тракторов; идеология охраны банков. По мнению Э. Ханпира, на изменение структуры значения слова идеология повлияло слово философия, у которого Большой и Малый академические толковые словари фиксируют разговорное значение: “сложившееся убеждение по поводу чего-либо, концепция”. “Поступил ли импульс к семантической эволюции в слове идеология со стороны слова философия, или эта эволюция произошла без посторонней помощи, в любом случае в новом значении утрачен ряд, присущих прежнему (нет
64
сем ‘мировоззрение’, ‘социальная группа, класс, политическая партия, общество’), произошла генерализация” [Ханпира http://news.1september.ru/rus/1997/no29.htm]. Аналогичная генерализация значений, сопутствующая детерминологизации, по нашим наблюдениям, обнаруживается не только у слова модель, категория, универсалия, но и у слов тип, архетип, прототип, образец, система, структура, схема, классификация (как результат классификационной процедуры), концепт. Метафорическое использование центральных компонентов терминосистем только ускоряет генерализацию первых.
Таким образом, самой большой проблемой в описания метафорических объектов является то, что они описываются метафорическими терминами в рамках метафорических подходов. Частично снять это противоречие позволяет логический анализ метафоризации и последующее ее семантическое моделирование.
2. Логические основы описания метафоризации
Семантическое моделирование является следствием логического анализа
языковых фактов. Логическая в своей основе теория значения и метафоры (Аристотель, Квинтилиан, Ch. S. Peirce, R. Carnap, P. Forcheimer, J. G. Kemeny, Г. Фреге, Б. Рассел, М. Блэк, Г. С. Баранов, К. И. Алексеев и др.) получила дальнейшее развитие в лингвистических исследованиях, правда, с последующим “игнорированием” такой важной составляющей логического анализа, как “истинность суждения”. Логическая метафорология занимается решением двух основных вопросов:
референциального и феноменологического. “Метафора не является только проблемой языка. Она есть проблема «соотношения» мышления и языка. И это видно уже из того факта, что непроизвольно высказанное в предыдущем предложении слово «соотношение» и есть сама «метафора», то есть «перенос» – вынашивание мыслью слова и несение словом мысли. Мышление и язык – относительно самостоятельные сферы, имеющие свои собственные внутренние законы развития. Пребывая в собственной чистоте, они трансцендентны друг другу” [Романенко и Чулков 1997]. Однако прямого изоморфизма между элементами языка и сегментами окружающего мира нет [Копнин 1982], и логиками, таким образом, был поставлен вопрос: что выражает метафора и с чем она соотносится, будучи небуквальным выражением. Проблема “парадоксов метафорической референции” была подробно
рассмотрена Г. С. Барановым. Первый парадокс метафорической референции, по мнению исследователя, заключается в том, что метафора не может быть понята, если не сохраняются буквальные референции образующих ее
65
терминов, и, в то же время, она оказывается бессмысленной, если эти буквальные референции сохраняются: значение метафоры должно быть буквальным и небуквальным одновременно. Отсюда вытекает второй парадокс: метафора является значимой (референциальной), но в каком-то совсем другом смысле термина “значение”, чем тот, в котором этот термин обычно употребляют. В рамках фреге-расселовской теории семантики допустимо утверждение о том, что метафоры лишены референции и обладают лишь смысловым содержанием, но при этом оказывается невозможным объяснение гносеологической функции метафор, и особенно метафор научных. Этот парадокс, – объясняет Г. С. Баранов, – состоит в том, что такие метафоры, отсылая нас к “чему-то”, в своем большинстве, очевидно, не обладают “значением”, во фреге-расселовском понимании (как указанием на актуально существующие объекты действительности). Если даже допустить абсолютную нереференциальность метафор, в силе остается еще третий парадокс: метафоры оригинальным образом сочетают в себе смысл и бессмыслицу, – чем дальше метафора “отстоит” от уровня буквального смысла, т. е. чем более она абсурдна, тем большим эвристическим потенциалом она обладает, и наоборот. Но именно потому, что ничем не ограниченный произвол творца метафор все-таки невозможен (если он хочет, чтобы смысл созданных им метафор, кроме него самого, был бы доступен кому-либо еще), следует допустить наличие каких-то онтологических
(референциальных) условий, которые выступают в качестве отправных координат конечной интерпретируемости смыслового потенциала метафоры и отсутствие которых делает такую интерпретацию невозможной, а саму метафору – бессмысленной (выделено нами. – О. А.) [Баранов 2001: http://www.fsf.tsu.ru/Webdesign/FSF/fsf.nsf/414fafb4741715b74625686c0047e43f/6d0 ]. Отметим, что фактически такой (реальной!) системой координат может стать матрица моделей, организованная по тем принципам, которые мы опишем ниже. Действительно, на поставленный вопрос о том, где бытийствуют объекты
метафорической референции, сложно ответить однозначно, и выдвинутые Г. С. Барановым предположения, на наш взгляд, до определенного момента являются аргументированными и непротиворечивыми, хотя и представляют собой многоуровневую развернутую текстовую метафору, ср.: “В силу прогрессирующего, пульсирующего, динамического характера культуры язык и его онтологический уровень должны находиться в процессе непрерывных трансформаций и изменений. Так это и есть. Но что такое культура в широком смысле? Это ф о р м а и с п о с о б социального взаимодействия людей. Следовательно, онтология языка производна от социального, точнее –
66
социокультурного – динамического взаимодействия индивидов. При подобном истолковании атомарная теория языкового значения, господствующая в лингвистике и логике от Аристотеля до наших дней (К. Поппер, У. Куайн, Д. Дэвидсон и др.), выглядит принципиально неадекватной. По этой теории значение содержится в языке, как вода в колодце, причем иногда ее можно оттуда “вычерпать”, а иногда по каким-то мистическим причинам – нельзя. Она должна быть заменена или, по крайней мере, существенно дополнена реляционной теорией значения (М. Хессе, М. Даммит, Д. Болинджер, Д. Бикертон и др.), согласно которой значение не содержится ни в языке самом по себе, ни в сознании говорящего или слушающего, ни в связи между языком и объективным миром. “Если сознание где-то и содержится, – констатирует Д. Бикертон, – то только в отношении «говорящий – язык – слушающий». Иначе говоря, значение обладает социокультурной, интерактивной природой. Именно в социокультурном взаимодействии актуализируется онтологический уровень языка; именно здесь – “место пребывания”, виртуального бытия объектов языковой референции вообще и метафорической – в частности. Итак, объекты метафорической референции – это «образные модели», бытийствующие в пространстве культуры. Вот почему метафора референциально не соотносима с элементами «объективной действительности». Но «образные модели» как фантомы культуры не сводимы к чистому мышлению” [Там же]. Взаимодействие метафорики с социокультурным опытом вообще является более сложным. Реляционная теория значения никак не отвечает на вопрос о естественной категоризации (он просто оказывается за ее пределами), хотя и проливает свет на некоторые стороны категоризации лингвистической. Устанавливать здесь причинно-следственные связи – задача невыполнимая в настоящих условиях. При поверхностном наблюдении мы действительно не можем отрицать внешней связи между семантикой языковых знаков и типами культуры (субкультуры), кумуляция – важное свойство не только естественных языков, однако характеры этих связей установить достаточно сложно. Наши общие рассуждения пока, увы, опережают тщательный анализ доступных эмпирическому наблюдению данных. Логика рассуждений Г. С. Баранова не вызывает, как мы уже отмечали,
возражений – фактически она подтверждает необходимость изучать не столько метафору-языковой знак, сколько метафорику вообще, если использовать нашу терминологию, – кроме одного: “атомарная” теория языкового значения приложима и к метафорическим знакам. Как только мы определяемся с онтологическим статусом метафорической референции, эта компонента теории начинает работать. В сущности, если мы оперируем с языковыми знаками, то для самого языка в целом не столь уж важен статус
67
референта (денотата, сигнификата), коль скоро у него нет специальных средств для репрезентации референтов (денотатов, сигнификатов) разной природы. Языку безразлично, для чего используются его единицы, но сам отбор единиц, участвующих в метафорообразовании, не случаен: реально существуют те самые определенные “онтологические (референциальные) условия”, и для построения адекватных моделей метафоризации требуется анализ всей лингвистической метафорики, а затем уже сравнение результатов этого анализа с результатами исследований метафорики внелингвистической. Тесно связанным с метафорой понятием оказывается логическое понятие
аналогии, даже если бы мы рассматривали соответствующие феномены на нейрологическом уровне (функционирование правого полушария головного мозга как раз и обусловлено использованием аналогий – спектра самых различных сравнений, а также метафор). Под аналогией понимают “сходство предметов (явлений, процессов и т. д.) в каких-либо свойствах. При умозаключении по аналогии знание, полученное из рассмотрения какого-либо объекта («модели»), переносится на другой, менее изученный (менее доступный для исследования, менее наглядный) в каком-либо смысле, объект” [Бирюков и Уемов 1970: 567]. Принцип аналогии лежит и в основе метафорообразования, а онтологические свойства аналогии полностью могут быть отнесены к метафоре. Однако следует помнить, что большинство аналогий и сравнений в известном смысле вводят нас в заблуждение [Титченер 2000], любая аналогия, мотивированная естественным подобием вещей, “натянута”, как и условна гносеологическая ценность метафоры. Чтобы стать полноценным индивидуальным знаком, метафора должна “потерять” аналогию, то есть “умереть”, стать стертой28. Одно из центральных понятий математики и логики – понятие
гомоморфизма – оказалось методологически важным как для теории познания в целом, так и для логической метафорологии в частности. Гомоморфизм относится к системе объектов с заданными в них операциями (или отношениями). Так, “гомоморфизм, или гомоморфное отображение, группы G на группу H есть отображение, при котором каждому элементу g, относящемуся к G, поставлен в соответствие определенный элемент h, относящийся к H (образ g), такой, что каждый элемент из H является образом некоторого элемента из G и произведению (сумме) двух элементов из G соответствует произведение (сумма) их образов” [Большая Советская Энциклопедия 1972, 7: 56]. Выявление подобного рода гомоморфных соответствий стало основной задачей, например, сравнительно-исторического
28 Следует отметить, что некоторые лингвисты, в отличие от логиков, различают
“стертые” и “мертвые” метафоры [Скляревская 1993].
68
метода, текстологических исследований, гомоморфные соответствия могут быть определены и при анализе национальных метафорик. Изоморфизм и гомоморфизм отражают “одинаковость либо уподобление
строения (структуры) систем (множеств, процессов, конструкций). Системы А и А1 называются изоморфными (или находящимися в отношениях изоморфизма), если между их элементами, а также функциями (операциями), свойствами и отношениями, осмысленными для этих систем, существует или может быть установлено взаимно-однозначное соответствие. В этом случае А и А1 называют изоморфным образом другой. Абсолютно изоморфные системы предполагают тождество объектов, однако в реальной действительности подобное тождество отсутствует (если, конечно, не считать идеальные условия изоморфизма реальными, однако целью нашей работы не является определение истины в спорах номиналистов и реалистов), поэтому в современной науке изоморфными и гомоморфными считают отношения, существующие между системами различной природы (например, отношения между фотографией и оригиналом, переводом языкового текста на некоторый язык и подлинником, географической картой и соответствующей местностью, чертежом машины и самой машиной, разговорной речью и магнитной лентой и т. п.) [Там же]. Как отмечают исследователи29, изоморфизм представляет собой отношения типа равенства, отсюда проистекает его методологическое значение как средства обоснования правомерности переноса знаний, полученных при изучении одной изоморфной системы, на другую. В отличие от изоморфизма, гомоморфизм, не будучи симметричным отношением, обосновывает перенос знаний лишь с гомоморфного образа на прообраз, но не наоборот (любые знания, извлекаемые из верной географической карты, переносимы на соответствующую местность, но не всё, что имеется на местности, отображается на карте). Метафора, таким образом, гомоморфна метафоризатору, как и полноценная модель, поскольку “понятия изоморфизма и гомоморфизма (всякий изоморфизм есть гомоморфизм, но не наоборот) используются для характеристики понятия модели и метода моделирования, а также гносеологической категории образа (если он фиксирован средствами каких-либо знаковых систем)” [Философский энциклопедический словарь 1983: 202–203]. Вопрос об обобщениях и абстракциях как о результатах соответствующих
логических операций – операций обобщения и абстрагирования – оказывается ключевым при характеристике онтологических основ процессов и результатов моделирования-метафоризации и определяется как вопрос о статусе и объективности модели-метафоры. Здесь нам кажется уместной аналогия с
29 См. подробнее в [Блохина 1988].
69
математической абстракцией – предшественницей всех остальных абстрагированных сущностей. Онтологический статус результатов моделирования до сих пор не определен так же, как до сих пор в онтологической практике не решен упоминавшийся спор между реалистами и номиналистами. Вопрос о реальном, объективном существовании общих понятий оказался “водоразделом” между тремя ведущими философскими течениями: реализмом (Гильом из Шампо, Аделард Батский, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, Ф. Суарес, а в ХХ в. – представители неореализма, критического реализма и критической онтологии), номинализмом (Н. Росцелин, У. Оккам, Т. Гоббс, Б. Спиноза, в ХХ в. – А. Тарский, У. Куайн и др.), концептуализмом (П. Абеляр, Дж. Локк и др.). Идеи номинализма, реализма и концептуализма становятся методологически важными для выяснения, во-первых, онтологического статуса результатов моделирования вообще, а во-вторых, для решения вопроса о естественной и лингвистической категоризации. Как ни странно, но не все исследователи считают целесообразным
логический подход к изучению знака (не только языкового), хотя сама семиотика гносеологически теснейшим образом связана с логикой. Как писал французский языковед Г. Гийом, “логика – это вымышленное движение вещей, в котором не учитываются дорожные происшествия и те помехи, которые вещи привносят вместе с собой, поскольку они являются вещами, а не просто идеями… Логика – это воображаемая пустота. Не знаю, каким был бы язык, построенный по этой воображаемой линии” [Гийом 1992: 18]. Немаловажной нам представляются в связи с этим и проблема “неудачной
метафоры”, а также не-метафоры, и проблема определения условий метафорического перенасыщения, затрудняющего декодирование-интерпретацию текста (эти вопросы становятся важными не только для логической, но и лингвистической метафорологии).
2.1. Девиатологический подход
Мы объединяем под термином “девиатологический подход” все исследования, выполненные в аспекте “метафора – категориальная ошибка”, “семантическая аномалия” [Hormann 1971], “синтаксический окказионализм” [Рипинская 1977] и т. п. Термин девиация широко применяется в психологических исследованиях
для обозначения разных видов отклонений в человеческом поведении. Психологи выделяют так называемую “позитивную девиацию” – такое отклоняющееся поведение, которое, хотя и воспринимается многими как необычное, странное или даже, возможно, как “ненормальное”, но в то же время в основном вызывает восхищение, а не неодобрение. Это могут быть
70
героические поступки, самопожертвование, сверхпреданность чему-либо и т. д. “Негативная девиация”, как правило, вызывает резкую общественную критику и воспринимается как неприемлемое антисоциальное поведение. В настоящее время единицы терминологической группы “девиация” широко используются в лингвистических исследованиях для обозначения всех видов нарушений коммуникативных норм, а девиатология рассматривается как общая теория речевых отклонений.30
2.1.1. Метафора как результат логической девиации
Обозначение одним и тем же наименованием разных денотатов закономерно приводило исследователей к мысли о возможности существования системных связей между денотативными объединениями, номинации которых вовлечены в метафорический процесс. К. М. Тербейн в своей работе “Миф о метафоре” [Turbayne 1970] замечает, что явление, лежащее в основе метафорического высказывания, сродни тому, что Г. Райл называет категориальной ошибкой (представление объектов одной категории в терминах другой категории). “Действительно, определение метафоры как способа говорить об одной вещи в терминах другой, на нее похожей, не содержит ничего принципиально нового. Метафору можно было бы назвать намеренной категориальной ошибкой” [Рикер 1990: 441]. Практически в любом тексте, как известно, реализуются две тенденции –
усиление экплицитности с одновременным ростом имплицитности. Последнее часто сопровождается увеличением экпрессивности, эмоциональности, эстетического воздействия на адресата [Арнольд 1982: 90]. “В реальной практике мышления и речи средством усиления имплицитности служат энтимемы… Энтимемой в формальной логике называют сокращенный силлогизм, в котором опущено одно из суждений” [Кривоносов 1996: 54]. С логической точки зрения, метафора как результат метафоризации
представляет собой энтимему, свернутое умозаключение. Однако подобные метафорические энтимемы могут возникать вследствие разных процессов, поскольку метафоризация-кодирование, как мы уже писали, отличается от метафоризации-декодирования. Прежде чем продемонстрировать это, отметим, что метафорам свойственны все признаки категорических умозаключений, в том числе и то, что в основе любого умозаключения всегда лежат причинно-следственные связи (точнее, “для каждого конкретного случая выражения умозаключения в естественном языке мы должны видеть в
30 См. подробнее работы Ф. Бацевича [2000; 2001]. Следует отметить, в западноевропейских и американских лингвистических исследованиях термины deviant, deviation, deviance традиционно применяются для обозначения всех видов языковых и речевых “неправильностей”, аномальностей, отклонений и т. д.
71
основе этого умозаключения причину” [Там же: 40]). Каузальность и метафоричность тесно связаны между собой. Рассмотрим совершенно разные по семантике метафорические энтимемы
игла Адмиралтейства (1) и Библия по31 управлению проектами – о книге Р. Д. Арчибальда (“Computerworld Россия” 2002) (2). Умозаключения-метафоры (или метафорические энтимемы), возникшие в
результате метафоризации-кодирования, можно представить следующим образом (мы опустим принятые в логике формальные средства записи, некоторые термины и промежуточные силлогизмы).
(1) Мы, как и поэт – автор метафоры, видим острый шпиль здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.
(Меньшая посылка)
Этот шпиль (S) – очень длинный по отношению к собственному диаметру, прямой, с острым концом (архитектурный элемент) (М).
(Большая посылка)
[Все знают, что] некоторые длинные по отношению к собственному диаметру, прямые, с острым концом (орудия) (М) –
иглы (P)
________________________________________________________________ (Заключение) Шпиль (S) – игла (P)
Как видим, при кодировании использовались и частноутвердительное и единичное суждения. При этом мы игнорировали важнейший признак правильного логического умозаключения – соотносимость сопоставляемых понятий, а потому средний член силлогизма (М) разрушен, поскольку орудия и архитектурные элементы реально не соотносятся. При метафоризации мы “заключаем в скобки” существенные признаки самих понятий и получаем в результате внешне логически “правильное”, но фактически ложное умозаключение (все знают, что архитектурный элемент не орудие). Выстроив посылки в правильном порядке, мы можем “развернуть” их следующим образом: поэт называет шпиль здания Адмиралтейства иглой ПОТОМУ,
ЧТО [все знают] некоторые длинные по отношению к собственному диаметру, прямые, с острым концом орудия – иглы, а этот шпиль – очень
длинный по отношению к собственному диаметру, прямой, с острым концом архитектурный элемент. Обратим также внимание на то, что при
31 Об употреблении в данном высказывании предлога см. ниже.
72
метафоризации-кодировании большая посылка “хронологически” оказывается на втором месте, а меньшая – на первом. Рассмотрим пример (2). Представим, что, как и автор метафоры (если бы
мы создавали эту метафору), мы видим объмную книгу Р. Д. Арчибальда о проектном менеджменте и знаем, что она признана самым ценным и авторитетным трудом в сообществе специалистов. (Меньшая посылка) Эта книга Арчибальда
(S) – очень объемная и самая авторитетная (в сообществе специалистов) (M)
(Большая посылка) [Все знают, что] самая авторитетная и объемная книга (в сообществе христиан) (M) –
Библия (P)
________________________________________________________ (Заключение) Эта книга Арчибальда (S) – Библия (P)
В данном случае при кодировании использовались только единичные суждения (которые, правда, по правилам логики, относят к общим). Метафорическую энтимему можно “развернуть” так: автор назвал книгу
Р. Д. Арчибальда Библией ПОТОМУ, ЧТО [все знают] самая авторитетная и объемная книга в сообществе христиан – Библия, а книга Арчибальда – очень объемная и самая авторитетная в сообществе специалистов. Как и в первом случае, мы игнорируем тот факт, что средний член (М) у нас “разрушен”: “специалисты” и “христиане” соотносятся опосредованно, да и сама полученная метафора оценивается русскоговорящими по-разному и может даже относиться к разряду кощунственных. Декодирование метафор представляет собой иной процесс.
Предположим, что мы не создаем, а слышим те же метафоры (1) и (2). Пример (1).
(Большая посылка)
[Все знают, что] игла (S) –
длинное по отношению к собственному диаметру, прямое, с острым концом (орудие) (М)
Но у здания Адмиралтейства нет иглы, это здание — архитектурное сооружение, и все знают, как оно выглядит.
73
(Меньшая посылка)
[Все знают, что] некоторые очень длинные по отношению к собственному диаметру, прямые, с острым концом (архитектурные элементы) (М) –
шпили (P)
_________________________________________________________________________ (Заключение) Игла (S) – шпиль (P)
Большая посылка, как и положено, предшествует меньшей. “Развертывая” эту энтимему, мы получаем: игла Адмиралтейства – это шпиль, ПОСКОЛЬКУ [все знают] игла – это длинное по отношению к собственному
диаметру, прямое, с острым концом орудие, а некоторые очень длинные по отношению к собственному диаметру, прямые, с острым концом архитектурные элементы – шпили. Аналогично декодируется пример (2). Таким образом, при кодировании метафорический “силлогизм” имеет такой
вид: М — P S — M
S — P
При декодировании “силлогизм” имеет “зеркальный вид”: S — M M — P
S — P
Кодирование и декодирование метафор – разные стороны метафоризации. Умозаключения предполагают получение нового знания, и это знание будет логически верным (если мы не будем обращать внимание на “разрушенный” (М)), но неистинным, метафорическим может быть представление, но не знание. Игла – шпиль только потому, что возможно игнорирование части среднего члена (М). Но это игнорирование позволяет впоследствии увидеть новые черты в “характере” шпиля: например, шпиль, как игла, может блестеть, “прокалывать ткань неба” и т. д. (мы уже не говорим об обыгрывании метафорической внутренней формы этого заимствованного слова). Отметим, что лингвистическая характеристика компонентов метафорических силлогизмов, особенно их средних членов, может дать многое для семантического моделирования метафоризации (при описании мотивирующих перенос наименования признаков) и для последующей лексикографической фиксации (унификации словарных толкований метафоризаторов и метафор).
74
Есть еще одна проблема. Значение логической правильности мышления состоит в том, что она является необходимым условием гарантированного получения истинных результатов в решении задач, возникающих в процессе познания. Но принципиальное отличие мышления от чувственного познания в том, что мышление неразрывно связано с языком. Именно нарушение логических законов, бессознательное введение хаоса приводит, с одной стороны, к возникновению многочисленных речевых лексико-стилистических ошибок (абсурдности высказывания, алогизмам, неразграничению конкретных и отвлеченных понятий, несоответствию посылки следствию, речевой избыточности (ляпалиссиадам, пустословию, плеоназмам, тавтологии), расширению или сужению понятия, речевой недостаточности и др.) и синтаксических стилистических ошибок, а с другой стороны, служит основой для возникновения стилистических тропов, т. е. результатов позитивной девиативной деятельности говорящего (аллегории, аллюзии, амплификации, гипаллаги, гиперболы, катахрезы, мейозиса, метонимии, оксюморона, олицетворения (персонификации), парадокса, перифразы, литоты, антономасии, эвфемизма и др.) и, конечно же, метафоры, а также стилистических фигур, изучение которых является уже предметом культуры речи, риторики и стилистики. Иначе говоря, многие речевые ошибки и стилистические приемы имеют
одинаковую логическую мотивировку и могут возникать вследствие одних и тех же логических “сбоев”-девиаций: например, алогизм может быть ошибкой, но может и лечь в основу оксюморона или метафоры. Любая ошибка в речи говорящего (за исключением, конечно, явлений психосоматической природы – афазии, агнозии, дизартрии, алексии и т. п.) – свидетельство или языковых норм прошлого, или потенциальных возможностей языковой системы, или ассоциативных и онтологических способностей носителей определенного социолекта (подробнее см. в [Алешина 2003]). Метафора, таким образом, представляет собой результат позитивной логической девиации. Заметим, что алогизм, как семантический, так и формальный, часто
приводит к возникновению комического эффекта32. Исследователи и раньше обращали внимание на то, что, например, метафорическое употребление существительных вызывает формальные сложности при согласовании их с зависимыми словами или при синтаксической координации. Так, Н. Д. Арутюнова [1979б] отмечает, что, “поскольку в метафоре нет перевоплощения, должно быть соблюдено «поверхностное семантическое согласование»: можно сказать о мужчине Вдруг из кухни выползла эта
32 Анализу природы этого явления посвящены работы В. З. Санникова (см. библиографию в [Санников 1999; 2002]).
75
рыжая змея и начала всех жалить – «предикат метафоризируется вслед за субъектом». На первый взгляд, этому положению противоречит пример из рассказа И. Бабеля «Король», где один и тот же глагол (стоять) употребляется то в мужском роде (стоял), то в женском (стояла): [Налетчики подожгли полицейский участок, где усердствовал новый пристав – «новая метла чисто метет»] Участок исправно пылал с четырех сторон <…> Под шумок разбегались арестованные <…> Пристав – та самая метла, что
чисто метет, – стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. В действительности, противоречия, видимо, нет” [Санников 2002: 117], так как в первой части фразы глагол стоял координируется с существительным пристав, а во второй части – с существительным метла, тем не менее, обе приведенные фразы производят комический эффект. Отметим также, что в результате метафоризации возможны нарушения не
только в координации, но и в управлении. Так, контоминация учебник п о информатике и Библия информатики способствовала появлению рассмотренного выше словосочетания Библия п о управлению проектами. Н. Д. Арутюнова и др. исследователи обращали внимание на то, что для
метафоры в первичном употреблении свойственна предикативная функция (Он – шляпа), а для метонимии – идентифицирующая (Я стою в очереди за той красной шляпой), однако для создания комического эффекта регулярно используется включение в текст метафор в идентифицирующем значении:
потом было музыкальное отделение. Какая-то кобыла по-французски выла, а бульдог ей аккомпанировал (Тэффи); Греков протянул руку. – Привет надежде русского вокала (М. Чулаки). Интерпретируя последний пример, С. И. Походня [1989] и В. З. Санников [2002] справедливо отмечают, что словосочетание надежда русского вокала, употребленное даже относительно талантливого певца, имеет явно иронический оттенок. То же самое произошло и со стереотипным словосочетанием инженер человеческих душ, которое ныне используется в русской речи, пожалуй, чаще иронически, чем как поэтическая метафора, причем инженер человеческих душ употребляется иронически уже в 20-х гг. ХХ в., ср.: “[О поэте]… между нами говоря, этот
инженер человеческих душ, как нарочно, оказался на редкость несостоятельным и ограниченным субъектом (М. Зощенко). Вторичное идентифицирующее использование метафоры не допускает последующей замены анафорическим местоимением, ср.: Разочарованные, опечаленные [отъездом Клинкова], оба друга с опущенными головами побрели в буфет. –
Выжили человека… Добились <…> Скотами были, скотами и останемся. Не могли уберечь эту кристальную душу. – Слушай! – закричал вдруг Подходцев. – Вот она! ” – Кто? – Кристальная душа-то! Пожарскую
76
котлету лопает. Действительно, за буфетным столиком сидел путешественник Клинков (А. Аверченко)” [Санников 2002: 125]. Мы считаем, что идентифицирующая функция свойственна всем
прецедентным единицам, вводимым в создаваемый текст. Прецедентность, как уже отмечалось, имеет метафорическую природу, и именно поэтому алогичное, девиативное по ситуации, но логичное по своей метафорической сущности использование большинства прецедентных единиц часто сопровождается возникновением комического эффекта.
2.1.2. Метафора как результат языковой девиации
В основе практически всех стилистических приемов лежит та или иная логическая ошибка, приводящая к полному изменению всех функциональных характеристик языкового знака в тексте. Более того, часть ассоциативных механизмов – т. е. тех связей, которые образуются при определенных условиях между двумя или более психическими образованиями (ощущениями, двигательными актами, восприятиями, представлениями, идеями и т. п.), – может быть описана только в результате исследований всех возможных стилистических приемов и средств. В то же время с нарушением традиционных ассоциативных цепочек связано возникновение многих речевых и стилистических ошибок. Ошибку может спровоцировать также выбор “неверного” речевого образца, причем понятия “правильности”, “нормативности” здесь чрезвычайно условны и отражают чаще всего позицию узкого круга кодификаторов, а не самих носителей языка. Любое высказывание стоит считать правильным и нормативным, если с его помощью говорящий в определенной социальной сфере прекрасно решает поставленные перед собой коммуникативные задачи – существовали и существуют свои нормы и в просторечии, и в сленге, и вообще во всех социолектах, как исторических, так и современных. Многое из того, что имеет определенную эстетическую ценность и “правильно” для носителей одного социолекта, неприемлемо для носителей других социолектов, поэтому речевую ошибку следует рассматривать как результат нарушения именно социолектной языковой нормы в произношении, словоупотреблении или синтаксической организации высказывания вследствие внутрисистемных (языковых) или внесистемных (внеязыковых, например, ассоциативных) причин. По нашим наблюдениям, собственно речевая ошибка как разновидность дискурсивных и текстовых коммуникативных ошибок редко приводит к коммуникативному “самоубийству”. Причинами коммуникативного неуспеха чаще становятся коммуникативные помехи иного рода – социальные, ментальные, ситуационные, поведенческие, пресуппозиционные, помехи канала.
77
Метафора как языковая девиация в теориях стилистики и культуры речи обозначается термином “неудачная метафора”. Перечислим основные причины возникновения этого явления [Голуб 1997: 149–150].
1. Контактное использование метафор разных семантических общностей в сочетании с номинативными единицами может создавать чрезвычайно неудачные образования (полнокровное транспортное сообщение – следствие неуместной реализации метафоры в телеинтервью) 33 , в частности, могут возникать алогизмы-неметафоры (Молодая поросль наших фигуристов вышла на лед (пример И. Б. Голуб)).
2. Нарушение закона национально обусловленного эстетического соответствия сближаемых понятий также приводит к возникновению неудачных метафор. Приведем курьезный случай из своей переводческой практики: один уважаемый нами американский религиозный деятель предложил посмотреть русский текст своего выступления, в котором была использована явно неудачная, с позиций русской коммуникативной нормы, окказиональная метафора Святой Дух – это жидкое мыло для души, и был очень удивлен, когда мы посоветовали ему заменить ее, так как американская аудитория высоко оценивала эстетическую значимость возникавшего образа и не могла его отнести к негативно-девиативным. В то же время в русской конфессиональной речевой практике широко используются семантически близкие метафорические сочетания из церковнославянских текстов (ср.: баня пакибытия/бытия, баня духовная, баня пакирождения, баня безъсмертия, означающие ‘крещение’, ‘новое рождение’), но “нововведения” той же семантической общности часто не находят одобрения у говорящих (например, по данным нашего эксперимента, не была одобрена верующими следующая фраза из “Дневника хозяина библиотеки” Я. Кротова: Там <в Царствии Божием> человек принимает душ Духа Христова, там одевается во Христа, как после ванной одевают34 халат). При своей внешней алогичности речевые (и стилистические) ошибки всегда
системны: они отражают дуалистические тенденции развития всей языковой системы, ее фрагмента (дуализм языкового “прошлого” – “будущего”) или являются следствием взаимодействия двух контактирующих языковых систем (результаты языковой интерференции: фразу I lived in China – Я жил в Китае англоговорящий может “метонимически” перевести как Я жил в Фарфоре, а отличника назвать “верхним студентом”, a top student. “Ошибки” подобного рода – кладезь информации для лингвиста, занимающегося как типологическими, так и кросскультурными исследованиями, а также для историка языка, изучающего, например, словообразовательные и 33 См. об этом [Виноградов 1996: 150; Лазуткина 2000: 68–72]. 34 Так в оригинале.
78
синтаксические кальки: так, синтаксическая организация светских и деловых текстов XVIII в. и использованные в них словообразовательные кальки (псевдославянизмы) – сплошная “ошибка” с точки зрения книжника XVII в.). Другими словами, через речевые ошибки выражается прошлое и будущее языковой системы. Все девиации по-разному оцениваются участниками дискурса, но, в любом случае, ошибка – всегда знак, своего рода идентификатор не только речевого, но и всего коммуникативного поведения говорящего (ср., например, не соответствующее коммуникативной ситуации использование этикетных слов). С одной стороны, безусловно, “метафора индивидуализирует предмет,
относя его к классу, к которому он не принадлежит”, “работает на категориальной ошибке” [Арутюнова 1979а: 149], с другой стороны, повторение “ошибок” подчинено в узусе строго определенным правилам, что позволяет исследовать системность переносных значений, опираясь на системные связи производящих значений [Харченко 1985: 57], и определить, ЛСВ каких тематических объединений “меняют” свою денотативную принадлежность. Приоритетным в метафорологии является еще один вопрос – вопрос о
сущности и феномене метафоры.
2.2. Сущность метафоры и ее феномен
Логико-философские категории сущности и явления, к сожалению, часто не находят специального выражения в лингвистическом метадискурсе. “Сущность – это внутреннее содержание предмета, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия; явление – то или иное обнаружение (выражение) предмета, внешней формы его существования. В мышлении категории сущности и явления выражают переход от многообразия наличных форм предмета к его внутреннему содержанию и единству – к понятию” [Сорокин 1983: 665]. Таким образом, для определения понятия метафоры мы должны рассмотреть ее сущность и сопутствующие феномены. Этому способствует ясный, логический анализ, тщательное выполнение которого мы находим в работах К. И. Алексеева, прежде всего, в его “Эскизе теории метафоры” [1998б]. Высказанные им положения нам представляются настолько важными, что мы позволим себе остановиться на них подробнее. К. И. Алексеев справедливо подмечает, что в качестве сущности метафоры
часто выдвигают “значение”. При этом считается, что метафора имеет два значения – буквальное (как правило, ложное) и метафорическое [Дэвидсон 1990: 174]. Анализируя пример Н. Гудмена Озеро – сапфир (“слово сапфир в прямом значении используется для выделения класса предметов,
79
включающего определенные драгоценные камни, но не озера; в метафорическом значении... это слово выделяет класс предметов, включающий озеро, но не драгоценные камни. Поэтому предложение Озеро – сапфир ложно, если оно понимается буквально, и истинно, если понимается метафорически” [Гудмен 1990: 194]), Д. Дэвидсон справедливо замечает, что “эти идеи не объясняют метафоры – метафора сама объясняет их. Когда мы понимаем метафору, мы можем назвать то, что мы поняли, “метафорической истиной” и в какой-то мере объяснить, в чем состоит ее “метафорическое значение”. Но просто приписать это значение метафоре было бы все равно что, заснув от таблетки снотворного, объяснять потом свой сон ее снотворным эффектом [1990: 175]. Таким образом, “подобное объяснение, – считает К. И. Алексеев, – является “объяснением” в кавычках: мы, по сути дела, возвращаемся к своему собственному описанию феноменов метафоры, придав теперь этим феноменам статус сущности. Тем самым мы производим онтологизацию своего описания и с неизбежностью нарушаем требование бритвы Оккама: “Не умножай сущности без необходимости”… Мы готовы усилить тезис Д. Дэвидсона и утверждать, что очень многие (если не все) теории метафоры попадают в ту же самую ловушку, выдавая за объяснение (и творя соответствующие сущности) несколько видоизмененное описание тех или иных феноменов метафоры” [Алексеев 1998б].
“В ранг “объяснительного принципа метафоры” могут возводиться “намерения говорящего” (ср.: “Многие авторы пытаются обнаружить метафорические элементы метафорического высказывания в произнесенном предложении или выражении. Они считают, что значение предложения бывает двух типов – буквальное и метафорическое. Однако предложения и слова имеют только те значения, которые они имеют. Собственно, говоря о метафорическом значении слова, выражения или предложения, мы говорим, для выражения какого значения их можно было бы употребить, когда оно расходится с тем, что данное слово, выражение или предложение значат на самом деле. Тем самым мы говорим о возможных намерениях говорящего. Даже когда мы выясняем, каким образом бессмысленное выражение, вроде Зеленые идеи яростно спят Н. Хомского, могло бы получить метафорическую интерпретацию, мы на самом деле рассуждаем о том, при каких условиях говорящий мог бы произнести это предложение в каком-либо метафорическом смысле, хотя буквально оно и бессмысленно. Чтобы иметь возможность без лишних слов отличать то, что имеет в виду говорящий, произнося слова, выражения и предложения, от того, что эти слова, выражения и предложения значат сами по себе, я буду первое называть значением высказывания говорящего, а второе значением слова или предложения. Метафорическое значение – это всегда значение высказывания
80
говорящего” [Серль 1990: 308]). Но и здесь, – пишет К. И. Алексеев, – Дж. Серль, справедливо (и убедительно) критикуя такую объяснительную сущность, как “метафорическое значение”, предлагает на ее место “намерение говорящего” – эта сущность “живет” уже не в мире языка, а в мире ментальных состояний. Но на этом их различие заканчивается – поскольку в отношении “намерений говорящего” проходят те же самые аргументы, что и в отношении “метафорического значения”: обе эти сущности являются результатом онтологизации тех или иных феноменов, связанных с ситуацией порождения и восприятия метафоры, и Дж. Серль фактически попадает в ту же самую ловушку, которой он избежал на предыдущем ходу. Получается, что, по Серлю, последовательность его действий как исследователя выглядит следующим образом: 1) описание феноменов понимания метафоры (разумная реконструкция); 2) постулирование особых сущностей, определяющих появление этих феноменов (схемы вывода, общий набор определенных принципов); 3) приписывание реконструированных исследователем сущностей слушающему; 4) приписывание этих же сущностей говорящему. В результате получается, что в качестве сущностей выступает порожденное исследователем описание феноменов – снова наблюдается ситуация умножения сущностей без необходимости [Алексеев 1998б]. Метафорообразование тесно связано с классифицированием, более того,
метафорогенная деятельность человека находится в отношениях включения с его классификационной деятельностью, причем исторически складывалось так, что классификационная деятельность могла развиваться не столько на основе логических законов, сколько на основе законов метафорообразования (это доказывают психологические и историко-философские исследования). Поскольку классифицирование и категоризация тесно связаны и возможны естественная и лингвистическая категоризации, мы допускаем существование естественной (априорной) и лингвистической (приобретенной в ходе конкретной социокультурной, в частности, ономасиологической практики) компонент метафорогенной деятельности и ее результатов. Метафорологическая деятельность человека древнее деятельности
логическо-дискурсивной. Забегая вперед, отметим здесь, что общим недостатком логических и философских работ по метафорологии оказывается их оторванность от конкретного эмпирического материала. Как свидетельствуют наши исследования, природа метафорики во многом проясняется при более внимательном отношении к метафоре-языковому знаку, то есть к метафоре-лингвистическому объекту. Так, сопоставив результаты, например, структурно-семантических описаний метафор в разных языках/социолектах, т. е. описав “лингвистический” участок метафорообразования, мы ближе подойдем к раскрытию механизмов
81
“естественного” участка метафорогенной деятельности, чем если будем ограничиваться частными наблюдениями. Лингвистической компоненте метафорогенной деятельности носители языка/социолекта обучаются (она представляет собой явление, формирующееся в процессе онтогенеза) только при восприятии определенных речевых образцов (“эстафет”, если пользоваться терминологией К. И. Алексеева, “экстраполировавшего” терминологию теории социальных эстафет М. Розова на описание коммуникативной компетенции), поскольку реально никто не обучается метафоротворчеству и декодированию метафор “поэстафетно”, все это происходит одновременно с развитием общего ментально-лингвального комплекса. Метафоризация дедуктивна по самой своей сути, метафора – результат чистой дедукции. В то же время метафоризация – не просто классифицирование: соединение несоединимого приводит к колоссальному увеличению объема смыслов и к появлению новых представлений, более глубоких, чем результат простой классификации. Происходит это по строго определенным классификационным правилам, несмотря даже на то, что при построении любых классификаций человеку свойственно слишком резко проводить границы классифицируемых объектов, “разрезая” их в угоду частным коммуникативным задачам. Язык вообще отражает подобный “произвол” своих носителей: огромное количество нерасчленяемых реалий “дробятся” языком: где границы между берегом и морем? опушкой и лесом? ночью и утром? Язык условен по своей природе, и эта условность всеобъемлюща: тысячи слов в любом языке с богатой книжно-письменной традицией имеют референциальную соотнесенность еще менее жесткую, чем метафорическая, другими словами, они обозначают результаты классификаций, существующие только в нашем сознании, поэтому нельзя от метафоры требовать большей референциальной реальности.
3. Семантическое моделирование как метод структурно-семантических исследований
Рассмотрим строгое понимание модели и применение метода моделирования на примере структурно-семантических исследований, охарактеризовав предварительно основы структурно семантического подхода и объект исследований в этом направлении.
82
3.1.Общее понимание структурно-семантического
лингвометафорологического исследования Структурно-семантическое описание результатов метафоризации — процесса
декодирования является, пожалуй, самым продуктивным по своим возможностям. Исходя из методологически важного подхода к лексике как системе и рассмотрения метафоризации-кодирования как одного из важнейших средств расширения семантического объема лексических единиц, авторы современных ономасиологических исследований стараются представить наиболее полно как общую картину генезиса семантических дериватов, их функционирования, так и обсудить частные проблемы вторичной номинации. Метафорическая лексика активно используется в создании того сложного феномена, который определяют (метафорически!) как ЯКМ, и это позволяет поставить вопрос о соотношении априорных и стихийных факторов, а также сознательного регулирования в ономасиологических механизмах.
Предваряя собственно структурно-семантическое описание, отметим только, что полученные результаты структурно-семантического анализа разрушают существующую с античных времен иллюзию о стихийности отраженных в языке межденотативных связей35.
Свойства любого семантического процесса, его характерные особенности и присущие ему закономерности могут быть изучены в следующих аспектах: 1) в его отношении к другим семантическим процессам в целом; 2) в выявлении отношений, возникающих между лексическими единицами, участвующими в данном процессе. Провести комплексное, охватывающее оба этих аспекта исследование в одной работе, даже при условии строгого отбора соответствующего материала, на наш взгляд, не представляется возможным. Как правило, исследователи семантики выбирают один из названных аспектов, а обобщающее комплексное изучение возможно в результате индуктивного анализа ряда работ, выполненных на одном материале36.
Изначально структурно-семантические исследования восходят к фреге-расселовской теории значения, и, справедливости ради, отметим, что сами идеи структурного, как мы бы сейчас сказали, анализа слов обязаны своим
35 Так, еще Цицерон, рассуждая о метафоре, утверждал, что “в окружающей природе нет такого предмета, обозначением и именем которого мы не могли бы воспользоваться для какого-либо понятия из другой области”, и что “там, где может быть подмечено сходство, — а подмечено оно может быть везде, — там одним только словом, употребленным метафорически, вносится в речь яркий образ” [Цицерон 1996a: 230]. 36 См., например, раздел “Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира”, написанный В. Н. Телия, в коллективном труде “Роль человеческого фактора в языке” [1988б].
83
происхождением исследователям XVII в., считавшим, что раз химическое вещество может быть разложено на составляющие элементы, то и слово может состоять из набора компонентов (Декарт, Паскаль, Арно и Николь, Лейбниц и Локк явились своего рода предтечами современного структурализма37). В чистом виде структурно-семантический подход к изучению фактов языка можно считать лингвистической интерпретацией того логико-эпистемологического учения, которое сам его отец-основатель — Бертран Рассел — называл “логическим атомизмом”. Рассел различал в своей теории познания два вида знания — базисное knowledge by acquaintance (“знание-знакомство”), представляющее собой непосредственное знание о двух типах объектов (“чувственно-данных” и универсалиях), и knowledge by description (“знание-описание”), благодаря которому мы получаем представление о материальных объектах [Рассел 2000: 444—458]. Как отмечают исследователи лингвофилософского наследия Рассела, теория логического атомизма представляет собой одно из решений центральной задачи, поставленной английским философом, и эту задачу он настойчиво решал всю жизнь: дать максимально полное и экономное (только факты) описание “того, что есть”, установить структурное единство языка и мира. С этим же связаны попытки Рассела создать совершенный логический язык, в котором бы каждому слову (знаку) соответствовал компонент определенного факта” [Грязнов 2000: 11]38.
Идея минимального словаря языка науки впоследствии была “экстраполирована” лингвистами, как онтологически безупречная, на лексико-семантические объекты, хотя критика расселовской философии языка возникла сразу же после опубликования “Философии логического атомизма” в 1918 г.39, да и вообще фреге-расселовская концепция значения поддерживается чаще лингвистами, чем философами. Сам Б. Рассел считал, что “в отношении какой-
37 Впоследствии Г. Фреге утверждал, что логически простое, как химические элементы, в чистом виде в природе не встречается и обнаруживается только как объект научного анализа. Сочетания химических элементов дают новое вещество, часто имеющее совершенно иные качества, чем его составляющие. Подобное же может происходить и с “минимальными компонентами смысла”. 38 Ср.: “Он с оптимизмом верил в возможность создания идеального языка науки. Правда, в завершающий период своего творчества этот оптимизм несколько поостыл, о чем свидетельствует довольно “скромная” концепция минимальных словарей, представленная в «Человеческом познании»” [Грязнов 2000: 11]. 39 Речь идет, прежде всего, о критике Л. Витгенштейна, справедливо указавшего на отсутствие в учении Рассела анализа функциональных и коммуникативных сторон языка, хотя Рассел и отмечал, что “анализ структуры, хотя бы и полный, не скажет вам всего того, что вы можете узнать об объекте. Он скажет вам только, каковы части объекта и как они относятся друг к другу; но он ничего не скажет вам об отношениях объекта к тем объектам, которые не являются его частями или компонентами” [Рассел 2000: 220]. Не случайно лингвофилософия Рассела оказала колоссальное влияние на формирование западноевропейского структурализма.
84
либо данной системы знания минимальный словарь определяется по двум его свойствам: 1) каждое предложение в данной системе знания может быть выражено посредством слов, принадлежащих к минимальному словарю; 2) ни одно слово в этом словаре не может быть определено с помощью других слов этого словаря… Любая область пространства — времени может быть определена в терминах ее частей, но ее части не могут быть определены посредством терминов, обозначающих ее саму. Человек может быть определен через перечисление в правильном временном порядке всех случившихся с ним событий, но сами эти события не могут быть определены с помощью терминов, обозначающих этого человека. Если вы хотите говорить как о сложных событиях, так и о том, что является их составными частями, вы всегда можете сделать это без названий этих сложных событий, если вы знаете их структуру” [Рассел 2000: 225]. 40 Здесь следует выделить еще один важный вопрос: существует ли объективно какая-либо одна группа неопределяемых элементарных выражений, общих для всех языков [Вежбицка 2001], но не являющихся языковыми сущностями (или соотносящихся с ними, как это происходит, например, с ноэмами Ф. Растье).
Общей методологической основой структурно-семантических исследований стало положение о лексике как о системе единиц, каждая из которых является, в свою очередь, организованной системой смысловых компонентов (приоритет в понятийном определении которых принадлежит Х. К. Сёренсену, Л. Ельмслеву и А. Богуславскому, чьи идеи впоследствии были успешно развиты многими лингвистами — J. J. Katz, J. A. Fodor, А. Вежбицка, Ю. Д. Апресяном, Л. М. Васильевым, Н. А. Басилая, А. А. Уфимцевой, Ю. Н. Карауловым, И. А. Стерниным, Л. А. Новиковым, И. М. Кобозевой и др.), а также, как уже отмечалось, общефилософские положения об антропоцентризме восприятия, о связи внеязыковой действительности с языковым сознанием коллектива, логико-предметных связей и связей языковых, объективного и субъективного, априорного и апостериорного и т. д. и их отражением в национальной языковой “кинокартине”.
Б. Рассела справедливо можно считать и “изобретателем” основ структурно-семантического метода исследований, поскольку именно он выдвинул тезис о том, что “выявить структуру объекта — значит упомянуть его части и способы, с помощью которых они вступают во взаимоотношения” [Рассел 2000: 219]. Рассел же указал, что структура может быть определена несколькими отношениями и что качества и отношения иногда бывают доступными для анализа, а иногда нет. “Я не думаю, — писал Рассел, — что “раньше”, как мы знаем это отношение по опыту, может быть проанализировано; во всяком случае, я не знаю никакого 40 См. подробнее гл. IV “Структура и минимальные словари” в опубликованной в 1948 г. книге “Человеческое познание: его сфера и границы” [Рассел 2000].
85
анализа его, который я согласился бы признать. Но в некоторых случаях возможность анализа отношения очевидна. “Дедушка” значит “отец отца”, “брат” значит “сын отца” и т. д. Все семейные отношения могут быть выражены с помощью трех слов: “жена”, “муж” и “родитель”; это — минимальный словарь по этому вопросу. Имена прилагательные (т. е. слова, обозначающие качества) часто бывают сложными по своему значению. Мильтон называл жимолость “хорошо наряженной”, что является словом, значение которого очень сложно41. Так же дело обстоит и с такими словами, как “знаменитый”. Такие слова, как “красный”, приближаются к простоте, но не достигают ее: имеется много оттенков красного” [Там же: 226]. Фактически Рассел впервые раскрыл методику компонентного анализа, ставшего впоследствии ведущим методом в семантических исследованиях (см. [Weinreich 1963; Katz & Fodor 1964; Bendix 1966; Bierwish 1967; Апресян 1969; Караулов 1976; Ковалик 1978; Кузнецов 1980; Гольдберг 1984; Цветков 1984; и др.]) и позволившего описывать семный состав лексического значения (ЛЗ) (а в нашем случае — и выявлять связи между номинативным ЛЗ и образующимся на его основе метафорическим), а также определил трудности в применении концептуального анализа.
3.1.1. Объект структурно-семантического исследования В нашей работе, как уже отмечалось во введении, объектом является
метафоризируемая именная лексика, а общая схема исследования будет продемонстрирована на примерах описания метафоризации-кодирования и моделей декодирования метафор-существительных. “Сосредоточив все внимание на процессе метафоризации в пределах одной части речи, исследователь может установить своеобразие этого процесса, связанного с особенностями данного лексико-грамматического класса слов” [Купина 1968: 6—7]. Но это не означает, что метафоризация-кодирование и декодирование субстантивных метафор не испытывают влияния со стороны глагольной и адъективной метафоризации. Общая картина значительно сложнее. Мы отмечали уже тот факт, что теория
41 На основании “сложности” метафор Рассел постоянно требовал их “изгнания” из метаязыка любой науки как свидетельство аналитического бессилия авторов. Ср.: “абстрактное имя, будучи понимаемым и интерпретируемым, оказывается неиссякаемым источником таких сомнений как в обыденном сознании, так и в научном. Метатекстовые определения, вводящие абстрактное имя в текст, свидетельствуют, во-первых, о том, что говорящий исходит из пресуппозиции нетождественности своего видения данной абстрактной сущности семантическому инварианту, во-вторых — о рациональной ориентированности сознания. Но рациональный подход к абстрактному имени, явленный в словарных и текстовых дефинициях, не может опираться на эмпирическое знание, проверяемое логическим соотнесением выявленных семантических показателей с объективно существующими свойствами вещей. Он опирается на интуицию носителей языка” [Чернейко 1997: 284]. Проблема метафоры в языке науки и определения ее гносеологической ценности не утратила своей актуальности до сих пор.
86
метафоры связана с морфологической теорией частей речи только потому, что, как и при моделировании, концептуально-формирующей основой западноевропейской лингвистики является слово. Если же такой основой считать не слово, а, например, морфему, то тогда исчезнет и необходимость в отборе единиц с определенными морфологическими характеристиками. Мы же используем традиционный “морфологический” подход в выборе своего объекта только потому, что именно существительные являются универсальной лексико-грамматической категорией, обладают широкими семантическими возможностями, обозначают как конкретные, так и абстрактные понятия, поэтому для исследования закономерностей переносных значений существительные — наиболее показательный объект. “Связь слова с предметом, языка с мышлением выступает в существительном наиболее очевидно” [Хромых 1979: 32], а частеречная принадлежность абстрактных слов, свидетельствует, что “явления, стоящие за ними, имеют характер субстанции, т. е. того, что существует в себе и благодаря себе как носитель свойства, признака, состояния, действия.” [Чернейко 1998: 285—286])42. Теория метафоры вообще чаще всего связана с рассуждениями о существительных. “Если остановиться на морфологических категориях глагола, прилагательного и существительного, нельзя не заметить, что из шести коннекций классическая теория метафоры приемлет обычно лишь коннекцию между существительными, исключая глагол — глагол, прилагательное — прилагательное и, особенно, существительное — глагол, существительное — прилагательное и прилагательное — глагол” [Растье 2001: 189—190]. Действительно, подобных кроссчастеречных лингвометафорологических исследований намного меньше, чем работ, посвященных субстантивной метафоре (см. раздел “Библиография”).
Цель данного параграфа — построение тематической классификации метафоризаторов — номинативных лексико-семантических вариантов (ЛСВ) с так называемыми потенциальными метафорическими значениями. Для достижения этой цели требуется решение следующих задач: 1) формирование массива ЛСВ-основ для метафор связано с ситуацией выбора его членов из общего лексического фонда; поэтому столь актуальна сама проблема отбора и ее интерпретация в современной лингвистической литературе, следовательно, первая задача — рассмотреть эту проблему; 2) метафорический ЛСВ, как известно, представляет собой один из компонентов структуры многозначного слова, поэтому наша вторая задача — рассмотреть семантическую структуру слова и семную структуру лексического значения; 3) дискуссия о соотношении
42 Ср.: “сложность содержания абстрактного имени сужает возможности компонентного анализа и адекватного структурного описания абстрактного имени. Компонентному анализу приходит на помощь концептуальный анализ, объект которого не только рациональные элементы содержания, но и иррациональные” [Чернейко 1998: 319].
87
тематического и семантического классифицирования лексических единиц до сих пор не завершена в лингвистике, поэтому наша третья задача — дать необходимое обоснование правомерности критериев предлагаемой нами тематической классификации.
Система языковых метафор, складывающаяся в узусе, во многом оригинальна для каждого национального коллектива, что, безусловно, связано и с неповторимой индивидуальностью конкретных национальных словарей. Формирование номинативного фонда лексики предопределяется экстралингвистическими условиями, но в какой мере — до сих пор неясно. Однако бесспорно, что прямое значение слова связано с отражением явлений объективной действительности, “связи и отношения слов, имеющих прямое, или номинативное, значение, с другими словами соотносительны с теми же связями и отношениями, которые существуют между обозначаемыми ими явлениями” [Шанский и Иванов 1981: 17]. Этот постулат, с известной долей абсолютизации, признавался многими лингвистами [Гинзбург 1972; Ершова 1975; Шмелев 1977; Коготкова 1979; Филин 1982; Кузнецова Э. В. 1989; и др.], но нам он представляется слишком категоричным: проблема естественной и лингвистической категоризации слишком сложна, чтобы ее так упрощенно представлять, кроме того, само понятие внеязыкового, или экстралингвистического, фактора долгое время “продолжало выдвигаться без какой-либо конкретизации и анализа” [Некрасова 1975: 76].
Тем не менее, центральным вопросом в изучении семантики лексических единиц в гносеологическом аспекте явилось определение того, насколько содержательная сторона лексических единиц обусловлена объективным внеязыковым миром [Гак 1971а: 95]. С одной стороны, можно считать, что системно организованная объективная действительность находит адекватное отражение в языке, соответственно, для выявления системности в лексическом фонде языка мы должны обращаться к объективно существующим связям между денотатами; с другой стороны, адекватного отражения действительности в языке не существует (а существует известная асимметрия), поэтому допустимость апеллирования к экстралингвистическим факторам при семантическом анализе подвергается сомнению.
Не всеми принимается тезис о том, что хотя анализ семантики слов по их денотативному и сигнификативному значениям “мало что дает для лингвистического их изучения и рассматривается как сугубо логический анализ”, но “основным критерием разграничения… имен предметов на отдельные типы является прежде всего анализ их прямого номинативного значения, детерминированного в свою очередь, типом денотата и сигнификата” [Уфимцева 1974: 101]. В структурно-семантических исследованиях, на наш взгляд, целесообразнее придерживаться именно этой точки зрения: лексическое значение
88
слова определяется и внеязыковыми, и внутриязыковыми факторами, из которых наиболее важными являются внеязыковые. К последним относятся “связь лексического значения слова с явлениями реальной действительности” [Кузнецова Э. В. 1989: 18—19]. Лингвистические факторы представляют собой связи, существующие между лексическими единицами и “принимающие участие” в формировании новых лексических значений, в развитии семантических дериватов, т. е. являющиеся “порождением” самой языковой системы.
Следует отметить, что в проблема взаимодействия лингвистических и экстралингвистических факторов привлекла внимание в связи с упоминавшимся уже использованием компонентного анализа в семантических исследованиях [Ковалик 1978; Цветков 1984; и др.]. Результаты этих работ также свидетельствует о том, что семантические особенности слов в значительной степени зависят от их соотнесенности с внеязыковой действительностью. В социолингвистике, психолингвистике, прагматике рассматриваются проблемы взаимодействия лингвистического и экстралингвистического в лексике, выделяется вопрос о влиянии логико-предметной, референтной отнесенности слова на его семантическую структуру. Лексический фонд языка, таким образом, испытывает опосредованное влияние реальной действительности через значения входящих в него номинаций, поскольку “в значении языкового (словесного) знака представлена его логико-предметная, “референтная” отнесенность, которая находит выражение в его словарной дефиниции и способствует отнесению к определенной семантической группе” [Ершова 1975: 4]. Однако большинство проблем, связанных с разграничением естественной и лингвистической категоризации, остается пока не решенным.
Вопрос о правомерности обращения к миру референтов при структурно-семантическом анализе, на наш взгляд, тесно связан с проблемой выбора тех лексических единиц из словарного фонда языка, которые участвуют в метафоризации-кодировании. Несомненно, здесь играет роль национальная специфика языкового коллектива (поэтому проблема выбора находится в центре внимания социолингвистики, этнопсихолингвистики [Выготский 1960; Рыжкина 1979; Экспериментальные исследования в психолингвистике 1982; Василевич 1983; Этнопсихолингвистика 1988]) и лингвокультурологии. Исследователями этих направлений неоднократно отмечалось, что на формирование лексического фонда влияют географические и историко-культурные факторы: “уже сам отбор предметов или явлений-образов, осуществлявшийся на протяжении столетий и закреплявшийся из поколения в поколение в языке, приоткрывает многие стороны исторического развития народа, его национальной культуры, духовного склада и миросозерцания” [Молчанова 1982: 23].
89
Например, кулинарные прагматонимы метафоризируются во всех языках, однако, в итальянском их особая активность не может не привлекать внимания — основами для языковых метафор становятся многочисленные единицы, обозначающие блюда и их ингредиенты: cipollata ‘луковый суп’ — о чепухе; fricassea di notizie ‘фрикассе’ — ворох, куча новостей; cibreo ‘куриное рагу’, insalata ‘салат’, macedonia ‘смесь из фруктов’, minestrone ‘густой суп’, zabaione ‘сабайон’, zuppa ‘суп, тюря, размоченный хлеб’ — о мешанине; sbroscia ‘жидкий суп’ — о пустословии; faciolata ‘тарелка фасоли’ — о чем-л. глупом; polpettone ‘большая котлета’ — о чем-л. неприятном, гадком; tenerume ‘филе’ — о нежности; crostino ‘гренок’, pizza ‘пицца’ — о зануде; farinello ‘непросеянная мука’ — о негодяе; gnocco ‘клецка’, salame ‘колбаса’ — об увальне; lasagnone ‘крупная лапша’ — о простофиле; lattemiele ‘взбитые сливки’, zucchero ‘сахар’ — о добром человеке; maccherone ‘макаронина’ — о глупом человеке; и т. д. Не менее важным оказывается и выбор сферы человеческой деятельности, описываемой метафорически. В том же итальянском языке существуют не два-три обозначения, а целый ряд особых метафор, характеризующих доходную должность и легкий заработок: bottega ‘лавка, магазин’, greppia, mangiatoia ‘кормушка, ясли’, presepio ‘ясли’, carrozzone ‘большой, тяжелый экипаж’, poltrona ‘кресло’, badia ‘аббатство’, canonicato ‘должность каноника’, papato ‘папский сан’, prebenda ‘церковный доход’ и т. д.
Считается, например, что мировосприятие носителей исследуемых языков наиболее ярко проявляется на зооморфных участках их лексических систем, однако, оппозиция “сходство — различие” в отборе зоонимов этими носителями может осмысливаться по-разному. Для иллюстрации приведем наблюдения А. Г. Ширяевой, сопоставлявшей зооморфные системы русского и финского языков [2001: 54—57, 104—107]. Причинами расхождения русской и финской зооморфных “картин” не могут быть географический фактор и особенности фауны, характерной для территорий, на которых проживают русские и финны: животный мир Финляндии мало отличается от животного мира России, в обеих странах водятся практически одни и те же виды диких животных — как промысловых, так и непромысловых, — а также птиц, рыб, насекомых. Причинами расхождения не могут быть и различия в укладе жизни, в народно-хозяйственном значении тех или иных животных (хотя в Финляндии больше, по сравнению с Россией, развито рыболовство, на языковом материале это никак не отражается: участок “названия рыб” оказывается ничуть не более “зооморфно-осмысленным”, чем аналогичный участок русского словаря). Тем не менее, зооморфные системы русского и финского языков совпадают только на 25%, причем полное совпадение наблюдается у 8 из 104 русских и 104 финских зоонимов (например, пчела — mehilдinen ‘о трудолюбивом человеке’, хамелеон — kameleontti ‘о приспособленце’, жеребец — ori ‘о бабнике’,
90
ягненок — karitsa ‘о тихом, кротком человеке’, слизняк — nilviдinen ‘о слабовольном человеке’); на 75% совпадают семантические структуры у 22 единиц (ср.: еж — siili ‘о настороженном, необщительном человеке’, ястреб — haukka ‘о человеке, демонстрирующем черты агрессивного поведения’); в остальных случаях различия еще больше (ср.: гнида ‘о ничтожном, мерзком человеке’ — saivar ‘о человеке, излишне придирчивом к мелочам, буквоеде, педанте’; червяк ‘о ничтожном, приниженном человеке’ — mato ‘о ловкаче, пройдохе’, ворона ‘о рассеянном, невнимательном человеке’ — varis ‘о человеке, которому нельзя доверять’), но примеры полного различия в содержании соотносительных зооморфизмов тоже немногочисленны: например, сюда можно отнести случаи, в которых 1) у русского зоонима вообще не существует коррелята в финском языке (боров, молодняк), 2) у финского зоонима нет соответствия в русском (sonni — спец. наимен. быка-производителя). Таким образом, русские и финские зооморфные системы соотносительны, но не тождественны, и считать их соотносительные участки “простым случайным совпадением было бы так же неверно, как усматривать в этом результат прямого влияния одного языка на другой, результат семантического калькирования. Нельзя объяснять эти совпадения и “объективной природой вещей” — повадками, нравами, обликом самих животных, чьи имена используются как характеристики по определенным признакам. У народов, не связанных исторически единством культурной традиции, образные представления и оценки одного и того же животного нередко оказываются противоположными” [Гутман и Черемисина 1972: 59]. Сходство может свидетельствовать об общем прошлом. Для создания метафоры важным оказывается не столько реальное, сколько мифическое представление говорящих о денотате, и именно поэтому наборы зоохарактеристик в русском, английском, арабском, финском языках существенно различаются, а метафоры, возникшие на основе одних и тех же зоонимов, могут иметь в этих языках различную коннотацию. Аналогичная картина складывается при образовании других метафорических характеристик лиц, физических и социальных явлений, и “донором” для метафорической “картины мира” часто становится консервативная мифическая “картина мира”, а не естественнонаучная.
Безусловно, для того чтобы конкретное наименование использовалось как обозначение совершенно иной реалии, говорящий должен иметь хотя бы элементарное представление об обеих реалиях как объектах внеязыкового мира (в том числе и “внутреннего мира”). Это общее условие, выполнение которого необходимо при образовании любой метафорической характеристики43. Кроме того, “мотивом для метафорического переноса могут служить отработанные в 43 Не случайно дети дошкольного возраста могут буквально воспринимать метафорические высказывания душа горит, стальные нервы, ледяной взор и т. п.
91
языке логико-синтаксические схемы структурирования классов событий как соположение в структуре вещных объектов — их предметно-логические связи, отражающие языковой опыт говорящих” [Языковая номинация 1977б: 192—193]. Создавая новую метафору, воспроизводимую впоследствии в узусе, человек вмешивается в ономасиологический процесс. Как отмечает Н. П. Ульянова, занимавшаяся проблемой соотношения стихийных факторов и сознательного регулирования в механизмах номинации, ведущим различительным признаком стихийности и сознательности в номинационных процессах является преднамеренность/непреднамеренность вмешательства человека. Однако даже сознательно проводимые ономасиологические операции осуществляются только благодаря сделанному ранее выбору из имеющегося набора всех лексических средств, а следовательно, “проблема соотношения стихийных факторов и сознательного регулирования в процессе языковой номинации является составной частью более широкой проблемы отношения сознательности и стихийности” [Ульянова 1984: 4]. Сознательно осуществляемая номинация так или иначе стихийна, но имеет определенные тенденции и закономерности в своем развитии. Причем тенденции затрагивают не только элементы внеязыковой действительности, номинации которых отбираются говорящими для обозначения иных предметов и ситуаций, но и способы обозначения самих элементов [Гак 1985: 28]. Выявление и определение подобного рода тенденций было и продолжает оставаться предметом исследований многих лексикологов второй половины ХХ в. (см., например, работы Н. Д. Арутюновой, Н. А. Басилая, Н. И. Бахмутовой, Л. М. Васильева, Э. В. Васильевой, В. Г. Гака, Ю. Н. Караулова, В. И. Королькова, Н. А. Лукьяновой, Г. Росинене, О. А. Рыжкиной, Б. А. Серебренникова, Г. Н. Скляревской, И. А. Стернина, В. К. Харченко, Д. Н. Шмелева и др.).
Одним из важнейших способов выявления подобных тенденций является тематическое классифицирование метафоризаторов — номинативных ЛСВ-основ метафор, выполненное на достаточно большом массиве единиц. По результатам классификации, проведя необходимые наблюдения, исследователь может установить, какие группы лексики наиболее активны при метафоризации-кодировании и постоянно пополняются новыми членами, а какие, наоборот, замкнуты и пассивны в этом отношении.
92
3.1.2. Семантическая структура слова и семная структура
лексического значения: некоторые онтологические проблемы
Метаязык семасиологии является открытой, постоянно меняющейся системой [Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 509], поэтому мы считаем необходимым определить собственное понимание используемой в этом части работы терминологии. В своем исследовании мы рассматриваем номинативные и соответствующие им метафорические ЛСВ, другими словами, нашим объектом являются полисеманты, поэтому мы должны остановиться прежде всего на описании понятий “лексическое значение слова” и “семантическая структура слова”.
Большинство современных исследователей декларируют “параметрический” подход к значению: “для носителя языка значение слова не является монолитным, оно может быть разложено на ряд составляющих, степень выраженности которых поддается количественному измерению; этот подход связан с методом Ч. Осгуда, который измеряет коннотативное значение слова” [Красных 2001: 38]. В рамках этого подхода исследователи по-разному подходят к анализу структуры многозначного слова (см., например, работы А. И. Смирницкого, Н. И. Толстого, И. В. Арнольд, А. А. Уфимцевой, И. А. Стернина, В. Б. Гольдберг, Н. А. Лукьяновой, Э. В. Кузнецовой и др.). Слово-знак (лексема) рассматривается как единство планов содержания (семем), манифестируемых фонографической оболочкой. При этом семема выступает как “минимальная автономная единица семантической системы плана содержания” [Камалова 1984: 6] 44 . Манифестация фонографической оболочкой каждой семемы называется ЛСВ [Смирницкий 1956: 36—41; Арнольд 1966: 6; Стернин 1979: 11; и др.].
Теория ЛЗ занимает центральное место в компонентной семантике (семасиологии — в узком понимании) 45 . “Парадигматические связи слов основываются на том, что в значениях разных слов присутствуют одни и те же компоненты” [Кузнецова Э. В. 1989: 32], образуя таким образом определенную систему. Вопрос о лимитируемости этих компонентов по-прежнему остается открытым. Часть исследователей считает, что количество компонентов
44 Отметим, что термин “семема” может использоваться значительно уже и в ином значении. Например, в работах Ф. Растье под семемой подразумевают исключительно содержание морфемы, однако из-за структурно-морфемных особенностей русского словаря использование термина “семема” в таком значении, на наш взгляд, нецелесообразно: в русском языке существует огромное количество связанных корней, а также конфиксальных объединений. 45 Подробный обзор категории ЛЗ в разных лингвистических школах дает, например, А. И. Клишин в своей диссертации [1986].
93
нелимитируемо, т. е. значение слова не может быть описано исчерпывающим набором семантических компонентов [Стернин 1985а: 35], а сам семантический компонент значения представляет собой единый, допускающий дальнейшее членение элемент значения [Кузнецов 1980; Стернин 1985а]. Другие — последователи идей “минимальных словарей” — пытаются ограничить количество компонентов путем редукции значения. При этом абсолютно все исследователи отмечают онтологическую сложность и субъективность подобного рода дискретных операций внутри ЛЗ, и “не так давно сама возможность вычленения компонентов, элементов смысла вызывала сомнения” [Чернейко 1997: 221]. Референциальный критерий в отношении семантических компонентов не всегда срабатывает: язык — не видеозапись внутренней и внешней действительности, многое он фиксирует обязательно, многое умножает в своей фиксации, отражая не единожды, но многое и пропускает, не удостаивая специальных средств выражения.
Семантические компоненты, выделенные в результате компонентного анализа, в лингвистической литературе обозначаются по-разному: “базовые реляционные понятия” (Д. Сепир), “семантические компоненты” (У. Вейнрейх), “semantic markers & semantic distinguishers” (J. J. Katz, J. A. Fodor; M. Bierwish], “элементарные смыслы” (Ю. Д. Апресян), “семантические дифференциальные признаки”, определяемые как “элементарные семантические единицы, образующие значение” (А. Гудавичюс), “семантические множители” (А. К. Жолковский, Н. Н. Леонтьева и К. С. Мартемьянов), “дифференциальный признак” (И. В. Арнольд), “минимальный квант содержания” (А. А. Камалова) и др. С 70-х гг. ХХ в. лексикологами отдается предпочтение термину “сема” (В. Г. Гак, Л. М. Васильев, И. А. Стернин, Э. В. Кузнецова и др.). Однако никто из данных исследователей не ставит вопроса об априорности/апостериорности обсуждаемых “минимальных квантов”, а эта проблема тесно связана с решением вопроса о сущности метафоры (см. п. “Сущность метафоры и ее феномен”). Проблема связи выделенных сем с основными методологическими установками весьма сложная, и в исследованиях она просто не поднимается. Ф. Растье, пытаясь описать принципы и условия компонентной семантики (или микросемантики) [Растье 2001: 19—41], рассматривает все возможные подходы к определению статуса сем (во-первых, семы суть единицы субстанции содержания; во-вторых, они суть свойства референта или части понятия; в-третьих, семы суть универсалии; в-четвертых, семы малочисленны; в-пятых, они суть предельные, или минимальные компоненты, или примитивы). Растье, вслед за B. Pottier, настаивает на существовании ноэм — таких “смысловых признаков”, которые задаются независимо от всякого естественного языка. Ноэмы можно использовать для аксиоматического структурирования лексикографических описаний, и тогда они уже принадлежат метаязыку. Иногда ноэмы трактуют как
94
универсалии, но это всего лишь методические универсалии, служащие для построения классификаций и моделей [Там же: 35]. “Смешение ноэмного и семного уровней объясняет, хотя и не оправдывает, некоторые критические замечания в адрес компонентной семантики: постулируя, что семы должны быть весьма малочисленными, такая критика приписывает языковому объекту свойство простоты, чем должна отличаться теория. В излишней сложности мы можем упрекнуть теорию, но не объект (как и в случае с теорией метафоры вообще. — О. А.). Ведь семы — не теоретические понятия, а лингвистические объекты, существование которых может быть доказано экспериментально” [Там же: 36]. Итак, мы согласимся с мнением о том, что “сема — это семантический различительный признак семемы относительно незначительного набора элементов, которыми действительно располагает и которые с вероятностью использует говорящий в данных коммуникативных обстоятельствах” [Pottier 1980: 169]. Сема, таким образом, определяется через отношение между семемами, а эти отношения детерминируются в свою очередь лингвистическим и общим коммуникативно-ситуационным контекстом [Растье 2001: 39].
В зависимости от выбранного аспекта исследования типология сем может быть самой разнообразной. Обычно классики семантики различают бинарные оппозиции сем: “semantic markers & semantic distinguishers” (J. J. Katz, J. A. Fodor), видовые и родовые семы (B. Pottier), классемы и ядерные семы (A. J. Greimas). Л. М. Васильев на основе разных критериев описывает семы лексические, словообразовательные, грамматические; парадигматические и синтагматические; ядерные и периферийные; дифференциальные и идентифицирующие [1971: 10, 34—35]. И. В. Арнольд в качестве грамматической основы ЛЗ выделяет частеречные семы. Развернутую типологию сем дает И. А. Стернин: узуальные и окказиональные, системные и личностные, дизъюнктивные и инвариантные (по отношению к системе языка); интегральные и дифференциальные (по различительной силе); яркие и слабые (по степени “яркости” — еще одного метафорического критерия); эксплицитные и скрытые (по характеру выявленности); постоянные и вероятностные (по характеру конкретного содержания); актуализированные и неактуализированные (по отношению к акту речи) [Стернин 1985а: 56—70]. Достаточно дробную типологию сем предлагает Ф. Растье, выделяя среди них такие важные, как ингерентные — находящиеся в ведении функциональной системы языка, и афферентные — находящиеся в ведении иных видов кодирования: социализированных и даже идиолектных норм [Растье 2001: 48, 56], т. е. предопределенные денотацией и коннотацией. Выделенные оппозиции сем позволяют выявить изменения в ЛЗ номинативов и семантических дериватов. Интегральные семы, выделение которых используется нами при построении класификации метафоризаторов, могут быть представлены гиперсемами и архисемами (между ними, соответственно, родо-видовые
95
отношения). Как синонимы могут использовать термины “вероятностные” и “потенциальные” семы.
Исследовательский интерес к потенциальным семам постоянен. В литературе отсутствует единое терминологическое обозначение для них, активно используются такие термины, как “потенциальные семы” [Гак 1971б], “ассоциативные признаки” [Силиверстова 1976], “латентные семы” [Телия 1976], “импликационал” [Никитин 1974; 1979]. Сам процесс актуализации потенциальных сем, подробно описываемый в лексико-семантических исследованиях, практически никак не определяется в психо- и нейролингвистических работах. Что представляют собой семы (“семантические множители”, “минимальные смыслы”, “семантические дифференциальные признаки”, “элементарные семантические единицы, образующие значение”, “минимальные кванты содержания” и т. п.), как и на каких принципах они коррелируют со “структурными компонентами сознания” и ментального языка, также остается неясным. Вопрос об их априорности или апостериорности, по нашим наблюдениям, вообще никогда не ставился (хотя близки к этой проблематике результаты исследований E. Rosch, разрабатывавшей концепцию о прототипической категоризации и писавшей о существовании категорий базового уровня обобщения [Rosch 1978]), однако феномен потенциальных сем может быть описан только с позиций априоризма, апостериоризм противоречит самой природе латентности.
Эти семы не осмысливаются в качестве существенных при изолированном употреблении первичной номинации, но способны актуализироваться во вторичных номинациях, и это их свойство является неотъемлемым условием возникновения метафоры как знака и метафоричности как свойства этого знака. Некоторые исследователи не включают потенциальные семы в структуру ЛЗ, тем самым существенно меняя онтологическое осмысление этого понятия. Так, В. Н. Телия и В. А. Коробейникова считают, что в значения слов входят лишь те потенциальные семы, которые связаны устойчивыми ассоциациями и благодаря которым развиваются вторичные номинации [Телия 1976; Коробейникова 1980], введение понятия “устойчивая ассоциация” не снимает проблемы первичных и вторичных ассоциаций, а также проблему определения онтологического статуса потенциальных сем. На наш взгляд, при таком подходе оказывается непонятным существование механизма окказиональной метафоризации и развитие вторичной номинации вообще. В большей степени мы разделяем мнение Ф. А. Литвина, который считает, что семантические элементы, характеризующие слово, являются потенциальными в том смысле, что они задают самые общие признаки возможного референта слова и устанавливают диапазон возможного использования слова. Некоторая необычность (нестандартность) того или иного референта слова в речи является результатом использования “крайних участков
96
заданного языковой семантической потенцией диапазона, с возможной нейтрализацией отдельных элементов” [Литвин 1971: 19]. Аналогичной точки зрения придерживался и В. Г. Гак, утверждавший, что “потенциальные свойства предметов могут отражаться в значении слова в виде потенциальных сем, которые могут актуализироваться в определенных условиях, предопределяя возможность сочетания слов, либо приводя к сдвигам в значениях слов” [Гак 1971: 96]. Но в целом онтологическая природа потенциальных сем с позиций диалектико-материалистического подхода не может быть выяснена.
Теория потенциальных сем как отечественная разновидность общей семантической теории, сформировавшейся в западноевропейских позитивистских традициях, вполне способна стать основой априоризма в лексико-семантических исследованиях. Априоризм как принцип объяснения природы знания отвергался диалектико-материалистической методологией всегда непоследовательно, и эта непоследовательность признавалась неохотно. Однако чрезвычайно сложно было уложить целый ряд логических приемов и онтологических методов, связанных с естественной категоризацией 46 , в “диаматическое” прокрустово ложе. В наши дни, устав за 80 лет постулировать положение “практика — критерий истины”, представители самых разных научных направлений, и, прежде всего, философы-математики, постепенно соглашаются со своими зарубежными коллегами относительно того, что эмпирически ориентированное сознание, конечно, “отвергает идею априорности как простой пережиток схоластики”, но “действительная ситуация является здесь более сложной”; более того, “в настоящее время мы можем утверждать с полной определенностью, что, несмотря на все недостатки кантовского априоризма и кантовской теории познания в целом, идея Канта о зависимости исходных представлений математики от некоторого рода фундаментальных очевидностей сознания, не является ложной. В своей сути математический априоризм не может быть отвергнут, он может быть лишь видоизменен и приведен в соответствие с современной теорией познания”47. Семантический априоризм, в определенном смысле, может составить конкуренцию математическому. Таким образом, проблема потенциальных сем — только следствие более важных общеметодологических установок.
Мы подробно рассмотрели взгляды на правомерность включения в ЛЗ потенциальных сем потому, что объектом нашего внимания являются метафоризаторы — номинативные ЛСВ неодшевленных существительных с так
46 Речь идет, прежде всего, о моделировании, собственно категоризации (в том числе, о выявлении универсалий), концептуализации, типологии, классифицировании, типизации (включая архетипизацию) и т. д. 47 Цит. по представленной в Интернете работе В. Я. Перминова “Априорность и реальная значимость исходных представлений математики”.
97
называемыми потенциальными метафорическими значениями, т. е. в семной структуре значений данных ЛСВ, по нашему мнению, условно “присутствуют” нереализованные, потенциальные семы, способные “актуализироваться” в результате метафоризации и тем самым вызывать существенные изменения во всей структуре значения данных ЛСВ, а следовательно, способствовать возникновению новых ЛСВ. Потенциальные семы в определенных условиях оказываются генеративными для ЛСВ-результатов вторичной номинации. Новый (метафорический) ЛСВ обладает отличной от других ЛСВ полисеманта валентностью, поэтому “лексическая валентность является … существенным критерием в определении и разграничении различных значений многозначного слова” [Яворская 1973: 9]. Микрокомпоненты-семы в структуре ЛЗ образуют макрокомпоненты, к которым относятся понятийный, эмпирический и коннотативный макрокомпоненты [Кузнецова Э. В. 1989: 32]. Структуру ЛЗ ЛСВ обозначают как семную структуру значения, в отличие от термина “семантическая структура слова”, который связывается с представлением об отношениях между разными значениями (семами) одного и того же многозначного слова. ЛСВ одного многозначного слова образуют внутрисловную семантическую парадигму и оказываются семантически связанными друг с другом. Линейная экспликация такой парадигмы в лексикографическом толковании является, на наш взгляд, большой условностью и относится к разряду допущений научного описания исследуемого материала, однако она полностью оправдывает себя удобством традиционно сложившегося применения.
Семная структура значения метафорического деривата существенно отличается от структуры номинативного ЛСВ, и это связано с актуализацией определенной потенциальной семы (или группы таких сем). Исследователи различают переносное употребление слова и переносное его значение (В. В. Виноградов, И. А. Стернин и др.). Мы сталкиваемся с переносным употреблением лексической единицы в том случае, когда словом осуществляется номинация референта, в котором не представлен весь денотат слова целиком, а присутствуют лишь некоторые его элементы. При переносном употреблении референт слова принадлежит другой понятийно-тематической группе, нежели при прямом употреблении, когда референт знака остается в пределах “своей” понятийно-тематической группы [Стернин 1985: 8 и след.]. Переносные метафорические употребления могут быть реализациями не существующих в языке моделей, но в случае их закрепления в узусе и возникновения “серийности семантических дериватов” (Н. А. Лукьянова) у слова формируется новое переносное значение. Переносное значение, по мнению И. А. Стернина, также соотносится с новым денотатом, отличным от денотата прямого значения, хотя и имеющим с ним ряд общих черт. Переносное значение не является частичной
98
реализацией в речи прямого значения (это же утверждал ранее и М. Блэк); оно представляет собой новый набор сем, в который входят отсутствующие в прямом значении семы. Таким образом, вслед за М. Блэком и И. А. Стерниным, мы считаем, что метафорические значения рассматриваемых нами ЛСВ представляют собой самостоятельные значения, содержащие семы производящих значений (но не полностью!) и так называемые “актуализированные потенциальные семы”. Метафорическое значение соотносится с новым денотатом, поэтому в семной структуре метафорического значения присутствуют не только семы номинативного значения, но и новые семы, отражающие специфические характеристики нового денотата. Кроме того, понимание метафоры-языкового знака оказывается бинаристским. Метафорическое отношение возникает тогда, когда имеется отношение несовместимости денотатов как минимум по одному родовому признаку и отношения тождества как минимум по одному видовому признаку [Растье 2001: 363]. Если эти условия нарушаются, то метафора не возникает.
В целом, существующие структурно-семантические теории лексического значения, репрезентирующие метафорическую “ньютоновскую”, “картезианскую” научную картину (ЛЗ механистически, как любой макрообъект действительности, расчленяют на микросоставляющие и считают, что макрообъект — значение возникает из простой суммы микрообъектов — компонентов смысла, как бы мы их ни обозначали терминологически), все-таки не учитывают основополагающих принципов организации материи, давно известных в науке и, прежде всего, в физике и химии, что связано, к сожалению, с существующей в наше время традицией ограничиваться только узким сектором своей специальности.
Во-первых, нельзя утверждать, что сумма микрокомпонентов образует макрозначение — ЛЗ. Это статичный взгляд на динамичное по своей организации значение. Вспомним еще раз замечание Г. Фреге относительно того, что логически простое, как химические элементы, в чистом виде в природе не встречается и обнаруживается только как объект научного анализа. Так, сочетания химических элементов дают новое вещество, часто имеющее совершенно иные качества, чем его составляющие. Сходную мысль мы находим и в гештальт-психологических трудах (М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка и др.), основные положения которых образно обобщены в следующем высказывании В. В. Красных: “сознание есть динамическое поле, единицей которого является гештальт — целостная образная структура, не сводимая к сумме составляющих ее ощущений” [Красных 2001: 15]. Мы можем утверждать, что подобное происходит и с “минимальными компонентами смысла”, именно поэтому все лингвисты отмечают сложность в выделении “квантов” и исследовательский субъективизм структурно-семантических работ.
99
Во-вторых, в основе всех структурно-семантических трудов лежит эмпирическое наблюдение над лингвистическими объектами. Но мы можем предположить, что существует лингвистическая реальность, не поддающаяся простому наблюдению: нельзя считать, что нечто не существует только потому, что мы его не наблюдаем (например, латентные семы не поддаются такому наблюдению). В естественных науках поиск “первокирпичиков”, первооснов, первых принципов организации материи всегда сопровождался чрезмерным усложнением математического аппарата и экспериментальных методик. Если сравнить физические исследования настоящих квантов с лингвистическими исследованиями “минимальных квантов содержания”, то нельзя не поразиться упрощенности последних во взглядах их авторов на организацию не менее сложной “языковой материи”. Если уж использовать метафорический язык, то лингвистические макрообъекты, возможно, стоит исследовать в картезианских традициях, но “микрокосмос” значения (раз уж мы выделяем “минимальные кванты содержания”) явно живет по законам своей “квантовой физики”, с позиций которой, кстати, хорошо объясняется и существование латентных, потенциальных сем.
3.2. Тематическая и семантическая таксономии в
лексикологических исследованиях. Тематическая классификация метафоризаторов
Проблема классифицирования лексических единиц остается по-прежнему
открытой, поскольку до сих пор ведутся споры относительно единых терминов для обозначения понятий лексических объединений — полей, групп, рядов и т. д. [Пелих 1984; Гольдберг 1984; Чернейко 1998]. Традиционно считается, что отличие тематических группировок от семантических состоит в том, что в основе тематических группировок лежит классификация обозначаемых предметов и явлений, т. е. внеязыковые связи, а в основе лексико-семантических группировок — языковые связи (В. Е. Гольдин). По мнению некоторых исследователей, у единиц ТГ не может быть синонимов (Ю. Н. Караулов), а возможности тематического классифицирования ограничиваются только существительными (П. Н. Денисов), а иногда только конкретными существительными (Э. А. Лазарева). Другие исследователи рассматривают ТГ как один из возможных типов ЛСГ (Л. В. Быстрова, Н. Д. Капатрук, В. В. Левицкий) и семантического поля (Л. М. Васильев). Г. С. Щур и Ю. Н. Караулов выдвигали в качестве одного из условий объединения лексических единиц в семантическое поле необходимое сходство данных единиц
100
по денотативному признаку 48 . Мы разделяем мнение тех ученых, которые считают, что в образовании и тематических, и семантических групп участвуют и внеязыковые (в том числе и когнитивные), и языковые — семантические — связи, только в тематических группировках внеязыковые связи являются ведущими [Гольдберг 1984: 27]; что нет принципиального различия между ЛСГ и ТГ, так как слова, образующие ТГ, имеют в своих значениях общие семы. Вся разница между этими группами заключается в неодинаковой степени семантической спаянности: значения слов ТГ не так тесно связаны между собой и имеют больше семантических различителей, хотя вполне возможны переходные случаи между ЛСГ и тематическими группами [Гудавичюс 1969: 42]. Таким образом, деление лексических объединений на ТГ и лексико-семантические группы очень условно, а способ решения проблемы составляет, скорее, предмет научного договора.
Предлагаемая нами классификация метафоризаторов — номинативных ЛСВ неодушевленных существительных с потенциальными метафорическими значениями — классификация на денотативной основе, по тематической принадлежности номинаций (см. подробно п. 4 данной главы, в котором описываются модели метафоризации всех таксономических единиц этой классификации). Под денотатом мы понимаем класс однородных явлений реальной действительности, подлежащий именованию. Денотатами могут быть объекты, “доступные нашему восприятию”, и так называемые “идеальные предметы” — отвлеченные понятия определенной степени абстракции” [Кузнецова Э. В. 1989: 18—19]49. В этом смысле дискуссию между реалистами и номиналистами мы решаем в пользу первых.
Классифицированию могут подвергаться объединения лексических единиц различного объема. Сама попытка классифицировать номинации “кусочка” внешнего мира, единицы которого “как бы накладываются одна на другую, переплетаются, постоянно взаимодействуют” [Шахова 1980: 22], не всегда может быть удачной, и этим, вероятно, объясняется некоторый субъективизм работ, связанных с тематическими классификациями. О трудности классифицирования лексических единиц свидетельствует также то, что до сих пор не существует объективного и полного труда по итогам классификационных процедур в лексикологии 50 . Этот вопрос только разрабатывается, и предлагаемые
48 Ср. с определением Л. А. Новикова в учебном пособии “Современный русский язык” под ред. В. А. Белошапковой: “семантическое поле — это иерархическая структура множества лексических единиц, объединенных общим инвариантным значением” [Новиков 1997: 265]. 49 Подобный подход широко представлен в современных лексикологических исследованиях [Чернейко 1998]. 50 Частично эта проблема решена в “Русском семантическом словаре” под ред. Н. Ю. Шведовой, в словаре “Лексическая основа русского языка” В. В. Морковкина и в монографии Л. О. Чернейко “Лингвофилософский анализ абстрактного имени”.
101
исследователями различные языковые картины мира, по признанию самих авторов, далеки от объективности и в целом достаточно условны. Кроме того, исследование отдельных “участков” лексики приводит к нежелательному пересечению материала и существенным расхождениям в выводах: “лексика любого языка не позволяет непротиворечиво провести ее классификацию” [Уфимцева 1988: 118].
Разные группы лексических единиц исследованы в разной степени, поэтому мы обязаны учитывать результаты всех известных нам работ по классификации существительных, ставших объектом и нашего внимания. Осуществляя классификационную процедуру, мы руководствовались положением Э. В. Кузнецовой о том, что “семы, из которых складывается содержание лексических значений слов, соотносятся с признаками соответствующих понятий. Признаки понятий, в свою очередь, отражают признаки явлений реальной действительности (денотатов. — О. А.), поэтому семы в своей основе (а именно — в логической предопределенности. — О. А.) имеют внелингвистическую природу” [Кузнецова Э. В 1989: 32]. Другими словами, отнесение ЛСВ к определенной ТГ в конечном итоге зависит и от его семной организации. В структуре семем ЛСВ, принадлежащих разным ТГ, могут встретиться отсутствующие у других членов этих ТГ интегральные семы. Такие семы являются интегральными только для данных ЛСВ, и эти ЛСВ оказываются в “пограничной зоне”, то есть могут относиться к разным ТГ (подобные случаи мы рассматриваем отдельно). Наличие более чем одной интегральной семы является, пожалуй, универсальной причиной нарушения последовательности и единства в тематическом классифицировании.
Предлагаемая нами тематическая классификация метафоризаторов — номинативных ЛСВ неодушевленных существительных с потенциальными метафорическими значениями — осуществляется в несколько шагов. Основной критерий первого шага классификации — установление соотнесенности первичной номинации и, соответственно, реалии, которую она называет, со сферой человеческой деятельности. Выбор именно этого критерия не случаен. Человек всегда, на протяжении всей своей истории, оценивал действительность с точки зрения ее полезности для себя, и подобный антропоцентризм не мог не найти отражения в лексике (Ю. Н. Караулов, В. Н. Телия, Г. Н. Скляревская) и грамматике (Д. А. Штелинг). Нас интересует, какая лексика чаще подвергается метафоризации: та, что представляет собой номинации имеющих отношение к человеку реалий, или та, что объединяет наименования реалий “внешнего мира”, существующих независимо от человека. Бинарную оппозицию при данном подходе применить нельзя, так как ясно, что “соотнесенность с человеческой деятельностью” может быть прямой, опосредованной или вообще отсутствовать. Поэтому все рассматриваемые прямые ЛСВ неодушевленных существительных
102
мы разбили на три множества, обозначив их метафорически “семантическими сферами”51.
Первая семантическая сфера (СС1) — характеризуется прямой и явной соотнесенностью реалий, называемых ЛСВ неодушевленных существительных, с человеческой деятельностью. Ее составляют номинации с гиперсемами “артефакт”, “явление политической жизни”, “явление экономической жизни” и т. п., т. е. номинации СС1 используются для обозначения предметов и реалий, непосредственно связанных с человеком и результатами его прагматической деятельности: отмычка, мешок, ключ, ожерелье, окно и др. Во вторую семантическую сферу (СС2) объединены прямые номинации отвлеченных понятий, являющиеся продуктом человеческого интеллекта, ментальной деятельности, эмоций и т. п., а потому соотносимые с человеческой деятельностью опосредованно. Это ЛСВ с гиперсемами “пространство”, “свойство”, “состояние”, “действие”, “количество”: дыхание, нирвана, бой, истерия, мания и др. В третью семантическую сферу (СС3) объединены номинации различных реалий мира природы с гиперсемами “стихия”, “природа”: болото, источник, гроза, русло, золото, солнце и др. Реалии, называемые единицами СС3, существуют объективно и не зависят от человеческой деятельности. Второй шаг классификации представляет собой собственно тематическое членение лексики на основе выявления архисем в значениях анализируемых единиц: каждая семантическая сфера разбивается на ряд ТГ, при этом коннекция понятий “семантическая сфера” и “тематическая группа” такова: они находятся в отношениях своеобразной субординации, т. е. семантическая сфера вмещает в себя определенные тематические группы. Третий шаг — тематические группы разбиваются на подгруппы, что необходимо только для уточнения деталей в общей классификационной картине. Обобщенные результаты такого тематического классифицирования представлены ниже в табл. 1, а количественное наполнение ТГ неодушевленных существительных, участвующих в метафоризации, — в табл. 1 Приложения.
51 Это обозначение мы применяли в своих работах [Алешина 1987, 1988, 1991, 1997, 2001], оно используется другими исследователями (например, [Скляревская 1989а, 1993; Чудинов 2001]). Конечно, “сферичность”, “линейность”, “полевая структура” лексических объединений (если, конечно, не отождествлять их с когнитивными) не могут не вызывать вопросов и относятся чаще всего к разряду исследовательских метафорических допущений, к области языка теории. Ср.: “исследования в области нейрофизиологии доказали, что геометрическая модель цвета, например, имеет форму многомерного шара. В связи с этим выскажем предположение, что когнитивное пространство человека также может быть представлено в виде «магического шара», заполненной сферы, каждая точка которой имеет определенное множество векторов деятельности: вербальной, ментальной, физической, эмоциональной. Следовательно, воздействуя на сознание по одному из векторов, т. е. создавая возбуждение в какой-либо одной точке сферы, можно вызвать определенную реакцию, идущую из той же точки, но по другому вектору… Каждый человек обладает собственным уникальным «шаром» (индивидуальным когнитивным пространством)” [Красных 2001: 177].
103
3.3. Семантическое моделирование метафоризации (кодирования и декодирования): общая характеристика
Основная прикладная цель применения семантического моделирования на
данном этапе исследования — обнаружить, существует ли закономерность в выборе мотивирующего перенос наименования признака при создании метафоры и зависимость выбора этого признака от природы номинативной основы, от ее тематической принадлежности, и какова доля случайности при рассмотрении метафоризации- кодирования и декодирования в этом аспекте.
А. Вежбицка в своей работе “Семантические примитивы” [2001] отмечала, что основной целью семантики должно стать моделирование значений. “Язык имеет многомерную структуру и обладает механизмом дискретизации и перекодирования культурного опыта, а следовательно, переводит в ряд речевых цепочек многомерный и непрерывный мир культурного опыта, надстраиваясь над речью и создавая дополнительное многомерное пространство. Языковая реальность содержательного компонента структуры проливает свет на проблему взаимосвязи языка и культуры: это многоуровневый характер движения от содержания культуры к ее языковым формам. Отсюда, одно и то же смысловое содержание может быть передано разными синтаксическими структурами, и наоборот: одна и та же формальная (поверхностная) структура соотносима с различными семантическими (глубинными) моделями. Языковые модели являются результатом предшествующей практики языка и культуры, содержат в себе моменты стереотипности, запечатляя тем самым исторический опыт этноса в устойчивых формах. Язык оставляет место для новых моделей, однако такие модели входят в языковую практику крайне затруднительно” [Боженкова 2000а: 25].
Прежде чем приступить к характеристике структурно-семантического моделирования метафоризации (кодирования и декодирования), мы должны определить содержание понятий “модель” и “моделируемый объект”.
104
Таблица 1 Тематическая классификация номинативных лексико-семантических вариантов неодушевленных существительных, служащих основой для образования метафор
№ семантической сферы Название тематической
группы и ее № Примеры
СС1
Номинации артефактов ТГ1 лопата, меч, серп
Номинации знаков, символов ТГ2
буква, иероглиф, нота
Номинации социально-политических явлений ТГ3
дипломатия, фронда, тирания
Номинации культовых и религиозных реалий ТГ4
ересь, крещение, проповедь
Номинации из сферы торгово-денежных отношений ТГ5
актив, бум, капитал,
Номинации отраслей науки и учений ТГ6
силлогистика, схоластика, метафизика
Номинации реалий изобразительного искусства ТГ7
карикатура, мозаика, портрет
Номинации результатов литературно-словесной деятельности человека ТГ8
легенда, повесть, поэма
Номинации реалий театрально-музыкальной культуры ТГ9
репертуар, спектакль, увертюра
СС2
Номинации мест ТГ10 сторона, центр, обочина
Номинации состояний ТГ11 голод, сон, жажда Мотивированные
прилагательными номинации свойств и состояний ТГ12
заскорузлость, текучесть, черствость
Номинации свойств ТГ13 громкость, инертность, плотность
Имена действия ТГ14 взлет, выход, ломка
105
Мотивированные глаголами номинации действий и состояний ТГ15
насыщение, расцветание, трепетание
Номинации совокупности предметов, лиц ТГ16
армия, дружина, полк
СС3
Номинации явлений природы ТГ17
звезда, солнце, молния
Рельефно-ландшафтная лексика ТГ18
гора, лес, перевал
Номинации организмов ТГ19
гриб, микроб, плесень
Номинации веществ ТГ20 золото, медь, серебро Номинации временных
отрезков ТГ21 весна, лето, ночь
3.3.1. Понятия “модель” и “моделируемый объект” Термин “семантическая модель” был введен Дж. А. Миллером в 1979 г. для
описания ситуации как множества всех возможных положений дел, относительно которых истинна вся информация, построенная для определенного текста, и в настоящее время широко используется в прикладном языкознании. В лексико-семантических исследованиях этот термин используется реже, хотя собственно семантическое моделирование чрезвычайно интересно результатами своего применения. Построение моделей “организации смыслов” провоцирует возникновение вопросов об их статусе: являются ли выделенные модели следствием способности к естественной категоризации у классификатора или они представляют собой результат лингвистической категоризации. В любом случае, результаты семантического моделирования вскрывают прототипическую, в понимании Дж. Лакоффа, семантику, основа организации которой, по нашему глубокому убеждению, априорна. Диалектико-материалистический исследовательский подход не позволяет объяснить многие результаты семантического моделирования. Продемонстрируем это на примерах моделирования метафоризации-кодирования и декодирования.
При создании метафоры и ее декодировании человек должен иметь достаточно хорошее представление об обоих соотносимых денотатах и владеть тем, что М. Блэк называет “системой общепринятых ассоциаций”, а Л. В. Щерба — “наивными понятиями”. Другими словами, метафорогенная деятельность человека предполагает, с одной стороны, его полную социализацию, а с другой, — на основе уже имеющегося у него априорного “запаса” знаний, внешнее знакомство с необходимым количеством внесоциальных объектов, представление о которых, в отличие от научного знания, может содержать полуправду и даже ошибочные сведения (всем известный пример: кит — рыба).
106
Априорная способность человека к ассоциациям и аналогиям (даже дети с “феноменом Маугли” не лишены этой способности) позволяет предположить, что организация ассоциативной деятельности человека реализуется по строго определенным, ограниченным в своем числе моделям. В противном случае эта ассоциативная деятельность была бы хаотична и бессистемна и именно так отражалась бы в метафорогенной деятельности.
Анализируя языковые метафоры, определяя общие для всех языков и индивидуальные для конкретного языка модели метафоризации-кодирования и декодирования, мы можем выявить те инвариантные “модели смыслопорождения” и “модели смысловосприятия”, которые максимально приближены к априорному фонду и могут считаться в большей степени следствием естественной, а не лингвистической категоризации.
Как отмечают исследователи, существует множество терминов для обозначения метафорических моделей и самих моделируемых единиц, которые образно представляют ту или иную денотативную (понятийную) сферу. При этом используется лексика, относящаяся в первичном значении совсем к иной сфере (концепты, принадлежащие к иной понятийной сфере). Для обозначения такого моделирования (в нашем понимании, выделения одного параметра модели. — О. А.) специалисты используют термины “архетип” или “метафорический архетип” [Панченко и Смирнов 1971; Юнг 1996], “концептуальная метафора”, “базисная метафора” [Lakoff & Johnson 1980a], “ментальная модель” [Johnson-Laird 1983], “концептуальная модель” [Балашова 1998] “метафорическая модель” [Баранов, Караулов 1991a, 1991б], “образ-схема” [Lakoff 1987a], “эталон” [Топорова 1994], “парадигма образов”, или “образная парадигма” [Павлович 1995], “поэтическая формула” [Кузьмина 1995, 1999], “образ” [Илюхина 1994, 1998], “модель регулярной многозначности” [Шмелев 1964, 1973; Апресян 1974; Чудинов 1988], “метафорическое поле” [Скляревская 1993], “образная параллель” [Кожевникова 1991, 1992, 1994] и др. Все эти термины имеют различную внутреннюю форму, которая акцентирует собственно лингвистический, общефилологический, психологический или когнитивный аспекты рассматриваемого явления, отражают традиции различных научных школ и направлений (подробнее см. [Чудинов 2001а: 28; Дубровина 2001: 7]). Метафорическую модель противопоставляют моделям метафоры (в нашем понимании — моделям метафоризации-кодирования или декодирования. — О. А.). Метафорическая модель — понятийная область, соотносимая в когнитивной теории с областью источника метафоры (Ю. Н. Караулов, А. Н. Баранов, И. И. Дубровина и др.), например, метафорические модели “Путь”, “Вместилище” и т. д.52, а модель метафоры (метафоризации) описывает механизм 52 В сущности, обозначать такие метафорические модели (или М-модели) могут многие из выделенных нами метафоризаторов.
107
метафорического переноса в целом и включает такие элементы, как источник, цель, основание и т. п.
О сложности определения модели и моделирования в лингвистических исследованиях мы уже писали в первом параграфе данной главы. Моделирование метафоризации (кодирования и декодирования) усложняется еще тем, что собственно результаты метафоризации как когнитивного процесса мы эмпирически наблюдаем только в речи, а метафоры-языковые знаки считаются экспликациями когнитивных возможностей (см. наши работы [Алешина 1991, 1997, 2001]). Обобщив результаты структурно-семантических и когнитивных исследований, А. П. Чудинов определяет моделирование метафоризации следующим образом: “для описания метафорической модели (исследователь не противопоставляет метафорическую модель модели метафоризации. — О. А.) необходимо охарактеризовать следующие ее признаки: 1) исходную понятийную область (в других терминах — ментальную сферу-источник, сферу-донор, источник метафорической экспансии), т. е. в терминах регулярной многозначности семантическую сферу, к которой относятся охватываемые моделью слова в первичном значении; 2) новую понятийную область (в других терминах — ментальную сферу-мишень, денотативную зону, реципиентную сферу, направление метафорической экспансии), т. е. в терминах регулярной многозначности семантическую сферу, к которой относятся охватываемые моделью слова в переносном значении; 3) типовые для данной модели сценарии, которые отражают наиболее характерные для исходной понятийной сферы последовательности ситуаций…; 4) относящиеся к данной модели фреймы, каждый из которых понимается как фрагмент наивной языковой картины мира и которые структурируют соответствующую понятийную область (концептуальную) сферу...; 5) составляющие каждый фрейм типовые слоты, т. е. элементы ситуации, которые включают какую-то часть фрейма, какой-то аспект его конкретизации…; 6) компонент, который связывает первичные и вторичные значения охватываемых данной моделью единиц”, т. е. позволяет выяснить, что дает основания для метафорического использования соответствующих концептов, почему понятийная структура сферы источника оказывается подходящей для обозначения элементов совсем другой сферы [Чудинов 2001а: 44—45]. Таким образом, структурно-семантическое описание метафоризации неразрывно связано с когнитивными описаниями на уровне соотнесения денотативных сфер.
Подобный подход вызывает одно небольшое, но существенное замечание: данное понимание моделирования метафоризации не соотносится с этапами метафоризации-кодирования (метафорообразования), а представляет собой описание параметров моделирования самого процесса метафорической декодировки.
108
По мнению В. Н. Телия, “описать технику метафоры, т. е. то, как она организует новое значение, — значит описать метафору как модель, аналогичную словообразовательным и синтаксическим моделям” [1988б: 183], поэтому мы разделяем конкретную метафору и модель метафоризации на том же основании, на каком, например, синтаксисты разделяют конкретные высказывания и модели предложения. Однако такое терминологическое неразличение метафоры-результата и метафоризации (не говоря уже о дальнейшем смешении метафоризации-кодирования и метафоризации-декодирования) приводило многих исследователей к определенным недоразумениям. Так, часто под метафорой понимали процесс (“метафора предстает перед нами как живое, сложное явление, обладающее, как всякий процесс, своей динамикой, в основе которой лежат законы” [Кияненко 1968: 7], “метафора — это способ соотнесения посредством категоризации различных понятий на основании базовых метафорических концептов, обеспечивающих категориальные отношения между логически несоотносимыми понятиями” [Толочин 1996: 64]), иногда и процесс, и результат (“сам термин “метафора” используется в двух значениях — как результат и — реже — как процесс” [Телия 1988б: 173]53). До последнего времени метафора (и подразумевающаяся под ней метафоризация) описываются терминами поэтики даже в лингвистических словарях, ср.: метафора — это “троп, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основании сходства, аналогии и т. п.” [Ахманова 1969: 231]; “троп или фигура” (статья Н. Д. Арутюновой в энциклопедии “Русский язык” под ред. Ф. П. Филина) 54 . Необходимость разделения понятий “метафора” и “метафоризация” подсказывает и статья “Метафора” в Лингвистическом энциклопедическом словаре, в которой
53 Некоторые исследователи считают, что следует “развести” метафору и
метафорообразование как теоретические исследовательские объекты по разным областям знания. Ср.: “В. Н. Телия относит динамику метафоры к сфере теории номинации, а готовое значение – к сфере семасиологии [Телия 1881: 95, 152]. По нашему мнению, динамика метафоры может быть исследована лишь как комплексная проблема ряда гуманитарных наук: аксиологии, психологии, психолингвистики, фольклористики, возможно, этнографии и физиологии и – наряду с другими – теории номинации” [Скляревская 1993: 27]. 54 Терминами поэтики описывается метафора и в Оксфордском словаре как “фигура речи, заключающаяся в том, что имя или дескриптивное выражение переносится на некоторый объект, отличный от того объекта, к которому, собственно, применимо это выражение, но в чем-то аналогичный ему; результат этого — метафорическое выражение” (Цит. по [Блэк 1990: 159]). Энциклопедический словарь Лярусс описывает метафору как “прием, при котором собственное значение слова переносится на другое значение, что происходит только на основании какого-л. сравнения подразумеваемых явлений” (Larоussе de poche 1979: 262: “Procйdй par lequel on transporte la signification propre d’un mot а une autre signification qui ne lui convient qu’en vertu d’une comparaison sous-entendue”).
109
говорится, что “в образовании и, соответственно, анализе метафоры участвуют четыре компонента: основные и вспомогательные субъекты метафоры, к которым применяются парные термины (буквальная рамка и метафорический фокус, тема и “контейнер”, референт и коррелят 55 ) и соотносимые свойства каждого объекта 56 ” [Арутюнова 1990а: 296]. Безусловно, здесь идет речь о метафоризации. “Эти компоненты не полностью представлены в структуре метафоры, в частности, остаются необозначенными свойства основного субъекта метафоры, составляющие ее семантику” [Там же]. Здесь говорится уже о метафоре-результате, метафорическом деривате.
Кроме того, как уже отмечалось, в большинстве исследований специально не разводятся метафорообразование и декодирование метафор, хотя очевидно, что их нельзя смешивать. Метафорообразование, условно говоря, осуществляется в несколько этапов: 1) вычленение нового объекта-референта, требующего особого обозначения; 2) соотнесение этого объекта с другим/другими, уже известными; 3) вычленение инвариантного признака/признаков у нового и известного/известных объектов и, соответственно, выбор объекта, номинация которого будет в дальнейшем участвовать в метафорообразовании с одновременным “игнорированием” других объектов, обозначения которых могли бы также участвовать в метафоризации-кодировании (существование гипотетической “неединственности” такого выбора подтверждается данными исследований по онтолингвистике и теории перевода); 4) обозначение нового объекта-референта (а впоследствии, возможно, и всего соответствующего денотативного и/или сигнификативного ряда) уже имеющимся именем известного объекта на основе типовых сценариев и т. д. Таким образом, при моделировании метафорообразования “исходная понятийная сфера” не может быть на первом месте, но она оказывается на нем при описании декодирования метафор. Моделирование метафоризации-кодирования возможно только через выявление моделей метафоризации-декодирования: определив наиболее актуальные при декодировании метафор параметры моделей, понаблюдав за речевой эмпирикой, мы можем предположить, что новые метафоры, скорее всего, станут фактами языковой системы, если будут образованы по тем же моделям, по которым декодируется большинство метафор данного языка.
Здесь мы считаем необходимым поднять вопрос о понятии моделируемого объекта, поскольку моделирование возможно только при наличии данного объекта и собственно модели. Естественно, по своей природе моделируемые объекты могут быть самыми разными, но в каждой конкретной ситуации лингвистического моделирования должны быть четко очерчены границы исследуемого объекта. 55 Т. е. то, что определяет направление метафоризации, в нашей терминологии. 56 Мотивирующие перенос наименования признаки, в нашей терминологии.
110
Ментальные операции, а моделирование относится именно к таким операциям (исключение составляют только предметное, в том числе и физическое, моделирование), возможны не с объектом — фрагментом реальной или воображаемой действительности — как таковым, а с понятием о данном объекте, поскольку объекты “отражаются” мышлением человека в понятиях. Поэтому при моделировании с о б с т в е н н о м о д е л и р у е м ы е о б ъ е к т ы — фрагменты окружающего реального (или ирреального, выдуманного) мира — не участвуют в процедуре, а участвуют понятия, различные по своему содержанию (ф а к т и ч е с к и м о д е л и р у е м ы е о б ъ е к т ы, в нашей терминологии). Собственно моделируемый объект обладает набором признаков (их группы обозначим литерами — a + b + c + d … и т. д.), позволяющим отличать его от других объектов, причем некоторые из этих признаков (допустим, признаки групп a, b) являются единичными, индивидуальными, характерными только для данного объекта и позволяющими отличать его от других подобных объектов, а другие (группы признаков c, d, …) свойственны целой группе объектов и являются общими для всех ее членов. Признаки, выражающие внутреннюю природу объекта (предположим, группы признаков, обозначенные как b, d), являются существенными; признаки, которые могут принадлежать объекту, но не выражать его сущности (например, признаки групп a, c), являются несущественными. При этом параметр существенности/несущественности признака не постоянен, и его определение зависит часто от цели исследования (например, интонационная оформленность высказывания может не учитываться при синтаксическом моделировании).
Фактически моделируемым объектом оказывается частное понятие (в нашем случае — понятие о метафоре как единице метафорики: языковой, ментальной и проч.), отражающее естественный объект в его общих и существенных признаках (группы d). Определение границ фактического моделируемого объекта выявляется в результате применения целого ряда логических приемов — сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения, которые предшествуют моделированию. Только четко очертив границы моделируемого объекта-понятия, исследователь переходит к собственно моделированию. В то же время процедура определения границ моделируемого объекта не является моделированием, как это, к сожалению, представлено во многих исследованиях. Именно поэтому не могут заменять моделирование и все логические операции с фактически моделируемыми объектами: обобщение — категоризация, ограничение, деление, классифицирование и расчленение, определение, а также перечисление результатов этих операций.
Любое понятие имеет содержание и объем. Фактически моделируемый объект также обладает содержанием — совокупностью общих и существенных признаков и объемом — совокупностью тех собственно моделируемых
111
объектов — фрагментов реального или ирреального мира, — которые могут соотноситься с данным понятием.
Собственно моделируемые объекты могут являться элементами класса или подкласса, причем при моделировании желательно работать если не с универсальным классом объектов (т. е. классом, состоящим из всех элементов исследуемой области), то, по крайней мере, с относительно большой частью элементов данного класса. Для лингвометафорологических исследований универсальным классом собственно моделируемых объектов должна была бы стать совокупность всех когда-либо существовавших, существующих метафор, а также тех метафор, которые будут существовать, как речевых, так и языковых, но выстроить исследование на таком корпусе объектов — немыслимая задача, поэтому любой лингвистической работе имманентно присуща неполнота изучаемого объекта. Строго говоря, очень многие речевые единицы, не только метафорические, за исключением, пожалуй, только формообразующих аффиксов, корпус которых на синхронном уровне обладает некоторой стабильностью, “отражаются” в так называемых нерегистрирующих понятиях, т. е. в понятиях с неопределенным объемом. Поэтому при моделировании любых речевых единиц, а, строго говоря, не речевых единиц, а понятий о них, мы a priori не можем не столкнуться с неполнотой объекта исследования.
Под метафоризацией-кодированием мы понимаем когнитивный процесс, результат которого эксплицируется в коммуникативном поведении человека, в том числе и в языке. Лексическая метафоризация-кодирование — это формирование у лексемы метафорического значения по определенной семантической модели, выявляемой только в результате анализа моделей декодирования, свойственных другим, уже существующим в языке, метафорам. Метафорический ЛСВ (метафора) возникает на основе актуализации потенциальных сем производящего номинатива как следствия выбора определенных параметров такой модели метафоризации-кодирования. Понятие о метафоре как об исследовательском объекте, таким образом, позволяет считать ее результатом реализации определенной модели метафоризации-кодирования, и все выявленные модели представляют собой научные конструкты.
Основными параметрами структурно-семантических моделей метафоризации-декодирования, на основе которых мы сможем в дальнейшем выявить модели метафоризации-кодирования, являются следующие: 1) мотивирующий перенос наименования признак (или сочетание признаков) и 2) направление метафоризации — тип метафорического переноса, например, “предмет человек” — пила, молоток, клад; “животное человек” — медведь, осел, лиса и др. Каждая метафора определяется принадлежностью к конкретной модели метафоризации, которая, в свою очередь, зависит от сочетания данных параметров.
112
Рассмотрим подробнее параметры моделей метафоризации-декодирования. 3.3.2. Параметры семантической модели метафоризации
3.3.2.1. Направления метафоризации-декодирования Метафоризацию-декодирование в “узком” смысле часто толкуют как
направление метафорического переноса, и именно этому параметру придают статус модели [Шмелев 1964, 1973; Панченко и Смирнов 1971; Апресян 1974; Lakoff & Johnson 1980a; Lakoff 1987a; Johnson-Laird 1983; Чудинов 1988, 2000а, 2000б, 2001а, 2001б, 2000в; Скляревская 1989а, 1989б, 1993; Баранов, Караулов 1991; Павлович 1995; Илюхина 1998; Кузьмина 1999]. Выделение основных направлений метафоризации, как отмечалось в первой главе, восходит еще к античным временам: перенос свойств одушевленного объекта на неодушевленный (О>Н), неодушевленного — на одушевленный (Н>О), неодушевленного — на неодушевленный (Н>Н), одушевленного на одушевленный (О>О). Метафоризация может приводить к смене категориального аспекта одушевленности-неодушевленности или не затрагивать его. Перечисленные направления переносов характерны для создания как языковой метафоризации, так и художественной (авторской, окказиональной).
Метафоризация номинаций в художественной речи протекает, на первый взгляд, достаточно алогично, произвольно, поэтому выявлять закономерности в образовании индивидуальных авторских метафорических инноваций намного сложнее, чем в образовании узуальных, поскольку они представляют собой результат индивидуального творческого акта (см. подробно об этом [Басилая 1971; Скляревская 1989а, 1993; Толочин 1996]). По словам Г. Н. Скляревской, все явления реального мира, охватывающие как вещественные сущности, так и абстракции, вовлечены в метафоризацию, но метафорический перенос совершается в определенных направлениях только в узусе [1989б: 20 и след.], однако, нам кажется, образование индивидуально-авторских метафор подчинено своим системным закономерностям, описание которых сложнее, чем описание узуальных метафор, но не выходит за рамки общеязыковой системности (в связи с этим трудно не согласиться со словами Дж. Лакоффа: “the study of literary metaphor is an extension of the study of everyday metaphor. Everyday metaphor is characterized by a huge system of thousands of cross-domain mappings, and this system is made use of in novel metaphor” [Lakoff 1992: 4]). Языковая метафора активно участвует в создании так называемой “языковой картины мира” [Телия 1988а, 1988б], поэтому системный подход распространился и на изучение метафоризируемой лексики, и самой метафоризации.
Обозначение одним и тем же наименованием разных денотатов, как уже отмечалось, закономерно приводит исследователей к мысли о возможности существования системных связей между денотативными объединениями, номинации которых вовлечены в метафорический процесс, и, кроме того,
113
“метафора индивидуализирует предмет, относя его к классу, к которому он не принадлежит”, “работает на категориальной ошибке” [Арутюнова 1979а: 149], а повторение “ошибок” подчинено в узусе строго определенным правилам, что позволяет исследовать системность переносных значений и определять, ЛСВ каких тематических объединений “меняют” свою денотативную принадлежность. Насколько часто происходит между тематическими объединениями такого рода “обмен”, настолько точно мы можем описать тип метафорического переноса, или направление метафоризации.
Количество работ, посвященных выявлению направлений метафоризации, достаточно велико, и, как правило, они базируются на материале определенной части речи. Так, типы метафорических переносов в классе имен существительных исследованы достаточно подробно. Известно, что номинации воинских объединений (армада, батальон, рота и др.) часто служат в качестве обозначений однородного множества чего-либо (Т. П. Перетятько); названия жилищ животных используются в качестве названий жилищ человека (нора, конура, гнездо и др.) (Г. С. Хромых). В функции характеристики лица употребляются названия лиц по роду занятий (актер, инквизитор, клоун, сапожник и др.), названия “четвероногих” (В. К. Харченко), а именно диких и домашних животных (медведь, волк, корова), а также птиц (орел, сокол, петух, голубь, курица), насекомых (пчела, трутень, муравей) 57 , предметов (пила, мешок, спичка), растений (мимоза, дуб, роза, пустоцвет) и др. (Г. А. Куттубаева). Названия жидкостей (море, омут, пучина, стремнина) и пути (дорога, тропа, стезя) используются для номинации жизненных процессов (Н. А. Кузьмина). Названия запахов обозначают характерные признаки чего-либо (сладкий запах успеха, веет ароматом высокой образованности, затхлый душок подхалимства) (В. П. Сидельников). В целом, наиболее изученной оказывается лексика, обозначающая множества однородных предметов, явлений (Т. П. Перетятько, Н. А. Лукьянова, А. И. Лашкевич), и характеристики лица, особенно зооморфные (см. выше, а также Е. А. Гутман, Ф. А. Литвин, М. И. Черемисина, О. А. Рыжкина, Г. Росинене и многие др.). Не зависящую от частеречной принадлежности конституентов классификацию типов метафорических переносов как сопутствующих показателей экспрессивности предложила Н. А. Лукьянова: 1. Предметный мир, непосредственно не связанный с человеком: названия животных, птиц, насекомых, растений, конкретных реалий, болезней, мифологических и сказочных существ и т. п. (осел, индюк, орел, клоп, пустоцвет, гриб, сморчок, колобок, кипяток, жердь и т. д.) > Сфера ‘человек’:
57 Строго говоря, интерес биоморфному языковому материалу возник еще в античности. Во II—IV вв. создается популярно-теологическое сочинение “Физиолог” — “учительная книга, в которой нравы и особенности животных, птиц, камней получают истолкование в форме христианской библейской экзегезы” [Физиолог 1996: 5].
114
образные характеристики человека по морально-этическим, социально-коммуникативным, физическим, внешним и т. п. признакам. 2. Предмет хозяйственного назначения > Характеристика предмета, связанного с человеком (сарай, хлев, свинарник — о жилище человека, пойло, бурда — о напитках, пище человека). 3. Признак предмета или животного > Признак человека (горячий на работу, шелковый, колючий). 4. Внешний признак человека > Признак характера, поведения, состояния человека (мягкотелый, толстокожий). 5. Действие, производимое человеком, животным или “предметом” > Процесс говорения (устная речь) (оборвать, уколоть, грызть). 6. Состояние, процесс предмета, явление природы (стихии) > Психическое состояние человека (кипятиться, взорваться, бушевать). 7. Конкретное действие, осуществляемое человеком или “предметом” > Широкий круг действий, совершаемых человеком, связанных со стихиями (дуть, жарить, резать, чесать). 8. Реалия “мира природы” > Характеристика социальных условий жизни, общественной среды (дно, тина, омут, болото). 9. Реалия “мира природы” > Множество однородных явлений, предметов, лиц (море, океан, водопад, град) [1986: 100—102]. Г. Н. Скляревская, использовав результаты предшествовавших исследований, а также материалы по структуре идеографических словарей Х. Касареса, Г. М. Майера [Караулов 1976: 248—249, 252] и комплексного учебного словаря “Лексическая основа русского языка” [1984], предложила свою классификацию типов регулярных метафорических переносов в разряде имен существительных, причислив их к семантическим моделям [Скляревская 1989б: 16—21]. Наиболее регулярными оказались следующие типы метафорических переносов: предмет > психический мир (звезда удачи, каскад красноречия), предмет > абстракция (бездна забот, море проблем), животное > человек (зоохарактеристики), человек > человек (актер ‘притворщик’, барин ‘тот, кто уклоняется от труда’), предмет > человек (метеор, лопух, пробка), предмет > предмет (гора книг, джунгли города), физический мир > психический мир (взрыв смеха, проблеск надежды) и предмет > физический мир (сноп света, веер лучей). Все остальные типы переносов автор рассматривает как нерегулярные, так как образованные такими переносами метафоры немногочисленны 58 . Перечисленные направления, безусловно, свидетельствуют о наличии системных отношений в метафоризируемой лексике.
58 С этим трудно согласиться. Так, метафоризация в направлении “животное психическое состояние” имеет древнейшее происхождение (см., например, памятозлобие — червь ума и т. п метафоры, использованные в святоотеческих текстах), регулярно реализуется в позднейших литературных текстах, причем не только символистских, начала XIX в., но и в современных, хотя и оценивается теоретиками как “неудачное развитие тропа” (об этом подробно см. в [Санников 2002: 126—127]), ср.: разрежем общую курицу славы (В. Маяковский); собаки секретного желания (В. Брюсов); гиена подозрений, мыши тоски, леопарды мщения, сова благоразумья, ослы терпенья, слоны раздумья, крокодил славы (пародия В. Соловьева); журавль
115
По результатам анализа рассмотренных выше работ можно сделать следующие выводы.
1. Тип метафорического переноса является одной из характеристик, одним из параметров модели метафоризации. Направление переноса обусловлено наличием условных “начала” и “конца” метафоризации, или, в терминологии М. Блэка, главного и вспомогательного субъектов. Номинации одного “круга” денотатов в результате метафоризации оказываются принадлежностью иного “круга” денотатов. Наименования этих “кругов” могут быть разными, но в любом случае, один из них выступает в качестве “источника” номинаций, а другой “предлагает” одного из своих членов для наименования (как мы могли бы представить метафоризацию, став на сравнительную точку зрения). Следует заметить, что вспомогательный субъект может стать главным при последующей метафоризации: см., например, спор ‘словесное состязание’ > имущественные споры ‘взаимное притязание на владение чем-л.’ > За пядь земли …. Ведем кровавый спор ‘поединок, битва, единоборство’ > Какая ночь! Алмазная роса живым огнем с огнями неба в споре ‘состязание, соперничество’.
2. Членение лексики на тематические сферы достаточно субъективно и может осуществляться по-разному, что обусловлено многообразием и собственно языковых, и логико-предметных связей. В качестве “начала” и “конца” метафоризации-декодирования могут выступать как категориальные объединения лексики (части речи), так и небольшие тематические образования (например, одоративная лексика и номинации свойств). Соответственно, объемы лексики, охваченные разными типами метафорических переносов, будут также разными. Благодаря существованию различий в объеме тематических объединений, охваченных определенными типами метафорических переносов, нами выделяются следующие градации направлений метафоризации (см. также [Алешина 1991]).
1) М е т а к а т е г о р и а л ь н ы е т и п ы м е т а ф о р и ч е с к и х п е р е н о с о в — универсальные, не зависящие от частеречной принадлежности метафоризируемого материала: Н>О, О>Н, Н>Н, О>О. Эти направления выделяются с античных времен (Квинтилиан). Метакатегориальные типы Н>О (персонификационный) и О>Н (деперсонификационный) приводят к морфологическим изменениям лексических единиц, вовлеченных в номинационный процесс. Так, одушевленные существительные переходят в разряд неодушевленных, и наоборот; происходит окачествление относительных прилагательных, возникают изменения в глагольной парадигме и т. д.
славы (С. Антонов); конь страха (Ф. Искандер); удав преступности (А. Солженицын). Как отмечает О. П. Ермакова, приводящая многочисленные примеры, эта модель остается живой [Ермакова 1996: 56—59, цит. по Санников 2002: 127].
116
2) К а т е г о р и а л ь н ы е т и п ы м е т а ф о р и ч е с к и х п е р е н о с о в наблюдаются в рамках одной части речи. Так, примерами данных типов могут служить классификация “семантических моделей метафоризации”, предложенная Г. Н. Скляревской [1989а, 1993], или отдельные типы переносов, исследованные Н. Д. Арутюновой [1979а], Н. А. Кожевниковой [1986а], Н. А. Лукьяновой [1986] и др.: предмет > предмет, физический мир > психический мир, внешний признак человека > признак характера и др.
3) Т е м а т и ч е с к и е т и п ы м е т а ф о р и ч е с к и х п е р е н о с о в наблюдаются в рамках одной части речи, индивидуальны для каждой тематической группы, но могут быть сопоставлены с аналогичными типами слов другой части речи: обиталище животного > жилище человека, запах > признак чего-л., строение > общество и др. [Перетятько 1972, 1975; Сидельников 1982; Хромых 1975, 1977, 1979; Куттубаева 1982; Харченко 1985; Росинене 1985; Алешина 1987, 1988, 1991, 1997, 2001; и др.].
Предложенная типология направлений метафоризации-декодирования не является универсальной, поскольку мы можем, например, рассматривать различные направления внутри тематических типов и тем самым продолжать классификации. Так, в тематическом типе строение > общество выделяются такие направления, как строение > отрицательное явление в социуме (бордель Европы — о Гамбурге) и строение > положительное явление в социуме (арсенал страны — о Челябинске).
Большинство современных исследований метафоры посвящено, как правило, изучению категориальных и тематических типов метафорических переносов.
В качестве исходной классификации типов метафорических переносов мы в дальнейшем при моделировании будем использовать с некоторыми дополнениями и изменениями (из-за специфики нашего материала) приведенную выше типологию Г. Н. Скляревской. Определяются следующие типы переносов: I. “Предмет > предмет” (П>П59); II. “Предмет > физическое явление” (П>ФизЯв); III. “Предмет > психическое явление” (П>ПсЯв); IV. “Предмет > социальное явление” (П>СоцЯв); V. “Предмет > отвлеченное понятие” (П>Отвл); VI. “Физическое явление > предмет” (ФизЯв>П); VII. “Физическое явление > физическое явление” (ФизЯв>ФизЯв); VIII. “Физическое явление > психическое явление” (ФизЯв>ПсЯв); IX. “Физическое явление > социальное явление” (ФизЯв>СоцЯв); X. “Физическое явление > отвлеченное понятие” (ФизЯв>Отвл); XI. “Психическое явление > физическое явление” (ПсЯв>ФизЯв); XII. “Психическое явление > социальное явление” (ПсЯв>СоцЯв); XIII. “Социальное явление > физическое явление” (СоцЯв>ФизЯв); XIV. “Социальное явление > психическое явление” (СоцЯв>ПсЯв); XV. “Социальное 59 Здесь и далее в скобках — сокращенные варианты обозначения направлений метафоризации, используемые при формальной записи моделей.
117
явление > социальное явление” (СоцЯв>СоцЯв); XVI. “Социальное явление > отвлеченное понятие” (СоцЯв>Отвл); XVII. “Отвлеченное понятие > физическое явление” (Отвл>ФизЯв); XVIII. “Отвлеченное понятие > психическое явление” (Отвл>ПсЯв); XIX. “Отвлеченное понятие > социальное явление” (Отвл>СоцЯв); XX. “Отвлеченное понятие > отвлеченное понятие” (Отвл>Отвл). Актуальность каждого направления для метафорообразования отражена в данных табл. 3 Приложения.
3.3.2.2. Мотивирующие перенос наименования признаки “Признаковый” подход (Р. Л. Солсо, Л. Барсалоу) предполагает описание
стоящего за словом явления “через некоторый набор признаков, которые, скорее, характеризуют увязываемый со словом объект, действие, качество и т. д., изучение особенностей восприятия человеком внешнего мира и последующей переработки воспринятого” [Красных 2001: 38]. Логический анализ метафоризации-кодирования и декодирования позволил определить то, что метафоризация осуществляется благодаря инвариантным качествам среднего члена метафорического силлогизма при игнорировании существенных дифференциальных признаков. Инвариантные признаки могут быть обобщены и описаны в категориальных терминах. В исследованиях их обычно обозначают термином “мотивирующие”. Таким образом, переносное (метафорическое) значение возникает благодаря тому, что сопоставляемые денотаты или обладают целым рядом инвариантных черт (иногда — одной определенной общей чертой), или вызывают тождественные эмоции, и такое объективно существующее сходство не может быть не замечено говорящим субъектом вследствие ассоциативности мировосприятия60 . Игнорируя многие прочие существенные признаки денотата, подобные инвариантные “находки” человек регулярно эксплицирует в речи. Безусловно, существует еще одна причина возникновения семантической деривации, в частности метафоризации, — экономия ограниченных языковых средств. Объективно существующее сходство денотатов позволяет декодировать метафоры, не подвергающиеся узуализации в данном языковом коллективе, но встречающиеся в узусе у других национальных сообществ (см. классические примеры во вступительной статье Г. В. Степанова к
60 Проблема соотношения инвариантных компонентов в структуре метафоризатора и метафоры рассматривалась Г. Н. Скляревской, построившей классификацию семантических видов языковых метафор. По данным исследовательницы, “системный анализ обширного словарного материала показал, что характерным для языковой метафоры можно считать отсутствие общего с исходным значением семантического элемента” [Скляревская 1993: 46]. Тем не менее, любая метафорическая энтимема содержит “разрушенный” средний компонент, например: мы думаем, что этот человек — тюфяк потому, что [все знают] тюфяк — мягкая постельная принадлежность, которую можно взбить, не поранив рук, а этого человека можно ударить реально или фигурально без ущерба для деятеля.
118
лексикографическому труду Х. Касареса [1958]), правда, при условии, что специфические характеристики сопоставляемых денотатов известны приблизительно в равной степени носителям разных языков. Но адекватность такой декодировки вызывает сомнения.
Мотивирующие перенос наименования признаки (МП) неоднократно привлекали внимание исследователей [Корольков 1968; Шрамм 1979; Васильева 1979; Алешина 1987, 1988, 1991, 1997, 2001; Усминский 1994, 1996; Прохорова 1996; и др.]. Большинство из них считают, что самой регулярной и универсальной является метафоризация-декодирование по сходству формативных, метрических, хроматических и консистенциальных признаков. Э. В. Васильева условно разделяет все признаки, на основе которых формируются метафорические значения диалектных субстантивов, на два типа: качественные — выбор признаков на предметной основе — и функциональные — выбор признаков на функционально-ценностной основе [1979]. К качественным можно отнести большинство признаков, выделяемых В. И. Корольковым на материале существительных: формативные (блюдце луны), мензуальные (конура — о комнате), консистенциальные (сеть ветвей), хроматические (янтарь — о винограде) и динамические (тюлень — о человеке). Наблюдения над речевым материалом показывают, какие МП являются наиболее актуальными и при метафоризации-кодировании, поэтому рассмотрим вопрос о МП подробнее.
Человеческое восприятие многоаспектно. Мир познается мыслящим субъектом сенсорно — органами чувств — и ментально — благодаря ментальным свойства человеческого мозга. Предложенная А. Н. Шраммом классификация ассоциативных признаков (“рациональные” и “эмпирийные”), разумеется, условна, поскольку выявление каких бы то ни было аналогий невозможно без участия ментальных (“рациональных”) свойств мозга. В выявлении любых черт сравниваемых денотатов участвует человеческая мысль, хотя степень ее “участия”, вероятно, может быть различной: аналогия может лежать на поверхности, а может быть “спрятана” и выявлена только при помощи длинной ассоциативной цепочки. Метафора отвечает за способности человека улавливать и создавать сходство между очень разными индивидами и классами объектов, а эта способность играет огромную роль как в практическом, так и в теоретическом мышлении. Еще Цицерон отмечал, что “всякая метафора, по крайней мере, примененная правильно, обращается непосредственно к внешним чувствам, а, в особенности, к зрению, чувству наиболее обостренному. Так, и городской дух, и мягкость образованной среды, и ропот моря, и сладость речи — образы, заимствованные из области остальных чувств; но зрительные образы гораздо ярче, они почти что развертывают перед умственным взором вещи, недоступные физическому, зрительному восприятию… Мысленный взор,
119
скорее, обращается к зрительным образам, чем к слуховым” [Цицерон 1996а: 230]). “Нет ничего более фундаментального для мышления и языка, — писал У. О. Куайн, — чем наше ощущение подобия”. Это ощущение является общим для практического и научного дискурса стимулом к порождению метафор” [Арутюнова 1990б: 15].
Поскольку представление о семной организации ЛЗ слова отражает объективно присущие денотату признаки, возникает возможность выявить набор признаков, мотивирующих перенос наименования, на основе уже имеющихся в научном обороте каталогов метаимен. Метаимена были выделены в результате использования компонентного анализа в семантических исследованиях [Цветков 1984]. К метаименам стали относить ту часть абстрактной лексики, которая служит для обозначения обобщенных понятий, не называет конкретные предметы, явления, процессы, свойства и т. д., а лишь относит другие слова к определенной области действительности. По мнению исследователей, метаимена вполне могут служить названиями дифференциальных смысловых признаков (сем); следовательно, они могут служить и названиями признаков, мотивирующих перенос наименования и актуализирующихся в структуре значений метафорических ЛСВ в качестве потенциальных сем. При таком подходе мы можем рассматривать метаимена как названия актуализировавшихся потенциальных сем, отражающих соответствующие признаки денотатов. На основе сходства этих признаков и возникает перенос наименования. Иначе говоря, эти признаки являются мотивирующими перенос наименования и имплицитно присутствуют в значениях ЛСВ-основы, или метафоризатора, и ЛСВ-метафоры. В своей работе мы воспользовались для этой цели проверенным каталогом метаимен, являющим собой итог многочисленных работ по компонентному анализу [Там же].
Анализ нашего материала показал, что такие дифференциальные семантические признаки (семы), как “особенность”, “оценка”, “наличие/отсутствие” и, особенно, “положительность/отрицательность”, “признак”, “специфика”, являются универсальными среди мотивирующих перенос наименования и имплицитно присутствуют в структурах большинства значений метафоризаторов и ЛСВ-метафор. И наоборот, семы “норма”, “инструмент”, “объект”, “поколение” не могут мотивировать метафорический перенос, но широко используются при метонимизации. Сразу отметим, что содержание, которое мы вкладываем в понятие МП, отличается от содержания близкого ему понятия “символ метафоры”, используемого Г. Н. Скляревской, тем, что существование МП не обязательно предполагает коннотативное содержание у метафоризатора [Скляревская 1993: 47]. Это связано с тем, что объектом нашего исследования являются не только “чистые” языковые, но
120
ряд “генетических” метафор, а также “безобразных производных значений”, в понимании исследовательницы.
Дальнейший анализ рассмотренных нами метафоризаторов и ЛСВ-метафор показал, что метафорический перенос наименования одного объекта (в широком понимании) на другой происходит на основе общности перечисленных ниже свойств, импликация которых в лексических значениях слов представлена семами, приведенными ниже в скобках:
1) ф и з и ч е с к и е: ф о р м а т и в н ы е (Фф61 — “величина”, “высота”, “глубина”, “длина”, “полнота”, “размер”, “рост”, “форма”, “ширина”); о д о р а т и в н ы е (Фод — “запах”); ц в е т о в ы е (Фцв — “масть”, “окраска”, “тон”, “цвет”); в к у с о в ы е (Фвк — “вкус”), в е с о в ы е (Фвес — “вес”, “масса”, “объем”), з в у к о в ы е (Фзв — “громкость”, “диапазон”, “тембр”); в р е м е н н ы е (Фвр — “возраст”, “время”, “длительность”); т е м п е р а т у р н ы е (Фтемп — “температура”); т а к т и л ь н ы е (Фтакт — “твердость”, “мягкость”);
2) к о н с и с т е н ц и а л ь н ы е, отражающие организацию, консистенцию объекта в широком понимании (К — “заполненность”, “система организации”, “состав”, “состояние”, “строй”, “сущность”, “уклад”, “материал”);
3) ф у н к ц и о н а л ь н ы е (Фу — “предназначение”, “цель”, “причина использования”);
4) р е а л и з а ц и о н н ы е, отражающие представление о характеристиках проявлений объекта (Реал — “активность”, “значение”, “интенсивность”, “реакция”, “режим”, “результат”, “сила”, “следствие”);
5) д и н а м и ч е с к и е, характеризующие протекание действия (Ди — “ритм”, “темп”);
6) к в а н т и т а т и в н ы е, указывающие, являются ли соотносимые объекты дискретными объединениями единиц (Кв — “доза”, “калибр”, “мера”) или они синкретичны (“количество”);
7) р е л я ц и о н н ы е, отражающие представление об общности отношений сопоставляемых объектов с другими объектами (Рец — “место”, “положение”, “соотношение”, “направление”, “близость”, “порядок”, “предел”, “расположение”);
8) с у б ъ е к т и в н о-п с и х о л о г и ч е с к и е, отражающие представление об общности тех чувств, переживаний, состояний, ощущений, которые вызываются у субъекта контактами с соотносимыми объектами (СП — “чувство”, “переживание”).
Выделенные в скобках семы имплицитно выражают объективно существующие мотивирующие перенос наименования признаки соотносимых 61 Здесь и далее — сокращенный вариант обозначения МП, используемый при формальной записи модели.
121
денотатов. Предложенная нами картина МП, безусловно, будет упрощенной и неполной, если мы не отметим того факта, что действительность опознается человеком во всем ее многообразии (“типы взаимодействия сосуществующих мыслей ... бесконечно разнообразны” [Ричардс 1990: 47]), и метафоризация характеризуется не одним, а несколькими МП. В литературе отмечается это явление [Шрамм 1979; Алешина 1991; Прохорова 1996; Усминский 1996]. Так, Э. В. Васильева, ориентируясь на количество аспектов, к которым относятся МП, выделяет одноаспектную, двуаспектную и т. д. мотивации [1979: 6], однако полная картина сочетаемости МП при метафоризации слов разной частеречной принадлежности не выявлена. Анализ МП возможен и в аспекте исследования их “образной яркости”. О. И. Усминский провел эксперименты с информантами, и, по результатам его работы, мы можем распределить МП тропов (метафор, сравнений и др.) по следующей шкале уровней “образной яркости”:
Слуховые 5,3 Комбинированные 4,8 Вкусовые 4,7 Относительные, с логико-сенсорной модуляцией 4,4 Визуальные по цвету 4,2 Тактильные 4,2 Относительные, построенные на пересечении
валентностей 4,0
Визуальные по форме 3,9 Визуальные по динамическому признаку 3,7 Относительные, без логико-сенсорной модуляции 2,8
Однако О. И. Усминский обращает внимание на то, что визуальные признаки,
сочетаясь с другими, могут над ними доминировать при декодировании, например, авторских тропов. Анализируя эпатирующее, на наш взгляд, сравнение А. Вознесенского (У, сплетники! У, их рассказы! Люблю их царственные рты, их уши, точно унитазы, непогрешимы и чисты), исследователь отмечает, что семантическим основанием тропа уши — унитазы является функциональный смысл — “принимают все что угодно”; однако многими информантами основа этого сравнения понимается не сразу, семантически его “заглушает” неожиданное сходство по форме [Усминский 1996].
Количественный подсчет имеющегося в нашем распоряжении метафорического материала позволил сделать некоторые выводы, и в табл. 3 Приложения мы даем типологию МП, а также количественное подтверждение того, какие МП и их сочетания оказываются наиболее актуальными при метафоризации неодушевленных существительных. В таблице МП расположены в порядке уменьшения степени своей актуальности, и, как видим, не всегда образная яркость МП влияет на его “участие” в метафорообразовании.
122
3.3.3. Матрица моделей и их формальная запись Метафорический ЛСВ является реализацией в узусе определенной модели
метафоризации, обладающей такими параметрами, как направление, или тип метафорического переноса, и мотивирующие перенос наименования признаки. Другими словами, модель метафоризации-декодирования и соответствующей ей тип метафоры мы можем определить только с учетом перечисленных параметров, опираясь на уже описанные типологии. Закономерно, что насколько дробно мы будем рассматривать параметры метафоризации, настолько же дробной у нас окажется сама классификация моделей метафоризации.
В результате наложения двух типологий (направлений метафоризации и мотивирующих перенос наименования признаков) мы можем получить матрицу всех гипотетических моделей метафоризации неодушевленных существительных в языке. Количество “ячеек” матрицы и, соответственно, гипотетических моделей достигает 20 направлений х 114 всех возможных сочетаний МП = 2280! Однако эмпирический материал показывает, что не все гипотетические модели имеют реализации в языке. Количество моделей метафоризации неодушевленных существительных в узусе ограничено и насчитывает всего около 50 (полный список наиболее актуальных моделей, охватывающих около 70% метафорических реализаций, приведен в табл. 4). Таким образом, отношение к языковой реальности у всех “ячеек” матрицы разное: реальное, гипотетически возможное и гипотетически невозможное.
В дальнейшем при записывании формулы модели мы сохраним приведенные выше литерные обозначения. Существующие модели могут быть записаны формально, хотя автор и понимает, что “применение формализмов само по себе не дает приращений принципиально новых знаний о языке”, что “в настоящее время существует множество конкурирующих формальных систем, значимость которых определяется популярностью их авторов”, тем не менее, “формальные системы — суть метаязык лингвистических описаний, позволяющий эксплицитно представить информацию о языке в наглядной и математически строгой форме и облегчающий объективную проверку адекватности лингвистического описания” [Кибрик 1996].
Для записи формул моделей мы будем использовать в фигурных скобках литерные обозначения направлений — П>П, П>ФизЯв, П>СоцЯв и т. д. — и, через /, соответствующие обозначения сопутствующих этим направлениям МП — Фцв, К, Фу и др. Например:
нити дождя, иглы инея — реализации модели {П>ФизЯв/Фф}; медь волос — реализация модели {ФизЯв>ФизЯв/Фцв}; минеральная вата — реализация модели {П>ФизЯв/К}; и т. д. Рассмотрим подробно модели метафоризации-декодирования
неодушевленных существительных.
123
4. Модели русской субстантивной метафоризации-декодирования
4.1. Метафоризация номинаций первой семантической сферы
Известно, что классификационная процедура максимально облегчается, если мы работаем с номенклатурной лексикой, включаемой нами в СС1, поэтому построенная классификация охватывает практически все ЛСВ этой сферы.
ТГ1 – номинации артефактов и их метафоризация ТГ1 составляют ЛСВ, называющие артефакты, “изготовленные вещи, изделия
рук человеческих” [Кацнельсон 1972], т. е. эти наименования содержат в структуре своего ЛЗ сему “продукт человеческого труда”, а называемые ими референты / денотаты имеют прямое отношение к вещественно-созидательной деятельности человека. В настоящее время человек способен создавать огромное количество всевозможных “предметов производства”, а урбанизация в ХХ в. оказала колоссальное влияние на все стороны жизни социума. Множество наименований “производственных” реалий, окружающих представителей современного урбанизированного общества, значительно превышает количество наименований реалий, связанных с естественным миром природы. Однако в узусе метафоризируются относительно небольшое количество ЛСВ-номинаций артефактов, в этом отношении язык оказывается необыкновенно консервативным. Ядро довольно разнородной, на первый взгляд, группы образуют названия артефактов: багаж, балласт, батарея, бочка, гвоздь, гроб, дощечка, жернов, заряд, западня, игла, калейдоскоп, карандаш, карусель, корзина, корыто, лопата, меч, мешок, мыло, мышеловка, нить, обойма, оселок, пакет, пенал, подкова, подушка, пробка, пуля, рогатка, серп, сетка, скалка, столб, стрелка, труба, чемодан, щетка, щит, ящик и др. Внутри ТГ1 выделяются следующие подгруппы. ТГ1-А – номинации столовой утвари: блюдце, вилка, ендова, ковш, котел,
котелок, нож, рюмка, стакан, тарелка, чаша, чашка, штопор и др. ТГ1-Б – номинации музыкальных инструментов и их частей: барабан, волынка,
гармошка, гитара, колокола, струна, струнка, шарманка и др. ТГ1-В – номинации рабочих инструментов: клещи, ключ, крюк, мерило,
ножницы, отмычка и др. ТГ1-Г – номинации механизмов и их частей: аккумулятор, бегунок, буфер,
двигатель, деталь, детонатор, инструмент, колесо, конвейер, машина, механизм, мясорубка, орудие, оружие, ось, пресс, руль, рычаг, тормоз, турбина, челнок и др. ТГ1-Д – номинации “фиксаторов движения”, того, что как-то сковывает,
ограничивает свободу движения, мешает, стягивает, давит: бразды, вериги, гнет, оковы, привязь, путы, тенета, тиски, узда, узы, хомут, цепь, шоры, ярмо и др. Единицы ТГ1-Д называют предметы, в большинстве случаев используемые для
124
ограничения движений домашних животных (скота), реже – действий человека. Небольшой психолингвистический эксперимент, ориентированный на уточнение первичных значений таких, например, единиц, как гнет, путы, тенета, шоры, узы, показал, что молодые носители языка часто их не знают, но абсолютно правильно декодируют метафорические значения. Это служит подтверждением тому, что система языковых метафор на некоторых своих участках представляет собой достаточно стабильное образование. Существование подобного языкового консерватизма в отношении метафор редко привлекает внимание метафорологов других областей, например, логиков. ТГ1-Е – номинации напитков, различных блюд, а также ингредиентов: бальзам,
баранка, бифштекс, блин, вермишелинка, вермишель, винегрет, жаркое, закваска, каравай, каша, котлета, кисель, коктейль, компот, крендель, крупа, лапша, лепешка, маринад, мармелад, окрошка, сливки, солянка, хлеб, юшка и др. К ТГ1-Е относятся также номинации общеродовых понятий: деликатес, закуска, корм, пища, пойло, приправа, стряпня. Сюда же мы относим номинации веществ, потребляемых человеком внутрь: лекарство, допинг, наркотик, опиум, отрава, паллиатив, таблетка и др.62 ТГ1-Ж – номинации украшений, обуви, одежды и ее частей, головных уборов,
аксессуаров, видов тканей: бисер, блестки, бриллиант, канитель, мишура, ожерелье, оправа, подвеска, серьга, цепочка, башмак, каблучок, лапти, подошва, сапог, карман, лямка, манжета, манишка, мантия, плащ, подкладка, распашонка, рукав, шлейф, шуба, венец, вуаль, кокошник, корона, шапка; атлас, бархат, велюр, кружево, полотно, гребенка, шпилька и др. В состав ТГ1-Ж также входят номинации общеродовых понятий: украшение, обувь, одежда, ткань. В данную подгруппу включены ЛСВ доспехи ‘боевое снаряжение, вооружение воина в старину’, забрало ‘подвижная часть шлема, опускаемая на лицо для защиты от ударов’, поскольку они обозначают реалии, которые человек надевает
62 Номинации блюд, или “кулинарные прагматонимы”, были объектом исследования
Л. Н. Ротовой, обнаружившей, что изменения лексического состава в рамках ТГ наименований блюд связаны с появлением новых реалий и с исчезновением старых. Новые реалии в основном являются заимствованиями. “Основная масса лексических заимствований относится к сфере кулинарной терминологии и составляет своеобразный резерв пополнения общеупотребительной лексики” [Ротова 1983: 80]. По подсчетам исследовательницы, ТГ “Блюда”, по словнику “Словаря русского языка” С. И. Ожегова, объединяет около 70 однолексемных наименований (хотя многие номинации блюд представляют собой словосочетания), лишь небольшое количество, по ее мнению, кулинарных прагматонимов подвергается метафорическому переосмыслению и используется в сравнениях (каша, блин, лепешка, окрошка, винегрет и некоторые др.) [Ротова 1983: 88—113]. Анализ нашего материала позволяет заключить, что круг метафоризируемых кулинарных прагматонимов значительно шире и их количество составляет приблизительно половину всех узуальных ЛСВ-номинаций блюд. Более того, члены ТГ1-Е часто встречаются в окказиональном метафорическом употреблении (булочки – о щечках ребенка).
125
на себя. К ТГ1-Ж относятся ЛСВ маска ‘специальная накладка с изображением человеческого лица, звериной морды и т. п., надеваемая на лицо человека’ и личина ‘маска’. Отметим также, что постоянное увеличение количества номинаций одежды в
современном русском языке (как косвенное свидетельство смены типов культуры его носителей: сотериологический тип культуры уступил место эвдемоническому) не способствует увеличению объема группы соответствующих метафоризаторов, хотя подгруппа может пополняться новыми метафорически переосмысленными членами, обозначающими, в целом, не актуальные для России реалии: Срыв <…> выборов – это срыв демократической паранджи (“Правда” 1995). ТГ1-З – номинации помещений и построек: арсенал, банк, баня, богадельня,
бойня, вертеп, кабак, казарма, капище, келья, кладовая, клетушка, кузница, кухня, лаборатория, парилка, сарай, тюрьма, храм и др; фонтан, мост, плотина и др. Данные единицы привлекали внимание исследователей и раньше [Хромых 1979; Клишин 1986]. Так, А. И. Клишин, давший структурно-семантический анализ ТГ, обозначающих жилые объекты в русском и английском языках, предложил следующую классификацию на денотативной основе и выделил слова, обозначающие: а) макрообъекты – населенные пункты; б) объекты средней величины – жилые постройки; в) минимальные объекты – жилые помещения [Клишин 1986: 43–44]. Номинации “макрообъектов” (аул, выселок, деревня и др.), по нашим наблюдениям, в целом, редко затрагиваются метафоризацией в узусе, хотя вполне могут быть основами для индивидуальных метафор (ср., например, деревня термитов, подземный город – о норах). Номинации двух других подгрупп регулярно пополняются в речи новыми членами на основе существующих метафорических и метонимических связей: “Наш дом – Россия” (высказывание дало название политической партии НДР); Новости из публичного дома, т. е. из партии российской социальной демократии (“Завтра” 1995); Превратили респектабельную Альпийскую республику в вульгарную прачечную! Для денег (“КП” 1998); В результате Госдума поставлена в положение балагана или даже цирка шапито (“КП” 1999). ТГ1-И – номинации “обиталищ” животных, птиц, насекомых. Данную
подгруппу мы можем разбить на две: номинации естественных “обиталищ” животных63 (аквариум, берлога, гнездо, зверинец, логовище, логово, муравейник, нора и др.) и номинации “обиталищ” животных, созданных человеком (инкубатор, конура, конюшня, курятник, свинарник, улей, хлев и др.). Поскольку все ЛСВ сохраняют сему “жилище” и изучение ТГ1-И имеет свою традицию [Хромых 1975; Харченко 1985, 1990], не станем нарушать ее единства.
63 Эти номинации можно включить в состав СС3.
126
ТГ1-К – номинации частей постройки, интерьера: ворота, галерея, каркас, купол, лестница, мурья ‘трюм или часть трюма на судне’, надстройка, окно, перегородка, погреб, порог, потолок, стена, ступень, фасад, форточка, бутафория, декорация, занавес, зеркало, ковер, колыбель, стол, ширма и др. ТГ1-Л – номинации “побочных продуктов, отходов”: мусор, отбросы, отребье,
помои, солома ‘сухие стебли злаковых растений, остающиеся после (выделено нами. – О. А.) обмолота зерна’, сор, труха, хлам и др. Их специфика заключается в том, что они обозначают остатки производства, ненужные продукты, вещества, отходы. Архисемы “ненужность” и “остаток” в семантике некоторых из этих слов эксплицитны, в других – размыты (потенциальны). ТГ1-Л относится нами к номинациям артефактов условно (в частности, у многих ЛСВ подгруппы отсутствует категориальное предметное значение, они относятся к собирательным существительным). Хотя соответствующие им реалии могут считаться “изделиями рук человеческих”, но только с формальной точки зрения, так как никогда не будут целью производства (никто не выращивает злаки ради получения соломы), в большинстве случаев их трудно отнести к естественному миру природы, поскольку все-таки они искусственного происхождения, оценка их полезности / бесполезности дается человеком. Так, некоторые ЛСВ называют реалии, связанные с дальнейшей переработкой (соломка ‘уменьш. к солома; мягкая, тонкая солома’ шляпа из соломки; охвостье ‘отходы при веянии зерна’) или вторичным применением (макулатура). ЛСВ ТГ1-Л активно метафоризируются, как и вообще слова с пейоративной
коннотацией. Это подтверждает большое количество индивидуальных метафор, возникших на основе ЛСВ близкой семантики в разговорной речи, жаргонах: чешуя, шелуха, требуха и др. ТГ1-М – номинации оттисков: клише, оттиск, отпечаток, трафарет, штамп
и др. Рассмотрим метафорические дериваты, возникшие на основе лексических
единиц СС1: кирпич чая, гармошка сапога, блин Луны, ожерелье озер, юбочка опенка, диадема из цветов, дерево в зеленом плаще, отмычка к решению проблемы, языковой порог, за занавесом интриги и др. Называемые единицами данной ТГ реалии настолько разнообразны, насколько многообразен и сложен создаваемый руками человека мир, и это не могло не найти отражения при метафоризации. Метафоризация названий артефактов чаще всего происходит в направлениях “Предмет Предмет”: карандаш – о здании, пенал – о кухонном шкафе, каменная подкова бастиона, скалка пожарной помпы, чемодан – о снаряде, колеса – о таблетках, сапог Италии на карте, стол – о площадке трамплина, распашонка – о квартире, таблетка – о шляпе и др.; “Предмет Физическое явление”: мешки под глазами, нити дождя, подушечки пальцев, серп луны, крендель хвоста лайки, рукава реки, веер хвоста
127
голубя, бантик губ, ворота печени, клубок в горле – о спазме, зародышевый мешок и др.; “Предмет Отвлеченное понятие”: научный балласт, узел противоречий, ось событий, подоснова явлений, потолок урожайности, теоретическая подкладка и др.; “Предмет Социальное явление”: мясорубка – о войне, цензурный пресс, оковы крепостничества, крепостное ярмо, социальная косметика, жернова избирательной кампании, рогатки цензуры, хозяйственные рычаги, государственная машина угнетения и др. Направление “Предмет Психическое явление” менее актуально: заряд злобы, цепь ассоциаций, чаша терпения, винегрет в голове, каша в голове, компот в голове, сказать в запале и др. Наиболее актуальные МП, реализуемые в моделях метафоризации единиц ТГ1,
представлены в табл. 5. Приложения.
Метафоризация номинаций ТГ1 чаще всего базируется на сходстве внешних черт сопоставляемых денотатов, функциональных предназначений референтов, их положении в сопоставлении с другими, реже – на основе сходства организации объектов, характеристик их проявлений – и характеризуются чаще всего каким-либо одним МП (в 75% случаев) и значительно реже (в 25% случаев) – сочетанием двух и более МП. Чаще всего в сочетание МП входит субъективно-психологический признак: цирк – о смешном событии, бойня – о войне, святилище науки и др.; довольно часто – физический признак: быть в мешке – об окружении, сталинградский котел, рывок из вражеских тисков; функциональный – вериги бедности, тенета биржевых операций, кузница кадров и др.; реже встречаются сочетания с реализационным МП: театр – о ситуации, тормоз развитию земледелия, цензурные тиски и др.; квантитативный и реляционный МП, в единичных случаях – консистенциальный и динамический. Рассмотрим модели метафоризации. {П > П/Фф}: бочка – о крыше, нитка трубопровода, стрела подъемного
крана, блюдце НЛО, мукомольный ковш, котелок, таблетка – о шляпах, барабан револьвера, гармошка сапога, колокола – брюки, крючки в тетради, колеса – о таблетках, челночок – сорт сушки, баранка – о руле, вермишель – о мыле в форме тонких нитей, серьга сеялки, колонные каблучки, дисковая муфта, пожарный рукав, двери с пилястрами и кокошниками, лабиринт Лувра, шатер – о кровле, гнезда для патронов, стенка – корпусная мебель, стол – о площадке трамплина, соломка – о конфетах, печенье, макаронах, хворост – о печенье; и др. Как видим, эта модель актуальна при метафоризации членов почти всех подгрупп ТГ1, она регулярно реализуется в разговорной речи и, например, в сленге автолюбителей: баржа – автомобиль марки “Волга”, буханка – автомобиль марки “УАЗ 3962”, каблучок, сапожок – автомобиль марки “ИЖ 2107”, зубило – автомобиль марки “Toyota Celica”, обмылок, мыльница – любой
128
автомобиль с плавной формой кузова (“За рулем” 1999)64. Отметим, что чаще в сленге возможно образование метафор, в том числе иронических, по более сложной модели, например, {П > П/СпРеалФзв}, ср.: Разгон <у автомобиля “Лексус”> просто безупречный – уверенный, ровный, заставляющий модный
народ вокруг посмотреть на свои тихоходные ведра с болтами совсем другими глазами (“Весь Академгородок” 2002).
{П > П/Фцв}: катафалк – о большой черной машине, манная каша – о подошве и др., но в целом, перенос наименований на основе хроматического сходства сопоставляемых референтов не актуален для метафоризации членов ТГ1.
{П > П/Фтемп}: баня – о любом жарком помещении, погреб – о любом холодном помещении, парилка – о душном, жарком помещении. Эта модель так же неактуальна, как и предыдущая. Однако в разговорной речи часто встречаются метафорические варианты, возникшие по этой модели (холодильник, морозильник, морозилка, духовка – о холодных / жарких помещениях, ср. с вариантами, образованными на основе метафоризаторов других ТГ: экватор, Ташкент, Северный полюс, Антарктида).
{П > П/Фу}: кормушка – об учреждении, где можно бесконтрольно поживиться, транспортный конвейер страны – о сети дорог, корм для интеллектуалов – о книгах, каменная одежда дороги, банк генов, ядерный погреб и др. По этой модели метафоризируются названия механизмов, украшений, обуви, а также номинации одежды, построек и их частей.
{П > П/ФфСп}: гроб – о помещении, корыто – о лодке, студенческая келья, клетушка, конура, нора, мурья – о тесном помещении / жилище, сарай – о большом неуютном жилище.
{П > П/ФуСп}: берлога, гнездо, логовище, логово, свинарник, хлев – о жилище человека; книжный храм.
{П > П/ФфФу}: баул – о модной сумке конца 80-х гг. ХХ в., танковые клинья, соломенные щиты купальни; цех здоровья, цех культуры – о профилактории / доме культуры, снайперское гнездо и др.
{П > П/ФуКв}: арсенал аптечных пузырьков, пантеон мировых достижений портретной живописи – о картинной галерее, сокровищница искусства – о Третьяковской галерее, кладезь граверного искусства – о коллекции гравюр и др.
{П > П/ФфКв}: батарея бутылок, частокол букв; цепочки груженых машин. {П > П/КСп}: пойло – о невкусном напитке, вуаль на кинопленке, помои – о
невкусной пище, чае. Единичны образования метафор по моделям {П > П/Рец} (шапка в газете) и
{П > П/ФфРеал} (турбина – о транспортной развязке).
64 По данным картотеки А. П. Зайцевой.
129
В направлении “Предмет > Физическое явление” наиболее распространенными являются следующие модели.
{П > ФизЯв/Фф}: иглы инея, нити дождя, серп луны, трубы дыма костров, шары, блюдца, колеса – о глазах, ковш – о бухте, блин луны, крендель хвоста лайки, бисеринки пота, карманы в горной породе, юбочка опенка, лабиринт гор, руда залегает не пластами, а гнездами, окно между туч и др. Из физических МП, как и для направления “Предмет > Предмет”, наиболее
актуальным является формативный МП, а модели с прочими физическими МП имеют единичные реализации.
{П > ФизЯв/Фтакт}: атлас кожи, бархат щек, “Велюр” – торговый знак косметических кремов для кожи, придающих коже бархатистость и мягкость, замша носа щенка, шелк кудрей и др. Как видим, номинации тканей широко используются для наименования “природных поверхностей”.
{П > ФизЯв/Фзв}: гитара – о звуке шин на скользкой части дороги, шарманка – о звучащей нудной речи и др. Здесь мы сталкиваемся с образованием метафоры на основе вторичной номинации: предмет > звук, издаваемый этим предметом > звук, похожий на данный звук.
{П > ФизЯв/Фцв}: саван снега, красный ковер тюльпанов и др. {П > ФизЯв/Фу}: щит – о твердом покрытии у животных, земля под снежной
шубой, пыльное покрывало земли, нефтяные кладовые Заполярья, резервуар заразы – о водоеме, под кровом ночи, под пологом лесов и др. По этой модели образуется достаточно большой массив метафор.
{П > ФизЯв/К}: минеральная вата, конь в мыле, каша после дождя – о грязи, ледяная каша – о снеге, снежный кисель, месяц покрыт флером, снежная завеса, болезненная муть в глазах и др. В других моделях консистенциальный МП почти не встречается.
{П > ФизЯв/Реал}: отпечаток напряженности на лицах, жизнь протекает по шаблону и др. Другие модели с этим направлением реализуются в узусе единичными
метафорами. В направлении “Предмет > Психическое явление” наиболее часто реализуется
модель {П > ПсЯв/Фу}: механизм мышления, творческая кухня, основание размышлений. Остальные модели представлены единичными метафорами: {П > ПсЯв/К}: винегрет, каша, компот в голове; {П > ПсЯв/Реал}: сказать в запале, головная муть, на душе накипь, осадок в душе; {П > ПсЯв/Кв}: заряд злобы, чаша терпения, цепь ассоциаций; {П > ПсЯв/РецФу}: яд злости, отрава мечтаний; {П > ПсЯв/РеалФуСп} бальзам – о средстве утешения. В направлении “Предмет > Отвлеченное понятие” наиболее
распространенными являются следующие четыре модели. {П > Отвл/Фу}: научный балласт, калька с действительности – о сюжете, узел противоречий,
130
мерило для творчества, инструмент познания, двигатель прогресса – о науке, двигатель торговли– о рекламе, духовная пища – об искусстве, новые фасады старых понятий, светоч истины и др.; {П > Отвл/Рец}: веха истории, философические хитросплетения, ножницы – о несоответствии, ось событий, стержень исследования, речевые завитушки и др.; {П > Отвл/Кв}: багаж знаний, вагон обязанностей, пакет идей, корзина вопросов, стилистический коктейль, окрошка из фактов, арсенал доказательств, банк архитектурных идей и др.; {П > Отвл/СпФу}: бич сатиры, елей речей, острие критики, суррогат счастья, нож критики, литературная стряпня, пропагандистские наркотики – об идеологическом содержании статей, мишура жизни и др.; {П > Отвл/РецСп}: изюминка дела. Направление “Предмет > Социальное явление” реализуется по разным
моделям. {П > СоцЯв/Фу}: жернова избирательной кампании, социальная косметика, меч правосудия, опора политического движения, продукт эпохи, рогатки цензуры, цепи рабства; Сохранение интеллектуального каркаса – условие возрождения величия страны (“Общая газета” 2002); {П > СоцЯв/ФуРеал}: мясорубка – о войне, цензурный пресс, тормоз развитию земледелия, вериги бедности, кузница кадров, форпост индустрии, воровское гнездо, логово попсы; {П > СоцЯв/РеалСп}: баня – о строгом выговоре, кабак на улицах, театр, цирк – об общественной ситуации; И ради этого кандидаты
демократической столицы готовы были положить партбилет, душу, совесть, честь на благо Отечества. Если ко дню выборов у них еще эти деликатесы оставались (“Комок” 1998). В узусе возможны единичные реализации следующих моделей. {П > СоцЯв/ФфФу}: Сталинградский котел, рывок из вражеских тисков; {П > СоцЯв/КвСп}: человеческий зверинец, людской муравейник и некоторые др.; {П > СоцЯв/РецСп}: литературные объедки, отбросы искусства; {П > СоцЯв/РеалРецФу}: Прошедшим летом левая
оппозиция Бурятии затянула республику в “красный пояс” и теперь пытается расширить свое влияние (“Рос. Вести” 1997).
ТГ2 – номинации системных знаков,символов и их метафоризация В ТГ2 объединены метафоризаторы с архисемой “знак”. Знак обычно
понимается как ‘предмет, изображение, метка и т. п., служащие для обозначения чего-л., указания на что-л.’; знак двойствен по своей природе, обладает обязательным материальным выражением и семантическим наполнением, это “указатель, условное (конвенциональное) обозначение чего-л.” [Солнцев 1971: 99]. В ТГ2 мы объединили различные номинации знаков: старые названия букв кириллицы: А – аз, П – покой, Ф – ферт, – ижица, – фита; названия знаков препинания: запятая, кавычки, точка; названия математических знаков: восьмерка ‘цифра 8’, минус, плюс, нуль; общеродовые номинации знаковых систем: азбука, волапюк ‘искусственный язык’, язык; названия единиц таких
131
систем: буква, иероглиф, нота. Сема “знак” является интегральной для семем ЛСВ печать, клеймо, индульгенция ‘грамота об отпущении грехов, выдаваемая обычно за высокую плату’, крест ‘символ и предмет христианского культа’, марка ‘знак, клеймо на товарах и изделиях с обозначением места изготовления, качества и др.’, знамя ‘полотнище определенного цвета (цветов) с надписью, украшениями и т. п., служащее эмблемой воинской части, соединения, корабля, а также государства, какой-л. организации и т. п.’, вывеска, ярлык и др. Сема “усиленная конвенция” интегральна для ЛСВ знак, замета, мета, жребий ‘условный значок (мелкий предмет, вещица), вынимаемый наудачу из числа подобных предметов и по условию определяющий какую-л. обязанность или право на что-либо’. Большинство слов ТГ2 интересны тем, что они, будучи единицами языковой знаковой системы, являются номинациями знаков других систем. Говорить о категориальной предметности значения ЛСВ ТГ2 сложно, хотя называемые ими реалии материальны и осязаемы. Знак может быть артефактом, поскольку выражен материально, при этом важно не то, как он выражен (выбор знака произволен), а то, какое содержание за ним закреплено (в том случае, если мы принимаем его именно как знак). Для метафоризации чаще актуален признак “внешний облик знака”, а не признак “содержание знака”, поскольку его формальное выражение может быть достаточно ярким. Метафоры, возникшие на основе номинаций знаков, символов, являются
реализациями тех же моделей, по каким метафоризируется лексика ТГ1 в целом. Чаще всего метафоризация членов ТГ2 осуществляется в направлении “Предмет > Отвлеченное понятие” (это характерно для половины рассматриваемых нами метафор). Реже – в направлениях “Предмет > Физическое явление / Предмет”. Направления “Предмет > Психическое явление / Физическое явление” наблюдаются в единичных случаях. Наиболее актуальными МП при метафоризации членов ТГ2 оказываются формативный и реляционный, а также субъективно-психологический и функциональный. Перечислим эти модели. {П > Отвл/Рец}: азы науки, азбука биологии,
алгоритм обучения, язык музыки, рубеж молодости, марка – о репутации, престиже, минус – о недостатках, плюс – о достоинствах, закавычка – о препятствии, запятая – о препятствии, молчание – знак согласия, точка – о конце, гибели; и др.; {П > Отвл/СпФу}: замета, зарубка в памяти, клеймо стыда, печать довольства, ярлык глупости; {П > Отвл/Фу}: грамматика любви, жребий – о судьбе, сигнал опасности – о газетной статье.
{П > ФизЯв/Фф}: иероглифы следов, ижица ног, стоять фертом, фита рта. Отметим, что номинации букв ферт, ижица, покой, фита метафоризируются по их формативным признакам. Исключение составляет лишь аз / азы, основным МП оказывается Рец МП “место называемой реалии в системе”. Интересно, что
132
эта модель реализуется и в современном компьютерном сленге: у слова альфа развивается метафорическое значение ‘первый пробный выпуск программы’.
{П > П/Фф}: восьмерка – о транспортной развязке, иероглифы – о плохом почерке; фанза, построенная покоем, светлая точка фонаря. Единичные метафоры представляют модели {П > П/Фу}: быть вывеской чего-л., индульгенция ‘документ, дающий безопасность’ и {П > ФизЯв/Фзв}: волапюк – о тарабарщине; и др.
ТГ3 – социально-политические номинации и их метафоризация Из огромного количества наименований социально-политических явлений в
метафоризации участвуют немногие ЛСВ: анархия, ареопаг ‘высший орган судебной и политической власти в древних Афинах’, аракчеевщина ‘в начале XIX в. в России: режим неограниченного полицейского деспотизма, произвола военщины’, бродяжничество ‘социальное явление, выражающееся в постоянном перемещении с места на место’, дипломатия, династия, иго, кабала, кагал, меркантилизм, непотизм ‘раздача римскими папами доходных должностей, поместий и т. п.’, мещанство, опала, орда, синклит ‘собрание высших сановников в древней Греции’, синедрион ‘совет старейшин, высшее государственное учреждение с политическими и судебными функциями в древней Иудее’, тирания, тяжба, фронда ‘социально-политическое движение против абсолютизма во Франции 1648–1653 гг.’, царство, рабство, штрейкбрехерство и некоторые др. Окказионально эта ТГ может пополняться и некоторыми другими единицами: Повторить в России опыт восточных сатрапий Казахстана, Узбекистана, Туркмении (“Завтра” 1995); Вот и в Бурятии они <коммунисты> затевали все с размахом, пытаясь собрать в Улан-Уде большой хурал пролетариев всей Сибири и Дальнего Востока (“Рос. Вести” 1997). При отборе метафоризируемых единиц вектор интенций говорящих направлен чаще всего в прошлое. Особую подгруппу ТГ3-А формируют номинации принятых духовной и
светской властью наказаний: казнь ‘высшая мера наказания’, епитимья, каторга ‘особый вид наказания …, связанный с привлечением к тяжелому физическому труду заключенных в тюрьмах и других местах с особо тяжелым режимом’, опала, повинность, наказание, пытка, экзекуция – и поощрений: воздаяние ‘вознаграждение’, награда и некоторые др. В целом, общественно-политическая лексика не является активным
источником для образования метафорических дериватов. Модели метафоризации данных номинаций характеризуются тремя
направлениями: “Социальное явление > Социальное явление / Психическое явление”, реже – “Социальное явление > Физическое явление”. Для метафоризации членов ТГ3 наиболее часто представлено сочетание МП
133
“реализационный + субъективно-психологический”. Приведем самые актуальные модели.
{СоцЯв > СоцЯв/РеалСп}: политическая проституция, штрейкбрехерство, рабство в собственном доме, в плену высокой должности; Вынуждены
заниматься тем, что вы называете музыкальной поденщиной – преподаванием, репетиторством? (“Комок” 1998); {СоцЯв > СоцЯв/Реал}: власть денег, непотизм в учреждении, кумовство в больницах, дипломатия в разговоре на рынке и др.; {СоцЯв > СоцЯв/ФуКв}: ареопаг профессоров-экзаменаторов, университетский синедрион, синклит родственников и др.; {СоцЯв > СоцЯв/ФуРец}: аракчеевщина ‘о положении, когда небольшая группа людей деспотически распоряжается в какой-либо области общественной жизни’, кабала ‘о тяжелой экономической зависимости’, фронда ‘о непринципиальной оппозиции’.
{СоцЯв > ПсЯв/РеалСп}: в плену старых предрассудков, нищета воображения, душа полна одиночества, сиротства и тоски, душевная казнь, каторга школьной зубрежки, тяжелая повинность ходить в гости и др.; {СоцЯв > ПсЯв/РеалСп}: кабала – о духовной зависимости, нравственная тирания, тяжба княжны Мери с Печориным. Интересно отметить, что номинации ТГ3-А являются основами для метафор,
реализующих модель {СоцЯв > ПсЯв/РеалСп}, например, По меткому
выражению первого вице-спикера Госдумы В. Рыжкова, ближайшее заседание “четверки” может превратиться в “четвертование” (“КП” 1998). Ср. с искл. епитимья – о наказании вообще – реализуется модель {СоцЯв > ФизЯв/РеалСп}. Названия социальных явлений могут метафоризироваться по модели с
динамическим признаком {СоцЯв > СоцЯв/ДиСп}: бродяжничество по Италии – о частых переездах, церемония заштопывания.
ТГ4 – номинации культовых и религиозных реалий, явлений и их метафоризация
ЛСВ ТГ4 называют реалии и понятия, связанные с культовой стороной жизни: алтарь, ересь, грехопадение; заповедь, икона, инквизиция, ипостась, кредо, крещение, культ, магия, мистика, нимб, обедня, проповедь, религия, светопреставление, святотатство, священнодействие, святыня, секта, сектантство, пуританство, староверство, табу, чертовщина, фетиш, фетишизм и др. Отметим особую важность элементов данного круга лексем: так называемые “ключевые концепты русской культуры”, описываемые Ю. С. Степановым [1997], манифестируются единицами, изначально связанными с этой ТГ и восходящими к религиозным понятиям (ср.: судьба, воля, грех, совесть, душа, закон, правда и др.). Метафоризация единиц ТГ4 осуществляется в разных направлениях, наиболее
регулярны “Социальное явление > Социальное явление / Физическое явление”,
134
“Предмет > Отвлеченное понятие”. Самые актуальные МП – реляционный и субъективно-психологический, менее – функциональный МП (например, {П > Отвл/РецСп} – нимб славы {П > Отвл/ФуРецСп} – алтарь отечества). Для первого из указанных направлений наиболее регулярны следующие
модели. {СоцЯв > СоцЯв/РецСп}: ересь в искусстве, политическое научное кредо, сектантство в философии, староверство в литературе, пуританство прессы; {СоцЯв > СоцЯв/Сп}: грехопадение ‘о нарушении общественных норм поведения’, заповеди французских критиков, проповедь – о любой нравоучительной речи, и др. Единичны реализации других моделей, например, {СоцЯв > СоцЯв/РецСп}: не жизнь, а инквизиция. Метафорообразования на основе единиц культовой обрядовой лексики
(литургия, заутреня, благовест, пост и др.) часто встречаются в художественных (особенно поэтических) текстах (например, М. Цветаевой, Б. Пастернаком, И. Бродским): количество таких метафор велико, но в узус вошли лишь немногие из них. Это, безусловно, связано с экстралингвистическими факторами – коренной ломкой в советский период религиозного и распространением атеистического мировоззрения у носителей языка, что привело к невозможности декодировать метафоры, возникшие на основе соответствующих номинаций. Однако, как и в случае с некоторыми номинациями артефактов, такие метафоры, как алтарь, ересь, заповедь, ипостась, кредо, крещение и др., прочно вошли в узус (в тоталитарный словарь 20–80-х гг. ХХ в.) и в 80-е гг. декодировались лучше, чем объяснялись толкования соответствующих метафоризаторов, что свидетельствовало о перестройке структуры их ЛЗ.
ТГ5 – номинации торгово-денежных операций и их метафоризация К ТГ5 относятся следующие метафоризаторы: ажиотаж ‘искусственное
спекулятивное повышение или понижение курса биржевых бумаг или цен на товары’, актив, банкротство, бум ‘спекулятивный кратковременный рост промышленности и торговли’, дань, девальвация, залог, калым, капитал, кризис, крах ‘разорение, банкротство’, лепта, пассив, прибыль, монополия, спекуляция, ставка, цена и др. По происхождению большинство из них – термины, детерминологизация которых произошла достаточно давно. Торгово-денежные отношения так или иначе затрагивают каждого носителя
языка, и, вероятно, с этим связана активность метафоризации этих номинаций в узусе. “Пестрота” метафор обусловлена широким разнообразием метафоризаторов ТГ5. Выявляется следующая закономерность: номинации данной ТГ, как правило, используются для характеристики иных социальных явлений, отвлеченных понятий или психических состояний. Из МП наиболее актуальны реализационный и реляционный признаки. Приведем примеры.
135
{СоцЯв > СоцЯв/Реал}: политическое банкротство, газетный бум, залог примирения ‘о ручательстве’, калым ‘о деньгах, получаемых за оказанную услугу’, крах государственной системы, трудовая лепта, прибыль ‘о пользе государству вообще’, ставка на войну; {СоцЯв > СоцЯв/РеалСп}: девальвация диплома о высшем образовании и др.; {СоцЯв > Отвл/Рец}: записать себе в актив что-либо, дань времени, научный капитал, исчерпать кредит доверия, поставить в пассив, цена молчания; {СоцЯв > ПсЯв/РеалСп}: душевный кризис, крах надежд, спекуляция на добрый чувствах, ярмарка тщеславия и др. Сравнение общества и отношений между членами социума с рынком и
царящими на нем порядками чрезвычайно актуально и всегда находило отражение в языке, часто использовалось писателями при создании развернутых художественных образов (например, О. Бальзаком, Э. Золя, У. Теккереем, А. Островским, Ф. Достоевским, П. Боборыкиным). Метафора общество – рынок стала в ХIX–XX вв. одной из фундаментальных, поэтому исследование функционирования лексических единиц данной группы (и описание соответствующего концепта) является темой интересного исследования.
ТГ6– номинации отраслей науки, учений, научные термины и их метафоризация
Современная наука как сфера общественного сознания также представляет собой чрезвычайно сложную систему, и круг “околонаучных” учений и направлений очень широк, но метафоризации подвергаются лишь немногие из узуальных номинаций отраслей науки (а также лженауки) и учений: макиавеллизм, казуистика, патология, силлогистика, стоицизм, схоластика, метафизика, механика, стратегия, тактика, кабалистика, физиология, эпикуреизм и некоторые др. ТГ6-А – терминологические номинации различных физических величин,
явлений, положений: аберрация, апогей, аксиома, вес, горизонталь, градус, гран, грамм, глубина, зенит, калибр, параллелизм, радиус, фокус и др. В литературе неоднократно упоминалось огромное значение метафоризации общеупотребительной лексики для терминообразования [Петров 1982], но обратный процесс – метафоризация уже существующих терминологических лексических единиц – в узусе встречается довольно редко: терминологическая лексика, используемая для обозначения отвлеченных понятий, единиц измерения и проч., не является активным источником для метафорообразования. Однако, в научном и публицистическом дискурсе, как уже отмечалось, регулярно метафоризируются (и “генерализуются”) такие единицы, как модель, категория, универсалия, тип, схема, система, структура, формула, классификация, типология и т. п. В целом же, если язык науки может расширять свой терминологический “банк” за счет номинаций общеупотребительного лексического фонда, то увеличение массива общеупотребительной лексики
136
метафорическими дериватами на основе терминов происходит редко. Слабая активность метафоризации терминов науки связана не с “бесцветностью” описываемых ими реалий действительности, а с отсутствием этих номинаций в общеязыковом употреблении. Это доказывает и активная метафоризация терминов в речи профессионалов (например, метафоры в речи студентов-филологов: этимология нашей дружбы, внутренняя форма конфликта, рассмотреть явление сквозь диахронные очки), декодируемая только членами определенной социальной группы. Многообразие терминов-основ метафор определяет и пестроту
соответствующих метафорических ЛСВ. Модели метафоризации членов ТГ6 реализуют разные направления, чаще всего – “Отвлеченное понятие > Социальное явление”, реже – “Отвлеченное понятие > Отвлеченное понятие”, “Социальное явление > Социальное явление / Психическое явление / Отвлеченное понятие”, “Отвлеченное понятие > Психическое состояние”. Но в то же время метафоризация членов ТГ6 характеризуется строгим и ограниченным набором МП: реляционный, реализационный и “реализационный + субъективно-психологический”, поэтому количество основных моделей метафоризации ЛСВ ТГ6 невелико. Назовем наиболее актуальные модели. {Отвл > СоцЯв/Рец}: аксиома военной
стратегии, единство производственных связей по горизонтали и вертикали, из глубины народной жизни, писатели разного калибра, кульминация оперы, исторические параллели, параметры развития производства, чувствовать расстояние между собой и кем-либо ‘о различии между кем-либо в социальном, служебном, имущественном и т. п. положениях’, параллелизм исканий князя Андрея и Пьера Безухова и др.; {Отвл > Отвл/Рец}: в апогее славы, исследовательский фокус, метафизика ‘о чем-либо отвлеченном, умозрительном, непонятном’, силлогистика ‘о беспредметных общих рассуждениях’, схоластика ‘о бесплодном умствовании’ и др. {Отвл > Отвл/Реал}: Мускулы, подвергнутые физике воображения, музыка,
преображенная в движение таинственной алхимией творчества, – магия танца с трудом поддается фотообъективу (“Комок” 2001); теорема про несостоятельность65 пьесы доказана (“КП” 1998).
{СоцЯв > ПсЯв/РеалСп}: макиавеллизм ‘о коварстве, вероломстве’, казуистика ‘об изворотливости в доказательстве сомнительных положений’, фарисейство ‘о ханжестве, лицемерии’, фармазонство ‘о вольнодумии, нигилизме’. Общественное учение или движение предполагало какой-либо конкретный этический образец для заинтересованного субъекта. Внешнее сходство поступков субъекта с поведением яркого этического идеала (этоса),
65 Ошибка в управлении – из оригинала.
137
сторонника конкретного учения, давала возможность охарактеризовать действия субъекта, используя уже существующую номинацию, даже если последний не имел ни малейшего представления о философской стороне учения или исторических корнях общественного движения. Как это часто бывает, в узусе закрепляется “мифическое” значение: стоицизм ученых во время блокады, эпикуреизм, эпикурейство ‘о склонности к изнеженной жизни’ – {СоцЯв > СоцЯв/РеалСп}.
ТГ7 – номинации реалий изобразительного искусства и их метафоризация К наименованиям этой группы, порождающим метафорические дериваты,
относятся арабеск, иллюстрация, карикатура, картина, картинка, колорит, мазня, мозаика, набросок, панорама, портрет, рисунок, слепок, шарж и др. Как видим, многие ЛСВ называют изображения, полученные разными способами, поэтому в ТГ7 мы включили ЛСВ фотография ‘изображение, полученное при помощи специального оптического аппарата’, а также кино, фильм и окказиональные метафоризаторы кинокартина, триллер, боевик, блокбастер. Номинации реалий изобразительного искусства так или иначе отражают отношение человека к стихии света и цвета, поэтому такие ЛСВ, как окраска, колорит, фон, называют объективно существующие явления, необходимость вычленения и обозначения которых возникла в связи с художественной передачей изображения на холсте, бумаге и т. д. При метафоризации этих номинаций в узусе для говорящего субъекта, главным образом, существенна не художественная значимость / ценность того или иного произведения искусства, а содержание, общее для ряда произведений и определяющее их жанр. Номинации ТГ7 активно участвуют в метафоризации и могут использоваться
для характеристики предметов, физических явлений, психических состояний, отвлеченных понятий, социальных явлений; но наиболее актуальны метафорические реализации модели с направлением “Предмет / Отвлеченное понятие > Социальное явление” и с реализационным МП. Самой регулярной является модель {П > СоцЯв/Реал}: иллюстрация хороших
манер, картина нравов русского дворянства, карикатура перестройки, портрет эпохи, арабески ‘о собрании мелких литературных или музыкальных произведений’, литературная мозаика, панорама зарубежных событий и др. А также реализуется {Отвл > СоцЯв/Реал}: колорит эпохи, легенда придала борьбе окраску, богатая политическая палитра, на фоне войны. Интересно отметить, что первичные номинации ТГ7 используются для
характеристики реалий иных сфер искусства – литературной (колорит литературного произведения), музыкальной (арабески, мозаика народных песен), театральной (сценическая палитра, рисунок роли). Аналогично номинации реалий театрально-музыкальной культуры характеризуют реалии изобразительного искусства: дисгармония в сочетаниях зеленого и голубого
138
цвета, ритм архитектурного стиля. На наш взгляд, это отражает возврат тенденции синкретизма в современном искусстве: термины искусства становятся универсальными обозначениями.
ТГ8 – номинации реалий литературно-словесной деятельности и их метафоризация
К ТГ8 относятся ЛСВ анекдот, басня, драма, загадка, идиллия, комедия, контекст, легенда, лирика, миф, пастораль, панегирик, пародия, повесть, поэзия, поэма, проза, пролог, ребус, сатира, сказка, элегия, эпилог, эпопея и др. Они являются активным источником для создания языковых метафор, чему способствует тот фактор, что названные литературные жанры и т. п. имеют ярко выраженные, характерные черты. К номинациям письменной культуры также можно отнести ЛСВ почерк ‘свойственная кому-л. манера изображения букв на письме’ и намек ‘слово или выражение, в котором мысль высказана неясно, не полностью и может быть понята лишь по догадке’. Особо значимую для метафоризации подгруппу ТГ8-А образуют номинации
книг, документов, печатных изданий с интегральной семой “собрание текстов”: Библия, газета, диссертация, Домострой, Евангелие, катехизис, книга, кодекс, летопись, мартиролог, пропись, патент, энциклопедия и др. Рассмотрим отдельно характерные для нее модели: их разнообразие связано с объективной художественной, социальной, исторической значимостью “книжных” реалий. Чаще всего “книжные метафоры” характеризуют социальные явления, отвлеченные понятия, реже – физические явления, и для них наиболее актуальна модель {П > Отвл/РеалСп}: библия картезианства, евангелие революции, политических катехизис, катехизис советской милиции, арабский домострой – о некоторых суннах Корана, кодекс деревенских приличий, мартиролог – о переписке с дирекцией, энциклопедия русской жизни – о романе “Евгений Онегин” и др. Модели метафоризации остальныхь номинаций ТГ8 регулярно реализуют
направления “Предмет / Социальное явление > Отвлеченное понятие”, реже – “Социальное явление > Социальное явление”, “Предмет > Социальное явление”, хотя в целом единицы ТГ8 используются преимущественно для характеристики отвлеченных понятий. Наиболее актуальные МП – реляционный и реализационный и сочетание “реализационный + субъективно-психологический”. Встречаются единичные метафорические реализации моделей с физическими МП ({П > ФизЯв/Фф}: книжка ‘об одном из четырех отделов желудка жвачных животных… прилегающих один к другому, как листы в книге’; {СоцЯв > ФизЯв/Фзв}: скороговорка пулемета).
{СоцЯв > Отвл/Реал}: загадка бытия, побасенка, басня – о вымышленном событии, топонимический ребус и др.; {СоцЯв > ФизЯв/РеалСп}: чудесная зрительная поэма – о восходе солнца, поэзия дальних странствий ‘о чем-либо
139
прекрасном’, сказка леса; {СоцЯв > ПсЯв/РеалСп}: человек без поэзии ‘без лиризма, задушевности’, лирика ‘о состоянии, настроении, при котором эмоции преобладают над рассудком’, я никогда в любви не знал трагедии и др.; {СоцЯв > СоцЯв/РецФвр}: пролог восстания, пролог новой эры, пролог велогонки, эпилог восстания, эпопея отступления войск и др. или вариант этой модели с другим сочетанием МП {СоцЯв > СоцЯв/РеалСп}: современная пастораль, обычный юбилейный панегирик, пародия на парламент, блаженствовать среди домашней идиллии, комедия ‘о смешном, забавном происшествии’, анархизм Толстого – легенда, миф о непобедимости армии, бытовая проза жизни, превратить сейм в сатиру на правление, сказка / фольклор ‘о выдуманных событиях’, вот какой случился с Рудиным анекдот, семейная драма, судьба всегда приводила меня к развязке чужих драм. М. Ю. Федосюк и И. И. Бакланова, интерпретируя тексты анекдотов, приводят следующий пример, в котором ситуации, возникающие между людьми (метонимически обозначенные именами участников), характеризуются через соответствующие жанры [2000: 152]: Один мужчина – лирика. Двое мужчин – анекдот. Две женщины – сплетня. Мужчина и женщина – новелла. Две женщины и мужчина – повесть. Двое мужчин и женщина – драма. Две женщины и двое мужчин – юмореска.
ТГ9 – номинации реалий театрально-музыкальной и шоу-культуры и их метафоризация
ТГ9 образуют метафоризаторы аккомпанемент, аккорд, амплуа, буффонада, гимн, дифирамб, дуэт, лейтмотив, мажор, минор, музыка, прелюдия, репертуар, спектакль, сценарий, трагифарс, увертюра, фарс, феерия, фокус, шоу и др. Сравнение социума в целом и отдельных его элементов с искусственно создаваемыми сценическими картинами, являющимися, в свою очередь, одухотворенными “слепками” с действительности, привело к рождению пословицы Totes mundus agit historionem. Яркая и регламентированная последовательность этапов сценического действия служит стимулом для метафоризации в узусе названий реалий театрально-музыкальной культуры; такие метафоры легко декодируются благодаря тому прочному месту в “системе общепринятых ассоциаций”, которое занимает фундаментальная метафора общество – театр, жизнь – игра (см., например, “Театр” С. Моэма, “Таланты и поклонники” А. Островского). Чаще всего в моделях метафоризации номинаций ТГ9 реализуются
направления “Социальное / Физическое явление > Социальное / Физическое явление”. Музыкальная культура тесно связана со стихией звука, но узуальная метафоризация музыкальных терминологических обозначений звука встречается нечасто. Самые актуальные МП – реляционный, реализационный и сочетание “реализационный + субъективно-психологический”.
140
{СоцЯв > СоцЯв/РеалСп}: кровавая буффонада поединка ‘о неуместном, нелепом, грубом шутовстве’, спектакль – о ссоре, трагифарс ‘о печальном и одновременно забавном происшествии’, фокус ‘о необычном поступке’, политическое шоу, кино ‘о любопытном происшествии’ и др.; Известно, что
Давос – это своеобразный политический подиум для российских политиков, на котором проходят одновременно презентация героев наступающего года и репетиция схватки между этими героями (МК 1998); {СоцЯв > СоцЯв/Рец}: заключительный аккорд 1903 года – о стачках, лейтмотив книги, вот так номер ‘о странном поступке’, созвучие с современностью, сценарий ухаживания и др.; Сценарий, разработанный в Администрации, держится в глубокой тайне (МК 1998); {СоцЯв > СоцЯв/РецФвр}: прелюдия к историческим событиям, увертюра политических событий; {СоцЯв > СоцЯв/Реал}: иметь свое амплуа в семье, выбрать роль безмолвной жертвы в семье, гимн ‘о восторженной хвале, славословии’; дифирамбы в газетах ‘о преувеличенной, восторженной похвале’. Остальные модели имеют в основном единичные реализации, например, {СоцЯв > СоцЯв/Кв}: репертуар туристических экскурсий и {СоцЯв > СоцЯв/КвРеал}: политический дуэт66; и некоторые др.
{СоцЯв > ФизЯв/РеалФзв}: музыка речи, пчелиная музыка, симфония горной реки и др.
{ФизЯв > СоцЯв/РецСп}: диссонансы с общим тоном петербургской жизни, испортить всю музыку ‘о каком-либо налаженном процессе’, с чего началась эта музыка? ‘о чем-либо тревожном, хлопотливом и беспокойном’, жизнь в унисон с другими и др. Подведем предварительные итоги анализа активности единиц СС1 в
метафоризации. Члены некоторых ТГ почти не участвуют в образовании метафор, например,
номинации предметов современной одежды. Среди единиц ТГ1-Ж почти отсутствуют названия реалий современного повседневного костюма. Эта подгруппа неактуальна для типа метафоризации с сохранением категориального аспекта неодушевленности, но соответствующие синекдохи используются чрезвычайно активно, приобретая не только экспрессивную, но и социально-характерологическую направленность в оценке человека: юбка, фуфайка, шляпа, синяя блуза и др. (Д. Н. Шмелев, Н. А. Лукьянова).
66 В художественной, публицистической практике ряд метафор, образованных по этой модели, может быть продолжен: политические трио, квартет (все мотивированы числительными), оркестр. В русском языке все эти слова заимствованы и сохраняют квантитативную семантику при метафоризации. Интересно отметить в английском языке аналогичный случай с русским по происхождению словом troika (“тройка”), также имеющим ярко выраженную квантитативную семантику (мотивировано числительным) и называющим “group of three persons (esp. political leaders)” [Hornby 1980 Oxford… Dictionary: 926].
141
Метафоризации подвергаются номинации почти всех основных элементов постройки любого вида (ТГ1-К): окно, потолок, фундамент, стена и др. Однако некоторые ЛСВ, которые могли бы быть отнесены к этой подгруппе, не становятся метафоризаторами. Так, среди метафоризируемых номинаций полностью отсутствуют названия предметов мебели (искл. зеркало, колыбель, стол). Большая часть этих наименований – поздние заимствования, и поэтому, в силу различных обстоятельств, не попадают в сферу вторичных номинационных процессов. Интересно, что в более подвижной и чувствительной ко внеязыковым изменениям разговорной речи эта лексика употребляется окказионально, при создании характеристик лиц (тахта, шкаф, комод – о человеке, тумбочка – о толстой собаке). Терминологическая и специальная лексика, вошедшая в узуальное
употребление (ЛСВ ТГ1-Г, ТГ3, ТГ4, ТГ5, ТГ6), также не активно используется при метафоризации (искл. аккумулятор, конвейер, тормоз, турбина и др.), хотя номинации механизмов и их частей, социально-политических явлений, культовых и религиозных понятий, отраслей науки, наименования из сферы торгово-денежных отношений образуют большой, постоянно увеличивающийся пласт слов в лексическом фонде языка. Напротив, лексика относительно замкнутых ТГ67 (ТГ2, ТГ7, ТГ8, ТГ9, а также
большинство подгрупп ТГ1) метафоризируется активно: регулярная метафоризация номинаций реалий изобразительного искусства, литературно-словесной деятельности, театрально-музыкальной культуры связана с тем, что в сфере общественного сознания искусство и литература обладают наиболее яркими средствами изображения реальности. Практически не встречаются метафоры, возникшие на основе наименований из
области киноискусства, несмотря на популярность киножанров в современном обществе. Вероятно, это связано, во-первых, с относительной молодостью этих жанров и соответствующих номинаций, а во-вторых – со спецификой терминообразования в киноискусстве (киносценарий, кинокомедия). Но окказионально это возможно, особенно в речи молодежи: не экзамен, а какой-то боевик; химичка устроила нам блокбастер и т. п. Редкое метафоротворчество с использованием таких единиц отражено в специальной литературе (ср.: Ставшее
популярным в последнее время описание “языковых картин мира” опускает самое главное – стратегии дискурса как принципы языкового движения в этнокультурных координатах. Включение их в общую систему представления лингвоментальности дает возможность перейти от “картин мира” к
67 Мы считаем их относительно замкнутыми, поскольку состав этих групп достаточно
стабилен. Это объясняется экстралингвистическими факторами: образование новых знаковых систем, художественных жанров – процесс длительный, и утверждение в языке новых соответствующих номинаций происходит нечасто.
142
“фильмам мира”, придав жизненность лингвистическим выводам. Н. Бардина. Когнитивные стратегии дискурса в русском “языковом фильме мира”). Некоторые метафоры, образованные на основе единиц СС1, имеют
символическую природу, т. е. прошли путь “номинатив-метафоризатор церковнославянская метафора церковнославянский символ русская литературная метафора русская языковая метафора”. Первоначально многие церковнославянские символы метафорического происхождения, такие как баня,
бисер, бразда, врата, венец, град, дверь, двор, дом, Эдем, елей, жезл, жертвенник, жилище, завеса, зеркало, кладезь, ключ, клещи, книга, ковчег, корабль, корона, лампада, лестница, мост, обитель, ограда, одежда, покров, престол, прибежище, святилище, светильник, скрижаль, сокровищница, сосуд, стена, храм, хранилище, чаша и др., широко использовались в религиозных (в частности, литургических) текстах, что значитально облегчало их дальнейшее переосмысление сначала как художественных метафор, а потом — и как языковых, причем их символическое прошлое чаще всего никак не осознается современными носителями языка и не фиксируется в современных русских толковых словарях. Количественные подсчеты показали, что в этой сфере существуют
последовательные тенденции в метафорообразовании. Модели метафоризации НС СС1 чаще всего характеризуются направлением “Предмет > Физическое явление”, реже – “Предмет > Предмет / Отвлеченное понятие / Социальное явление” и “Социальное явление > Социальное явление”. Около 20 моделей охватывают ~80% метафор, образованных на основе НС СС1.
4.2. Метафоризация номинаций второй семантической сферы
Первичные номинации СС2 объединяются на основе гиперсем “пространство”, “свойство”, “состояние” и др. и называют отвлеченные понятия, чувства и т. д. Большое количество членов СС2 относится к абстрактным наименованиям реалий как физического, так и метафизического мира. Языковая специфика данных имен связана, прежде всего, с их мифологичностью и, одновременно, с “наглядностью” и “диалогичностью” 68 . “Наглядность” конкретного имени, обусловленная его прототипом, парадигматична, а “наглядность” абстрактного имени синтагматична. Коннотации абстрактного имени “репрезентируются в его фразеологической парадигме…, где имена с дескриптивным типом значения, сочетающиеся с ним, реализуют свое связанное переносное значение. При этом абстрактное имя, хотя и реализует номинативное значение, является коннотативно зависимым от метафоризатора” [Чернейко 1998: 318–319].
68 “Абстрактное имя диалогично, поскольку нет и не может быть единого для всех понимания интеллегибельного мира. В индивидуальном сознании и идиолекте личности эпистемология абстрактного имени определяет его онтологию” [Чернейко 1998: 317].
143
ТГ10 – номинации места, пространства и их метафоризация Изучение локативной лексики имеет свою историю, в том числе и в рамках
исследований локуса вообще. К существительным с пространственной семантикой обращались многие лексикологи [Крюков 1976; Ковалик 1978; Хромых 1979; Коробейникова 1980; Яковлев 1980; Васенькин 1987; и др.]. Классифицирование локативных единиц представляет большую сложность, поскольку пространство трехмерно, симметрично и обладает качественной и количественной бесконечностью, а эти свойства находят свое выражение в человеческом мышлении и в языке [Коробейникова 1980]. Наличие полевого строения у ЛСГ существительных со значением “пространство” определил В. В. Васенькин [1987]: проанализировав 82 лексические единицы, он выделил периферию поля, элементы ядерной группы и с ядерным словом пространство. Исследователей также интересовала проблема соотношения места и пространства: место часто понимают как форму существования единичного явления в целостном многообразии явлений материальных. “В этом смысле место есть форма пространственного существования вещи (явления), а пространство есть, соответственно, форма совместного существования явлений действительности, составляющих целостное содержание материального мира” [Крюков 1976: 7]. Поскольку частным объектом нашего исследования являются метафоризаторы с локативной семантикой, мы включили в классификацию такие ЛСВ, как ад, брешь, борозда, верхушка, вершина, горизонт, грань, дно, дыра, канавка, линия, ложбинка, место, низ, плоскость, позиция, полоса, пятно, раздолье, рай, старт, сторона, финиш, центр, экватор, эпицентр, яма и др. Все они объединены в ТГ10 архисемой “место”, хотя в семемах ЛСВ ад, задворки и др. она является ядерной, а в семемах ЛСВ плоскость, полюс, линия и др. – периферийной. ТГ10-А – номинации мест для езды и ходьбы: дорога, дорожка, колея,
магистраль, маршрут, мост, обход, путь, перекресток, перепутье, обочина, переход, трасса, подход, стезя, тракт, тропа, тропинка, тупик, улица и др. Полный состав данной подгруппы (а не только метафоризаторы) рассматривается в диссертационной работе А. В. Пелих [1984] и включает 35 единиц. Эти существительные анализируются автором в составе микросистемы “Названия дорожных объектов”. Номинации “мест для езды и ходьбы” оказываются активным источником для образования метафор, поскольку метафоризируется более половины таких единиц (см. также [Хромых 1977: 140]). Данные метафоризаторы часто соотносят с метафорической моделью “Путь” (см. работы Дж. Лакоффа, М. Джонсона, Н. Д. Арутюновой, А. Н. Баранова, Ю. Н. Караулова, Н. В. Павлович, И. И. Дубровиной и др.), которая рассматривается как семантическая универсалия. ТГ10-Б – номинации испорченных мест: изъян, искривление, надлом, надрыв,
перекос, перелом, разлом, трещина, огрех и др. Название этой подгруппы
144
условно, так как само понятие “испорченность” воспринимается говорящими по-разному. Актуализация семы “испорченность” в ЛСВ ТГ10-Б полностью зависит от экстралингвистических условий, от “семантики ситуации”, степень же “испорченности” может варьироваться в зависимости от контекста, при этом постоянную пейоративную окраску сохраняют ЛСВ изъян, перекос, перелом. ТГ10-В – номинации c интегральной семой “поворот”: загиб, изгиб, изворот,
излучина, поворот. В целом, номинации ТГ10 – aктивные метафоризаторы, но картину моделей их
метафоризации нельзя назвать пестрой, разнообразие метафорических ЛСВ связано с небольшим количеством единичных метафорических реализаций, не влияющих на общую картину. Большинство моделей метафоризации ЛСВ ТГ10 реализует направления
“Физическое явление > Социальное / Психическое / Физическое явление / Отвлеченное понятие”. Актуальными являются реляционный, функциональный, формативный МП и сочетание “реализационный + субъективно-психологический” МП. Начнем с самых активных моделей первого направления.
{ФизЯв > СоцЯв/РеалСп}: брешь / дырка в бюджете, дела идут без задоринки – без помех, огрехи в делах, клоака ‘о безнравственной среде’, перекосы в политике, прореха в командовании, общественные спайки, в тайниках домашней жизни, дорожка, тропа, колея и др. – о жизненном пути, жизненная колея, дальнейшие маршруты развития жизни и др.; {ФизЯв > СоцЯв/Рец}: правящая верхушка общества, низ / дно общества, политический кругозор, новая полоса в истории, центр – о партийной группировке между левыми и правыми, эпицентр тревожных событий, экватор чемпионата ‘о рубеже, завершающем первую часть чего-либо’ и др. Номинации физических реалий активно используются в узусе для
характеристики психических явлений на основе сходства реализационных и реляционных характеристик. {ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}: провалы в памяти, трещина в дружеских отношениях и др.; {ФизЯв > ПсЯв/Рец}: на вершинах счастья, грани / черты характера ‘об особенностях характера’, дно души, полоса мизантропии, пятно на совести и др. К этой модели относятся многочисленные индивидуальные метафорические реализации, возникающие на основе сравнения “параметров” эмоциональных состояний с параметрами физических реалий (на Эверестах счастья). Интересно, что, хотя говорящие имеют различные гипотетические представления о таких реалиях, как ад и рай, в узусе использование метафорических ЛСВ этих слов представлено очень широко и встречается чаще, чем соответствующие номинативы: жизнь обратилась в ад ‘об обстановке, условиях, пребывание в которых мучительно и невыносимо’, Эдем ‘о прекрасном месте’, элизиум ‘о месте блаженства’, и др.
145
Актуально и образование метафорических номинаций отвлеченных понятий по следующим двум моделям. {ФизЯв > Отвл/Рец}: на обочине жизни, исторический тупик, преграды жизни, препоны любви и т. д.; {ФизЯв > Отвл/РеалСп}: идейно-художественные трассы, в обход законов, зеленая улица какому-либо делу, стезя искусства и др. Прочие модели имеют единичные реализации. {ФизЯв > ФизЯв/Фф}: борозды
на лице – о морщинах, стебель с бороздками, полоса дыма, полоса минных взрывов. {ФизЯв > ФизЯв/Фу}: дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, воздушный бассейн, аптечный огород ‘об участках земли с дикорастущими лечебными растениями’, морские пастбища ‘о месте в водоеме, где имеются или создаются условия для обитания рыбы, крабов, мидий’.
ТГ11 – номинации состояний и их метафоризация Лексика со значением состояния привлекала внимание многих исследователей
[Шахова 1980; Камалова 1984; Малахова 1987; и др.], семантические классификации данных номинаций основываются, как правило, на логическом уровне анализа. А. А. Камалова описала “семантические типы состояний” на основе противопоставления: “человек как физическое тело и часть живой природы” (человек I) и “человек как духовная, психическая сущность” (человек II):
Состояние Физическое Психическое (природа) (человек II) Амбиентное Патиентное Положительное (атмосфера) (вещи … человек I) Отрицательное Смешное Нейтральное Температура Жизнедеятельность Влажность Организация Структура Потребности организма
Данная классификация представлена исследовательницей в диссертационной работе [1984: 23–24], и мы, считая ее основы наиболее аргументированными, учли в своей работе. ТГ11-А – номинации болезней, психических отклонений (девиаций),
физических недостатков. Эти метафоризаторы описывают патиентное состояние человека (агония, атрофия, болезнь, вывих, горячка, зараза, косноязычие, косолапость, косорукость, метастаз, немота, опухоль, пароксизм, паралич, поветрие, лихорадка, рана, слепота, столбняк, уродство, эпидемия, язва) и его психическое состояние в отклонении от нормы (безумие, безумство,
146
беспамятство, бред, бешенство, истерия, кликушество, кретинизм, помешательство, мания, маразм, умопомрачение, эйфория и др.). ТГ11-Б – номинации физических ощущений. Единицы данной подгруппы
допускают дальнейшее тематическое членение. ТГ11-Ба – номинации физических ощущений (патиентных состояний): гибель, гипноз, голод, горечь, дремота, жажда, зуд, кошмар, оскомина, смерть, сладость, сон, спячка, привкус, тошнота, тягость, усталость и др. ТГ11-Бб – номинации физических ощущений (патиентных состояний), мотивированные глаголами. Проблема отглагольных дериватов широко исследуется в лингвистике (словообразовании, морфологии, лексикологии), поскольку связь между глаголом и отглагольным существительным прослеживается на всех уровнях, в том числе и на уровне семантических структур [Плотникова 1976; Новикова 1978; Казаков 1984; Бахмутова 1988; и мн. др.]. Поэтому имеющиеся в нашем материале девербативы мы выделили в отдельную подгруппу: голодание голодать; мужание мужать; одеревенение одеревенеть; окаменение окаменеть; омертвение омертветь; охлаждение охладеть; охмеление охмелеть; очищение очиститься / очищаться; перерождение переродиться / перерождаться; просветление просветлеть; опьянение опьянеть. Как правило, такие существительные выражают состояние, появившееся в результате определенного действия, и категориальное значение процессуальности, свойственное глаголу, у них утрачивается не полностью, что характерно для девербативов в целом. “Отглагольные существительные с суффиксом -ни/j/- называют действие, состояние как процесс” [Русская грамматика 1980, I: 581]. Подробному изучению компонентов глагольной семантики в девербативах (на английском материале) была посвящена диссертация И. Ю. Иевлевой [1975], в которой она, в частности, отмечала, что отглагольные существительные “передают в своих значениях описание того же участка внешнего мира, что и исходные глаголы”, процессуальное состояние предстает “как опредмеченное явление, неизменно сохраняя при этом все особенности глагольной семантики”, а ЛЗ девербативов характеризуются преобладанием сигнификативного компонента над денотативным, что позволяет отнести девербативы к абстрактным именам [Иевлева 1975: 19–24]. Активность подобной лексики в метафоризации обусловлена аналогичной активностью исходных глаголов: все они могут быть основами для метафорических дериватов, образно говоря, единицы ТГ11-Бб образуют тот “мостик”, который связывает именную метафоризацию с глагольной. ТГ11-Бв – номинации желаний: каприз, причуда, сладострастие ‘повышенное
стремление к чувственным наслаждениям’. ТГ11-В – номинации эмоциональных отношений и чувств (психических
состояний): возмущение, восторг, гнев, горе, грусть, злоба, злость, мука,
147
ностальгия, ужас, ярость 69 . Интегральной для данных ЛСВ является сема “чувство”. Исследователи отмечали, что лексика со значением чувства, переживания
взаимодействует с лексикой состояния [Шахова 1980; Камалова 1984], но, поскольку “в психологии область чувств, эмоций разработана слабо” из-за сложности самого объекта и “не существует достаточно четкого разграничения эмоций и … состояний” [Шахова 1980: 22], в узусе используются одни и те же номинации и для обозначения состояния, и для характеристики чувства. Тем не менее, возможно противопоставлять чувство и состояние: “эмоциональное состояние характеризуется протяженностью, иногда разноплановостью, неотчетливостью процесса «чувствования». Эмоциональное состояние обычно закрепляется как чувство” [Там же]. Следует отметить, что ТГ имен эмоций, “при широком понимании эмоции, может быть как угодно велика, и вопрос о ее границах является вопросом научного договора, он не имеет особого значения, так как сам объект четких границ не имеет” [Малахова 1987: 14]. ТГ11-Г – номинации физических (амбиентных) состояний: вакуум, жар,
насыщенность, пыл, равновесие, раздвоенность, пекло, стертость, сушь, холод, холодок, тепло, теплота. Названия состояний внешней среды мы не можем рассматривать в составе СС3, поскольку мерилом их оценок и определений является человеческое восприятия: для самой природы жар, пыл, холод и т. п. – нейтральные, равноценные состояния, и вопрос о членении и категоризации природных состояний решается только человеком. В целом, номинации ТГ11 различаются с точки зрения их активности в
метафоризации. Количество направлений в моделях метафоризации номинаций ТГ11 невелико, но выбор модели зависит от принадлежности метафоризатора к определенной тематической подгруппе. Рассмотрим эти модели с учетом тематической принадлежности метафоризаторов. Для единиц ТГ11-А основными направлениями метафоризации являются
“Физическое / Психическое явление > Социальное явление”. Обозначения болезненных состояний человека используются для персонифицированной характеристики социума. Наиболее активна модель {ФизЯв > СоцЯв/РеалСп}: агония монархии, Это <…> собьет и искусственно созданную агонию на валютных торгах (“Экономика и Жизнь” 1998), болезни общественной жизни, срывы и вывихи в работе, зараза суеверий, метастазы войны, социальная опухоль, паралич железной дороги, звездная лихорадка ‘об общественном ажиотаже, вызванным стремлением использовать космос в военных целях’, антидемократический психоз, раны войны на городе, уродства быта,
69 Заместим, что из рассмотренных Л. И. Шаховой [1980] существительных-
наименований чувств (59 ЛСВ) метафоризации, по нашим наблюдениям, подвергаются только 7: восторг, гнев, горе, грусть, злоба, злость, ярость.
148
социальная язва и др. В современной российской публицистической речи широко используются метафоры, образованные по этой и другим моделям на основе единиц биолого-медицинской терминологии70: Кроме окончательного паралича
деловой активности и потери рабочих мест, ничего лучшего не произойдет (“Экономика и Жизнь” 1998); конвульсии банковской системы (Там же); Система судов, особенно общей юрисдикции, на грани паралича (Там же); Все
жители страны видят, в каких страшных судорогах корчится правящий режим с лицом Ельцина (“АиФ” 1998). Связано это с тем, считает Ю. С. Сорокин, что в течение продолжительного времени различные отклонения в развитии общества и отрицательные явления социального и нравственного характера рассматривались как “болезненные” процессы. Не случайно, мыслителей – просветителей и реформаторов – считали врачами, избавляющими человечество от постигших их социальных “болезней” (Цит. по [Солганик 1981: 50]). Это отражено в следующих примерах катахрез: Девальвация – лекарство замедленного действия (“Экономика и Жизнь” 1998); Девальвация – горькое лекарство для оздоровления экономики (Там же); Типовой рецепт лечения тяжело больного предприятия хорошо известен (Там же); Очевидно, “хирурги”
из ЦБ и создаваемого АРКО, наблюдая за конвульсиями банковской системы, станут решать узким консилиумом, какие “куски” отрезать, какие сохранить и подпитать “финансовой кровью” (Там же); Москва показала, что не считает <чеченскую> войну войной – а так, хирургическая операция по удалению фурункула (“Коммерсантъ-Власть” 1998); Фрэнки предпринял активные действия по реанимации танцевальной музыки (“Птюч” 1996). Достаточно актуальными для метафоризаторов этой подгруппы являются и
другие модели. {ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}: столбняк ‘об оцепенении от сильного душевного потрясения’, нравственное уродство, немота совести, теоретические вывихи, атрофия воли и др.; {ПсЯв > СоцЯв/РеалСп}: военная истерия, истерия развлечений; “Коммуно-прокурорская истерия” (“Рос. Вести” 1997); Разнузданная газета “Не дай Бог!” внесла свою лепту в раздувание антикоммунистической истерии (“Правда” 1997); кретинизм властей, послевыборная эйфория, маразм в культуре; Нынешние болезни
Б. Ельцина, по сравнению с впавшими в маразм коммунистическими лидерами, кажутся легкими недомоганиями (“Рос. Вести” 1997); Причина такой всеобщей амнезии, по мнению “Нью-Йорк Таймс”, ясна (МК 1999). Реже единицы ТГ11-А образуют метафоры по моделям: {ФизЯв >
ФизЯв/РеалСп}: немота тайги, пароксизм смеха, пьяный угар, степная нирвана и др.; {ПсЯв > ПсЯв/РеалСп}: безумство любви, в беспамятстве ярости, возмущенный до бешенства и др.
70 В этом абзаце приведены контексты из картотеки Т. В. Прокофьевой.
149
На основе номинаций физических ощущений – патиентных состояний (ТГ11-Ба) – метафоры образуются по перечисленным ниже моделям. {ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}: гибель надежд, горечь утраты, зуд любопытства, сон мечты, спячка ‘о душевном оцепенении’, тошнота от мечтаний, тягость ‘о тяжелом душевном состоянии’; {ФизЯв > СоцЯв/РеалСп}: гибель социального строя, книжный голод – о дефиците книг, провинциальная дремота, кошмар обыденности, сладость господской жизни, политическая усталость; Но
приходит к концу медвежья спячка, кончается и “кондовый сон России” (“Завтра” 2000). Единичны метафорические реализации модели {Физ-Яв > ФизЯв/РеалСп}: сон природы, усталость металла ‘спец. о снижении прочности металла из-за повторяющихся переменных нагрузок’. Метафоры на основе мотивированных глаголами номинаций физических
ощущений (ТГ11-Бб) образуются по аналогичным моделям и становятся характеристиками психических явлений и человеческих эмоций: {ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}: охмеление радостью, музыкой, одеревенение чувств, духовное голодание, опьянение успехами, умственное просветление; социальных явлений – {ФизЯв > СоцЯв/РеалСп}: омертвение уличного движения; физических состояний / явлений – {ФизЯв > ФизЯв/РеалСп}: опьянение свежим воздухом, просветление лица умершего. Немногочисленные номинации желаний (ТГ11-Бв) также образуют
“физические” метафоры. {ПсЯв > ФизЯв/РеалСп}: каприз природы, причуда стихии, есть со сладострастием. Названия эмоциональных отношений и чувств (ТГ11-В) метафоризируются по такой же модели: гнев природы, горе у леса – о болезни деревьев, осенняя грусть дождя, злоба ветра, злость бури, возмущение природы ‘о мутациях как результатах человеческого вмешательства’, возмущение небесных тел ‘об отклонении небесных тел от своей орбиты под влиянием других планет’, ужас природы – о шторме, ярость ветра и некоторые др. Количество узуальных персонификаций не столь велико, и словари фиксируют лишь немногие из них, хотя создатели художественных текстов постоянно персонифицируют природу, приписывают ей богатейший спектр эмоциональных характеристик, свойственных человеку, поэтому метафорические реализации этой модели чаще встречаются в художественной речи. Номинации ТГ11-В также представляют единичные реализации других
моделей. {ПсЯв > СоцЯв/РеалСп}: административный восторг ‘об увеличении изданий приказов и проч.’; {ПсЯв > ПсЯв/РеалСп}: мука ожидания результатов матча; {ПсЯв > СоцЯв/РеалСп}: ностальгия по патриархальной старине. На основе единиц ТГ11-Г (номинаций амбиентных состояний) возникают
метафоры по моделям с разными направлениями. {ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}: вакуум в памяти, юношеский жар, душевное равновесие, раздвоенность чувства, сердечное тепло, теплота в голосе, холод одиночества, холодок в
150
отношениях между людьми и др. {ФизЯв > СоцЯв/РеалСп}: вакуум на флангах в футбольной игре, людской вакуум в Сибири – о малой плотности населения, в жару сражения, пекло боя, холодок в деле и др. {ФизЯв > Отвл/РеалСп}: насыщенность фактами, казенная сушь учебников, равновесие между физическим и умственным трудом. Итак, все ЛСВ ТГ11 используются для оценочной характеристики социальных
явлений, особенно номинации ТГ11-А, из которых чаще метафоризируются ЛСВ отрицательных психических девиаций, чем положительных (соотношение 26:1). Такая же закономерность наблюдается в подгруппе ТГ11-Б: в 46 раз чаще метафорами являются названия отрицательных физических ощущений, чем положительных. Обозначая физические и психические явления, метафоризаторы этой ТГ
становятся номинациями психических сущностей (за исключением ТГ11-Бв и ТГ11-В) и, в меньшем объеме, физических реалий (за исключением ТГ11-Г – номинаций амбиентных состояний, – которая, в свою очередь, является единственным источником для метафорических характеристик отвлеченных понятий). Некоторая однородность данной ТГ метафоризаторов, представляющей собой
чрезвычайно разнообразный спектр номинаций, состоит в общности основы для метафоризации – сочетании “реализационного + субъективно-психологического” МП.
ТГ12 – мотивированные прилагательными номинации свойств и состояний и их метафоризация
Между состоянием и свойством существуют родо-видовые отношения: в определенном состоянии объект характеризуется определенными свойствами. Номинации свойств объекта и его состояний, характеризующегося такими свойствами, могут совпадать. В семной структуре ЛЗ номинаций ТГ12 присутствуют и архисема “состояние”, и интегральная сема “свойство”, что позволяет выделить их в единую группу. Кроме того, все ЛСВ ТГ12 мотивированы прилагательными (часто отпричастными) и “совмещают в себе присущее мотивирующему прилагательному значение признака со значением существительного как части речи” [Русская грамматика 1980, I: 177], иначе говоря, субстантивная метафоризация на этом участке сближается с адъективной: заскорузлость заскорузлый; затхлость затхлый; зрелость зрелый; изломанность изломанный; ровность ровный; стадность стадный; стерильность стерильный; текучесть текучий; убогость убогий; углубленность углубленный; угнетенность угнетенный; уравновешен-ность уравновешенный; чернота черный; черствость черствый;
чистота чистый.
151
Л. Н. Пелепейченко [1987] подробно изучила семантическую структуру отадъективных существительных и обнаружила, что чаще всего производное имя расширяет семантику производящего (в 66% от общего количества рассмотренных дериватов), может быть равно по семантическому содержанию производящему (12%), или значительно расширяет его семантику (8%). В большинстве случаев отадъективные существительные так же характеризуют объект (только со сменой категориального аспекта), как и мотивирующие их прилагательные. Как правило, номинации ТГ12 называют какой-либо один яркий признак, сохраняя при этом ядерные семы исходных прилагательных, что и способствует их активной метафоризации. На основе единиц ТГ12 образуется метафоры, являющиеся реализациями
моделей почти всех возможных направлений с сочетанием МП “реализационный + субъективно-психологический”. Единичны модели с реляционным МП.
{ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}: заскорузлость мнений, душевная изломанность, ровность характера, стерильность мысли, убогость душевного мира, уравновешенность духа, черствость души, нравственная чистота и др.; {ФизЯв > ФизЯв/РеалСп}: угнетенность растения – об ослаблении в росте, чистота действий – о точности, лихорадочность движений и др.; {ФизЯв > Отвл/РеалСп}: изломанность судьбы, убогость содержания пьесы, углубленность исследования и др.; {ФизЯв > ПсЯв/Рец}: зрелость мысли ‘о высокой степени развития’; {ФизЯв > СоцЯв/Рец}: людская чернота – об отрицательных поступках.
ТГ13 – номинации свойств и их метафоризация В ТГ13 объединены также номинации свойств – определенных отличительных
признаков, характеризующих что-либо, но от единиц предшествующей ТГ12 их отличает то, что сема “состояние” в структуре ЛСВ ТГ13 находится на периферии, ядерной же является сема “свойство”. Как и ЛСВ ТГ12, абсолютное большинство единиц ТГ13 мотивированы качественными прилагательными или бывшими причастиями. В. Д. Пятницкий, рассмотрев подробно семантико-словообразо-вательную соотносительность качественных прилагательных и отвлеченных существительных с качественным значением в русском языке, обнаружил, что выражение качества прилагательными и соотносимыми с ними отвлеченными существительными носит системный характер и “значительная часть прилагательных, приводимых в словарях без соответствующих отвлеченных существительных, обнаруживает тенденцию к соотносительности с существительными на –ость” [Пятницкий 1968: 470]. На наш взгляд, этим объясняется большой объем ТГ13. В зависимости от характеризуемого объекта все первичные номинации
свойств могут быть разбиты на три подгруппы: свойства 1) физических явлений (ТГ13-А), 2) психических явлений (ТГ13-Б) и 3) социальных явлений (ТГ13-В).
152
Чаще всего основами для метафор являются номинации первой подгруппы, реже – второй и третьей. Кроме того, в состав ТГ13 мы включаем не мотивированные прилагательными ЛСВ иммунитет ‘невосприимчивость организма к какому-л. инфекционному заболеванию’ (невосприимчивость ‘свойство по прил. невосприимчивый’), инерция ‘свойство тела сохранять состояние покоя или движения’, магнетизм ‘свойство магнита… притягивать к себе, а также отталкивать от себя некоторые тела’, мимикрия ‘защитная способность некоторых видов животных и растений’. Особого внимания заслуживает ТГ13-Б, которая объединяет номинации
психических и ментальных способностей, умений человека, формируемых в определенных социальных условиях: безграмотность ‘неумение правильно писать’; грамотность ‘умение читать и писать’, неграмотность ‘неумение читать и писать’, инстинкт ‘врожденная способность животных организмов к совершению бессознательных целесообразных действий в ответ на изменение внутренней или внешней среды’, чревовещание ‘способность говорить, не шевеля губами’. Примечательно, что из всего обширного корпуса существительных со значением интеллекта (259 слов, по данным Сункало Саного [1985]), также относимых нами к данной подгруппе, только ЛСВ ум ‘познавательная и мыслительная способность человека’, разум ‘познавательная деятельность человека, способность логически и творчески мыслить’, интеллект ‘мыслительные способности человека’ участвуют в метафоризации. Картина метафоризации номинаций физических свойств (ТГ13-А) довольно
разнообразна, реализуются следующие направления метафорического переноса (в порядке убывания степени их активности): “Физическое явление > Отвлеченное понятие / Психическое / Физическое / Социальное явление” по ниже перечисленным моделям.
{ФизЯв > Отвл/РеалСп}: зыбкость счастья, зыбкость причины, крутость суждений, меткость сравнения, непробиваемость предубеждения, однобокость толкования, прилипчивость идеи, прозрачность стиля Шелли, пустота разговоров и др.; {ФизЯв > Отвл/Рец}: возвышенность идей, громкость слов, микроскопичность проблемы и др.
{ФизЯв > ПсЯв/РеалРецСп}: безоблачность счастья, едкость улыбки, гибкость души, крутость характера, легкость характера, лютость нрава, мутность мыслей и др. В узусе утвердилась метафора глаза – зеркало души, поскольку характеристика взгляда человека отражает патиентное психическое состояние. Такие характеристики создаются на основе описываемых номинациями свойств физических реалий: лучезарность, лучистость, пронзительность, туманность, тусклость, цепкость взгляда, непроницаемость глаз и др. – {ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}.
153
{ФизЯв > ФизЯв/РеалСп}: до зеркальности вылощенная шляпа, девственность леса, пикантность внешности, прилипчивость мух, расплывчатость черт лица, стойкость натуры и др.
{ФизЯв > СоцЯв/РеалСп}: людская инертность ‘о социальной пассивности’, лютость войны, монолитность коллектива, непрочность тыла, плотность обороны, распыленность кадров и др. Номинации свойств психических явлений (ТГ13-Б) метафоризируются по
подобным моделям. {ПсЯв > ФизЯв/РеалСп}: жадность акул, угрюмость леса, хмурость дождливого неба и др. {ФизЯв > СоцЯв/РеалСп}: мрачность эпохи, нравственная чистоплотность / нечистоплотность. Номинации свойств социальных явлений (ТГ13-В) чаще всего служат
метафорическими обозначениями психических явлений. {СоцЯв > ПсЯв/РеалРецСп}: бедность мысли, духовная нищета. В целом, наиболее активными метафоризаторами этой группы являются
номинации свойств физических явлений и способностей живых существ (ТГ13-А), а названия свойств психических (ТГ13-Б) и социальных (ТГ13-В) явлений неактивны в метафорообразовании. Единицы ТГ13 чаще всего используются для характеристики отвлеченных понятий и психических явлений, реже – физических и социальных явлений. При этом модели метафоризации “предпочитают” сочетание МП “реализационный + субъективно-психологический”.
ТГ14 – номинации действий и их метафоризация Все ЛСВ данной ТГ объединяются архисемой “действие” и могут быть
разбиты на шесть подгрупп. ТГ14-А – мотивированные глаголами номинации действий. Большое
количество ЛСВ ТГ14 являются девербативами, сохраняющими особенности глагольной семантики и обозначающими обобщенные понятия действия и процессуальности, поэтому метафоры, возникшие на их основе, находятся на пересечении глагольной и субстантивной метафоризации: акцентирование акцентировать; бомбардировка бомбардировать; взлет взлететь / взлетать; вклад вкладывать / вложить; вливание вливать / влить; всплеск всплескиваться; вторжение вторгнуть / вторгаться; высыпка высыпать / высыпать; выход выходить; давление давить; завоевание завоевать; загрузка загрузить / загружать; зажим зажимать; заигры-вание заигрывать; закал закалить / закаливать / закалять, закалиться / закаливаться / закаляться; засасывание засасывать; игра играть; излияние излиться; инсценировка инсценировать; копание копаться; лавирование лавировать; лакировка лакировать; ломка ломать; набор набирать / набрать; нажим нажимать; накачивание накачивать; наплыв наплывать; наскок наскочить / наскакивать; обкрадывание обкрадывать; оборона оборонить / оборонять и оборониться / обороняться;
154
оздоровление оздоровить / оздоровлять; омертвление омертвить / омертвлять; ориентировка ориентировать / ориентироваться; освещение осветить / освещать; ослепление ослепить / ослеплять; отдача отдать / отдавать; отмежевание отмежевать / отмежеваться; отражение отразиться / отражаться и отразить / отражать; отсев отсеять / отсевать / отсеивать и отсеяться / отсеваться / отсеиваться; парение парить; педалирование педалировать; пение петь; перевес перевесить / перевешать / перевешивать; перегиб перегнуть / перегибать; перестраховка перестраховаться / перестраховываться; перестрелка перестреливаться; перестройка перестроить / перестраивать и перестроиться / перестраиваться; плавание плавать; подкоп подкопать / подкапывать и подкопаться / подкапываться; подрыв подорвать / подрывать; подталкивание подталкивать; подтасовка подтасовать / подтасовывать; породнение породниться; преломление преломить / преломлять и преломиться / преломляться; прижим прижимать; приклеивание приклеивать; просачивание просачиваться; прочес прочесать / прочесывать; прочесывание прочесывать; прощупывание прощупывать; развязывание развязывать; разгон разогнать / разгонять и разогнаться / разгоняться; разграничение разграничивать / разграничить; разгрузка разгрузить / разгружать; разжигание разжигать; размежевание размежевать; расплата расплатиться / расплачиваться; сдвиг сдвинуть / сдвигать; сеяние сеять; растрата растратить / растрачивать; сватовство сватать / свататься; смакование смаковать; стирание стирать; строчка строчить; стык стыковать / стыковаться; стыковка стыковать / стыковаться; сюсюканье сюсюкать; терзание терзать; течение течь; тиражирование тиражировать; толкание толкать; торможение тормозить; уврачевание уврачевать; увязка увязать; уклон уклониться / уклоняться; укол уколоть / укалывать; укрепление укрепить / укреплять и укрепиться / укрепляться; уравновешание уравновесить; уязвление уязвить / уязвлять; фабрикация фабриковать; фильтровка фильтровать; хватание хватать; царапа-нье царапать; чистка чистить. Вопрос о том, каким из значений производящего слова мотивировано
производное, решался многими исследователями, как и вопрос о том, “усваивает” ли производное слово другие значения производящего или наращивает новые значения самостоятельно. Была выявлена следующая закономерность: конкретные существительные (типа метла, резец) проявляют сниженную способность к усвоению переносных значений производящих глаголов, а имена действия – повышенную. Нами выявлена и обратная закономерность: все глаголы, мотивирующие имена действия, способны образовывать метафорические
155
дериваты, и соответствующие им девербативы так же активно участвуют в метафоризации. ТГ14-Б – номинации движений– имена действия с интегральной семой
“движение”, т. е. разнообразные названия моторно-мимических движений, совершаемых субъектом: бег, беготня, взгляд, выверт, выкрутасы, вылазка, выпад, движение, маневр, поза ‘застывшее движение’ (нулевая репрезентация движения), пощечина, оплеуха и др. ТГ14-В – номинации процессов (чаще всего – физических) – ЛСВ брожение,
дыхание, завихрение, кипение, кристаллизация, реанимация, эрозия. ТГ14-Г – номинации действий-событий – имена действия с ядерной семой
“событие”: блокада, взрыв, каверза, камуфляж, паломничество, перепалка, рокировка, самобичевание, травля, строительство и др. Событийная лексика описывает значительные явления и обычные факты общественной и личной жизни субъекта, поэтому трудно установить границы данной подгруппы. Так, к этой группе можно отнести ЛСВ, характеризующие крупные события в жизни социума, при этом сема “действие” в соответствующих семемах оказывается на периферии ЛЗ, а сема “событие” остается ядерной: авария, атака, баталия, бой, борьба, война, грабеж, демобилизация, драка, дуэль, капитуляция, катастрофа, контрнаступление, крушение, маневр, марафон, мобилизация, набег, нашествие, охота, погоня, разбой, сражение, турнир, штурм, экзамен и др. К ТГ14-Г примыкают номинации обрядовых и ритуальных действий,
праздников и т. п.: вакханалия, девичник, именины, карнавал, масленица, мальчишник, маскарад, оргия, парад, праздник, сабантуй, сатурналии, триумф, шабаш. Исторически складывалось так, что каждый праздник сопровождался определенными обрядовыми действиями, но в современных номинациях праздников сема “действие” часто отсутствует, а сема “событие” становится ядерной. Интересно, что большинство данных метафоризаторов являются названиями древнейших праздников (ср.: Нашумевшая инициатива Виктора
Илюхина, озабоченного вакханалией безвластия во время перманентных болезней президента (“Правда” 1997); Работа на телевидении – это ведь карнавал, а карнавальную линию в своей жизни я решила завершить (“Семь дней в Новосибирске” 2000)), в то время как метафоризация названий советских и современных российских праздников редка (У нее каждый день – восьмое марта, всегда с цветами), что связано, на наш взгляд, с нивелированием праздничных традиций в современной жизни, праздники “потеряли свое лицо” и чаще всего справляются одинаково, независимо от повода. ТГ14-Д – номинации работ (с интегральной семой “работа”), выполняемых
субъектом: аврал ‘общая работа на судне, в которой участвует весь личный состав корабля’, вахта ‘особый вид дежурства на кораблях и судах для обеспечения их безопасности, требующий безотлучного нахождения на каком-л.
156
посту’, канцелярщина ‘канцелярская работа’, страда ‘напряженная летняя работа на полях’, урок ‘работа, заданная на определенный срок’, кустарщина ‘об обработке, изготовлении чего-л. без применения необходимых технических средств’ и др. Интересно, что из всего огромного количества номинаций работ, выполняемых субъектом, метафорические ЛСВ имеют только приведенные выше и некоторые другие. ТГ14-Е – номинации профессий, занятий субъекта (с интегральными семами
“профессия”, “занятие”): актерство, жонглерство, скоморошество / скоморошничество, лицедейство, наездничество, ремесленничество, шутовство и др. Так как количество таких метафоризаторов невелико по сравнению с общим количеством лексем, называющих существующие профессии, данная группа слов неактуальна для метафоризации. Итак номинации ТГ14 в целом достаточно разнообразны, и их активность при
создании метафорических дериватов также различна. Из имен действий, мотивируемых глаголами (ТГ14-А), основами для метафор чаще всего (3:1) выступают номинации действий, выполняемых человеком или связанных со стихией. Активно метафоризируются номинации движений, более четверти ЛСВ ТГ14-Б способны образовывать метафоры. Актуальна метафоризация событийной лексики, особенно единиц, характеризующих социальную сферу, хотя названия праздников в целом не являются активным источником для метафорообразования. Редко метафоризируются номинации профессий и работ, выполняемых субъектом.71 Любая номинация действия представляет собой определенную физическую
характеристику, т. е. “источником метафоризации” становится “Физическое явление”. Первичные номинации ТГ14-А (номинации действий, мотивированные глаголами) чаще выступают как метафорические характеристики социальных и психических явлений, а также отвлеченных понятий, при этом актуализируются различные сочетания МП: “функциональный + реализационный”, “реализацион-ный + субъективно-психологический”, “реализационный + динамический”, “функциональный + динамический”. Самой активной является модель {ФизЯв > СоцЯв/ФуРеал}: работа при
полной загрузке в вузе, зажим критики, делать без нажима начальства, оздоровление общества и др. Меньшим количеством реализаций представлены остальные модели. {ФизЯв > СоцЯв/РеалСп}: ведомственные стыки, стыковка учебных программ, хватание двоек, отражение атаки, лавирование между консерватизмом и либерализмом, омертвление капиталов и др.; {ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}: копание в себе, ломка характера, педалирование грустных мотивов, терзания ревности и др.; {ФизЯв > Отвл/ФуРеал}:
71 Последние две подгруппы могут быть активным источником для характеристики лиц по роду занятий [Харченко 1985: 59]: актер, лакей, инквизитор и др.
157
словесное излияние, освещение фактов, ориентировка в вопросах, просачивание слухов и др. Прочие модели имеют единичные реализации. При метафоризации номинаций движений ТГ14-Б реализуются модели с
направлениями: “Физическое явление > Социальное явление / Отвлеченное понятие / Психическое / Физическое явление”. Самыми актуальными являются сочетания МП: “реализационный + динамический”, “реализационный + субъективно-психологический” и реляционный. Сочетания МП “динамический + квантитативный” и “функциональный + реализационный” представлены единичными примерами. Самой регулярной является модель {ФизЯв > СоцЯв/РеалДи}: экономический
рывок, скачок в развитии общества, кредит даст толчок заснувшей промышленности, нанести бунту последний и решительный удар и др. Также представлены и другие модели. {ФизЯв > Отвл/РеалДиСп}: отсутствие динамики в романе, удары судьбы и др.; {ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}: парень с заскоками, избрать позу недотроги, держать в трепете – о страхе, психологическое встряхивание – о выходе из душевного оцепенения и др. Для ТГ14-В (названия процессов) основным является сочетание МП
“реализационный + субъективно-психологический”, которое реализуется в приведенных ниже моделях. {ФизЯв > СоцЯв/РеалСп}: брожение умов – об общественных волнениях, брожение среди казаков – о начале смуты, отрыжка проклятого прошлого, реанимация руссоистских лозунгов – о прекращении эксплуатации природы, эрозия власти; {ФизЯв > ФизЯв/РеалСп}: дыхание весны; {ФизЯв > Отвл/РеалСп}: эрозия веры в будущее. Метафоризация ЛСВ ТГ14-Г (номинаций действий-событий) чаще всего
связана с оценочной характеристикой социальных, реже – психических и физических явлений. При этом актуализируются сочетания МП “реализационный + субъективно-психологический” и “реализационный + динамический”, в некоторых случаях – “функциональный + реализационный” и – отдельно – субъективно-психологический МП. Рассмотрим модели.
{СоцЯв > СоцЯв/РеалСп}: веселая авария на катке, социальная катастрофа, или ее функциональная разновидность {СоцЯв > СоцЯв/РеалСпФу}: дискуссионные бои, война с цензурой, домашний допрос о причине опоздания, драка в прессе, заочная дуэль, кровавый спор – о битве, турнир остроумия, В доме президента США – война (“КП”72 1998); В августе состоялось, пожалуй,
главное приватизационное сражение современности, ознаменовавшее коренной перелом в великой отечественной войне (результат прономинации. – О. А.) за собственность (“Совершенно секретно” 1997).
72 Здесь и далее так обозначена «Комсомольская правда».
158
{СоцЯв > СоцЯв/РеалДи}: атака на судопроизводство, бой между гостями – о драке, набег на соседние сады и бахчи, нашествие гостей, сражение у прилавка в магазине, оргия в ночном заведении и др.; {ФизЯв > СоцЯв/РеалСп}: грызня между инженерами, крушение общественного строя, погоня за прибылью, за славой, поход на пески, на пустыню.
{СоцЯв > ФизЯв/РеалДи} нашествие саранчи; {СоцЯв > ФизЯв/РеалСп} вакханалия огня на небе – о грозе, парад планет и др.; {ФизЯв > ПсЯв/РеалСп} борьба с собственными желаниями, война с самим собой, нравственная катастрофа и др; {СоцЯв > ПсЯв/РеалСп} психологический маневр; {ФизЯв > ПсЯв/РеалСп} крушение надежд, психологический напор. ЛСВ ТГ14-Д (номинаций работ) метафоризируются по модели
{СоцЯв > СоцЯв/РеалСп}: аврал в конце квартала, трудовая вахта, наступила масленица – страда артистов и др. Для метафоризации единиц ТГ14-Е используется та же самая модель: для
нищенства нужно актерство, жонглерство словами, скоморошество ‘о балагурстве’, лицедейство ‘о притворстве’; обычное для Владимира Вольфовича шутовство (“Рос. Вести” 1995) и др. Такой перенос объясняется тем, что у всех членов общества существуют стереотипные представления о лицах определенной профессиональной принадлежности и отношения к этим стереотипам. Номинации действия чаще всего образуют метафорические характеристики
социальных явлений, отвлеченных понятий, реже – психических явлений. Самым актуальным сочетанием МП является “реализационный + субъективно-психологический”, а также “реализационный + динамический” и “функциональный + реализационный”.
ТГ15 – мотивированные глаголами номинации действий и состояний и их метафоризация
Необходимость выделения данной группы связана с особенностью семных структур ЛСВ. В отличие от ЛСВ ТГ11 и ТГ14, метафоризаторы данной группы имеют в своих семемах две ядерные семы – “действие” и “состояние”, т. е. обозначают состояния, сопровождаемые определенными действиями. Все номинации ТГ15 – девербативы, мотивирующие их глаголы также описывают “состояние в действии”, только в ином категориальном аспекте. Это еще один участок связи субстантивной и глагольной метафоризации, и эта связь эксплицитно выражается в словарном толковании единиц ТГ15, описываемых как “действие и состояние по знач. глагола”. Отметим, что все глаголы, мотивирующие ЛСВ ТГ15, могут образовывать метафорические дериваты, а их активность в создании метафор сохраняется и девербативами: воскресение воскреснуть / воскресать; закалка закалить / закалять и закалиться / закаляться; зарядка зарядить / зарядиться / заряжаться; накал накаляться / накалять / накаливаться; насыщение насытиться / насыщаться;
159
парализация парализовать / парализоваться; пробуждение пробудиться / пробуждаться; размягчение размягчиться / размягчаться; разрыв разорваться / разрываться; разрядка разрядиться / разряжаться; раскачка раскачаться; раскол расколоться / раскалываться; раскрепощение раскрепоститься / раскрепощаться; распад распасться / распадаться; распыление распылиться / распыляться; расцветание расцветать; состыковка cостыковаться / состыковываться; трепетание трепетать; увядание увядать; цветение цвести; шатание шататься. Единицы ТГ15 являются источниками метафорических номинаций,
образованных по моделям с тремя направлениями “Физическое явление > Психическое / Физическое / Социальное явление” и сочетанием “реализационный + субъективно-психологический” МП, выделить наиболее активную модель трудно: количественное распределение метафорических реализаций осуществляется по данным моделям приблизительно одинаково.
{ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}: воскресение – о внутреннем обновлении человека, эмоциональная зарядка, распыление внимания и др.; {ФизЯв > ФизЯв/РеалСп}: расцветание сил, трепетание жизни, увядание молодости и др.; {ФизЯв > СоцЯв/РеалCп}: насыщение рынка товарами, парализация экономики, пробуждение общества к жизни, разрыв дипломатических отношений, разрядка международной напряженности, раскол политической организации, распад колониальной системы и др.
ТГ16 – номинации совокупности предметов и их метафоризация Лексика с квантитативным содержанием часто привлекала внимание
исследователей [Тихонова 1971; Перетятько 1975а, 1975б; Лашкевич 1976; Лукьянова 1986; Астраускайте 1989; Скляревская 1989б; Алешина 1991; и др.]. ТГ16 объединяет номинации совокупностей лиц, животных, конкретных предметов, неконкретных объектов, часто являющих собой неделимое целое, а потому морфологически оформленных как собирательные существительные. Все ЛСВ ТГ16 содержат сему “количество”. “Количество” в объективной действительности воспринимается либо как дискретное, прерывное, либо как недискретное, непрерывное и определяется посредством счета или посредством измерения [Астраускайте 1989: 4]. Среди ЛСВ с количественной семантикой выделяется ряд существительных (армия, батальон, взвод, дивизия и др.), приближающихся по определенно-количественной семантике к числительным (единицы войсковых подразделений характеризуются по строго определенному количеству лиц). Мы включаем их в нашу классификацию только в тех случаях, если создаваемые на их основе “образы множеств” остаются “живыми”, “нестертыми” [Лукьянова 1986: 123]. В отличие от числительных, собирательные существительные “дают не указание на точное число составляющих множество объектов, а некоторую качественную характеристику всего денотата (что в
160
дальнейшем облегчает их метафоризацию. – О. А.) в совокупности, т. е. отвлеченно от отдельных членов объединения” [Астраускайте 1989: 8–9]. Все ЛСВ ТГ16 объединяются в подгруппы: ТГ16-А – номинации совокупности
людей: сброд, свита, хор, семья, табор, толпа и др.; ТГ16-Б – номинации множеств и групп животных: караван, косяк, рой, свора, стая, стайка, табун, выводок и др.; ТГ16-В – номинации войсковых единиц и подразделений: авангард, армада, армия, батальон, взвод, арьергард, десант, дивизия, дружина, легион, когорта, полк, рать, рота, стан, штаб, фронт, эскадрон и др.; ТГ16-Г – номинации совокупности неживых объектов: гирлянда, букет, богатство, мелочь, россыпи и др.; ТГ16-Д – номинации дискретных объединений, в том числе обозначения “целого”: бремя, воз, ворох, груда, груз, завал, запас, копна, куча, масса – и его “фрагментов”: глоток, горсть, горстка, ингредиент, ком, кроха, кусок, мерка, порция, частица и др. В целом, ТГ16 – незамкнутая, постоянно пополняющаяся новыми членами
группа. В узусе встречается относительно небольшое количество метафорических дериватов, возникших на основе единиц ТГ16, хотя в разговорной речи система лексических единиц с квантитативной семантикой значительно сложнее и разнообразнее по своему наполнению [Лукьянова 1986: 123–138]. Семантика группы обусловливает общий для всех моделей квантитативный МП; иногда ему “сопутствуют” физический, реже – динамический и реляционный МП 73 . Актуальность направлений связана с тематической принадлежностью первичных ЛСВ к определенной подгруппе, поэтому при рассмотрении моделей будем учитывать внутреннюю тематическую принадлежность метафоризаторов. Метафоры, возникшие на основе номинаций групп людей (ТГ16-А), чаще всего
используются для обозначения отвлеченных понятий (модель {СоцЯв > Отвл/Кв}: без идеи художественное произведение – сброд случайностей, семья славянских языков и др.); реже – для квантитативной характеристики некоторых социальных групп ({СоцЯв > СоцЯв/Кв}: свита поклонников, наследников сердитый хор); и для обозначения физических явлений ({СоцЯв > ФизЯв/КвРец}: известняковая свита ‘о совокупности залегающих друг над другом пород, образовавшихся в одной время при одинаковых условиях’; светил небесных дивный хор), а также психических явлений ({СоцЯв > ПсЯв/КвДи}: толпа мыслей). Первичные номинации множеств и групп животных (ТГ16-Б) порождают
метафорические характеристики социальных, психических и физических явлений. {ФизЯв > СоцЯв/Кв}: выводок молодых специалистов, косяки студентов, рой красавиц, стадо зрителей, ребячья стая, табун мальчишек и др.;
73 Например, {СоцЯв > ФизЯв/КвФфДи} – караван гусей, {СоцЯв > СоцЯв/КвФфДи} – караван барж.
161
{ФизЯв > СоцЯв/КвФу}: Нынешнему же высшему генералитету теперь
отводится роль стада мамонтов. Они должны пастись под каменными топорами реформаторов. Прикрыв своими телами куда более сытых “слонов” – гусинских, смоленских, березовских (“Завтра” 2000)74; {ФизЯв > ПсЯв/КвДи} рой мыслей, {ФизЯв > ФизЯв/КвДи} рой снежинок. Номинации войсковых единиц и подразделений (ТГ16-В) в узусе используются
для характеристики социальных и – редко – физических понятий, почти не используются для обозначения психических явлений75. Наиболее актуальными являются модели: {СоцЯв > СоцЯв/Кв}: армада толкачей, батальоны хиппи, взвод рассерженных покупателей, десант лесорубов, дружина экзаменаторов, когорта младших современников Гоголя, рота адвокатов и др.; {СоцЯв > ФизЯв/КвДи}: дивизионы крыс, мышиные дивизии; {СоцЯв > СоцЯв/КвРец}: авангард общественного движения, арьергард молодежного движения. На основе первичных номинаций совокупностей неживых предметов (ТГ16-Г)
образуется метафорические ЛСВ, определяющие отвлеченные понятия и физические явления. {СоцЯв > Отвл/Кв}: богатство красок; {ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}: атмосфера пошлости и мертвечины; {ФизЯв > ФизЯв/ФодКв}: букет вина / чая; {ФизЯв > ФизЯв/Кв} россыпь осенних звезд и др. Метафорические ЛСВ, возникшие на основе номинаций дискретных
объединений (ТГ16-Д), используются чаще всего для обозначения отвлеченных понятий, реже – физических, психических и социальных явлений. {ФизЯв > Отвл/Кв}: ворох новостей, глоток свободы, непосильный груз внимания, ком вопросов, порция комплиментов, куча глупостей и др. Встречаются метафорические реализации моделей {ФизЯв > ФизЯв/ФфКв}: копна волос, сноп лучей и т. п.; {ФизЯв > ПсЯв/Кв}: частичка радости, доза апатии, горстка любви; {ФизЯв > СоцЯв/Кв}: горсть храбрецов, куча покупателей, кучка людей, урожай невест.
Анализ метафоризаторов СС2 позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, активным источником для образования метафор являются номинации с локативной семантикой; по-разному проявляется эта способность у номинаций состояний (наиболее часто метафоризируются названия психических отклонений от нормы, отрицательных психических состояний и физических ощущений, актуальнее метафоризация номинаций патиентных и психических состояний субъекта, чем метафоризация номинаций амбиентных состояний). Во-вторых,
74 Пример из картотеки М. Н. Марцинкевич. 75 Хотя возможно образование художественных метафор, характеризующих
интеллектуальные и ментальные способности человека, по модели {СоцЯв ПсЯв/КвДи}, например, эскадрон моих мыслей шальных.
162
источником метафор является событийная лексика, особенно названия крупных событий в жизни социума, однако, не метафоризируются номинации современных праздников, мало метафор дают названия работ, выполняемых субъектом, а также названия профессий (хотя характеристики лиц по роду занятий активно используются в узусе). В-третьих, лексика с квантитативным содержанием является активным источником для образования метафор и постоянно пополняется новыми единицами. Чаще всего при метафоризации НС СС2 реализуются направление “Физическое
явление > Психическое / Социальное явление”. Приблизительно 80% всех номинаций СС2 образуют метафоры по 13 основным моделям, в основе большинства из них лежит сочетание “реализационного + субъективно-психологического” МП.
4.3. Метафоризация номинаций третьей семантической сферы
Номинации СС3 с гиперсемой “природа” называют реалии, не связанные с деятельностью человека: названия макрокосмических объектов и их составляющих, номинации стихий и их проявлений, названия веществ и т. д.
ТГ17 – номинации явлений природы и их метафоризация Природа, по определению толкового словаря, представляет собой
‘совокупность естественных условий или какую-л. часть их на Земле (рельеф, растительный и животный мир, климатические условия и т. п.)’. В ТГ17 объединены номинации стихий, макро- и микрокосмических объектов: стихия, звезда, звездочка, планета, созвездие, солнце, затмение, климат, микроклимат, камень, магнит, монолит, прах, микромир, молния, паутина, паутинка, соты, отлив, прилив, примесь, сгусток и др.76 ТГ17-А – номинации атмосферных явлений: атмосфера, воздух, дым, дымка,
курево, курение, мираж. Кроме того, семы “воздух”, “атмосфера” присутствуют в таких метафоризаторах, как буран, буря, ветер, ветерок, вихрь, град, дождь, затишье, зефир, иней, ливень, метелица, облако, оттепель, потоп, роса, росинка, снег, туман, туча, штиль [Дмитриева 1985]. С изменениями в атмосфере связано и возникновение “разрушительных стихий”: лавина, ураган, тайфун, шквал и др. ТГ17-Б – номинации с архисемой “свет / огонь”: блеск, блистание, вспышка,
глянец, искра, костер, луч, мрак, огонек, огонь, ореол, отблеск, отсвет, пламя, пожар, проблеск, сияние и др. ТГ17-В – номинации с архисемой “запах”: аромат, благоухание, вонь, душок,
запах, запашок, смрад. Малочисленность единиц одоративной лексики объясняется тем, что обоняние у человека развито не так, как, например, зрение,
76 Совокупности номинаций рельефа, растительного и животного мира мы выделили в
отдельные ТГ.
163
осязание и прочие чувства, и разнообразие запахов обозначается не отдельными словами, а передается описательно. “Лексика, служащая для выражения собственно обонятельных ощущений, очень бедна. В таком случае говорят, что обоняние не имеет своего словаря, т. е. не располагает лексемами, передающими первичные запахи (ср. пахнет землей, деревом, виноградом и т. п.)” [Сидельников 1982: 4]. ТГ17-Г – номинации c архисемой “звук”. Лексика со значением звучания была
исследована Г. В. Горбаневской [1984]. Она описала семантическое поле звучания (114 единиц), в ядре которого находятся ЛСВ звук и шум. По нашим данным, метафоризаторами могут быть только 65 ЛСВ, т. е. немногим более половины всех единиц данного поля: всхлип, говор, голос, гром, журчание, звон, зов, звук, звучание, крик, лепет, пение, лепетание, лопотание, отголосок, отзвук, отзыв, отклик, писк, плач, разноголосица, резонанс, рев, смех, стон, стрельба, трезвон, треск, трескотня, хохот, шепот, шептание, шум, шипение, эхо и тишина ‘отсутствие звука’ (нулевая репрезентация звука) и др. К ТГ17-Г – относятся и номинации звуков, издаваемых животными, птицами (назовем их условно зоовокализмами): блеяние, брех, вой, воркованье, гавканье, гогот, гоготанье, жужжанье, карканье, кваканье, квохтание, клекот, кряканье, кудахтанье, кукареканье, лай, лаяние, мемеканье, мурлыканье, мычание, покрякивание, ржание, скулеж, стрекот, стрекотание, чириканье, щебет, щебетание и др. Известно, что зоонимические единицы активно метафоризируются в узусе77 [Литвин 1974; Гутман, Литвин и Черемисина 1977; Языковая номинация 1977а: 93–94; Рыжкина 1978, 1980; Куттубаева 1982; и др.]. ТГ17-Д – номинации фрагментов и остатков чего-либо: обломок, обрывок,
осколок, отрывок, развалина и др. Данная подгруппа семантически близка ТГ1-Л “названия побочных продуктов, отходов”, но, в отличие от нее, включает наименования фрагментов естественых природных реалий. ТГ17-Е – номинации “форм” и “частей” воды: брызги, водоворот, волна, капля,
капелька, коловорот, поток, струя и др. ЛСВ ТГ17 образуют огромное количество метафор, и около трети из них
являются реализациями моделей с направлением “Физическое явление > Физическое явление”. Актуальны также направления “Физическое явление > Психическое / Социальное явление / Отвлеченное понятие”. В узусе значительно реже используются номинации явлений природы для обозначения предметов (соты ‘о типе вязки, напоминающем пчелиные соты’, звездочка ‘о шестерне с крупными и редкими зубьями’, паутина железных рам, паутинка ‘ажурное вязанье, вышивка, напоминающие сплетением нитей паутину’, капельки – женские сережки продолговатой формы, молния – о застежке / – о
77 Не менее активны в этом отношении и глаголы, называющие действие, сопровождаемое звуком (крякать, кудахтать, выть, щебетать и др.)
164
телеграмме и др.). Наиболее актуальными МП при метафоризации номинаций явлений природы являются физический звуковой и сочетание “реализационный + субъективно-психологический”. Реже встречаются реализации моделей с другими признаками. Метафоризация номинаций атмосферных явлений (ТГ17-А) чаще всего
осуществляется в направлении “Физическое явление > Физическое явление”, реже – “Физическое явление > Психическое / Социальное явление / Отвлеченное понятие”. Наиболее регулярна метафоризация с МП “реализационный + субъективно-психологический”, “реализационный + динамический + субъективно-психологический”, квантитативный; встречаются метафорические реализации моделей с физическими признаками.
{ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}: оттепель в отношениях, облако грусти, туман печали в глазах; {ФизЯв > ПсЯв/РеалСпДи}: тайные бури в душе ‘о сильном волнении’, буря страстей, вихрь мыслей, , ураган негодования и др.; {ФизЯв > СоцЯв/РеалСп}: ветер перемен в политике, затишье в борьбе на Северном Кавказе, хрущевская оттепель, националистический туман, наводнение рынка товарами и др. Как показывает исторический опыт, массовыми посадками “зайцев” от экономического паводка не спасешь (МК 1998); {ФизЯв > ФизЯв/РеалДиСп}: дождь лепестков яблоневого цвета, дождь снарядов, град выстрелов, ливень трассирующих пуль, лавина людей, ураган событий и др.; {ФизЯв > Отвл/РеалСп}: будущее – это дым ‘о чем-л., существующем в мечтах’, миражи жизни ‘о чем-л. воображаемом’, дымка таинственности и др. Несколько метафор являются реализациями моделей с направлением
“Физическое явление > Предмет”, как правило, это номинации торговых знаков. {ФизЯв > П/РеалСп}: “Буран” – торговый знак пылесосов, “Ветерок” – торговый знак фенов, “Тайфун” – торговый знак пылесосов; {ФизЯв > П/Сп}: зефир ‘легкая ткань’, зефир ‘род пастилы’. Абсолютное большинство метафор, возникших на основе широкого “спектра”
номинаций (ТГ17-Б), связанных со светом, огнем, являются характеристиками психических явлений (в основном психических патиентных состояний) и отвлеченных понятий. Наиболее актуальны сочетания МП “реализационный + субъективно-психологический”, “реляционный + субъективно-психологический”. {ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}: вспышки отчаяния и гордости, искра нежности, мрак гнетущих дум, огонь любви, проблески радости, пламя гнева, жизнь без просветов и др.; {ФизЯв > Отвл/РецСп}: поэтический ореол, отблеск истинного таланта, отсвет воспоминания и др. Как уже отмечалось, язык не располагает обширным “банком” лексем,
обозначающих первичные запахи, но немногочисленные одоративные номинации ТГ17-В активно метафоризируются в узусе по модели
165
{ФизЯв > Отвл/Сп}, называя “характерный, типичный признак чего-л.”: сладкий запах успеха, страдать от дурного запаха собственной совести, веет ароматом высокой образованности, затхлый душок подхалимства и др. [Сидельников 1982: 5] На основе ЛСВ ТГ17-Г (номинаций звуковой стихии) образуются метафоры,
являющиеся реализациями моделей с направлениями “Физическое явление > Физическое / Психическое / Социальное явление” и с физическим звуковым МП или с сочетанием “реализационный + субъективно-психологический”. {ФизЯв > ФизЯв/Фзв}: говор ручья, журчание речи, лепет листьев, лопотание родника, пение ветра, плач дождя, хохот филина, шепот травы, шептание воды в ручье и др. По этой же модели (с факультативными функциональным / реализационным МП) метафоризируются зоовокализмы: довольный гогот купающихся красноармейцев, женское стрекотание, брех пустых людей, воркование матери, жужжание соседки, карканье старухи, квохтанье жены, кудахтанье женщины, веселый щебет детворы, щебетание ручья; Впереди, конечно же, со своими соловьиными трелями функциональные носороги из “министерства правды” (“Завтра” 1998); После “кукареканья” некоторых парламентариев и впрямь не рассвело (“Рос. Вести” 1997). Анализ метафорических реализаций данных моделей показал, что номинации
звуков природы используются примерно в 3 раза чаще для характеристики человеческой речи, чем для обозначения иных естественных природных звуков. Более того, номинации звуков, связанных с одной стихией, используются для характеристики звуков другой: вой ветра, щебетание ручья, аналогично тому, как названия “человеческих” звуков могут служить метафорическими характеристиками звуков, издаваемых предметами: песня водопроводных труб, стоны дверей. В табл. 6 приведена типология направлений метафорических переносов на основе единиц ТГ17-Г с учетом степени актуальности этих направлений. Отметим, что направления “Звук природы > Звук предмета” и “Звук предмета > Звук природы” не имеют реализаций в узусе.
{ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}: по зову сердца, крик души, возбудить в сердце отзывы, пробудить отклик в душе, песня души, шептание совести, тишина на сердце и др. {ФизЯв > СоцЯв/РеалСп}: острое звучание пьесы, крик моды, писк моды, общественный резонанс, поднять шум по поводу выставки и др. Номинации фрагментов и остатков (ТГ17-Д) образуют метафорические
дериваты по моделям с реляционным МП. {ФизЯв > ФизЯв/Рец}: обрывки, отрывки фраз; {ФизЯв > СоцЯв/Рец}: обломок прошлых веков, осколок Москвы XVI столетия, на развалинах старого общества; {ФизЯв > Отвл/Рец}: отрывки жизни – о периодах, остаться среди развалин и обломков былой славы. Метафоризация номинаций воды (ТГ17-Е) представляет собой достаточно
пеструю картину из-за отсутствия единства в МП (представлены модели с
166
формативным, реляционным МП и сочетанием “реляционный + динамический + субъективно-психологический”) и реализации самых разных направлений. {Физ-Яв > ФизЯв/Фф}: волна пламени, волны табачного дыма, капелька румянца, струя дыма и др.; {ФизЯв > ПсЯв/РецКв}: последние брызги остроумия, волна восторга, капля жалости; {ФизЯв > П/РеалКвДи}: поток телеграмм; {ФизЯв > СоцЯв/РеалКвДи}: поток демонстрантов; {ФизЯв > Отвл/РеалДи}: поток сознания; и др.
ТГ18 – номинации природных пространств и их метафоризация Единицы данной ТГ относятся к рельефно-ландшафтной лексике и называют
природные пространства: болото, вулкан, гора, горка, дебри, джунгли, лес, чаща, заросли, недра, оазис, перевал, остров, пик, почва, пропасть, трясина и др. ЛСВ ТГ18 имеют общую с ЛСВ ТГ10 архисему “место, пространство” и поэтому могут быть отнесены также к локативной лексике, однако номинации природных пространств называют естественные географические реалии, обладающие яркими дифференциальными признаками, что позволяет их выделить в отдельную ТГ. В рамках этой ТГ особо выделим подгруппу (ТГ18-А) номинаций водных
пространств: бездна, водопад, каскад, ключ, исток, источник, море, океан, пучина, омут, река, русло и др. 78 Эта подгруппа активный источник для метафоризации, хотя пополняется новыми единицами достаточно редко в узусе, в отличие от разговорной речи [Лукьянова 1986: 128–134; Скляревская 1993], публицистической и художественной речи, например: 3-й съезд движения
“Трудовая Столица” – тот ручеек, который вливается в реку и море народных чаяний, в море народного протеста (“Правда” 1997). В целом на основе номинативных ЛСВ ТГ18 возникает более 70 метафор,
являющихся реализациями моделей с направлениями “Физическое явление > Отвлеченное понятие / Социальное / Физическое / Психическое явление”. Единичны метафорические реализации моделей с направлениями “Физическое явление > Предмет”, например: метафорические характеристики с формативно-квантитативным МП – гора из шуб, салопов, сапог, лес нефтяных вышек, а также номенклатурные номинации торговых знаков фильтров – “Ключ”, “Родник”. Модели метафоризации номинаций природных пространств характеризуются реляционным, квантитативным МП (и их сочетанием), сочетанием “реализационный + субъективно-психологический” МП, намного реже – физическими МП. Перечислим основные модели.
{ФизЯв > Отвл/Рец}: объяснение не имеет под собой почвы, различные наслоения исторических воздействий на деревню, напластования последующих лет, невзрачная оболочка правды и др.; {ФизЯв > Отвл/КвРец}: чаща
78 Мы не включаем сюда единицы ТГ17-Е, поскольку они обладают общей дискретной семантикой и не имеют пространственной семантики, в отличие от метафоризаторов данной подгруппы.
167
теоретических выкладок, бездна премудрости и др.; {ФизЯв > СоцЯв/РеалСп}: бюрократическое, провинциальное болото, жить на вулкане ‘о нестабильной обстановке’, дебри техники, омут опасной жизни, трясина жизни, река жизни и др. 79 ; {ФизЯв > СоцЯв/Рец}: пик состязаний, социальная прослойка, аристократический слой, истоки военной распри, источник повышения доходов и др.; {ФизЯв > ПсЯв/РеалСп}: оазис в темной душе преступника ‘о добрых чувствах, качествах’, омут воспоминаний, уродства и наросты души, злоба ключом бьет в сердце и др.; {ФизЯв > ФизЯв/Рец}: березовый остров в сосновом бору, пик атмосферного давления, источник сырья и др.
ТГ19 – номинации живых организмов и их метафоризация В ТГ19 объединены ЛСВ с интегральной семой “организм”. Это названия
растений (ботаникосемизмы 80 ), грибковых организмов, а также органов (квазисоматизмы) и частей тела (соматизмы). ТГ19-А – ботаникосемизмы: банан, горошина, горошек, гречка, груша, дерево,
куст, луковица, луковка, малина, морковка, перец, поросль, репейник, редька, яблоко и др. Из огромного количества узуальных ботаникосемизмов метафоризируется
лишь незначительная часть, образованные метафоры чаще всего используются как характеристики лица (дуб, осина, роза, сорняк, репейник – о человеке). Для нашего же материала актуальна модель с направлением “Физическое явление Предмет”, с формативным МП. {ФизЯв > П/Фф}: бананы ‘о брюках’, ткань в горошек, груша гудка, старинная луковица ‘о часах’, золотые луковицы собора, луковки Василия Блаженного ‘о куполах’, морковки ‘о брюках’, конь в яблоках и др. Номинации растений используются и для обозначения социальных явлений ({ФизЯв > СоцЯв/Сп}: куст ‘о групповом объединений предприятий, организаций и т. п.’, дворянская поросль, Дума – пустая тыква. (“Завтра” 1995)), реже – для обозначения явлений психического мира, психических патиентных состояний ({ФизЯв > ПсЯв/РеалСп} малина ‘о чем-л. приятном’). ТГ19-Б – номинации грибковых организмов: вирус, гниль, гриб, микроб, плесень,
тина. Данные ЛСВ называют объекты, которые “не соответствуют обыденному представлению о живом” и имеют тенденцию употребляться как неодушевленные [Русская грамматика 1980, I: 463], поэтому мы включили их в нашу классификацию НС. Номинации ТГ19-Б образуют метафоры, являющиеся 79 Вообще аналогия между неустойчивостью существующей ситуации, постоянными изменениями и физическими особенностями воды легла в основу возникновения множества метафор в современных экономических публицистических текстах. Ср.: переток финансовых капиталов; приток средств зарубежных инвесторов; активный процесс вымывания пакета акций. Живые деньги по таким схемам проплывают мимо бюджета немалые; “Вода” в таможенном законодательстве; рубль “поплыл”; и т. д. (примеры из картотеки Т. В. Прокофьевой).
80 См. [Прохорова 1979: 162–166].
168
реализациями моделей с сочетанием МП “реализационный + функциональный + субъективно-психологический”, реже – с формативным МП, характеризуют физические ({ФизЯв > ФизЯв/Фф} ядерный гриб), но чаще всего – социальные явления по модели {ФизЯв > СоцЯв/РеалФуСп}: вирусы аристократического тщеславия / лести, поэт будет задыхаться в атмосфере гнили ‘о чем-л. нездоровом, порочном’, микробы общественной ненависти, тина обывательщины, плесень мещанской пошлости. Ср.: Есть “Советская Россия”,
есть “Завтра”, “Омское время”, есть планктон крохотных, маломощных, оппозиционных газеток; Мондиалистский микроб – канал MTV-Russia; вирус, проникающий в нашу душу, остается за кадром; Прежде чем
консолидироваться вокруг власти, из нее нужно вырвать криминальную чеченскую грибницу (“Завтра” 1997–1999). ТГ19-В – соматизмы и квазисоматизмы – имеют интегральную сему “часть тела
живого организма, орган”81: аорта, артерия, борода, бородка, ветвь, ген, глава, глаз, голова, горло, грива, жало, желудок, жилка, зародыш, зачаток, зерно, кора, корень, костяк, косичка, кулак, крыло, лапа, легкие, лик, лицо, лоно, мозг, нерв, орган, организим, остов, ответвление, палец, пальчик, пасть, перо, перст, почка (растения), плечо, плод, рог, семя, сердце, скелет, скорлупа, тело, темя, ухо, хвост, хребет, чрево и др. К этой же подгруппе относятся названия жидких тканей: желчь ‘жидкость, выделяемая печенью в желудок’, кровь ‘жидкая ткань, которая движется по кровеносным сосудам организма’, сок ‘жидкость, содержащаяся в клетках … организмов’, слеза, слезка. Все эти метафоризаторы называют части тела, “мысленное расчленение и автономность наименования которых послужили причиной образования особого типа семантических связей, так называемые “партонимические группировки слов” [Филлмор 1983: 49]. Исследователи неоднократно отмечали широкое использование соматизмов и
квазисоматизмов при создании в узусе метафорических характеристик социума, отвлеченных понятий, различных артефактов [Шмелев 1977; Языковая номинация 1977а; Lakoff & Johnson 1980a; Уфимцева 1988; Скляревская 1989б; и мн. др.], что позволяет даже говорить о существовании особого “соматического кода культуры”. Условно метафорическим термином “код культуры” описывается “«сетка», которую культура «набрасывает» на окружающий мир, членит, категоризирует, структурирует и оценивает его. Коды культуры соотносятся с древнейшими архетипическими представлениями человека” [Красных 2002: 232]. Считается, что соматический код культуры является самым древним, поскольку человек начал постигать мир с познания самого себя и через осознание себя пришел к описанию мира.
81 К этой группе семантически примыкают ЛСВ, обозначающие повреждения живых
тканей, нарушения соматической целостности: болячка, короста, морщина, рана, ранка, рубец, струпья, царапина, шрам и др.
169
Большинство метафор, возникших на основе номинаций ТГ19-В, являются реализациями моделей с такими направлениями, как “Физическое явление > Предмет / Отвлеченное понятие / Физическое явление”. Наиболее актуальными оказываются физический формативный и реляционный82 (иногда в сочетании с функциональным), а также субъективно-психологический МП. Приведем список самых актуальных моделей. {ФизЯв > П/Фф}: бородка
ключа, косичка ‘вид вязки’, лапы культиватора, палец ‘о детали’, пальчик штекера, перо сохи, плечо зернового конвейера, раковина суфлерской будки, рога якоря, ушко модели, уши котла, хобот экскаватора, челюсть ‘о детали механизма’, шейка пулемета, щеки пресса и др.83; {ФизЯв > П/ФфФу}: аорта области ‘о дороге’, артерия Москвы ‘о Тверской улице’, глаз телескопа, глаза ‘об автомобильных фарах’, желудок паровоза ‘о паровом котле’, кулак ‘о толкающей детали машины’ и др.; {ФизЯв > Отвл/РецФу}: анекдот с бородой, ветвь науки, музыкальный остов оперы, ростки новой морали, скелет идеи, фибры души, физиономия окружающих явлений, оставить хвосты от разных дел ‘о невыполненной части работы’, литературная жилка, зачатки новых отношений, рациональное зерно, нерв современности и др.; {ФизЯв > ФизЯв/Фф}: борода сосулек на фонаре, ветви хребта, узкое горло залива, грива ‘о хороших волосах’, уши разг. ‘о бедрах’, западное плечо Эльбруса, рог ‘о мысе’, длинный хвост дыма, желтая щетина сжатых полей, У Европы два легких (‘о лесах’): Россия и остальная часть. А дышать она может только двумя легкими (“КП” 2002) и др. Декодирование этих метафор облегчается тем, что исторический антропоморфизм или иное уподобление природных явлений и реалий живому организму имеют широчайшее распространение, на их основе сформировалась прочная “система общепринятых ассоциаций”, реализуемая в языке до настоящего времени. Реже соматизмы и квазисоматизмы являются метафоризаторами для
характристики социальных и психических явлений. {ФизЯв > СоцЯв/Рец}: голова демонстрации / эскадры, корень семьи ‘о начальном поколении’, правое крыло полка, левое крыло парламента, семя бунта; Россия обрубила обременяющие ее хвосты – ближнее зарубежье (“Завтра” 2000); {ФизЯв > СоцЯв/РецФу}: Армия выдерживает таранный удар, разжимает клещи, снова кидается в бой (“Завтра” 1998); щупальца иностранного капитала;
82 Перенос наименования осуществляется благодаря сходству положений данного
органа по отношению к другим и “нового” денотата по отношению к системе в целом. 83 Как видим, искусственно создаваемые человеком реалии уподобляются
говорящими естественным организмам, их частям на основе сходства их форм, что и отражается в отборе соответствующих номинаций. Активность данной модели наблюдается во многих языках. Например, в монографии J. Karlheinz [1991], изучавшего технические научные тексты, созданные на протяжении почти двух столетий, отмечается стабильное антропоморфное представление о технических устройствах.
170
мондиалистские клыки (“Завтра” 1997–1999); Клинтон как-то призвал вырвать у России ядерное жало (“Завтра” 1997); {ФизЯв > ПсЯв/РецФу}: зачатки доброй воли, цветок удовольствия, семена тщеславия и суетности, быть в коре грубости; {ФизЯв > ПсЯв/РецСп}: шрам на сердце, рубец на душе, царапина на сердце. Исследователи обращают внимание на активизацию сексуальных метафор (на
основе соответствующих соматизмов) в современном политическом дискурсе, что связано с общей тенденцией к снятию ограничений на использование языковых средств [Чудинов 2001]. В целом, метафоризация сексуальных наименований не оригинальна и осуществляется по представленным выше моделям.
ТГ20 – номинации веществ и их метафоризация В ТГ20 объединены номинации химических соединений и веществ, способные
метафоризироваться в узусе: агат, алмаз, амальгама, бирюза, витамины ‘органические вещества различного химического состава’, гранит, жемчужина84, жемчуг ‘драгоценное перламутровое вещество’, золото, катализатор, лава, медь, металл, серебро, соль, сталь, уголь, хрусталь, рубин, эмаль, янтарь и др. Это довольно разнообразная по составу группа. В основном в нее включаются наименования сложных веществ (искл. – медь, серебро, золото)85, в том числе названия продуктов естественного происхождения, используемых человеком в пищу (мед, молоко) 86 , названия сплавов и веществ искусственного происхождения (амальгама, сталь, фимиам, эссенция)87. Метафоризация номинаций веществ чаще всего осуществляется в трех
направлениях: “Физическое явление > Физическое / Психическое явление / Отвлеченное понятие”, с физическим цветовым, реляционным и субъективно-психологическим МП или их сочетаниями.
{ФизЯв > ФизЯв/Фцв}: серебро в волосах ‘о седине’, уголь волос, янтарь листвы, бирюза неба и др. По этой модели создаются и многочисленные метафорические характеристики внешности человека в художественных и публицистических текстах: медь кожи, мрамор плеч, угольки глаз, синеватая эмаль белков глаз. Сравнение внешних особенностей человека с драгоценными камнями порождает изысканные метафоры с исключительно мелиоративной
84 В эту группу включаются и существительные-сингулятивы. 85 Вероятно, это связано с тем, что простые вещества в природе встречаются редко, а
на уровне обыденного сознания многие сложные соединения воспринимаются как неделимое целое и потому получают однолексемное обозначение.
86 Поскольку это не номинации артефактов, они не могут быть отнесены к ТГ1-Е. 87 На этом основании они должны быть отнесены в нашей классификации к СС1, но
мы предлагаем их рассматривать в составе СС3, поскольку это единственные номинации искусственных веществ, подвергающиеся метафоризации в узусе, они не образуют самостоятельной группы, более того, их системные связи ограничены ТГ20.
171
оценкой: агат глаз, рубин губ, топазы – о глазах, золото волос и т.д. {ФизЯв > ФизЯв/РецСп}: голубое золото ‘о болгарской лаванде’, зеленое золото ‘о травяных пастбищах Австралии’, черное золото ‘о нефти’, мягкое золото ‘о мехах’ и др. Особо высокий статус золота в экономической аксиологической системе способствовал тому, что название этого вещества стало употребляться для характеристики любого ценного продукта или естественной реалии. {ФизЯв > ПсЯв/РецСп}: не сердце, а золото, мед лести и др.; и {ФизЯв > Отвл/РецСп}: алмазы истины, жемчужины русской литературы, эссенция вопросов, фимиам лести и др. Отметим, что номинации веществ редко используются для характеристики
социальных явлений (учение – питательное молоко)88 и предметов: витамины плодородия ‘об удобрениях’, катализатор научно-технического прогресса ‘об электронике’ – {ФизЯв > П/Фу}, известковое / цементное молоко – {ФизЯв > П/Фцв}. Однако в узусе широко распространены метафорические по своей природе наименования торговых знаков (например, парфюмерно-косметическая серия “Черный жемчуг”, магазин “Рубин”, телевизор “Изумруд”, производственное объединение “Алмаз”), созданные на основе номинаций драгоценных камней и призванные рекламировать особую значимость соответствующих товаров в ряду подобных. Данные единицы используются для образования метафор с исключительно мелиоративной оценкой. В целом, в этой группе наиболее активными метафоризаторами являются названия драгоценных камней и металлов.
ТГ21 – номинации временных отрезков и их метафоризация В ТГ21 объединены ЛСВ с семой “время”: названия всех времен года (весна,
лето, осень, зима), частей суток (утро, рассвет, восход, заря, полдень, закат, заход, вечер, ночь, полночь), возрастных градаций (детство, юность, зрелость, старость), социально маркированных временных отрезков (антракт, тайм-аут, цейтнот). Все темпоральные метафорические характеристики являются реализациями
модели {ФизЯв > ФизЯв/Фвр}. В узусе обычно номинации частей суток используются для характеристики сезонов (утро года), этапов человеческой жизни (рассвет печальный жизни бурной, на закате своих дней, на заходе жизни, утро жизни, полдень жизни, полночь жизни, на заре жизни). Человеческий
88 Так, анализируя метафоры “Педагога” Климента Александрийского, С. С. Аверинцев отмечает следующее: “питательность молока, его непорочная белизна, невинность и незлобие вскарливамых им младенцев — все эти представления сливаются в единый образ. Комментарием к этому образу могут служить новозаветные слова: «итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Учение — молоко для тех, кто впитывает его в детской простоте” [Аверинцев 1997: 181].
172
возраст может описываться названиями сезонов: Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни? ‘о поре расцвета, молодости’, лето жизни ‘о поре зрелости’, осень жизни 89 . В целом, номинации ТГ21 постоянно используются для характеристики иных, как правило, более длительных периодов. Неслучайно, названия возрастных градаций используются для характеристики исторических эпох на основе уподобления развития социума развитию человеческого или другого живого организма: детство человечества, старость Англии, зрелость общественного строя, юность африканских стран – {ФизЯв > СоцЯв/РецФвр}. Благодаря общепринятой ассоциации “жизнь – миг в вечности” историческая
эпоха описывается “свернуто”. Названия ограниченных социальными условиями временных отрезков образуют метафоры по той же модели: ужин без антрактов, цейтнот перед экзаменом, тайм-аут в политической борьбе. Возникновение метафор на основе номинативных ЛСВ цейтнот и тайм-аут связано с экспансией спортивной терминологии и возросшей ролью спорта в жизни современного общества [Шмелев 1977: 96]. Итак, в СС3 объединены номинации с гиперсемой “природа”, и практически
все названия природных явлений активно используются при метафоризации. Подобно многим метафорам, возникшим на основе номинаций СС1, данные единицы часто могут иметь и символическую природу, другими словами, они также прошли путь: номинатив-метафоризатор церковнославянская метафора церковнославянский символ русская литературная метафора русская языковая метафора): виноград, восток, гора, гранат, день, древо, звезда, запад, заря, камень, ключ, купина, лоза, месяц, молния, море, небо, нива, ночь, облако, пустыня, река, роса, свет, солнце и др. Объективно существующее “взаимопроникновение” стихий создает
сложности при классифицировании соответствующих номинаций, и нами был предложен свой вариант классификации лексических единиц со значением “природа”, участвующих в узуальной метафоризации. В русском языке метафоризируются номинации большинства атмосферных явлений, а также явлений, связанных со стихией огня, запаха, воды, активно образуют метафоры номинации звука (особенно зоовокализмы), единицы рельефно-ландшафтной лексики. В то же время из огромного количества ботаникосемизмов метафоризируется лишь незначительная часть. Соматизмы, напротив, метафоризируются постоянно и регулярно. Названия искусственных веществ редко образуют метафоры в узусе, и, наоборот, актуальна метафоризация наименований естественных веществ, особенно драгоценных камней и металлов. Метафоризируются все названия времен года, частей суток, возрастных градаций. Единицы СС3 обозначают реалии, существующие объективно и независимо от человека, и метафоризация членов СС3 чаще всего осуществляется в направлении “Физическое явление > Физическое явление”, реже – “Физическое явление > Отвлеченное понятие / Психическое / Социальное явление”, менее всего актуально направление
89 Отметим, что окказионально могут метафоризироваться и названия месяцев:
Апрель жизни (название повести для подростков Г. Прашкевича), январь чувств.
173
“Физическое явление > Предмет”. Наиболее регулярные МП: “реализационный + субъективно-психологический”, а также различные физические признаки.
5. Понятие “метафорическая омонимия”
В результате исследования моделей метафоризации мы обнаружили
интересное явление, условно обозначенное нами как метафорическая омонимия. То, что в результате метафоризации могут возникать омонимы или “пограничные” полисеманты, отмечается исследователями давно 90 , хотя и отсутствует единство во взглядах на омонимию как языковое явление (ср.: “омонимами могут быть признаны лишь такие фонетически совпадающие слова, связь между значениями которых (материализующаяся в общих семантических компонентах) не обнаруживается ни на одном шаге толкования” [Апресян 1995: 116], “слова-омонимы заключают в своих значениях разные понятия, отражающие гетерогенные сущности, между которыми, однако, может существовать внешнее сходство, обусловливающее возможность перенесения имени одного предмета на другой и проявляющееся (как возможность) в общих семантических компонентах” [Чернейко 1997: 227] и относительно компромиссное: “омонимия является отрицанием полисемии, а в семантическом плане варьирования последней – ее пределом” [Новиков 1997: 236]). Ограничившись простым признанием функционирования единиц с обликом гора в сочетаниях типа Алтайские горы, горы недоумений и горы облаков как омонимичного, мы, тем не менее, не раскроем всего богатства остаточных (очень слабых) семантических связей, существовавших изначально между выделенными ЛСВ, поскольку некоторые слова могут порождать и неединичные метафоры. Определенное количество номинативных ЛСВ способно образовывать в узусе значительно большее количество метафорических дериватов, и один и тот же номинативный ЛСВ порождает различные метафоры на основе актуализации разных потенциальных сем (и соответствующих МП). Ср.: пропасть между людьми ‘о расхождениях’ и пропасть мусора; оазис в темной душе преступника и оазис русской культуры за границей; недра дома и в глубочайших недрах памяти; гора из шуб, салопов, сапог и горы недоумений; алмазы истины и алмазы слез; прилив радости и прилив новых людей; молния ‘о телеграмме’ и молния во взгляде. Подобных примеров в нашей картотеке очень много. Их объединяет то, что, имея определенный ЛСВ-основу (пропасть, оазис, недра, алмаз и проч.), они метафоризируются в узусе по разным моделям, и это приводит к существенным расхождениям в семемах соответствующих
90 “Метафора, используемая в номинативных целях, порождает омонимию” [Арутюнова 1979а: 159].
174
метафорических ЛСВ: паутина железных рам ‘о том, что напоминает внешним видом паутину’ – {ФизЯв > П/Фф}, паутина лжи ‘о том, что опутывает, всецело подчиняет себе’ – {ФизЯв > Отвл/ФуСп}. Одна метафорическая номинация называет артефакт, другая – отвлеченное понятие, расхождение в значениях настолько велико, что данную пару метафор мы условно назвали омонимичными метафорическими дериватами91. Известно, что полисемия является одним из основных источников
возникновения омонимии, и очень часто “отнесение различных значений к отдельным словам-омонимам или же их объединение в составе многозначного слова не представляется бесспорным. Разрыв, расхождение значений многозначного слова (т. е. утрата этими значениями общих семантических элементов) может осуществляться постепенно” [Шмелев 1977: 79]. Поэтому вводимый нами термин “метафорическая омонимия” является условным, так как метафорические омонимы имеют общий ЛСВ-основу и общую парадигму. Введение подобного термина связано с необходимостью обозначить такие результаты метафоризации: метафорические омонимы – это метафоры, возникшие на основе одной и той же первичной номинации и являющиеся реализациями различных моделей метафоризации. Соответствующие модели различаются, как правило, сочетанием параметров.
Они могут иметь общие МП, но разные направления (немота тайги {ФизЯв > ФизЯв/РеалСп}, немота властей – {ФизЯв > СоцЯв/РеалСп}), или наоборот, общие направления, но разные МП (соломенные щиты купальни {П > П/ФфФу}, щит управления (‘панель управления’) {П > П/Фф}), разные направления и разные МП (крючки в тетради {П > П/Фф}, крючок в судебном деле {П > СоцЯв/Фу}; философические хитросплетения {П > Отвл/ФфСп}, канцелярские хитросплетения {П > СоцЯв/РеалСп}. Метафорическая омонимия затрагивает почти все тематические объединения
рассматриваемой нами лексики. Как правило, один из метафорических омонимов, возникших на основе первичных номинаций ТГ1, ТГ2, называет артефакт (в результате {П > П/Фф}), а другой – природное (физическое) явление ({ФизЯв > ФизЯв/Фф}): игла Адмиралтейства – иглы инея, нить фонарей – нити дождя, кислородная подушка – воздушная подушка, котелок ‘о шляпе’ – котелок ‘о голове’, чашка шпаги – коленная чашка, колеса ‘о таблетках’ – колеса ‘о глазах’, иероглифы ‘о неразборчивом письме’ – иероглифы следов. Один из метафорических омонимов может называть артефакт, другой –
физическое явление, а третий – отвлеченное понятие или психическое явление: венец сруба {П > П/Фф} – венец вокруг Луны {П > ФизЯв/Фф} – венец творения
91 Об этом см. подробнее [Алешина 1991; Лагута 2003в].
175
{П > Отвл/Рец}; шлейф ‘о сельскохозяйственном орудии’ {П > П/Фф} – шлейф пыли {П > ФизЯв/Фф} – шлейф воспоминаний {П > ПсЯв /РецФуСп}. Регулярно образуют метафорические омонимы номинации места, свойств,
действий, процессов, событий, совокупностей предметов, названия организмов (за исключением номинаций микроорганизмов), веществ, временных отрезков, названия явлений природы (кроме зоовокализмов), единицы рельефно-ландшафтной лексики. Метафорическая омонимия не затрагивает терминологическую лексику, номинации книг, документов, названия занятий, профессий, микроорганизмов и зоовокализмы.
6. Результаты семантического моделирования русской
субстантивной метафоризации Модельное описание метафоризации позволило нам упорядочить
используемую в ономасиологических исследованиях терминологию. Эксплицируемую в языке когнитивную метафоризацию мы рассматриваем как формирование по определенной модели метафорического ЛСВ у лексемы. Подведем итоги данной части работы.
1. Нас интересовало, какие ТГ активно участвуют в метафоризации и какие номинации выбирает говорящий из общего лексического фонда для создания метафорических дериватов. В результате последовательного выполнения классификационных процедур вся выявленная нами лексика, участвующая в узуальной метафоризации, была разбита на три семантические сферы по соотнесенности денотатов, обозначаемых соответствующими номинациями, со сферой человеческой деятельности. Наиболее актуальными источниками для узуальной метафоризации являются номинации СС1 (40,7% от общего количества рассматриваемых нами номинативных ЛСВ), несколько менее актуальными – номинации СС2 (38,1%), еще реже метафоризируются номинации СС3 (21%). Следовательно, в русском узусе чаще метафоризируются названия продуктов человеческой деятельности, нежели номинации природных явлений. Данные выводы не противоречат мнению С. А. Мегентесова о том, что
исходная семантика чаще всего представлена лексикой основного словарного фонда, характеризующего некий минимум наиболее исконных реалий [1994], однако полученные нами результаты (см. табл. 1) несколько не соответствуют выводам, к которым пришла исследовательница абстрактной лексики Л. О. Чернейко. Ср.: “образность, создаваемая абстрактным именем в некоторых случаях переноса, обусловлена четкой очерченностью денотата, предикатом которого является абстрактное имя… В генитивном сочетании типа депрессия экономики информация о прямом субъекте состояния (человеке) представлена, что приводит к определенному олицетворению понятия “экономика”, но
176
представлена имплицитно, что делает образность сочетания ослабленной (?! – На наш взгляд, персонификация уже по самому своему статусу не может снижать образности, если, конечно, не отождествлять образность с “наглядностью”. – О. А.). Иное дело – сочетание абстрактного имени с конкретным, которое приводит к олицетворению (или овеществлению) абстрактного и обусловливает уже не образность, а символику абстрактного. Существует закономерность: чем выше находится имя на шкале “конкретность / абстрактность”, чем более оно умозрительно, тем менее вероятно его образное употребление, создающее переносное значение. Его нет у лишенного наглядности (предметности) и интеллектуальности эмоционально-оценочного имени. Оно отсутствует у метаимен (параметров и категорий, имен-абсолютов). Эти имена не могут быть метафоризаторами. Метафоризируемыми они могут быть только в том случае, если сущность, стоящая за ними, является экзистенциально значимой, переживаемой … Следовательно, чем ниже стоит имя на указанной шкале, тем легче оно метафоризируется при условии, что смысл его экзистенциально значим” [Чернейко 1997: 239]. Нам это высказывание кажется слишком категоричными. Ср.: вселенная духа, судьба изделия, жизнь машины, вес в обществе и др. В то же время многие из тех единиц, которые могли бы быть отнесены к СС3, не становятся метафоризаторами. Однако трудно не согласиться с тем, что “культурные концепты” (антропоцентрические имена) легко метафоризируются, соединяясь с именами дескриптивной семантики” [Там же]. В табл. 1 был приведен список рассмотренных нами ТГ всех СС с данными о количественном наполнении каждой ТГ. В узусе чаще всего метафоризируются номинации артефактов и имена действий, гораздо реже – названия явлений природы, единицы рельефно-ландшафтной лексики, номинации свойств, частей организмов, состояний и т. д. В целом, следует отметить, что, по сравнению с СС1 и СС2, СС3 замкнута, поскольку ее ограничивает сама действительность. Увеличение знаний о природных явлениях, отражаемое в узуальном употреблении соответствующих слов, происходит медленно, немногочисленные метафорические инновации, входящие в узус, довольно редки (духовные гены народа). Рост количественного состава предметно-бытовой лексики в целом опережает рост, например, общественно-политической лексики, исключения мы наблюдаем только в периоды крутой перемены общественного порядка (во время революции, войны, крупной государственной реформы, экономического кризиса) [Шмелев 1977].
2. Нами выделен ряд групп, не участвующих в узуальной метафоризации: мало метафор, возникших на основе терминологической лексики; не могут быть основами для метафор номинации предметов современной одежды, названия предметов мебели; отсутствуют метафоры, возникшие на основе наименований реалий из области киноискусства; не метафоризируются названия современных
177
праздников; мало метафор дают номинации работ, выполняемых субъектом, а также названия профессий, хотя характеристики лиц по роду занятий активно используются в узусе. Из огромного количества ботаникосемизмов и названий искусственных веществ метафоризируются лишь немногие. Таким образом, существуют активные и неактивные пласты лексики с точки
зрения участия их единиц в метафоризации. Природа активности / неактивности лексических единиц в метафорообразовании объясняется экстралингвистическими факторами, в частности общим историко-культурным фоном говорящих.
3. Метафорические омонимы – это метафоры, возникшие на основе одной и той же первичной номинации и являющиеся реализациями различных моделей метафоризации. Метафорическая омонимия затрагивает почти все тематические объединения рассматриваемой нами лексики, что, возможно, связано и со стремлением разума “воспринимать мир не дискретно, как это делает наука, а синтетически, в его единстве” [Скляревская 1993: 53].
4. На наш взгляд, большой научный (этнопсихолингвистический) интерес может представлять сопоставительное исследование в синхронном аспекте тематических классификаций всей метафоризируемой лексики НС, выполненных на материале разных языков таких национальных коллективов, которые стоят на различных ступенях социального развития и имеют или не имеют литературно-письменные традиции. Не менее продуктивным нам видится семантическое моделирование метафоризации, выполненное на ином частеречном материале (например, на адъективном, - так, как это выполнено на русском и итальянском материале слушательницей нашего спецсеминара М. А. Кузьминой). Мы полностью разделяем мнение В. Г. Гака относительно того, что “изучение метафоры в сопоставительно-типологическом плане дает огромный лингвистический материал. Оно позволяет проникнуть в общие закономерности человеческого мышления, выявить типичные ассоциации и вместе с тем определеить специфику каждого языка, отделяющую его от общего и всеобщего” [Метафора в языке и тексте 1988: 48]. Подобное исследование позволило бы выявить специфику общей картины метафоризируемой лексики современного русского литературного языка, ее отличительные черты на фоне других языков.
5. Описание узуальной метафоризации (как языковой экспликации когнитивного механизма) посредством выявления актуальных моделей не просто подтверждает приводимый уже тезис о том, что переносные значения имен существительных характеризуются достаточно четкими системными связями, отражающими остаточную тематическую общность первичных номинаций [Харченко 1985, 1990], но и позволяет рассматривать метафору в одном ряду с прочими идеальными языковыми категориями. В языке многообразие конкретных метафорических реализаций может быть описано ограниченным набором идеальных моделей узуальной метафоризации на том же основании, на каком в синтаксисе многообразие высказываний описывается определенным конечным набором моделей предложений. Модели, по которым образуются метафоры в узусе, представляют собой своеобразные “клишированные” в сознании сочетания признаков-параметров (направлений и МП), закрепленных в
178
языке, реализуемых в конкретных метафорических дериватах и отражающих достаточно стройную картину объективно существующих связей в лексике. Особую значимость результаты структурно-семантического описания
метафоризации НС приобретают в ассоциативно-когнитивных исследованиях. Как уже отмечалось, наше семантическое моделирование соотносится с когнитивным. Его результаты могут быть использованы и в прикладных исследованиях, поскольку “методы прикладной семиотики основаны на глубинных аналогиях между когнитивными системами человека и системами представления знаний в искусственном интеллекте” [Агеев 2002: 179].
179
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕМАНТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЛИНГВОМЕТАФОРОЛОГИИ
Полученные на предыдущем этапе исследования результаты могут применяться в дальнейших теоретических описаниях и на практике. В данной главе будут приведены примеры использования результатов семантического модельного описания метафоризации при ассоциативно-когнитивном и связанном с ним интерпретационном теоретическом изучении метафор, а также в практических лингводидактических и лексикографических исследованиях.
1. Применение результатов семантического моделирования
в ассоциативно-когнитивных исследованиях. Метафорическое “мировидение” русскоговорящих
Основной целью данного параграфа является системное описание
метафорического “мировидения” русскоговорящих. Данное описание “выстраивается” вследствие применения полученных ранее результатов семантического моделирования в когнитивных лингвометафорологических исследованиях. Как известно, суть когнитивного подхода к языковым явлениям состоит в постулировании того, что языковые средства являются в конечном итоге отражением когнитивных структур [Пименова 1999: 12].
Ассоциативно-когнитивные исследования гносеологически связаны с изучением результатов применения метафор в психологических науках, поэтому прежде всего рассмотрим некоторые важные для лингвистики положения психологической метафорологии.
Современные психологи и нейрологи занимаются исследованием 1) того, что представляет метафоризация на психофизиологическом и нейрологическом уровнях [Бойко 1964; Watzlawick, Weakland & Fisch 1974; Лурия 1975, 1979; Billow 1977 – обзор литературы; Metaphor in the History of Psychology 1990; Алексеев 1998а; Кобринский 1998; и др.], 2) как можно использовать метафору в психоаналитической92 [Jones 1950; Aleksandrovicz 1962; Cain & Maupin 1961; Levi-Strauss 1962; Searles 1962; Laffal 1965; Caruth & Ekstein 1966; Ehrenwald 1966; Sharp 1968; Fine, Polio & Simpkinson 1973;
92 Сторонники психоанализа считают, что гипотетической базой метафорического переноса является проявление (вскрытие) прошлых, забытых переживаний, относящихся к психофизической сфере, и постулируют подсознательную основу самого метафорического способа мышления. Огромные клинические материалы, по свидетельству специалистов, подтверждают эту гипотезу.
180
Леви-Стросс 1983; Soyland 1994; и др.] и психотерапевтической практике [Gordon 1978, рус. перевод – 1995; Лэнктон и Лэнктон 1996; и др.]. Достаточно популярным в когнитивистике стало метафорическое объяснение механизмов коммуникативной деятельности, в том числе и метафорогенной, через сравнение правил функционирования естественного интеллекта и искусственного. Термином “компьютерная метафора” описываются исследования, сравнивающие мозг и разум человека с компьютерными программами. Человек наделяется способностями, подобно компьютерным, оперировать системами символов, осуществлять различные операции с ними, обрабатывать и хранить информацию. Эти способности обозначаются соответствующими терминами-метафорами: компьютация (вычисление) и обработка. Сама когниция, с таких позиций, представляет собой компьютационный, или вычислительный, процесс, в ходе которого решаются поставленные перед человеком-“компьютером” задачи, причем осуществление этого процесса достигается в результате интерпретации и реинтерпретации исходных данных. При таком подходе мозг описывается метафорически как своего рода физическая система, для характеристики деятельности которой, как для характеристики функционирования компьютера, прежде всего важная логика операций с символами. Метафора, возникшая в результате сравнения человеческого разума с персональным компьютером, так и остается метафорой, поскольку пока далеко не все когнитивные процессы могут быть воспроизведены на компьютере, а рядом параметров и свойств человек отличается от машины. Более того, компьютер, во всяком случае, в наше время, вообще не может рассматриваться как механическая модель рационального мышления, а операции на компьютере — как соответствующие ментальным операциям в человеческом мозгу. Мышление содержательно, значит, эти операции должны быть связаны с выражением или передачей содержания, но семантический уровень в машине задается ее программистами, кроме того, он связан в машине только с ее “синтаксисом”, семантическим моделированием, задающим все правила комбинаций и интерпретаций знаков (символов). В человеческом мышлении, связанном с языком, все происходит совершенно иначе: “семантика языка не определяется одним синтаксисом, а откуда “приходят” к человеку значения символов, далеко не так ясно” [Кубрякова 1996а: 86]. Такой подход просто обязывает ввести фигуру Первопрограммиста! “Компьютерная метафора” — еще одна великая онтологическая метафора в философии и языке науки, и нельзя не согласиться с Р. М. Фрумкиной, считающей, что “заслуги лингвистов и психолингвистов в области изучения речи в связи с полушарной асимметрией невелики во многом потому, что очень уж несопоставима цена даже скромного психофизиологического результата и шанс его состоятельной
181
лингвистической интерпретации. Почему же лингвисты постоянно испытывают искушение использовать «полушарную» метафору как инструмент объяснения? Иллюзия объяснения здесь создается тем, что сложные процессы, как, например, порождение и понимание слова, якобы объясняются через «простые». «Простым» же в силу своей физиологической, материальной «уловимости» представляется функционирование клеток коры головного мозга. Однако объяснять функционирование психики через физиологию мозга – как раз и значит исповедывать редукционизм, притом весьма примитивный. К мозгу, даже рассматриваемому с точки зрения физиологически регистрируемых функций, не приложим предикат «состоять из» (клеток коры и связей между ними). Не приложим именно потому, что мозг – это сложная система, где специфика целого определяет работу частей. «Состоит из» элементов компьютер, притом вне зависимости от того, сколь сложные функции аппаратно реализованы в каждом из элементов. Если один из них выходит из строя, а элементы с дублирующими функциями в компьютер заранее не заложены, то блокируется работа всего устройства. Человеческий мозг работает принципиально иначе” [Фрумкина 1999]. Современная когнитивистика и когнитивная теория метафор гносеологически
“привязаны” к картезианским научным представлениям. Так, в основе одной из распространенных классификаций ассоциаций (см. обзор В. А. Костеловского [1970]) заложен темпоральный критерий. Если связь между психическими образованиями возникает благодаря их одновременному появлению в сознании, говорят об ассоциации по смежности в пространстве (впоследствии в когнитивистских концепциях пространственные метафоры будут возводиться в статус базисных). Если же связь образуется в результате их появления друг за другом, то говорят об ассоциации по смежности во времени (однако в основе темпоральных метафор лежит тот же пространственный критерий членения действительности). Другая классификация строится на различии содержания психических образований, между которыми устанавливается связь, и содержания членов той ассоциации, которая при этом актуализируется. По этому основанию различают ассоциации по смежности, сходству и контрасту. Результаты исследований P. Watzlawick, S. Lamb, F. Barker,
Т. В. Черниговской, В. Л. Деглина и др. показали, что для понимания метафор ведущую роль играет правое полушарие (отметим, что именно этим объясняется тот феномен, что метафоры, образованные по выявленным нами актуальным моделям, чаще закрепляются в узусе, чем те, что являются реализациями в целом неактуальных для языка моделей (см. наши работы [Алешина 1991; Лагута 2003], а также гл. II данной диссертации). Интересно, что в зависимости от того, какое изолированное в ходе эксперимента
182
полушарие доминирует, по-разному меняется понимание тех или иных метафор. Оказывается, что “иерархия сложности” при нормальном (контрольном) и изолированном функционировании полушарий различна. Обращают на себя внимание метафорические идиомы, их параллели и толкования стальные нервы – стальные рельсы – ‘сильный человек’; он сидит сложа руки – он сидит на стуле – ‘ничего не делать’; все висит на волоске – пальто висит в шкафу – ‘человек находится в опасности’; и особенно лезть в бутылку – лезть в окно – ‘сердиться’, которые в контроле до 90% случаев интерпретировались правильно, правым полушарием – до 70%, а левым – редко или никогда. Очевидна важная роль правого полушария для понимания художественных метафор, но здесь цифры иные: например, эксперимент с метафорой (выплыл серебряный серп), номинативом (вынули стальной серп) и толкованием метафоры (‘взошла луна’) выполнялся правильно на 70% против 50% соответственно правым и обоими полушариями. Как отмечают сами исследователи, использованные ими в эксперименте наборы метафор и идиом, несомненно, требуют тщательного структурного и филологического анализа для объяснения приведенных иерархий сложности [Черниговская и Деглин 2001], которая, на наш взгляд, объясняется еще и тем, что использованные в эксперименте метафоры являлись реализациями разных моделей метафоризации. Результаты данных экспериментов свидетельствуют о том, что правое полушарие действительно знает, помнит метафорические идиомы. “Примечательно, что правое полушарие, как следует из беседы с испытуемыми, часто метафору не понимает (не может интерпретировать устно), но при этом подбирает фразы правильно. Создается впечатление, что оно производит анализ не поэлементно, а в целом, гештальтно, хотя трудно понять, как это возможно. Левое полушарие может вести себя противоположно – больной объясняет метафору в беседе и тут же неверно классифицирует фразы” [Там же]. Правое полушарие является носителем метафорического (архаического, мифологического, “комплексного”) сознания, обязательно участвует в дешифровке метафор, пользуясь при этом не поэлементным, лингвистическим анализом, а целостным, комплексным, гештальтным восприятием. Мы считаем, что это можно считать ответом на тот вопрос, является ли метафора примером образного мышления или лингвистические элементы в ней превалируют. Изолированное левое полушарие, без участия правого, не помнит идиом и, хотя пытается, почти не может дешифровать метафоры, так как для этого одного структурирования недостаточно. Это полушарие ориентировано на восприятие не просто новой, но и рационально поданной информации. То есть мир левого полушария, носителя “научного мышления”, новой информации, формальной логики – иной, нежели мир правого, которое
183
отвечает за метафоризацию [Там же], но за перевод процесса в словесную форму отвечает левое полушарие. Таким образом, метафора-языковой знак находит нейрологическое оправдание своему существованию – это такой же знак, как и любой другой в системе языка, только несколько иной природы, чем, например, прямые номинации. И нейрологические исследования подтверждают, в сущности, объективность результатов нашего структурно-семантического моделирования метафоризации (гл. II).
Представители ассоциативно-когнитивного подхода утверждают, что языковая система существует в сознании носителей языка в виде ассоциативно-вербальной сети (сетки), или ментального лексикона (см., например, обзорную статью “Ментальный лексикон” в “Кратком словаре когнитивных терминов” [1996] или “Ассоциативную грамматику русского языка” Ю. Н. Караулова [1993]), причем структура ассоциативного тезауруса предопределяется культурными, психологическими и социальными факторами, и, несмотря на кажущуюся прихотливость и субъективность ассоциаций, эксперименты подтверждают закономерно обусловленное и предсказуемое разнообразие ответов на стимулы (отдельные слова) [Караулов 1993: 180]. Все эти данные – “косвенное свидетельство в пользу того, что метафорические концепты являются одним из механизмов формирования ассоциативных связей, обусловливая легкость создания и понимания метафорических выражений в нехудожественных формах речи и позволяя во всем сложном многообразии художественных метафор найти матричную понятийную основу” [Толочин 1996: 34–35]. Соответственно, комплексный подход к изучению лексического значения и его понятийного основания позволяет реконструировать соответствующий концепт через его языковое выражение (М. В. Пименова).
Рассмотрим использование результатов семантического моделирования в ассоциативно-когнитивных исследованиях с целью определения базовых концептов, формирующих метафорическое “мировидение” русскоговорящих. Для этого определим основные элементы используемой нами терминологии — охарактеризуем понятия номината (метафоризатора и метафоры), ассоциата, концепта и исходного концепта.
1.1. Понятия ассоциата и концепта В основе метафоризации лежат ассоциации. Закрепленные в семантике слова
ассоциативные компоненты, обязанные своим происхождением нашим знаниям и культурным представлениям о мире и отражающие вторичные признаки денотата, создают условия для нестандартного употребления лексических единиц [Козлова 2000]. Следовательно, метафорика обязательно должна изучаться вне отрыва от общих исследований по ассоциологии.
1.1.1. Ассоциаты и проблема естественной и лингвистической категоризации
184
Как известно, ассоциация представляет собой естественное спонтанное (ментальное) связывание двух явлений, представлений, объектов. Чаще всего ассоциацию схематично описывают в виде бихевиористской цепочки: стимул порождает реакцию (SR), иначе говоря, определенный стимул ассоциируется с определенной ответной реакцией. Само понятие ассоциации легло в основу сетевых моделей разума (используется контейнерная метафора), в организации которого участвует совокупность ассоциатов – информационных файлов, объединяющих обычные концепты и составляющие их номинаты (единицы ментального языка, актуализируемые в сознании говорящего на конкретном этапе речевой коммуникации). Ассоциаты образуются по различным ассоциативным цепочкам: “Часть Целое”, “Целое Часть”, “Общее Специальное”, “Специальное Общее”, “Род Вид”, “Вид Род”, “Понятие Типичный признак”, “Типичный признак Понятие”, “Деятель Действие Результат Последствия” и т. д., при этом возможна и дальнейшая детальная классификация. Способность человека к ассоциациям считается врожденной, но трудно определить, наборы каких ассоциаций являются базисными, а какие развиваются и окончательно формируются в ходе онтогенеза и когнитивного становления. Думается, многие общие вопросы, связанные с изучением ассоциативно-
когнитивных механизмов организации речевой деятельности и языковой системы, естественной и языковой категоризации, могут быть решены, если мы обратимся к собственно языковым данным – к словарю в его полной (а не фрагментарной) текстовой организации. Все интенции говорящего выражаются в речи, другое дело, что определенная информация может в одних языках обязательно дублироваться, а в других – опускаться. Сопоставительное системное описание словарей и грамматик разных языков позволит сделать определенные выводы об организации и формировании если не всей ассоциативной системы человека, то, по крайней мере, того ее участка, который “жестко привязан” к языку. Нетрудно предположить, что определенные модели метафоризации-декодирования и кодирования (аналогичные выявленным нами), регулярно используемые носителями всех языков, скорее всего, имеют универсалогический характер и могут быть отнесены к разряду типических. Существование таких универсалий предопределяется той инвариантностью
когнитивных способностей людей, которая может быть охарактеризована как врожденная, или прототипическая (разграничение врожденности и прототипичности – задача еще более сложная). Метафору тесно связывают с мифом (ср.: “метафора – маленький миф” [Вико 1940]; “миф – развернутое магическое имя” [Лосев 1994]). По мнению Е. М. Мусаевой, метафоры появляются в мифе на том этапе миропонимания, когда “произошел переход от простейших семантических оппозиций, выражающих пространственную
185
ориентацию человека, к их космологическому осмыслению, а также к известной их аксиологизации, т. е. включению в определенную шкалу ценностей” [Мусаева 2000: 112–113].
1.1.2. Концепты
Объектом ассоциативно-когнитивных исследований оказывается достаточно обширный участок метафорики. Изучаются не только метафоры как ментальные структуры, но и их языковые реализации (для описания используется все та же контейнерная метафора). В этом когнитология чрезвычайно близка чистой семантике, разъясняющей смысл человеческих высказываний и имеющей цель “выявить структуру мысли, скрытую за внешней формой языка” (А. Вежбицка). Ассоциативно-когнитивные исследования, таким образом, оказываются тесно связанными со структурно-семантическими. По мнению А. Вежбицка, в сознании каждого человека в качестве необходимой части имеется “семантическая система, т. е. набор элементарных понятий, или “логических атомов”, и правил, по которым эти “атомы” участвуют в построении более сложных комплексов — ментальных предложений, или мыслей. Вежбицка утверждает, что семантическая основа, или lingua mentalis, в отличие от linguae vocales ‘естественных языков’, является универсальной: используя естественный язык, мы в действительности делаем перевод на этот естественный язык с lingua mentalis. Для любого предложения из lingua mentalis можно построить эквивалентное предложение на естественном языке, используя исключительно те элементарные единицы, которые непосредственно сопоставимы с элементами семантической системы, имеющейся в сознании [2001]. Если продолжить логику А. Вежбицка, структурно-семантическое описание метафор разных языков, в свою очередь, может помочь в определении репертуара метафорических по происхождению универсальных концептов.
Концепты — единицы ментального лексикона — возникают в процессе построения информации об объектах и их свойствах, причем эта информация может включать как сведения о реальном положении дел в мире, так и сведения о воображаемых мирах и о возможном положении дел в этих мирах. Это сведения о том, что индивид знает, думает, предполагает, воображает об объектах мира. Для изначальной архаической протомодели мира была “характерна жесткая классификация объектов в соответствии с их принадлежностью к тому или иному полюсу бинарной оппозиции. Первая символическая классификация основывалась на простейшей пространственной и чувственной ориентации человека (верх / низ, левый / правый, близкий / далекий, внутренний / внешний, большой / маленький), которые затем были дополнены соотношениями во
186
временном континууме (день / ночь, зима / лето и др.)93, в социуме (свой / чужой, мужской / женский, старший / младший), а также такой существенной мифологической оппозицией, как сакральное / мирское” [Мусаева 2000: 112]. Данные оппозиции эксплицируются в “мировидении” до сих пор. Иногда концепты отождествляют с бытовыми понятиями. Не вызывает сомнения тот факт, что самые важные концепты “кодируются” именно в языке, причем нередко утверждается, что центральные для человеческой психики концепты отражены в грамматике языков и что именно грамматическая категоризация создает ту концептуальную сетку, тот каркас для распределения всего концептуального материала, который выражен лексически. В грамматике находят отражение те концепты, которые наиболее существенны для данного языка. Наблюдаемая внеязыковая действительность концептуализируется с помощью различных когнитивных метафор, и они формируют отношение человека к миру [Чудинов 2001б]. Заметим, что механизм “трансформации” обобщенного ЛЗ в еще более абстрактное грамматическое значение также может быть охарактеризован как метафорический. Для образования концептуальной системы необходимо предположить
существование некоторых исходных, или первичных, концептов, из которых затем развиваются все остальные. Концепты как интерпретаторы смыслов все время поддаются дальнейшему уточнению и модификациям и представляют собой неанализируемые сущности только в начале своего появления, но затем, оказываясь частью системы, попадают под влияние других концептов и сами видоизменяются (ср. исходный желтый и последующие рапсово-желтый, ванильно-желтый, кукурузно-желтый, лимонно-желтый и т. д.). Число концептов и объем содержания большинства из них постоянно изменяются. По мнению Л. В. Барсалоу, люди постоянно познают новые вещи в этом мире, а мир постоянно меняется, поэтому человеческое знание должно иметь форму, быстро приспосабливаемую к этим изменениям, а основная единица передачи и хранения такого знания – концепт – тоже должна быть достаточно гибкой и подвижной (Цит. по [Кубрякова 1996б]). Оригинальное понимание концепта предложил В. В. Колесов. В статье
“Концепт культуры: образ – понятие – символ” [1992] он дает следующую схему семантического развития слова национального языка.
93 Ср.: “В сознании познающего мир индивида время и пространство предстают как соотносимые явления. Данные физиологии и психологии убедительно показывают, что понятия пространства и времени настолько тесно связаны между собой в сознании человека, что в восприятии пространства мы констатируем элементы времени, а в восприятии времени обнаруживаем элементы пространства” [Попова 2000: 123]. Темпоральность и аспектуальность – результаты метафоризации локуса. Соответствующие поведенческие метафоры фиксируются на уровне жеста, например, мы часто используем жесты, обозначающие время (прошедшее — показываем себе за спину, будущее — показываем вперед).
187
Схема 3 Референт Денотат
Есть Р
Нет Р
Есть Д Логическое “снятие” понятия 2
Психологическое представление образа 1
Нет Д Культурный символ 3
Чистая ментальность концепта 4 0
Референт (Р — предмет), денотат (Д — предметное значение в слове). Цифры 0, 1, 2, 3, 4 обозначают соответствующие этапы развития семантики слова национального языка. По мнению автора, “концепт — исходная точка семантического наполнения
слова (0) и одновременно — конечный предел развития слова (4), тогда как понятие — исторический момент «снятия» с накопленных сознанием образов сущностной характеристики, которая немедленно «сбрасывается» в символы, в свою очередь, служащие для соединения, связи между миром природным (образы) и миром культурным (понятия). Символ как «идейная образность», как образ, прошедший через понятие и сосредоточенный на типичных признаках культуры, как знак знака находится в центре внимания русской философской мысли. Для нее традиционно важны концы и начала, а вовсе не промежуточные точки развития, в том числе и развития мысли, приращения смыслов в слове и т. д. То, что явилось началом в результате развития смыслов слова как знака культуры, становится и его концом – обогащением этимона до концепта современной культуры. Концепт потому и становится реальностью национальной речемысли, образно данной в слове, что существует реально, так же, как существует язык, фонема, морфема и прочие выявленные наукой «ноумены» плана содержания, жизненно необходимые всякой культуре. Концепт есть то, что не подлежит изменениям в семантике словесного знака, что, напротив, диктует говорящим на данном языке, определяя их выбор, направляет их мысль, создавая потенциальные возможности языка-речи” [Колесов 1992] (см. также работы [Филлмор 1983; Радзиевская 1991; Фрумкина 1992; Лихачев 1993; Лукин 1993; Голикова 1996; Лисицын 1996; Бабушкин 1996; Степанов 1997; и мн. др.]). Мы считаем, что сам концепт, метафорический по своей природе, соотносится
со всеми прочими концептами, как любой неметафорический. На концептуальном уровне метафоричность снимается сразу же после того, как заканчивается формирование концепта. Процесс формирования может быть метафорическим, один из результатов процесса — метафора в языке — может сохранять свойства так называемой “категориальной ошибки”, но метафорический концепт существует до тех пор, пока идет его формирование. В
188
этом отношении “базовые когнитивные метафоры”, примеры которых будут приведены ниже, – не метафоры: процесс их образования – метафоричен, как метафоричны все действия, реализуемые по задаваемым ими образцам, но сами “базовые когнитивные метафоры” не могут быть метафоричными. Метафорична не сущность концепта, а его феномен. Кроме того, концепт не может быть “однопараметровым”, в однопараметровом варианте это, скорее, ментальная схема.
1.2. Метафоризация как объект когнитивистики Исследования метафоризации как когнитивного механизма во многом связаны
с работами логика М. Блэка, предпринявшего попытку обобщить все существующие взгляды на метафору. В 1962 г. М. Блэк (позднее его классификация была принята советскими лингвистами и философами [Петров 1988; Телия 1988а, 1988б; Арутюнова 1990а; и др.]) фактически утвердил за метафорой “звание” одного из центральных объектов лингвистической философии. В качестве основных концепций метафоры Блэк выделил субституциональную (a substitution view of metaphor), сравнительную (a comparison view) и интеракционистскую. Субституциональная концепция фактически эквивалентна интерпретационной. Сравнительная концепция, как уже отмечалось, восходит к Аристотелю. Основной ее постулат: в основе метафоры лежит сходство или аналогия (пропорция), другими словами, “значение метафорического выражения есть не что иное, как трансформация его буквального смысла”, и “автор выражает не тот смысл m, который он имеет в виду, а некоторую функцию от него, f(m); в задачу читателя входит применить обратную функцию f–1, чтобы достичь f–1(f(m)), т. е. m, или буквального значения высказывания… Естественно, возникает вопрос о характере трансформирующей функции метафоры, в качестве которой обычно называют аналогию или сходство, т. е. считают, что выражение M по значению аналогично своему буквальному эквиваленту L или сходно с ним” [Блэк 1990: 160–161]. Сравнительная концепция развивалась Д. Дэвидсоном [1990], сторонником “асемантичного подхода” (no-semantic approach), и Дж. А. Миллером [1990]. А сам Блэк придерживался интеракционистской точки зрения (an interaction view), или “теории взаимодействия” (см. [Ричардс 1990]). Анализируя выражение The poor are the negroes of Europe ‘Бедняки – это негры Европы’, Блэк отмечает, что “наши мысли о европейских бедняках и американских неграх «взаимодействуют» (interact) и «проникают» друг в друга”, чтобы в результате породить новый смысл…; в данном контексте фокусное слово негры приобретает новое значение, о котором нельзя сказать, ни что оно полностью совпадает со своим буквальным значением, ни что оно равно буквальному значению любого другого слова, допустимого данным контекстом. Новый контекст («рамка» метафоры) вызывает расширение значения фокусного слова” [1990: 163].
189
Кроме рассмотренных выше теорий, в науке известны концепция языковых оппозиций, сформулированная еще Аристотелем [Бирдсли 1990] и “концепция иконической сигнификации” (П. Хенли. Цит. по [Бирдсли 1990]). Метафоризация в своей основе представляет когнитивный процесс, который,
как бы ни хотели того противники придания метафоре онтологического статуса, выражает и формирует новые понятия, а потому делает возможным получение новых представлений, а иногда – и нового знания. “Мысль образна: концепты, не прямо основанные на опыте, используют метафору…, что уходит далеко за рамки зеркального отражения, или репрезентирования, внешней реальности” [Демьянков и Кубрякова 1996: 57]. С когнитивистской точки зрения, “метафора обычно относится …. к сложным мыслительным пространствам – областям чувственного или социального опыта. В процессах познания эти непосредственно не наблюдаемые мыслительные пространства соотносятся через метафору с более простыми или с конкретно наблюдаемыми мыслительными пространствами (например, человеческие эмоции сравниваются с огнем, сферы экономики и политики – с играми или спортивными соревнованиями и т. д.)… При этом одно и то же мыслительное пространство может быть представлено посредством одной или нескольких концептуальных метафор” [Лузина 1996: 55]. Типология базовых когнитивных метафор, порождающих массу частных
метафор и находящих свое выражение в конкретном языковом (чаще английском) материале, разрабатывалась в трудах [Metaphor and Thought 1979; Lakoff & Johnson 1980a, 1980b; Lakoff 1987a, 1987b; Langacker 1991; и др.], но у этой типологии нет единого классификационного критерия, поэтому большой материал остается за ее границами. Выделяются, в частности, следующие типы метафор: 1) structural – структурные, концептуализирующие отдельные области путем переноса на них структурной организации других областей (например, одно понятие упорядочивается в терминах другого: любовь / жизнь– это путешествие); 2) ontological – онтологические, категоризующие абстрактные сущности путем очерчивания их границ в пространстве: прошлое – позади, будущее – впереди; 3) conduit – сопровождающие – представляют процесс коммуникации как движение смыслов, наполняющих языковые выражения, по каналу, связывающему говорящего и слушающего: communication is transfer; changes are movements of objects; 4) orientational – ориентационные, связывающие непространственную концептуализацию с пространственной94 (так, с понятиями
94 Например, ориентационные метафоры more is up, less is down. На их основе
построено образование английских фразовых глаголов со значением соединения: pair up, connect up, add up, count up, gather up и т. д. Но часто языковые связи оказываются более сложными, чем это можно представить, анализируя ориентационные метафоры. Данным глаголам не составляют оппозицию фразовые глаголы с послелогом down. “Здесь явно присутствует сема “завершенность действия”, т. е. достижения цели. Эта же сема присутствует у многих других фразовых глаголов с послелогом up (end up, finish up,
190
“верх” и “низ”, например, у нас ассоциируются два ряда противоположных по своему значению представлений: “верх” – счастье, сознание, здоровье, власть, добродетель; “низ” – грусть, бессознательность, болезнь, подчинение, греховность [Мусаева 2000]); 5) container – контейнерные, представляющие смыслы как наполнение конкретных языковых единиц: the body is a container for emotions; the mind is a container for objects; 6) blockbuilding – строительные, описывающих смыслы макролингвистических объектов состоящими из “блоков” более мелких смыслов.
1.3. Ассоциативно-когнитивный анализ результатов
структурно-семантического описания русских субстантивных метафор
Исследователями (М. В. Пименовой и др.) уже отмечался тот факт, что
когнитивный подход к изучению семантики слова заключается в анализе самого значения слова (в терминах лексической семантики: ономасиология тесно связана с результатами семасиологических исследований, и наоборот). Анализ нашего материала позволил сделать следующие выводы. Метафоризация представляет собой сложное, упорядоченное, не хаотично-стихийное, когнитивное явление, и картина узуальной метафоризации вполне может быть описана двухпараметровыми семантическими моделями, включающими 1) мотивирующие перенос наименования признаки и 2) направления, или типы метафорического переноса 95 . Подобные модели выражают ассоциативные приоритеты русскоговорящих, закрепленные в языке. Индивидуальные, окказиональные метафоры исследуемого разряда образуются по тем же моделям, что и узуальные, и значительно реже, как показывают наши наблюдения, — по неузуальным моделям. В результате анализа направлений метафоризации была выявлена интересная
закономерность: метафорическая лексика, называющая “создаваемые” субъектом реалии — артефакты, явления в социуме, психические состояния — по объему лексических единиц приблизительно равна метафорической лексике, связанной с обозначением природных явлений и отвлеченных понятий (57,4% и 42,6% соответственно). Чаще всего метафорические дериваты характеризуют явления в
make up, split up), и им также не образуют оппозицию фразовые глаголы с послелогом down” [Богданова 2000: 19]. Ориентация по вертикали лежит в основе целого ряда базовых метафор, характеризующих состояние депрессии и эмоционального подъема (см.: be down in the mouth, down in the dumps, be at a low ebb, high spirit) [Литвиненко 2000].
95 Гипотетически, при изучении синтаксической позиции метафорического деривата в тексте, предложении, мы можем ввести и третий параметр – функциональный, картина метафоризации будет описана более полно, но это уже другой аспект исследования
191
социуме (28%), физические явления (23,4%), отвлеченные понятия (19,3%), психические явления (17,9%), реже — артефакты (10,6%). Метафоры, являющиеся реализациями наиболее актуальных моделей, легко
воспроизводятся в узусе и могут переходить в разряд языковых. Мы вполне допускаем, что выделенные модели определенным образом соотносятся в большей степени с левополушарной деятельностью головного мозга (если привлечь во внимание результаты экспериментов Т.В. Черниговской и ее коллег), тогда как само метафорообразование связано с правополушарной деятельностью. Группы метафор, явившиеся реализациями определенных актуальных моделей, постоянно расширяют свой объем. Исходя из того, что ЛЗ слова эксплицируется в словарной дефиниции и семная
организация ЛЗ отражает объективно присущие денотату признаки, мы выявили набор признаков, мотивирующих перенос наименования, используя выверенный каталог метаимен. Приведенные МП и их сочетания характерны для ~87% всех моделей метафоризации НС. Наиболее актуальны для русской субстантивной метафоризации реализационный, реляционный и физические МП. Количество основных моделей русской субстантивной метафоризации
ограничено ~35. Каждая из них имеет в узусе более 10 метафорических реализаций, и ими может быть описано ~70% всех рассмотренных нами метафор. В приведенной выше табл. 4 эти модели были даны с указанием количества метафорических реализаций и тематической принадлежности метафоризаторов. Прежде чем приступить к когнитивному описанию нашего материала,
уточним следующие термины: ассоциат, концепт и номинат. Номинаты — это ментальные аналоги метафоризаторов и метафор как
готовых языковых знаков. Многие единицы становятся потенциальными номинатами-метафоризаторами, если они выражаются в языке членами рассмотренных выше ТГ. Отношения между номинатами-метафоризаторами и номинатами-метафорами определяются направлениями метафоризации, а сами направления ассоциативны и всегда сопровождаются выбором определенного/определенных МП. Онтологически независимые направления и МП образуют ассоциаты, которые
могут быть формально описаны, например, с помощью двухпараметровых моделей. Иначе говоря, данные модели вполне можно считать внешними (формализованными) экспликациями ментальных ассоциатов. Сосуществование в сознании говорящего ассоциатов и номинатов как самостоятельных онтологических сущностей позволяет объяснить процессы метафорообразования и декодирования метафор. В каждом конкретном случае взаимодействие номината-метафоры и ассоциата приводит к декодированию метафоры и включению носителем языка “чужого” декодированного метафорического концепта в “свой” ментальный лексикон, а соединение номината-метафоризатора
192
и ассоциата приводит к формированию нового собственного концепта и метафоры.
Все ассоциаты и номинаты образуют сложноорганизованную систему, особый ментальный, метафорический по происхождению, “мир”, основы которого могут быть описаны базовыми концептами (“внутренний человек”, “внешний человек”, “природный человек” и “предметный человек”) и который мы можем определять только благодаря структурно-семантическому описанию эксплицируемых метафор. Как и во всех когнитивных метаописаниях, в нашей работе используются контейнерные метафоры.
1.4. Метафорическое “мировидение” русскоговорящих Антропоморфность — наиболее яркое свойство ментальности и языка, и
“телесные метафоры” [Апресян и Апресян 1993] формируют наше “мировидение”. Отметим изначальный мировоззренчески ненейтральный характер понятия антропоморфизма, пришедшего из библеистики, но утратившего свой первоначальное толкование. Так, утверждение приоритетности религиозной формы человеческого опыта позволяет по-другому рассматривать цель и основы человеческой коммуникации, всю языковую семантику. Еще К. С. Аксаков заметил, что “материалист думает, что человек ничего не изобрел, но все получил извне, что он копирует только природу; а я думаю, напротив, что человек все развивает из себя и все внешние впечатления подчиняет тому образцу, который лежит во глубине его духа. Правда, природа внешняя дает иногда толчок его развивающей силе, наводит его на мысль, но развивает и мыслит сам человек, а внешняя природа есть, так сказать, только предлог для постепенного развития всех духовных его сил” [Цит. по Безлепкин 2002: 114—115]. Идеалистическое мировоззрение может предложить первичный теоморфмизм и вторичные демономорфизм и антропоморфизм в качестве базовых семантикоорганизующих категорий, и тогда “когнитивные” и “языковые картины мира” как теоретические объекты будут “выглядеть” совершенно иначе. Если учесть, что метафорическое “мировидение” русских формировалось не только в ХХ в., то абсолютизация антропоцентрического подхода не представляется целесообразной. Например, Анна А. Зализняк рассматривает метафоры типа страх — хищный зверь, совесть — маленький грызун и т. п. и считает, что каждый из этих образов — “материализация” какого-либо из свойств, приписываемых тоске, страху, совести. “Так, представление о том, что совесть — это «маленький грызун», восстанавливаемое на основании сочетаний с глаголами грызть, кусать, царапать, вонзать зубы; угрызения совести (идея «маленький», по-видимому возникает из-за того, что совесть в этих контекстах мыслится как находящаяся внутри человека), отражает свойство совести доставлять определенного рода неприятные ощущения. Какого именно рода — только через
193
сравнение и можно описать: как будто тебя кусает или царапает маленький зверек” [Зализняк 2000: 85—86]. Скорее, здесь используются не биоморфные, а традиционные демономорфные бестиарные метафорические символы, описывающие больную совесть, больную душу и т. д. Ср.: Совесть без зубов, а загрызет (пословица); Когда благодать не живет в человеке, бесы гнездятся во
глубинах сердца, как настоящие змеи, и не позволяют совершенно душе прозреть к желанию добра (Св. Диадох, цит. по [Архиеп. Василий (Кривошеин) 2001: 495]). Изначально совесть рассматривалась как божественный дар, ср.: Когда Бог
сотворил человека, Он всеял в него нечто Божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе, подобно искре, и свет, и теплоту; помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое,-- сие называется совестию, а она есть естественный закон. Это те кладязи, которые, как толкуют Святые Отцы, искапывал Исаак, а филисти мляне засыпали (Быт. 26). Последуя сему закону, то есть совести, Патриархи и все Святые, прежде написанного закона, угодили Богу. Но когда люди, чрез грехопадение, зарыли и попрали ее, тогда сделался нужен закон написанный, стали нужны святые Пророки, нужно сделалось само пришествие Владыки нашего Иисуса Христа, чтобы открыть и воздвигнуть ее (совесть); чтобы засыпанную оную искру снова возжечь хранением святых Его заповедей [Душеполезные поучения 1994: 49]. Антропоморфизм проявился в описаниях Бога, но, с идеалистическоких позиций, это предопределило неполноту таких описаний, например, “о душе самого Бога говорится в следующих текстах: И отвратится душа Моя от них, как и их душа отвращается от Меня (Зах. 11, 8). Не потерпела душа Его страдания Израилева (Суд. 10, 16). Любящего насилие ненавидит душа Его (Пс. 10, 5). Но, конечно, это не метафора. Нельзя говорить о душе Духа абсолютно, как о душе человека, духа ограниченного и воплощенного. Здесь речь может идти только об аналогии с духом человеческим, по которой мы приписываем Богу ум, мышление, волю и чувства. Так понимаем мы и образ Божий в человеке”[Архиеп. Лука Войно-Ясенецкий 1997: 80]96.
Антропоморфность не представляет собой единого качества (ср. возможные интерпретации высказываний типа человек есть человек), она дуалистична и дискретна, объединяет свойства “человека телесного” и “человека духовного, душевного”, всегда противопоставленных друг другу.
Антропоморфность — ограничительное свойство, хотя человека метафорически рассматривают как микрокосм, тесно связанный с
96 В связи с этим вызывает сомнение утверждение о том, что концепт “совесть” никак не связан с современными религиозными представлениями [Пименова 1999: 18].
194
макрокосмосом97. Анализ всего нашего материала показал, что метафорический “мир” русскоговорящих “населяют”: 1) “внутренний человек”, 2) “внешний человек”; 3) “природный человек” и 4) “предметный человек” со своими “внешними” и “внутренними” собратьями. Подобное персонифицированное “многолюдье” уравновешивается результатами метафорического “опредмечивания” элементов действительности. Данные исходные концепты можно охарактеризовать как метафорические, но, как уже отмечалось, их метафоричность выражается в процессе их формирования. Для носителей языка реальность обычного человека и, например, “внутреннего”, одинаково объективна, поэтому имеет смысл вводить определение “метафорический” только в случаях описания истории возникновения данных единиц.
Организация ассоциатов в сознании описана при помощи приведенных выше моделей, например, моделями {ФизЯв>Отвл/РецСП}, {ФизЯв>ПсЯв/РецСП}, {ФизЯв>СоцЯв/РецСП}, {ФизЯв>ФизЯв/РецСП}, {ФизЯв>П/РецСП} описаны этапы “жизни” всех “жителей” метафорического мира: рождение мысли, жизнь идеи, зрелость мысли бесплодность мысли, смерть идей, восресение старых идей, зарождение/рождение чувства, желания зачатки воли, богатая духовная жизнь, смерть/гибель чувства, мысли, желания, воли, воскресение желания у “внутреннего человека”; рождение партии, зарождение, жизнь общественного движения, бесплодность общественных усилий, политическая смерть, гибель, политическое воскрешение у “внешнего человека”; зарождение урагана, гибель (‘исчезновение’) озера после взрыва моря у “природного человека”; рождение изделия, гибель вазы у “предметного человека”; моделями {СоцЯв>Отвл/РеалСП}, {СоцЯв>ПсЯв/РеалСП}, {СоцЯв>СоцЯв/РеалСП}, {СоцЯв>ФизЯв/РеалСП}, {СоцЯв>П/РеалСП} описываются некоторые действия, совершаемые “жителями” метафорического мира, и состояния, возникающие у реальных людей: в плену старых предрассудков, идей, богатство мысли, нищета воображения, душа полна одиночества, сиротства и тоски, душевная казнь, каторга школьной зубрежки, тяжелая повинность ходить в гости (все это мы испытываем благодаря существованию “внутреннего человека”), социальное сиротство (“внешний человек”), в плену у пустыни, природные богатства (“природный человек”), в плену вещей (“предметный человек”) и т. д. В языке экспликации номинатов способствуют возникновению того явления, которое мы охарактеризовали как метафорическая омонимия.
Рассмотрим исходные концепты подробнее. 97 Пожалуй, можно рассматривать как еще одну научную (“микрокосмическую”) метафору представления нейрологов (Т. Лири, Н. П. Бехтеревой) о том, что нервные центры — миниатюрные копии звезд, вокруг которых вращаются “планеты” — отдельные группы клеток, а мозг — интегральная модель вселенной. Ср. также: “Вторая вселенная. Мозг человека. <…> ему <хирургу> подвластны тайны человеческого мозга, который называют «второй вселенной»” [Новиков 2000: 40].
195
1.4.1. Метафорический облик русского “внутреннего человека”
(метафорические концепты и метафоры души и духа)
Метафоры, описывающие внутренний мир человека — его психическое состояние (17,9%), и отвлеченные понятия (19,3%) как “продукты” ментальной деятельности, формируют самую объемную группу. И это закономерно, так как основная (личностная) жизнь современного человека проходит не в социуме, а “внутри себя” (Ю. И. Левин, Е. А. Пименов, М. В. Пименова и др.).
Следует отметить, что современное русское метафорическое мировидение души и духа возникло под влиянием нескольких источников98. Во-первых, на его формирование во всей полноте, в какой только может
воздействовать на сознание сакральный текст, повлияли церковнославянские переводы раннехристианских святоотеческих трудов, прежде всего, “Лествицы” Иоанна, игумена Синайской горы, а также “Душеполезных поучений” аввы Дорофея, переводы писаний Антония Великого, Пахомия Великого, Нила Синайского, Симеона Нового Богослова, Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Климента Александрийского и многих других отцов Церкви, развивавших в рамках сотериологической культуры христианское учение о душе. По этому учению, наблюдалось последовательное противопоставление страстей и грехов как душевных “результатов” и телесных “процессов”, ср.: Иное суть страсти, и
иное грехи. Страсти суть: гнев, тщеславие, сластолюбие, ненависть, злая похоть и т. п. Грехи же суть самыя действия страстей, когда кто приводит их в исполнение на деле, т. е. совершает телом те дела, к которым побуждают его страсти; ибо можно иметь страсти, но не действовать по ним [Душеполезные поучения 1994: 23], (позднее Иоанн Кронштадтский выразит основное положение этого учения кратко так: “Человек — малый мир. Как душа в теле, так Бог в мире” [Св. Иоанн Кронштадтский 2000: 71]). Доступное богатство метафорического и символического языка таких текстов поразительно, поэтому, когда впоследствии отрывки из них многократно воспроизводились в проповедях (“словах”), написанных по-церковнославянски, это облегчало закрепление соответствующих метафор и символов в русском узусе более позднего времени, в период формирования русского литературного языка. Приведем несколько примеров. Так, представление о грехе реализуется в следующих метафорах и метафорических по происхождению символах: 1) опредмеченно: памятозлобие – гвоздь, вонзенный в душу, многоглаголание есть дверь злословия, безболезненность души — дверь отчаяния и сеть усердию, 98 Мы не останавливаемся подробно на мифологической протосимволике понятий души и духа, об этом см. [Маковский 1996а: 142—143]. Протосимволические мотивации, по нашим наблюдениям, не находят системного отражения в исследуемом нами материале.
196
гордость есть бесовское изобретение и дверь лицемерия, кроткая душа — престол простоты, кротость — узда неистовству, ковчег смирения; 2) антропоморфно: покаяние есть дщерь надежды, сребролюбие есть дщерь неверия и предвозвестник голода, трапеза без внимания есть матерь дерзости, многоглаголание есть слуга лжи, благоразумное молчание есть страж помыслов, друг слез, живописатель вечного мучения, враг дерзости, супруг безмолвия и соглядатай врагов, чревоугодие есть изобретатель приправ, насыщение есть мать блуда, гордость — матерь осуждения и исчадие похвал; 3) биоморфно: гордость — корень хулы, гроздь смирения, памятозлобие — червь ума, злословие есть большая сокровенная и таящаяся пиявица, которая высасывает и истребляет кровь любви; змий сладострастия и т. д. [Лествица 1998]. Во-вторых, на метафорическое мировидение русских оказало влияние
рационалистическое, а позднее – идеалистико-романтическое мировоззрение западноевропейских философов и писателей эпохи Просвещения и последующих периодов. Новый эвдемонический тип современной культуры постепенно вытеснял сотериологический, поэтому одни и те же метафоры декодировались по-разному (ср.: непрестанно борись с парением твоих мыслей, и когда ум рассеялся, собирай его к себе [Лествица 1998: 60] ‘отсутствие сосредоточенности’ и парение ‘романтическая приподнятость (в поэзии, мыслях, чувствах и т. п.)’).
Интересно, что для характеристики всех граней внутреннего (психического, духовного, душевного, ментального) миров99 человека регулярно используются номинации физических явлений (кстати, сами понятия “психический мир” и “ментальный мир” также являются результатами “контейнерного” метафорообразования). По нашим данным, дух чаще всего описывается теоморфными и демономорфными метафорами, а душа и совесть — предметными, антропоморфными или бестиарными метафорическими единицами.
Как уже отмечалось, наиболее актуальной оказалась модель {ФизЯв>ПсЯв/РеалСП}, другими словами, номинации физических явлений регулярно используются для характеристики всех граней внутреннего (психического, духовного, душевного, ментального) миров человека, и, кстати, сами понятия “психический мир” и т. п. также является метафоричными. Метафорогенная деятельность человека направлена на него самого, но не на его физическую “составляющую” — “телесного человека” (здесь мы сами используем метафору “человек — собрание, система компонентов”), а на психическую. Триада “Дух — душа — тело” живет практически по одним
99 В принципе, возможен дополнительный анализ того, какими метафорами
описываются Дух, душа, мыслительная деятельность и т. д. (см. об этом в исследованиях М. К. Голованивской, Е. А. Пименова, М. В. Пименовой и мн. др.).
197
метафорическим законам. Все возможные проявления физического мира (отраженные нами в детальной классификации метафоризаторов) чаще всего используются для описания и постижения мира психического, и наши современные представления о психическом мире настолько глубоко “физичны”, что, как уже отмечалось, даже в специальных науках об этом мире используются “физические” термины. В соответствии с ранними представлениями, телесный человек — полый сосуд (божественный “артефакт”!), имеющий внутреннее содержание, наполнение, или дух и душу, ментальный и психический “миры”, и эти “миры” формируют “внутреннего человека”.100
Ментальный и психический миры и их составляющие (еще одна контейнерная метафора!) представлялись русскоговорящими как самостоятельные организмы, которые могут “зарождаться”, “жить”, давая или не давая жизни “другим”, “умирать” ({ФизЯв>ПсЯв/Рец}, {ФизЯв>Отвл/Рец}): зарождение/рождение чувства, мысли, желания, зачатки воли, богатая духовная жизнь, бесплодность мысли, зрелость мысли ‘о высокой степени развития’, духовный рост, смерть/гибель чувства, мысли, желания, воли, надежды, души, также используются метафорические синонимы по отношению к объектам физического мира утрата, потеря) и “воскресать” (воскресение — о внутреннем обновлении), иначе говоря, в данных метафорах выражено христианское понимание духовной жизни. Таким образом, “внутренний человек” мог быть старым и молодым, и это никак не было связано с календарным возрастом его “хозяина” (старость души, молодость души, дряхлость духа, ср. также: боязливость есть младенческий нрав в старой тщеславной душе [Лествица 1998: 148]).
“Внутренний человек” также мог быть здоровым (здоровье духа, души), а мог и “болеть” (для сильных отклонений от норм физического и психического состояний в языке используется одна номинация — болезнь, хотя психические и соматические болезни чаще имеют разную природу), например, {ФизЯв>ПсЯв/РеалСП} столбняк ‘об оцепенении от сильного душевного потрясения’, нравственное уродство, немота совести, нравственные вывихи, атрофия воли, тошнота от мечтаний и многие др., но его можно “лечить”. “Внутренний человек” имел глаза (духовные очи, сердечное око), он мог потерять
100 Мы используем эту метафору не в новозаветном смысле (ср.: если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется (2 Кор. 4, 16), но современный языковой материал неожиданно подтверждает и такое понимание. Само понятие “внутренний человек” имеет долгую историю (от артефактной “внутренней статуи” Плотина и святоотеческого “внутреннего человека” Епифания до современных конфессиональных и даже естественно-научных представлений). Термин “внешний человек” используется иногда в другом значении — как синоним термина “внешний облика человека” (подробнее см. диссертацию О. В. Коротун “Образ-концепт «Внешний человек» в русской языковой картине мира” [2002]).
198
зрение, стать слепым (духовная незрячесть, слепота). Исцеление души совершали духовные же врачи с помощью огромного набора целительных средств-слов101, а также советами молиться, поститься, соблюдать заповеди, ср.:
врач душ есть Христос, Который все знает и против каждой страсти подает приличное врачество: так, против тщеславия дал Он заповеди о смиренномудрии, против сластолюбия — заповеди о милостыне, и, одним словом, каждая страсть имеет врачеством соответствующую ей заповедь [Душеполезные поучения 1994: 124—125]. С сотериологических позиций, возможны и необходимы некоторые полезные болезни души, ср.: Истинное
умиление есть болезнование души, которая не возносится и не дает себе никакого утешения, но ежечасно воображает только исход свой из сего мира… и от Бога… ожидает утешения [Лествица 1998: 90]. Кроме того, безболезненность, т. е. нечувствие, омертвение души — нерадение, оцепенение мысли [Там же: 142].
Идеальное физическое состояние для “внутреннего человека” — тишина сердечная, душевный покой, например, незлобие есть тихое устроение души, свободной от всякого ухищрения [Там же: 165]. Сотериологическое мировоззрение придавало изначально физическим тишине и покою (миру) первостепенную важность. Для осуществления ежедневного молитвенного правила необходима тишина чувств, начальником тишины называют Христа (Канон молебный к Богородице), для организации общественной жизни у Господа испрашивают даровать тихое и безмятежное житие.
Целью всей духовной практики христианина становилось стремление максимально приблизить “внутреннего человека” к образу Христа, и этот “внутренний человек”, как и реальный, избирал свои пути (ср.: Истинные
христиане в мире сем живут так, как путники, странники и пришельцы, и всегда Небесному отечеству верою и душевными очами взирают и тое достигнуть тщатся [Св. Тихон Задонский 1998: 26]). Библейскими символами “узкого и пространного пути” описывались не только этические, но и
101 См., например, функциональные и др. медицинские метафоры: 1) пластырь есть врачество на страсти видимые, или телесные; а приемы лекарства внутрь — врачество противу страстей внутренних, и очищение от невидимой скверны; 2) порошок есть уязвляющее бесчестие, врачующее гнилость возношения. Глазная примочка есть очищение душевного ока, или ума, смутившегося от движения гнева; 3) питие врачебное есть выговор огорчающий, но скоро врачующий болезнь; 4) кропопускание есть сильное и жестокое нападение на недугующих для их спасения; 5) под губкою разумеют кроткие, тихие и мягкие слова, которыми врач как бы отирает больного, после кропускания или резания; 6) прижигание есть определенное наказание или епитимия, для покаяния назначаемая на время; а мазь есть прилагаемое больному или приятное слово, или небольшое телесное утешение и т. д. [Лествица 1998: 255—256].
199
психологические понятия. Развернутую “опредмеченную” метафорическую схему пути — любви — источника божественного огня в сердце (Преп. Иоанн Лествичник) мы находим в поучениях аввы Дорофея: “Представьте себе круг,
середину его — центр и из центра исходящие радиусы-лучи. Эти радиусы, чем дальше идут от центра, тем больше расходятся и удаляются друг от друга; напротив, чем ближе подходят к центру, тем больше сближаются между собою… круг сей есть мир; самая середина круга — Бог, а прямые линии (радиусы), идущие от центра к окружности или от окружности к центру, суть пути жизни людей… Когда удаляются от Бога, в той же мере удаляются друг от друга, и сколько удаляются друг от друга, столько удаляются и от Бога. Таково и свойство любви: насколько мы находимся вне и не любим Бога, настолько каждый удален от ближнего. Если же возлюбим Бога, то сколько приближаемся к Богу любовью к нему, столько соединяемся любовью и с ближними” [Добротолюбие избранное для мирян 2000: 36—37]. Как невозбраняемое путешествие описывается нестяжание [Лествица 1998: 140]. Максимально развернутую символическая антитеза, описывающая путь “внутреннего человека”, представлена в книге “Сокровище духовное, от мира собираемое” Св. Тихона Задонского: И житие бо наше путь есть, по которому непрестанно идем…[Св. Тихон Задонский 2000: 860]. На пространном пути имеем неверие, бесстрашие, самоволие, непослушание, неумеренное самолюбие, любовь суеты мирской, искание чести, славы и богатства мира сего, роскошь, плотоугодие, гордость, пышность, беззаконие, блуд, прелюбодеяние, пиянство, воровство, хищение, грабление, насилие, гнев, ярость, памятозлобие, и словом и делом отмщение, жестокосердие, свирепость, лютость, клевету, презрение, осуждение, поношение ближнего, ложь, лукавство, хитрость, лицемерие, слово, дело, помышление, Божией воле и святому слову Его противное; на тесном пути имеются живая вера, страх Божий, повиновение, послушание, боголюбие, братолюбие, отвращение от суеты мирской, презрение к славе и богатству мира сего, умеренность, пост, воздержание, смиренномудрие, целомудрие, чистота, трезвость, благочиние, творение правды, презрение мщения, кротость, терпение, милосердие, сострадание, благоразумное молчание, простосердечие и слово, сердечному помышлению согласное, истинное покаяние и того плоды, добрые дела [Там же: 860—862]. Отметим, что все грехи пространного пути и добродетели тесного пути могут регулярно персонифицироваться, при этом грехи, как правило, описываются бестиарными метафорами, а добродетели — физическими и антропоморфными.
“Внутренний человек” имел свой язык (язык чувств, зов сердца, крик души, возбудить в сердце отзывы, пробудить отклик в душе, песня души, шептание совести), и реальный человек вел с ним диалог (ср.: Почто убогого обидиши,..
брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши? Остави убо сия, душе моя, и
200
покайся (Канон покаянный ко Господу); гнев говорит нам: “Матерей у меня
много, и отец не один. Матери мои суть: тщеславие, сребролюбие, объедение, а иногда и блудная страсть. А отец мой называется надмением. Дщери мои суть: памятозлобие, ненависть, вражда, самооправдание. Сопротивляющиеся же им враги мои, которые держат меня в узах, безгневие и кротость. Наветник мой называется смиренномудрием” [Лествица 1998: 103—104]).
“Внутренний человек” — это “человек в человеке”. Отсюда возможность использования русскоговорящими для характеристики душевного мира социальных метафор, образованных по другим моделям. “Внутренний человек”, как и реальный, мог быть богатым или нищим, находиться в тюрьме, плену или на свободе, сиротствовать, юродствовать, его могли наказывать или поощрять, кроме того, он сам может манипулировать своим “хозяином” ({СоцЯв>ПсЯв/РеалСП}, {СоцЯв>Отвл/РеалСП}: в плену старых предрассудков, в плену у гордости, тщеславия, порока, нищета воображения, душа полна одиночества, сиротства и тоски, душевная казнь, каторга школьной зубрежки, тяжелая повинность ходить в гости, кабала — о духовной зависимости, духовная брань, нравственная тирания и т. п.). Внутреннее богатство может быть и губительным (Душе моя, почто грехами богатееши? (Канон покаянный ко Господу)). “Внутренний человек” втянут в особые психологические “рыночные отношения”, и психологическому “рынку”, как и настоящему, свойственны кризисы, крахи, спекуляции, банкротства обманы, обсчеты и т. п. ({СоцЯв>ПсЯв/РеалСП}: душевный кризис, крах надежд, спекуляция на добрых чувствах, ярмарка тщеславия и др.). Данная метафора имеет древнюю основу: закладывание души, торг о собственной душе, с последующей ее продажей и покупкой “другим” позволяют рассматривать душу как рабу, а “внутреннего человека” как объект торговли, которую ведет реальный человек, “душевладелец”, впоследствии, по завершении сделки, всегда оказывающийся в убытке, потому что продает то, что принадлежит не ему, а Богу. В то же время, у человека практически в любой момент есть возможность выкупить душу, совершить искупление своих грехов, раскаявшись в содеянном, и тем самым спастись (ср.: покаяние есть купля смирения [Лествица 1998: 70], а смирение — величайшая христианская добродетель, искупающая, в свою очередь, многие грехи).
“Внутренний человек” мог оказаться и врагом своему “хозяину”, манипулируя им по собственному “произволу”, но это происходило только в том случае, когда он полностью был полонен бесом (см. слово Иоанна Кассиана: Не
внешнего врага надобно бояться, враг наш заключен в нас самих. Почему и ведется в нас непрестанно внутренняя война [Добротолюбие избранное для мирян 2000: 296]). Ср.: Бесы — наши враги, и потому жизненно важно для нас
знать их способы борьбы и различать их… Всякий христианин обязан
201
принимать участие в духовной войне…[Архиеп. Василий (Кривошеин) 2001: 479—481]; когда диавол видит, что Бог умилосердился над душею и готов ее помиловать, тогда он сильнее борет ее и отягощает страстями; человек
может находиться в трех состояниях относительно страсти: он или действует по страсти, или сопротивляется страсти, или искореняет ее [Душеполезные поучения 1994: 20—21 Алфавитного указателя].
“Внутренний человек” мог придерживаться стереотипов, связанных с определенными социальными теориями, учениями и проч. (о чем мы уже писали): {СоцЯв>ПсЯв/РеалСП} — макиавеллизм, фарисейство, фармазонство и др. “Внутренний человек” вступал во взрослые социальные отношения не сразу, он, как растущий организм, мог быть объектом “пестования”, и такие социальные действия, как воспитание души, духа, а позднее и характера, взращивание добродетелей, тренировка памяти и т. п., приносили “плоды”: рост интеллекта, увеличение памяти, расцвет личной нравственности, в противном случае — консервацию чувств, интеллектуальную затхлость. Воспитание души — целая прикладная наука. Надо отметить, что воспитание своего “внутреннего человека” русские до сих пор уподобляют выращиванию растения на благодатной или бедной почве (вспомним евангельскую притчу о сеятеле), отсюда возможны “копания” и “самокопания”. Этот сложный “организм” нуждается в пище (трапеза любви разоряет ненависть, духовная пища, интеллектуальная подпитка), так как он может голодать (духовный, эмоциональный, чувственный и т. п. голод, интеллектуальное, духовное голодание), его деятельность может иметь “отходы” (часто характеризующиеся метафорическими инвективами); он может “бодрствовать” (бодрствование внимания), “находиться в полудреме” (полудрема сознания), “спать” (сон мечты, мыслей), даже “быть в спячке” (спячка ‘о душевном оцепенении’) и “пробуждаться” (пробуждение души, духа, сознания, ума, интереса, любопытства и т. д.)102. У него могут быть “капризы” (капризы памяти) и “зуд” (зуд любопытства). Как “телесный” человек, этот “организм” может описываться метафорами трезвости (трезвость ума, рассудка) и опьянения (опьянение успехами, охмеление радостью), физической силы (сила, крепость духа) и слабости (душевная слабость). Со своим внутренним миром человек
102 Активное бодрствование души может сопровождаться телесным сном. В патристике и агиографии часто описывается так называемый “тонкий сон” тела, позволяющий душе временно покидать его и путешествовать, при этом считается, что видимые во сне картины воспринимаются душевными очами, а слышимые звуки — душевным слухом и т. д. Хотя, по мнению исследователей, специальных телесных органов чувств для восприятия своего внутреннего мира у человека не существует и полного естественнонаучного описания феномены “душевных очей” и т. п. не получили, согласно лингвистическим данным, они такая же реальность, как и телесные органы восприятия.
202
может жить в ладу (душевная гармония, внутренний лад) или пытаться кардинально изменить себя (духовная брань, внутренняя борьба, война с самим собой и т. п.). Сложные отношения между “внутренним человеком” и его “хозяином” могут описываться морфологическими средствами, и наиболее ярко их выражает система рефлексивных глагольных единиц и соответствующих сочетаний с девербативами. Как правило, такие единицы — кальки более позднего происхождения. Так, если в высказывании предикатом описывается ситуация контроля за телесным, психическим или ментальным поведением человека, то сочетания с дейктиком себя всегда описывают поведение “внутреннего человека”: быть не в себе, изменить себе — измена самому себе, искать себя — поиски самого себя, преодолеть себя — преодоление самого себя, бороться с собой — борьба с самим собой, владеть собой — владение собой, уйти в себя — уход в себя и т. д. [Генюшене, Недялкин 1991; Пименова 1999]. Широкое распространение данных единиц в письменной речи связывают с их литературным происхождением (ср.: “немецкий романтизм конца XVIII — начала XIX века «открыл» понятие «внутреннего человека». Художественная литература того времени наиболее ярко отразила… воззрения на природу человека, на его двойственную сущность — соединение идеального и материального” [Пименова 1999: 20]).
Метафорически “опредмеченный” внутренний мир человека может описываться контейнерно — как полный (полнота духа, сознания) или как пустой (душевная пустота, пустота во взгляде). При этом полнота метафорически связана с социальным богатством и умом (богатство ассоциаций, мыслей, избыток желаний), а пустота — с бедностью ({СоцЯв>ПсЯв/РеалРецСП} бедность, недостаток мыслей, убогость души, ср.:
гордость есть крайнее убожество души, которая мечтает о себе, что богата, и, находясь во тьме, думает, что она во свете [Лествица 1998: 158]) и глупостью (пустота в голове, вакуум в памяти). В пустом и полном сознании — разгул всех видов “романтических” стихий (воздушной и водной: ветер в голове, тайные бури в душе ‘о сильном волнении’, буря страстей, вихрь мыслей, ураган чувств, негодования, потоки, лавины желаний, злоба ключом бьет в сердце, но иногда стихия не столь разрушительна: оттепель в отношениях, облако грусти, туман печали в глазах, туманность взгляда, возможны оазис в темной душе преступника ‘о добрых чувствах, качествах’ и омут воспоминаний, стремнина лицемерия (ср. также: кротость есть скала, возвышающаяся над морем
раздражительности, о которую разбиваются все волны, к ней приражающиеся, а сама она не колеблется [Там же: 164]; не унывай, когда на
душу твою налетают адские тучи одна другой мрачнее,… твердо знай, что нахождение этих мрачных туч на мысленный горизонт неизбежно,… поносятся да пройдут, и опять прояснится мысленная атмосфера души [Св.
203
Иоанн Кронштадтский 2000: 61—62]; о “водных” метафорах см. подробнее [Скляревская 1993; Гришина 2002]); огненной: искры нежности, вспышки отчаяния и гордости, огонь любви, проблески радости, пламя гнева103, пламень страстей, например: Иногда пламя, вдруг раздуваемое сильным ветром, более,
нежели продолжительный огонь, сожигает и истребляет душевную ниву [Лествица 1998: 99]). Внутренний мир имеет свои “природные пространства”: такие единицы, как луга, вертограды, цветники, поля души давно стали метафорическими символами. Ср.: Как луг украшается множеством цветов,
так луг души моей должен благоукрашаться всеми цветами добродетелей; как деревья приносят цветы и потом плоды, так душа моя должна приносить плоды веры и добрых дел [Св. Иоанн Кронштадтский 2000: 50].
Дух и душа характеризуются физическими параметрами (душевное равновесие, внутренний баланс, уравновешенность духа). Соответственно, все их свойства могут описываться дискретно, т. е. имеют начало (положить начало дурной привычке) и конец (старым привычкам). Но начало одного душевного свойства — конец другого. Ср.: начало гордости — конец тщеславия;
середина — уничтожение ближнего, бесстыдное проповедание своих трудов, самохвальство в сердце, ненависть обличения; а конец — отвержение Божией помощи, упование на свое тщание, бесовский нрав [Лествица 1998: 136]. Инвариантность реляционных признаков метафоризаторов способствовала возникновению метафоры алфавит добродетелей: превосходный алфавит есть
для всех следующий: послушание, пост, вретище, пепел, слезы, исповедание, молчание, смирение и т. д. [Там же: 183].
Соответственно, тело человека — место обитания души и духа, поэтому психический и духовный миры человека могут описываться не только метафорой “человек”, но и метафорами “обиталище”, “вместилище” (ср. с пословицей о бездушном (“пустом”) человеке: Тебя-то мы видим, да в тебе не видим). “Обиталище” “внутреннего человека” может описываться строительными метафорами (см. “О созидании душевного дома добродетелей” Преп. Дорофея [Душеполезные поучения 1994]). При этом вместилищем души считалось сердце (ср.: есть сердце, да закрыто дверцей), а вместилищем духа — ум или, метонимически, голова, отсюда возможность создания метафорических антитез типа у юношей наших в голове много, а в сердце мало [Св. Иоанн Кронштадтский 2000: 74]. Интересно, что знаменитый физиолог и хирург, лауреат Сталинской премии по медицине архиеп. Лука Войно-Ясенецкий считал теорию высшей нервной деятельности академика И. Павлова апологетической и в главе “Сердце как орган высшего познания” своей книги “Дух, душа и тело” писал, что
103 Заметим, что слово грех соотносится, по данным исследователей, именно с
“огненными” метафорами, ср. значение русского грех и греть со значениями ‘жечь’, ‘жжение, горение <совести>’ [Маковский 1996а: 128].
204
физическое и духовное благополучие зависит от правильной функции сердца и что наши анатомо-физиологические знания о сердце не только не мешают, а, скорее, даже побуждают нас считать его важнейшим органом чувств, а не только центральным мотором кровообращения (подробнее см. [Архиеп. Лука Войно-Ясенецкий 1997: 26—49]) 104 . Метафорическими по происхождению функциональными символами сердца в таком случае могут быть сосуд полный и сосуд “праздный”, ср.: Что сосуд есть, тое есть сердце человеческое. Сердце
подобно есть сосуду. Сосуд, полный и исполненный водою или другим чим, ничего иного в себе не вмещает. Напротив того, сосуд праздный удобен есть к восприятию всего. Сего ради люди испражняют сосуд, когда другое что хотят в него влить или положить. Тако и сердце человеческое имеется. Когда праздное есть и не имеет в себе прихотей мирских и плотских, удобно есть к восприятию Божия любве, а когда любовию мира сего и плотскими похотьми и греховными пристрастиями наполнено, тогда любовь Божия в него вместиться не может [Св. Тихон Задонский 2000: 768—769].
К своей психической деятельности — “обиталищу” русскоговорящие предъявляют следующие требования: чистота (чистота есть вожделенный дом Христов, чистота чувств, желаний, мыслей, нравственная чистота, чистота духовная паче телесной, прозрачность идеи, незамутненность сознания), но не стерильность (ср.: стерильность мысли), порядок (порядок в голове, упорядоченность идей, со всей аккуратностью рассудка), красота (красота мысли, души, духа). В противном случае во внутреннем “строении” будут грязь желаний, беспорядок в мыслях и рассуждениях, безобразия, уродства и наросты души и т. п. “Освещенность” внутреннего “обиталища” может выражаться по-разному, в том числе и во взгляде. Внутреннее “строение” может быть темным (чужая душа — потемки, рассудок в темноте, мрак гнетущих дум), тусклым (тусклость настроения, тусклость взгляда), светлым (лучезарность, лучистость взгляда, ясность идеи, умственное просветление) и ярким (яркость мысли).
Поскольку содержимое внутреннего мира человека может рассматриваться “предметно”, оно может быть легким (легкость мыслей) и тяжелым (тяжесть в душе); холодным (холод одиночества, лед по отношении к родителям), теплым (сердечное тепло, теплота во взгляде) и горячим (юношеский жар); твердым (твердость воли, одеревенение чувств, черствость души) и мягким (мягкость воли); доступным (доступность размышлений) и недоступным (недосягаемость 104 Заметим, что в истории естественных наук подобная локализация самостоятельных духовной и душевной жизни привязывалась к разным физиологическим “пространствам”. Например, картезианцы помещали их в шишковидную железу головного мозга, некоторые современные физиологи располагают их в области спинного мозга или солнечного сплетения, которое прежде даже называли “брюшным мозгом”.
205
мысли, непроницаемость идеи); острым (острота мысли, ума) и тупым (тупость идеи); громким (шум от роящихся мыслей) и тихим (тишина на сердце); иметь гладкую (гладкость мыслей, ровность характера) или неровную “поверхность” (шероховатость идей, заскорузлость мнений, душевная изломанность, уродства и наросты души). Поэтому возможно обнаружение на “предметах” внутреннего мира замет, зарубок в памяти, клейма стыда, печати довольства, ярлыка глупости ({П>Отвл/СП}). Ментальная деятельность может иметь или не иметь вкус (горечь поражения, сладость встречи, сладкий хлеб добродетели, пресность рассуждений), цвет (бесцветность идеи) и запах (источать аромат радости). Эмоциональная жизнь хорошо описывается в ориентационных метафорах, например, по модели {ФизЯв>ПсЯв/Рец}: чистота — земное небо сердца [Лествица 1998: 121], телу — простор, душе — теснота, на вершинах счастья, грани характера ‘об особенностях характера’, дно души, полоса мизантропии, пятно на совести, черты характера и др.
Процессы, происходящие в сознании человека, также могут быть описаны “опредмеченно”, но с учетом разных видов инвариантности: функциональной ({П>ПсЯв/Фу} — памятозлобие есть лукавый толковник писания, механизм мышления, творческая кухня (сопутствует метонимизация), основание размышлений и др.), функционально-реляционной ({П>ПсЯв/РецФу} — яд злости, отрава мечтаний и др.), консистенциальной ({П>ПсЯв/К} — винегрет, каша, компот в голове) и реализационной общности ({П>ПсЯв/Реал} — сказать в запале, головная муть, на душе накипь, осадок в душе и др.). Данные процессы можно мысленно расчленять, соединять и “измерять” в особых “порциях”: {П>ПсЯв/Кв} — душа всему мера, заряд злобы, чаша терпения, вагон терпения, скромный пакет желаний и др.
1.4.2. Метафорический облик русского “внешнего человека” (метафорические концепты и метафоры общества)
К социальным относятся до 28% рассмотренных нами метафор. Уподобление
общества одному человеку происходит на основе метонимических связей и отражает древнее общественное устройство, в котором отдельные члены выделялись только по социальным ролям, а человек был, прежде всего, “частью” рода, племени. Общество воспринималось как единый организм, другими словами, как “большой человек” (мы будем использовать метафору “внешний человек”), и этот антропоморфный (при другом подходе — теоморфный, в некоторых случаях — демономорфный) облик любой общественной группы сохраняется до сих пор (ср., например, параллелизм в определении христианской семьи как домашней церкви — тела Христова, небесный глава которой — сам Христос, а земной — отец семейства, отвечающий за остальных членов, и в высказывании Григория Великого о том, что “единое тело — дьявол и все
206
неправедные”). “Внешний человек” может реализовывать разные программы: конструктивные, деструктивные, репродуктивные и многие др., при этом его “наивная физиология” иногда приобретает биоморфные или бестиарные черты (ср.: хвост общества, крыло партии).
Как и “внутренний”, “внешний человек” описывается, прежде всего, физическими метафорами по той же модели, но с другим направлением —: {ФизЯв>СоцЯв/РецСП}. Общественные группировки переживают те же события, что и реальные люди: возможны, например, рождение партии, зарождение, жизни общественного движения, бесплодность общественных усилий, политическая смерть, гибель, политическое воскрешение и т. п. “Внешний человек” испытывает те же физические ощущения и пребывает в тех же состояниях, что и реальный, он может бодрствовать, дремать, спать, испытывать радости и муки, даже ностальгию и т. п. (например, провинциальная дремота, политическая усталость, административный восторг, общественная ностальгия по прошлому и др.). Он подвергается тем же болезням, что и “внутренний человек” и так же может исцеляться ({ФизЯв>СоцЯв/РеалСП}: агония монархии, болезни общественной жизни, срывы и вывихи в работе, зараза суеверий, метастазы войны, социальная опухоль, паралич железной дороги, звездная лихорадка ‘об общественном ажиотаже, вызванным стремлением использовать космос в военных целях’, антидемократический психоз, раны войны на городе, уродства быта, социальная язва, паралич деловой активности, конвульсии банковской системы, девальвация — лекарство замедленного действия и многие др. примеры).
Более того, “внешний человек”, как и реальный, имеет своего “внутреннего”, и с ним происходят такие же “события”: он может иметь психические недуги, падать духом, теряться, радоваться, гневаться и т. п. Индивидуальные состояния (метафорически описанные по модели {ПсЯв>ПсЯв/РеалСП}, например, безумство любви, в беспамятстве ярости, быть возмущенным до бешенства и др.) превращаются в коллективные (модель {ПсЯв>СоцЯвл/РеалСП}): военная истерия, истерия развлечений, кретинизм властей, маразм в культуре, послевыборная эйфория и др.
“Внешний человек” иногда описывается в религиозных терминах, поскольку различные объединения внутри общества рассматриваются как члены религиозной общины-семьи, поэтому общественная группировка может впадать в ересь, иметь кредо (символы веры), соблюдать или нарушать заповеди и т. п. Атеистическое мировоззрение многих носителей русского языка в тоталитарный период не справилось с языковым консерватизмом, и в языке благополучно сохранился ряд религиозных наименований и соответствующих метафор, ср.: {СоцЯв>СоцЯв/РецСП} — ересь в искусстве, политическое научное кредо, сектантство в философии, староверство в литературе, пуританство прессы,
207
{СоцЯв>СоцЯв/СП}: грехопадение ‘о нарушении общественных норм поведения’, заповеди французских критиков, политическая проповедь и т. д. Единицы религиозной лексики переосмысляются и в новом виде используются часто в речи для создания иронического эффекта. Определения базовых религиозных понятий оказались на периферии русского менталитета, и это нашло отражение в словарных толкованиях соответствующих слов. “Внешний человек” — учитель реального, поэтому проявления социальной жизни рассматриваются как школа, университет, в которых всему можно научиться. Как учебные заведения описываются самые разные социальные институты и даже криминальные сообщества (ср.: церковь — нравственная школа, “Мои университеты” (М. Горький), тюрьма — университет).
“Внешний человек” втянут во все рыночные отношения, как уже отмечалось, метафора общество — рынок в настоящее время очень актуальна ({СоцЯв>СоцЯв/Реал}: политическое банкротство, газетный бум, залог примирения ‘о ручательстве’, калым ‘о деньгах, получаемых за оказанную услугу’, крах государственной системы, трудовая лепта, прибыль ‘о пользе государству вообще’, ставка на войну, девальвация диплома о высшем образовании и др.).
Социальная лексика широко используется для характеристики иных общественных явлений, другими словами, наблюдается переосмысление и переоценка многих социальных понятий: {СоцЯв>СоцЯв/РеалСП} — политическая проституция, штрейкбрехерство, рабство в собственном доме, в плену высокой должности и др., {СоцЯв>СоцЯв/Реал} — власть денег, непотизм в учреждении, кумовство в больницах, дипломатия в разговоре на рынке и др. Переосмысляются метафорически (и иронически!) названия общественных институтов ({СоцЯв>СоцЯв/ФуКв}: ареопаг профессоров-экзаменаторов, университетский синедрион, синклит родственников и др.), реальных прецедентных исторических событий ({СоцЯв>СоцЯв/ФуРец}: аракчеевщина ‘о положении, когда небольшая группа людей деспотически распоряжается в какой-либо области общественной жизни’, кабала ‘о тяжелой экономической зависимости’, фронда ‘о непринципиальной оппозиции’ и т. д.). Метафорическое использование наименований значимых прецедентных событий в целях манипуляции общественным мнением широко представлено в современном публицистическом узусе. Переосмысляются следующие социальные события: {СоцЯв>СоцЯв/РеалСП} — веселая авария на катке, дискуссионные бои, война с цензурой, домашний допрос о причине опоздания, драка в прессе, заочная дуэль, социальная катастрофа, кровавый спор — о битве, турнир остроумия, атака на судопроизводство, бой между гостями — о драке, набег на соседние сады и бахчи, нашествие гостей, сражение у прилавка в магазине, оргия в ночном заведении, аврал в конце квартала, трудовая вахта,
208
наступила масленица — страда артистов и др.; при этом участники событий могут образовывать группы, к которым они реально никогда не могли бы быть отнесены: {СоцЯв>СоцЯв/Кв}— армада толкачей, батальоны(!) хиппи, взвод рассерженных покупателей, десант лесорубов, дружина экзаменаторов, когорта младших современников Гоголя, рота адвокатов, свита поклонников, наследников сердитый хор. События, происходящие в том мире, в котором обитает “внешний человек”, часто напоминает ритуальные или вымышленные — религиозные, карнавальные, книжные, театральные (мы уже писали о таких метафорах), и это выражается в единицах, образованных по моделям {СоцЯв>СоцЯв/РеалСП} (кровавая буффонада поединка ‘о неуместном, нелепом, грубом шутовстве’, спектакль — о ссоре, трагифарс ‘о печальном и одновременно забавном происшествии’, фокус ‘о необычном поступке’, политическое шоу, кино ‘о любопытном происшествии’, иметь свое амплуа в семье, гимн ‘о восторженной хвале, славословии’; дифирамбы в газетах ‘о преувеличенной, восторженной похвале’, выбрать роль безмолвной жертвы в семье и др., семейная драма, современная пастораль, обычный юбилейный панегирик, пародия на парламент, блаженствовать среди домашней идиллии, комедия ‘о смешном, забавном происшествии’, миф о непобедимости армии, бытовая проза жизни, превратить сейм в сатиру на правление, сказка ‘о выдуманном событии’, фольклор ‘о выдуманном событии’ и др.), {СоцЯв>СоцЯв/Рец} (заключительный аккорд 1903 года — о стачках, вот так номер ‘о странном поступке’, сценарий ухаживания и др.), {СоцЯв>СоцЯв/РецФвр} (прелюдия к историческим событиям, увертюра политических событий, пролог восстания, пролог новой эры, пролог велогонки, эпилог восстания, эпопея отступления войск и др.), {ФизЯв>СоцЯв/РецСП} (диссонансы с общим тоном петербургской жизни, испортить всю музыку — ‘о каком-либо налаженном процессе’, с чего началась эта музыка? ‘о чем-либо тревожном, хлопотливом и беспокойном’, жизнь в унисон с другими и др.), {СоцЯв>СоцЯв/РецФвр}: пролог восстания, пролог новой эры, пролог велогонки, эпилог восстания, эпопея отступления войск и др.
Как и реальный человек, “внешний” окружен “предметами”. “Опредмечивание” событий, ситуаций эксплицируется в метафорах, образованных по особым моделям с функциональными и реализационными МП, например, {П>СоцЯв/Фу} и {П>СоцЯв/ФуРеал} — жернова избирательной кампании, социальная косметика, меч правосудия, опора политического движения, продукт эпохи, рогатки цензуры, цепи рабства, мясорубка — о войне, цензурный пресс, тормоз развитию земледелия, вериги бедности, кузница кадров, {П>СоцЯв/Реал} — баня — о строгом выговоре, кабак на улицах, театр, цирк — об общественной ситуации и т. п. Пейоративность
209
абсолютного большинства используемых в социальной сфере предметных метафор очевидна.
Строительные метафоры также широко используются в описаниях социального мира. Своеобразный “архитектуроцентризм” характерен для “оформления” общественных отношений, и это неоднократно подмечалось исследователями (G. Lakoff, А. Генисом, Л. П. Якимовой и др.). Так, по словам Л. П. Якимовой, “произошедшая в Октябре революция подменила понятие «жить» понятием «строить жизнь»… Процесс личной жизни уступил место обязательному и неукоснительному участию в общем процессе строительства социализма. Это словосочетание превратилось в своего рода «формулу бытия», а лексема строительство с течением времени наполнилась все более общим, жизнестроительным, онтологически значимым содержанием” [Якимова 2002: 53]. Аналогичное превращение претерпела и лексема перестройка. В целом, весь “архитектурно-строительный лексикон” наполнился таким жизнестроительным и даже мироформирующим содержанием. Более того, метафора человек — строительный материал, масса (часто с метонимическим “погашением” квантитативного признака) приобрела статус чудовищной идеологемы: опредмеченность человеческого материала — общества позволяла снять все моральные и этические запреты.
Отметим, что, как и любой предмет, социальные события и отношения могут быть изображены, нарисованы, сфотографированы: {П>СоцЯв/Реал}: иллюстрация хороших манер, картина нравов русского дворянства, карикатура перестройки, портрет эпохи, панорама зарубежных событий и др. “Внешний человек” обитает в социальном мире, который имеет реляционные параметры и поэтому может описываться в самых отвлеченных терминах: {Отвл>СоцЯв/Рец} — аксиома военной стратегии, единство производственных связей по горизонтали и вертикали, из глубины народной жизни, писатели разного калибра, кульминация оперы, исторические параллели, параметры развития производства, чувствовать расстояние между собой и кем-либо ‘о различии между кем-либо в социальном, служебном, имущественном и т. п. положениях’, параллелизм исканий князя Андрея и Пьера Безухова и др.
Помимо этого, возможно “опредмечивание” отдельных “участков” социального мира и описание их метафорами с реляционными МП, но другого направления: {ФизЯв>СоцЯв/Рец}: правящая верхушка общества, низ общества, дно общества, политический кругозор, новая полоса в истории, центр — о партийной группировке между левыми и правыми, эпицентр тревожных событий, экватор чемпионата ‘о рубеже, завершающем первую часть чего-либо’, пик состязаний, социальная прослойка, аристократический слой, истоки военной распри, источник повышения доходов и др. Отметим также, что “опредмеченные” продукты социальной деятельности, как и реальные
210
предметы, могут иметь цвет, запах, звук, например: {ФизЯв>СоцЯв/РеалФзвСП}: острое звучание пьесы, крик моды, писк моды, общественный резонанс, общественный шум по поводу выставки и др., а также общественные стоны, плач, крики, нытье) “Опредмеченному” социальному миру свойственны реализационные, функциональные и динамические признаки физического: {ФизЯв>СоцЯв/РеалСП} — людская инертность ‘о социальной пассивности’, лютость войны, монолитность коллектива, непрочность тыла, плотность обороны, распыленность кадров и др., {ФизЯв>СоцЯв/ФуРеал} — работа при полной загрузке в вузе, зажим критики, делать без нажима начальства, ведомственные стыки, стыковка учебных программ, насыщение рынка товарами, разрыв дипломатических отношений, разрядка международной напряженности, раскол политической организации, распад колониальной системы и др., {ФизЯв>СоцЯв/РеалДи} — экономический рывок, скачок в развитии общества, кредит даст толчок заснувшей промышленности, нанести бунту последний и решительный удар, лавирование между консерватизмом и либерализмом, хватание двоек, царапанье между дамой и профессором — о ссоре, отражение атаки, и др.
Современный человек, следуя древним архетипическим установкам, включает себя в природу, поэтому в языке так много физических метафор с реализационными, субъективно-психологическими, реляционными и динамическими МП, описывающих мир “внешнего человека” как природное явление: {ФизЯв>СоцЯв/РеалСП} — ветер перемен в политике, затишье в борьбе на Северном Кавказе, хрущевская оттепель, националистический туман, наводнение рынка товарами, бюрократическое, провинциальное болото, жить на вулкане ‘о нестабильной обстановке’, дебри техники, омут опасной жизни, трясина общественной жизни, социальные реки и др., {ФизЯв>СоцЯв/РеалДиСП} — дождь снарядов, град выстрелов, ливень трассирующих пуль, лавина людей, ураган событий, поток автомобилей, поток телеграмм и др. В этом природном мире “внешнего человека” даже могут обитать свои микроорганизмы: {ФизЯв>СоцЯв/РеалФуСП} — вирусы аристократического тщеславия, лести, поэт будет задыхаться в атмосфере гнили ‘о чем-л. нездоровом, порочном’, микробы общественной ненависти, тина обывательщины, плесень мещанской пошлости. Члены общества регулярно описываются биоморфными характеристиками, поэтому возможно существование метафор модели {ФизЯв>СоцЯв/КвДи}: выводок молодых специалистов, косяки студентов, рой красавиц, стадо зрителей, ребячья стая, табун мальчишек и др.
Как и реальный человек, “внешний человек” передвигается по пути. Метафоры пути — общественной жизни, “объединяющие” темпоральность и локус, онтологически чрезвычайно важны: {ФизЯв>Отвл/РеалСП}: идейно-
211
художественные трассы, в обход законов, зеленая улица какому-либо делу, стезя искусства, дорожка — о жизненном пути, жизненная колея, дальнейшие маршруты развития жизни, жизненная тропа, магистраль и многие др., причем на пути-жизни возможны преграды, препоны, тупики, колдобины, ухабы, крутые повороты и т. п. ({ФизЯв>Отвл/Рец}: исторический тупик, преграды жизни и т. п.).
1.4.3. Метафорический облик русского “природного человека”
(метафорические концепты и метафоры природы) По нашим данным, до 23,4% метафор описывают физические явления.
Человек воспринимает природу как живое существо, своего вечного соседа, который может быть другом или врагом, может питать человека и всячески помогать ему или жестоко наказывать. Отношения “природа — человек” динамичны, и на разных этапах своего развития общество манифестировало различные “программы” своих взаимоотношений с природой, поэтому в современном языке зафиксированы как “реликтовое”, архетипическое, так и современное понимание природы.
Заметим, что учение о параллелизме микрокосмоса – “малого мира”, или реального человека, и макрокосмоса - “большого мира”, или Вселенной, является одной из древнейших натурфилософских концепций, и изначально находила свое выражение в космогонической мифологеме “вселенского прачеловека”, из плоти которого возникла земля, из костей – камни, из волос – деревья, из дыхания – ветер и т. д. В демифологизированном виде сложное “соответствие” микрокосмоса и макрокосмоса нашла свое выражение в длинном ряду философских концепций: от античного космологического биоморфизма (Анаксимен, Гераклит и др.) и раннехристианской греческой патристики (Григорий Нисский, Григорий Назианзин) до теософских учений ХХ в. (см. библиографию в [Лебедев 1983: 370]).
Как отмечают исследователи, аналогия между микрокосмосом и макрокосмосом амбивалентна: “при аргументации от макрокосмоса к микрокосмосу (в человеке нет ничего, кроме космических элементов) она может вести к натуралистической антропологии и растворению человека в космосе…; при аргументации от микрокосмоса к макрокосмосу нередко постулируются космические «душа» или «ум»…, часто отождествляемые с имманентным панкосмическим богом («какое место в мире занимает Бог, такое в человеке – дух, какое в мире – материя, такое в нас – тело» (Сенека), при этом познание мира или божества нередко выступает как самопознание” [Там же: 369]. В христианском миропонимании, как пишет С. С. Аверинцев, изначально “представление о мировом бытии в пространстве и времени связано прежде всего с идеей
212
порядка… порядок приходит от абсолютно трансцедентного, абсолютно всемирного Бога.., к этому личному Богу космос может иметь только личное отношение — а именно отношение покорности. Законосообразность мировых процессов понята как послушание небесных сфер и четырех стихий, как их монашеское смирение, их отказ от своеволия, их аскеза” [Аверинцев 1997: 88—90]. Более того, люди должны были учиться послушанию и терпению у звезд — “такова ранневизантийская транскрипция евангельской молитвы «да будет воля твоя яко на небеси и на земли». Соотнесенность космологических мотивов с социальными проблемами ощутима в словах Григория Назианзина: «Да не нарушается закон подчинения, которым держится земное и небесное, дабы через многоначалие не дойти до безначалия». Каждое слово о реальности мирового порядка превращается в притчу и аллегорию о желательности порядка человеческого, общественного, причем последний мыслится в формах иерархии («закон подчинения» — авторитарный принцип)” [Там же: 91].
Тем не менее, человек реальный мог испытывать по отношению к природному “соседу-учителю” всю гамму чувств: любовь, ненависть, гордость, смирение, подобострастие, гнев, ласку и т. д., и “сосед” отвечает ему тем же ({ПсЯв>ФизЯв/РеалСП}— любовь, ненависть, гордость, смирение, гнев, ласка природы), причем порой чувства природного “человека” непредсказуемы (каприз природы, причуда стихии), он может играть (игра природы), насмехаться (насмешка природы) и т. п. Изначально “природный человек” чаще всего выступает как учитель реального. Окружающий мир становится “набором дидактических пособий для наглядного обучения…Смотри, человек: звезды не отклоняются от своих путей, времена года не нарушают своей череды, и только ты с твоим беззаконным своеволием ставишь себя вне космической гармонии… пространство ойкумены — место для всемирной школы” [Там же: 170—185].
“Природный человек”, как и реальный, имеет своих “внутреннего человека” и “внешнего”. Палитра “чувств” “внутреннего природного человека” чрезвычайно богата: от веселья первой капели, доброты солнца, нежности первой зелени до хмурости дождливого неба, осенней грусти дождя, горя у леса ‘о болезни деревьев’, угрюмости леса, злобы и даже ярости ветра, злости бури, возмущения природы ‘о мутациях как результатах человеческого вмешательства’, ужаса, агрессивности, бешенства природы и т. п. Как видим, “внутренний природный человек” имеет душу (душа природы, душа океана), может иметь дух (дух стихии), замысел (по замыслу природы).
Собственно “природный человек” может быть здоровым и больным ({ФизЯв>ФизЯв/РеалСП} покалеченность таежных деревьев, здоровье леса под угрозой). Он имеет свой язык ({ФизЯв>ФизЯв/Фзв}: говор ручья, лепет листьев, лопотание родника, пение ветра, плач дождя, хохот филина, шепот травы, шептание воды в ручье и др.), музыкальные способности
213
({СоцЯв>ФизЯв/РеалФз}: пчелиная музыка, симфония горной реки и др.) и описывается теми же соматизмами и квазисоматизмами, что и реальный человек: {ФизЯв>ФизЯв/Фф} — узкое горло залива, западное плечо Эльбруса, желтая щетина сжатых полей и т. д., кроме того, но у него могут быть бестиарные или биоморфные черты: ветви хребта, пасть оврага, рог ‘о мысе’, длинный хвост дыма, и др.
Природа — это и общество, точнее, иерархизированное сообщество самых разных членов (растительное, животное и проч. царства, семейства, отряды — биологическая таксономия основана на социальных метафорах, птичьи колонии, деревни термитов, караван гусей} и т д.), причем члены этого сообщества могут воевать друг с другом (война, борьба за существование, нашествие тараканов), дружить (содружество разных видов), играть свадьбы (весенние свадьбы птиц) и т. д. Природа имеет свои законы, нарушение которых приводит к катастрофам. “Природный внешний человек” — метафора реального человеческого общества, другими словами, иерархизированная социальная метафора.
Сам человек регулярно описывает себя с помощью натурфактов и, тем самым, включает себя в естественный природный цикл (см. метафоры, образованные по модели {ФизЯв>ФизЯв/Фвр}: рассвет печальный жизни бурной, на закате своих дней, на заходе жизни, утро жизни, полдень жизни, полночь жизни, на заре жизни, лето жизни ‘о поре зрелости’, осень жизни, апрель жизни и др., или по модели {ФизЯв>ФизЯв/Фцв}: агат глаз, золото волос, медь кожи, мрамор плеч, серебро в волосах ‘о седине’, уголь волос, угольки глаз, синеватая эмаль белков глаз, янтарь листвы, бирюза неба, рубин губ и др.
Природные элементы изначально рассматривались как “тварные”, сотворенные, и это облегчало метафоризацию-кодирование. Ср.: “Ничто само от себя не бывает. Всякий град не от себя, но от иного; всякий дом не от себя, но от иного созидается; всякое письмо не от себя, но от иного пишется; всякая книга не от себя, но от иного сочиняется — словом, всякая вещь не от себя, но от иного делается. Тако мир сей не от себя, но от Создателя своего сотворен” [Св. Тихон Задонский 2000: 17]. Человек хорошо знал собственную предметную сферу, созданную им самим, поэтому окружающий мир Божий — природа — также имел свои сотворенные “предметы”, другими словами, знакомство со своей предметной сферой позволяло человеку “опредмечивать” самые разные физические явления и события, их фрагменты и части: {П>ФизЯв/Фф} — иглы инея, нити дождя, серп луны, блин луны, бисеринки пота, карманы в горной породе, юбочка опенка, лабиринт гор, окно между туч, иероглифы следов, ижица ног, стоять фертом, фита рта и др. “Опредмечивание” допускало описание природных объектов в тех же физических категориях, что и собственно предметов, артефактов: {П>ФизЯв/Фтакт} — атлас кожи, бархат щек, шелк
214
кудрей и др., {П>ФизЯв/Фзв} — гитара — о звуке шин на скользкой части дороги, шарманка — о звучащей нудной речи и др., {П>ФизЯв/Фцв} — саван снега, красный ковер тюльпанов и др. функциональные качества предметного мира “экстраполируются” на природный: {П>ФизЯв/Фу} — щит — о твердом покрытии у животных, земля под снежной шубой, пыльное покрывало земли, нефтяные кладовые Заполярья, под кровом ночи, под пологом лесов и др.; консистенциальные качества артефактов также учитываются при метафоризации: {П>ФизЯв/К} — минеральная вата, конь в мыле, каша после дождя — о грязи, снежный кисель, месяц покрыт флером, снежная завеса и др.
В целом, одни и те же законы царят в малой вселенной человеческого дома и в большом доме устроенной Богом-Архитектором Вселенной. “Дом — это образ обжитого и упорядоченного мира, огражденный стенами от безбрежных пространств хаоса” [Аверинцев 1997: 160—161]. Строительные метафоры характерны и для описания “природного человека” и его пространства.
Заметим, что сторонники придания метафоризации особого онтологически значимого статуса утверждают, что в философском освоении действительности особую роль играют как раз подобные фундаментальные (ключевые) метафоры (мир — дом), которые и мотивируют господствующую в данную эпоху философскую картину мира105, например: мир — дом, мир – книга, мир – часы и т. п. Более того, именно фундаментальные метафоры определяют восприятие жизненных поступков, этических идеалов, аксиологических позиций, а эпохально-одностронне – и всю окружающую действительность. По мнению О. Балла, такие фундаментальные метафоры не устранимы: после утраты смыслогенерирующей функции они переходят в “подсознание”, в своеобразную память культуры, то есть не исчезают, а продолжают выполнять смыслосозидающую работу, “сплавляясь” с новыми ключевыми метафорами и время от времени вновь актуализируясь [Балла 1998: 30]. Другими словами, философская картина мира никогда не определяется единственной метафорой [Еременко 2000], а следовательно, популярная концепция развития науки как смены парадигм (Т. Куна) или эпистем (М. Фуко) несостоятельна, и метафора научная революция не имеет истинного содержания. “Развитие научного познания предстает как процесс постоянного противоборства сравнительно небольшого числа одних и тех же принципов, связанных попарно: агонизм – континуализм, эволюция – регресс, редукционизм – холизм и т. п.” [Холтон 1981: 27]. Как отмечает А. М. Еременко [2000], фундаментальные метафоры, как правило, связаны либо с наиболее впечатляющим техническим изобретением данной эпохи, либо с объектом, в познании которого наука данного времени достигла наиболее значительных успехов. Именно смена таких изобретений или
105 Подробнее об этом см. [Гусев 1984; Еременко 2000].
215
таких объектов познания или культуры определяет смену фундаментальных метафор. В качестве примера, иллюстрирующего притягательность метафоры как инструмента познания, приведем выдержки из работы последнего автора, который, вслед за О. Балла, анализирует метафорическое осмысление понятий “Бог” и “мир” и приходит к чрезвычайно интересным выводам: из-за переводческих “нестыковок” возникают различные метафорические интерпретации этих понятий: например, Демиург Торы, скорее, “вырубает” мир, а не творит его из ничего, то есть напоминает скульптора или архитектора-строителя, а Бог переведенного Ветхого Завета чаще воспринимается как законодатель, созидающий мир словом. В европейской культуре с античных времен популярны метафоры Бог – Драматург (Эпиктет, В. Шекспир, Б. Пастернак), мир – книга, мир – текст, мир – театр106. Механистическое сознание Нового времени выдвинуло новую метафору: мир – часы, а Бог – идеальный Часовщик107. Позднее возникает естественнонаучная метафора мир – организм, в ХХ в. смыслогенерирующей оказывается метафора мир – язык, а в конце ХХ в. – даже мир – компьютер, а Бог – Программист. Поскольку наиболее впечатляющими техническими достижениями ушедшего столетия являются создание ядерной энергетики и компьютерных технологий, вполне можно допустить, что ключевыми метафорами смыслового освоения мира в ближайшем будущем будут именно метафоры мир – взрыв108 и мир – компьютер. При этом метафору мир – язык (мир – текст) можно считать вариантом
106 Последняя метафора до сих пор используется в научном лингвистическом дискурсе, ср.: “Человек созерцает спектакль мира. Наблюдая мир, человек фрагментирует его на дискретные сущности, извлекая феноменологическое знание. Это знание есть часть эмпирического опыта индивида…, который является отправной точкой построения наивной картины мира… Обобщенный зрительный образ концептуализируется и фиксируется в языке, отражая определенные структуры знания” [Агаркова 2000: 11].
107 Данные метафоры и в наше время используются в проповеднической практике при доказательствах существования Бога и в спорах с эволюционистами (последним предлагается разбить часы и разбросать все детали на проезжей дороге, а спустя некоторое время найти их и трясти до тех пор, пока они сами, без Часовщика, не соберутся в точно работающий и самосовершенствующийся механизм).
108 Так, по мнению А. М. Еременко, первая метафора продуцирует, например, теорию Большого Взрыва. Идея взрыва при создании теории “навеяна” личным опытом ее автора – основоположника теории нестационарной Вселенной А. А. Фридмана, который пережил вихри Первой мировой и гражданской войн в России: служил в авиации, бомбил Перемышль, разрабатывал таблицы прицельного бомбометания. Автор самого эффектного термина Большой Взрыв – Г. Гамов – был свидетелем жестоких боев во время гражданской войны, а в годы Второй мировой служил в бюро высотных взрывов ВМФ США, а его соавторы по концепции Взрыва были причастны к “Манхэттенскому проекту”. X. Альвен отмечал, что процесс возникновения Вселенной, согласно теории Большого Взрыва, напоминает взрыв атомной бомбы [Еременко 2000]. Возникновение теории Большого Взрыва – конкретный результат метафорогенной деятельности ее авторов.
216
метафоры мир – компьютер. При таком подходе метафоры мир – компьютер и Бог – Программист эвристически чрезвычайно продуктивны, поскольку многие современные научные концепции последовательно вписываются в эти метафоры: “например, ген как своего рода компьютерная программа; человек как персонаж компьютерной игры, запрограммированный на исполнение более или менее широкого набора функций, зависящего от амплуа, определенного Программистом. Сама история как стратегическая игра чрезвычайно высокого уровня сложности – игра, в которой возможен (но лишь в некоторых пределах) выбор сценария, корректировка цели, смена союзников и врагов; в которой предполагается продвижение сразу по нескольким парадигмам действия; в которой множество развилок, к коим приходят народы в результате тех или иных действий и в которых они должны выбирать дальнейший путь, не зная о всех возможных последствиях своего выбора. В метафору мир – компьютер неплохо вписываются некоторые аспекты великих религиозных учений, и знаменитое евангельское В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Иоанн 1: 1) может быть осмыслено как указание на то, что в основе любых операций лежит программа, то есть некий текст, записанный на особом языке, а выражение и Слово было Бог может указывать на непостижимое тождество Первопрограммиста и Первопрограммы” [Еременко 2000]. Концепция Первопрограммиста – Первопрограммы метафорична идее Иисуса Христа – Логоса. Н. Б. Мечковская, исследовавшая вопрос о том, почему одно из имен Иисуса Христа – Логос (Слово), отмечает, что образ Христа как Слова Божия возник под несомненным влиянием греческой философии гностиков и в особенности неоплатонического учения о предвечном Логосе. В христианской традиции сближение Сына Божия и Слова получает своеобразное, именно семасиологическое развитие. Так, в одном из православных сочинений о языке выстраивается метафорическая параллель между рождением Логоса и обычного человеческого слова: Слово же в чловеце во образ Сына Божия, понеже сын
Божии, имат у себе два рождения, первое родися от Отца неким рождением непостижным <…>, второе же родися без страсти истинно плотию. <…> То ради по сугубому (двойственному) рождению Сына Божия и нашего слова сугубое рождение, понеже бо наше слово рождается прежде от душа (духа)
неким рождением непостижным и пребывает у душа неведомо. И паки рождается вторым рождением плотьским, еже есть устнами изыдет и гласом в слышании объявится (“Беседа о учении грамоте”, изд. Ягич, 1885–1895: 675–676). По мысли писавшего, человеческое слово – метафора Христа, оно “сугубо” – духовно и телесно одновременно, духовность “опережает” телесность, и духовная сущность слова непостижима, как непостижимо рождение Христа. В современной теории языка эта мысль выражается в другой терминологии: в языке есть две стороны – значение и форма, план содержания и план выражения;
217
при этом, как автор “Беседы” рассуждал о непостижном рождении Слова от душа, так в современной лингвистике часто пишут об особой трудности изучения семантики, содержательной стороны языка [Мечковская 1998: 277]. Если предположить, что наш мир – некая игра, заложенная в Компьютер
высшим Программистом, то тогда, в полном соответствии с мистическими учениями, материальность нашего мира иллюзорна, ибо “на самом деле” (с точки зрения Программиста) эта материальность есть лишь воплощение его замысла – некие “картинки” на экране компьютера. “Но что мешает нам мыслить запрограммировавшего нас Программиста персонажем игры, сочиненной еще более совершенным Программистом, и т. д. – до бесконечности? В этом случае, чтобы не уйти в «дурную бесконечность программ», мы вынуждены будем предположить это самое непостижимое тождество Первопрограммиста и Первокомпьютера, мыслить некий Компьютер, смоделировавший самого себя. Это – Метакомпьютер, являющийся как бы подлинным эйдосом мироздания, то есть идеальным образцом мира и всех единичных вещей, находящихся в мире, в том числе и всех единичных компьютеров. Поэтому всегда, когда мы говорим о компьютере как модели мира, мы имеем в виду Метакомпьютер” [Еременко 2000]109. Заметим, что данные идеи чрезвычайно популярны в настоящее время не только среди специалистов в области технических и гуманитарных наук, они, в качестве новой мифологемы, находят широчайшую поддержку в обществе (этим, а не только зрелищностью и техническим совершенством объясняется, например, необыкновенная популярность серии фильмов “Матрица” (США) и др., развивающих идею отождествления компьютерного и реального миров). Действительно, “каждая метафора оказывается маленьким мифом” [Вико 1940: 146] и тем звеном, “благодаря которому осуществляется связь между конкретным и абстрактным мировосприятием”, а потому “представляет собой наиболее эффективный способ в деле…мифотворчества” [Мусаева 2000: 113].
109 Идея “компьютерной метафоры” широко используется в когнитивной лингвистике. Метафорические идеи лежат в основе целых направлений в развитии столь популярных сейчас информационных технологий. Так, с 1988 г. стратегическим приоритетом национальной политики США в области развития перспективных информационных технологий считается когнитивная компьютерная графика (ККГ). Визуализация на дисплее существенных свойств и отношений между объектами некоторой предметной области любой степени абстракции создает так называемый ККГ-образ, который, как правило, содержит в себе информацию (на уровне графических деталей компьютерного изображения) о возможных и не всегда заранее известных следствиях этих свойств и этих отношений. Другими словами, при определенных условиях такие ККГ-изображения часто становятся эффективным источником различных подсказок, помогающих увидеть новые закономерности в изучаемой предметной области. Это весьма существенный момент ККГ-концепции: компьютер не заменяет человека, а помогает ему увидеть нечто новое и выдвинуть в связи с этим какие-то идеи и гипотезы [Агеев 2002: 37].
218
1.4.4. Метафорический облик русского “предметного человека” (“предметные” метафорические концепты и метафоры)
Более чем 10% метафор описывают предметную сферу. Предметная
персонификация представляет собой универсальный метафорогенный механизм, имеющий религиозные корни и восходящий к идолизации ряда тварных предметов (наделению их душой) и последующей фетишизации. Как и человек — “божественный артефакт”, “предметный человек” может зарождаться, иметь короткую или долгую жизнь, в конце которой его, как и реального человека, ждет смерть, гибель и возможное последующее воскрешение ({ФизЯв>П/РецСП} — рождение изделия из-под рук мастера, долгая жизнь вещей, гибель вазы, воскрешение картины и др. “Предметный человек” имеет свою судьбу (судьба книги). Однако внешний облик “предметного человека”, скорее, бестиарен, биоморфен, чем антропоморфен (ср.: {ФизЯв>П/Фф} — бородка ключа, косичка ‘вид вязки’, лапы культиватора, палец ‘о детали’, пальчик штекера, перо сохи, плечо зернового конвейера, раковина суфлерской будки, рога якоря, ушко модели, уши котла, хобот экскаватора, челюсть ‘о детали механизма’, шейка пулемета, щеки пресса и др.). Вещная анимизация, свойственная языческому сознанию и подробно
описанная в фольклористике, часто сопровождалась магическими действиями. Созданный человеком предмет иногда предопределяет судьбу своего создателя, а антропоморфные предметы (вспомним, например, куколок Василисы) ведут себя так же, как и реальные люди, образами которых они являются. Заметим, что, хотя мифологическое сознание всегда допускало существование у предметов души, или “внутреннего человека”, появление целых предметных “сообществ”, часто организованных, – более позднее явление. Так, предметы в баснях Ж. Лафонтена и И. А. Крылова, в сказках Г. Х. Андерсена или в сценариях многочисленных современных мультипликационных фильмов образуют настоящего “внешнего человека”, и его описание способствует возникновению сложнейших символико-аллегорических систем. Современные артефакты в сознании своих творцов также могут образовывать “сообщества” друзей, помощников (дружественная техника, миролюбивая техника, домашние помощники) или врагов (высокочастотные приборы – наши враги), причем возможны сложные социальные процессы, происходящие в мире “внешнего предметного человека” (бунт вещей / машин и т. п.), действия которого часто направлены против своего творца – реального человека. Подобные процессы, как и все поведение “внешнего предметного человека”, становятся объектами философского, этического и художественного осмысления (например, футурологический роман В. Я. Брюсова “Восстание машин” (1908 г.), пьеса К. Чапека “R.U.R.” (1920 г.),
219
рассказ А. Азимова “Скиталец”110 (1942 г.) и др. произведения отечественных и зарубежных писателей и киносценаристов-фантастов, а также х/ф (“2001 год: Космическая Одиссея” (1968 г.), “Терминатор-3: Бунт машин” (2002 г.) и др.)). Подчеркнем, такие процессы никогда не существовали в действительности и имеют явную метафорическую природу, они символически близки, например, библейской истории о падении ангелов (творений, взбунтовавшихся против своего Творца), однако, данная модель {СоцЯв>П/РеалСП} оказывается особенно актуальной при описании современной недружественной техники, особенно компьютерной, в которой человек уже сейчас видит преуспевающего конкурента, лишающего его здоровья или вытесняющего с рабочего места. В истории известны реальные бунты против метафорических объектов — против орудий-соперников и даже орудий-врагов. Их разрушение оценивалось как уничтожение союзников враждующей стороны (например, во время стихийных выступлений английских луддитов, уничтожавших мануфактурное оборудование в конце XVIII—начале XIX вв.).
Заметим, что онтологическое описание метафорического концепта “предметный человек” предопределяется мировоззренческой позицией исследователя. Для людей с религиозными убеждениями любой человек — “образ и подобие”, “слепок” или “обезьяна” (словом, артефактная или биоморфная метафора) Бога, и креативная деятельность людей метафорична по отношению к деятельности Творца. Для исследователя-агностика или атеиста понятие “Бог” — следствие метафорогенной деятельности людей, опредмечивающих и персонифицирующих окружающую реальность, и в таком случае ситуацию с миром — компьютерной игрой, описанную выше, можно интерпретировать и диаметрально противоположно: современная компьютерная игра – артефактная метафора участка действительности, и в данной ситуации все зависит от того, что мы будем считать началом и концом метафоризации. Общение современного человека с компьютером вообще метафорично, метафоры предопределяют направление развития прикладных наук и, что более важно, производственных технологий. Это, прежде всего, метафоры типа модель мира, компьютер как партнер по диалогу и посредник.
При метафорическом описании предметного мира человек оказывается чрезвычайно консервативным. Чаще всего артефакты характеризуются наименованиями других предметов на основе формального сходства: {П>П/Фф}: бочка — о крыше, игла Адмиралтейства, нитка трубопровода, стрела
110 А. Азимов даже сформулировал “три закона робототехники”: 1) робот не может
наносить вред людям ни своим действием, ни бездействием; 2) робот обязан подчиняться любым приказам человека, за исключением приказов, противоречащих первому закону; 3) робот должен защищаться от угрозы своему существованию.
220
подъемного крана, блюдца НЛО, мукомольный ковш, котелок — о шляпе, барабан револьвера, гармошка сапога, колокола — брюки, крючки в тетради, колеса — о таблетках, челночок — сорт сушки, баранка — о руле, вермишель — о мыле в форме тонких нитей, таблетка — о шляпе, серьга сеялки, колонные каблучки, дисковая муфта, пожарный рукав, двери с пилястрами и кокошниками, лабиринт Лувра, шатер — о кровле, гнезда для патронов, стенка — мебель, стол — о площадке трамплина, восьмерка — о транспортной развязке, фанза, построенная покоем и др. Исследователями уже отмечен тот факт, что, как правило, это давно известные и хорошо всем знакомые предметы. Заметим, что, по нашим наблюдениям, формальный МП метафорически исчерпан. Новые реалии обычно описываются наименованиями, давно существующими в языке, а неметафорические наименования новых предметов редко выступают в качестве метафоризаторов с использованием формального признака.
Таким образом, элементы предметного мира, созданного человеком, регулярно соотносились с элементами сотворенного божественного физического мира, фактически артефактный мир становился метафорой физического, а физический — антропоморфной метафорой. Человек как образ Божий, наделенный искрой творения, обладает некоторыми способностями своего Творца, и основной целью человеческой практической деятельности является имитация и даже совершенствование привлекательных для людей природных материалов, микроклиматических условий, генетических механизмов и т. п. Метафоричны по своей природе реалии, описываемые как искусственные ({ФизЯв>П/ФфФу} — искусственная кожа, искусственное сердце и названия других имплантантов, искусственный климат в помещении и т. п.). Многие артефакты обозначаются или характеризуются наименованиями природных объектов, в частности, растительных организмов, хорошо знакомых человеку: {ФизЯв>П/Фф} — бананы ‘о брюках’, ткань в горошек, груша гудка, старинная луковица ‘о часах’, золотые луковицы собора, луковки Василия Блаженного ‘о куполах’, морковки ‘о брюках’ и т. д.
Все рассмотренные концепты — “внутренний человек”, “внешний человек”,
“природный человек” и “предметный человек” — имеют близкое “формальное”, частично “дублирующее” в сфере ассоциатов устройство. Метафоричность оказывается многократно “удвоенным” свойством, поскольку внутренний, общественный, природный и предметный метафорические “миры” человека близки по своим организующим началам. По словам Н. В. Грин, метафорическое осмысление языка “настолько входит в привычку, что порой бывает трудно себе представить, что оно может не соответствовать действительности” [Грин 2000: 46].
221
Известно, что сторонники концепции врожденности языка – нативизма (Н. Хомский и его последователи) – признают и саму языковую способность человека (включая метафорогенную), и “набор языковых структур универсального порядка врожденными и входящими в биопрограмму человека, наподобие таких органов или систем, как кровообращение” [Кубрякова 1996в: 105], другие исследователи придерживаются иного мнения: исключительно важную роль в онтогенезе универсалий играет социализация человека (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). Следует учитывать, что связь ассоциативно-когнитивных механизмов сознания с психофизиологическими (и нейрологическими) свойствами человеческого мозга изучена недостаточно полно (E. Winner). По результатам известных психолингвистических экспериментов, проведенных А. Р. Лурия [1975], и по собственным данным, полученным в ходе ассоциативно-когнитивного анализа нашего материала, мы можем утверждать, что:
1) ассоциаты образуют так называемые ассоциативные, или семантические поля, в которые входят единицы (или номинаты, в нашей терминологии), объединяемые общим исходным концептом;
2) в семантическом поле можно выделить ядро (наиболее частотные и регулярные ассоциаты в совокупности с наиболее “востребованными” сознанием номинатами) и периферию (редкие ассоциативные сочетания);
3) номинаты-метафоры получают свою конкретизацию только в речи, но утверждать что-либо большее без масштабных экспериментов — значит только предполагать (поэтому в своей диссертации мы не приводим в качестве иллюстраций столь характерных для когнитивных исследований схем, графиков и т. п., поскольку они часто еще более условны, чем сами когнитивные концепции);
4) семантическое модельное описание результатов метафоризации-декодирования позволяет унифицировать наши представления об ассоциативно-когнитивном механизме человеческого сознания.
1. 5. Лингвоаксиологический анализ метафорических концептов и
метафор Большинство метафор, даже мертвых (генетических и т. п.), получает
ценностную интерпретацию. Соответственно, под рубрикой “лингвоаксиологические исследования” мы предлагаем объединить все работы, выполненные в аспекте “язык – система ценностей и оценок” и реализующие чрезвычайно важную в гносеологическом смысле научную метафору “язык – собрание / система чего-либо”111.
111 По мнению американского философа науки Л. Лаудана [1996], существует три уровня организации самого научного знания: фактуальный, включающий факты и научные теории, методологический и аксиологический. Каждый последующий уровень выступает в этой модели как уровень оснований для предыдущего, в итоге последними основаниями научного знания выступают в этой модели аксиологические основания, и “поток” обоснования имеет здесь лишь единственное направление – от аксиологического через методологический к фактуальному уровню.
222
Аксиологи отмечают системную (в частности иерархическую) организацию ценностного сознания, которое, как “широкое мыслительное пространство, характеризуется общим рациональным языком, необходимым для взаимопонимания, но в то же время оно предполагает разнообразие самих ценностей, ценностных систем и иерархий, не сводимых друг к другу” [Розов 1998: 111]. Существует два подхода к определению истоков аксиологической динамики: 1) система ценностей складывается постепенно (эволюционирует медленно) и зависит от общественно-экономических ситуаций, пережитых обществом, а потому представляет собой гетерогенный феномен (ср.: “в современном мышлении уже существует историчное и конструктивное отношение к ценностям, опирающееся на традицию прошлого, сознающее ответственность перед будущим и признающее неизбежность ценностной полифонии” [Там же]); 2) глубинная основа системы ценностей априорна, как априорна сама категория ценности (нет обществ без ценностных ориентиров), и именно ценностные установки общества предопределяют исторический ход его развития, косвенно влияющий впоследствии и на коррекцию ценностей (см. труды Л. Б. Альберти, М. Вебера, отчасти эта же идея освещена в работах М. Оссовской). Можно предположить, что наши культурные ценности существуют не изолированно друг от друга, а должны образовывать согласованную систему вместе с метафорическими понятиями, в мире которых протекает наша жизнь [Lakoff & Johnson 1980a]. Сложность природы ценностей ограничивает исследователей в точности аксиологических определений. Ср.: “«ценность» 112 , подобно «истине», «разуму», «человеку», «культуре», по-видимому, никогда не будет определена исчерпывающим образом, однако
Поэтому лингвоаксиологические работы имеют двойную значимость: в них определяются как ценностные шкалы носителей языков, так и ценностные шкалы исследователей этих языков. 112 Ср. ценность – “предельное нормативное основание актов сознания и поведения людей… Можно насчитать даже больше альтернативных модусов: материальные вещи, психические представления, социокультурные образцы, идеальные объекты. Все зависит от того, сколько выделено онтологических слоев реальности (Н. Гартман) или миров (К. Поппер). Признаем, что ценности проявляются (живут, существуют) во всех указанных модусах… Тогда возникает вопрос о главном модусе, являющемся ядерной, ключевой структурой для остальных проявлений ценности (Обратим внимание читателей еще раз на характерное для современной науки «возвращение» стремления искать первопричину и единый / главный принцип всей деятельности человека. В сущности, построение моделей и представляет собой один из шагов в поиске этого единого принципа. – О. А.). Если принять существование идеальных ценностей как объектов идеального мира, то приходится именно идеальный модус признать ключевым. Ведь если он подчинен реалиям вещного, психического или социокультурного мира, то уже теряет сущностные свойства идеального объекта. Так мы попадаем в объятия традиционного объективного идеализма, метафизики и соответствующего ценностного абсолютизма” [Розов 1998: 116].
223
понимание этого обстоятельства не должно препятствовать созданию рабочих понятийных конструкций, отвечающих необходимости решения современных проблем. Использование, критика, коррекция, наконец, отвержение и замена таких конструкций являются необходимыми вехами в развитии мышления” [Розов 1998: 113–114]. Типология ценностей может быть, естественно, разной, что зависит, в первую
очередь, от конкретных задач исследований. I. Общезначимые (кардинальные / критические) ценности 113 . Первичные
общезначимые ценности – это такие, нарушение которых “прямо ущемляет права индивидов и сообществ жить, мыслить, действовать в соответствии со своими ориентирами…; кардинальные – это не значит «лучшие» в каком-либо варианте (высшие, центральные, главные, ядерные и т. п.). Признание сообществом кардинальных ценностей (жизнь, здоровье, свобода, продолжение рода) всегда оставляет ему возможность по-прежнему считать высшими совсем другие ценности (Бог, Нация, Традиция, Истина, Красота и т. п.). Кардинальность ценностей состоит только в нерушимости их границ (для носителей этих ценностей. – О. А.)” [Там же: 121]. Концептуальный анализ номинаций, обозначающих кардинальные ценности, широко представлен во многих современных интерпретационных и лингвокультурологических исследованиях. Такие номинации регулярно метафоризируются и/или генерализируются. Образование метафор, как правило, может быть описано моделями {ФизЯв>СоцЯв/РеалСП}, {ФизЯв>ПсЯв/РеалСП}, {ФизЯв>Отвл/РеалСП}, моделями с противоположными направлениями и теми же моделями, но с реляционным МП. Отметим, что выявленные нами концепты “внутреннего человека”, “внешнего
человека”, “предметного человека”, “природного человека” “кардинально-ценностно” иерархизированы. Наибольшую ценность в сознании русскоговорящих имеет “внутренний человек”: гармония, свобода, красота, здоровье и т. д. телесные в наших представлениях не так важны, как духовные и душевные. Общественная гармония (гармония “внешнего человека”) — следствие метонимизации, представляется говорящими прежде всего как
113 “Термины «общезначимое» и «всеобщее» (вкупе с калькой из латыни
универсальное. – О. А.) обычно используются как синонимы, но их целесообразно развести. Под всеобщим (универсальным) будем понимать классические идеалистические (в том числе традиционные аксиологические) представления о предустановленности, первичности по отношению ко всему человеческому, абсолютности, божественности, безусловной обязательности чего-либо для всех в силу своего метафизического статуса… Общезначимо то, что принято взаимодействующими субъектами (индивидами или сообществами), что способствует стабильности их отношений и образа жизни, взаимоприемлемому развитию” [Розов 1998: 118–119]. Концепт “внутреннего человека” относятся к разряду кардинальных.
224
совокупность внутренне гармоничных личностей (а не просто внешне привлекательных людей), отдельные сообщества которых не противостоят, а поддерживают друг друга. “Предметный человек” менее “ценен”, чем “внутренний” и “внешний”, его гармония, напротив, предопределяется внешними эстетическими и функциональными качествами вещей. Гармония “природного человека” оценивается русскоговорящими в целом достаточно высоко, особенно носителями религиозного и некоторых других форм общественного сознания (в частности приоритетного экологического). Таким образом, можно утверждать, что метафорическое “мировидение” “складывается” из исходных концептов различной ценностной “величины”. Заметим, что в художественной практике перечисленные ценности становятся
“образоформирующими” и являются объектом лингвостилистических изысканий, поскольку “в понятие художественного образа включается видение автором определенных явлений окружающего мира в контексте основных общечеловеческих ценностей и абстрактных понятий, обладающих наивысшей значимостью для человеческого бытия (жизнь/смерть, любовь/ненависть, красота/уродство, добро/зло, справедливость/несправедливость и др.). Художественный образ дает возможность сформулировать ценностное отношение к бытию и представить отвлеченные бытийные категории через конкретные, чувственно-наглядные переживания и ощущения” [Толочин 1996: 14].
II. Субкардинальные ценности подчинены кардинальным в том смысле, что нарушение первых создает реальные опасности для вторых… К субкардинальным ценностям относятся известные правовые и политические свободы: свобода и независимость печати, выборные или иные формы участия граждан в политической жизни, независимость суда, а также экологические ценности (чистый воздух, вода, пригодность почвы, достаточность основных ресурсов)” [Розов 1998: 122—123]. Языковые обозначения относительно “динамичных” субкардинальных ценностей практически не являются объектами теорий интерпретации и лингвокультурологии. Язык описывает функциональные и эстетические стороны природных и социальных объектов, но не их аксиологическую (например, экологическую) значимость для общества. Однако, некоторые номинации социальных явлений могут метафорически переосмысляться и характеризовать социальные явления других уровней. Например, {СоцЯв>СоцЯв/РеалСП}: политическая проституция, штрейкбрехерство, рабство в собственном доме, в плену высокой должности, власть денег, непотизм в учреждении, кумовство в больницах, дипломатия в разговоре на рынке и др; {СоцЯв>СоцЯв/Реал}: политическое банкротство, газетный бум, залог примирения ‘о ручательстве’, калым ‘о деньгах, получаемых за оказанную услугу’, крах государственной системы, трудовая лепта,
225
прибыль ‘о пользе государству вообще’, ставка на войну; {СоцЯв>СоцЯв/СП}: девальвация диплома о высшем образовании и др.; {СоцЯв>СоцЯв/РецФр}: прелюдия к историческим событиям, увертюра политических событий. Сами социальные события регулярно оцениваются метафорически (метафорами “внешнего человека” и его “предметной” и “физической” сфер. Например, {П>СоцЯв/Фу} — жернова избирательной кампании, социальная косметика, меч правосудия, опора политического движения, продукт эпохи, рогатки цензуры, цепи рабства; {П>СоцЯв/ФуРеал}: мясорубка — о войне, цензурный пресс, тормоз развитию земледелия, вериги бедности, кузница кадров. Модель {П>СоцЯв/Реал}: баня — о строгом выговоре, кабак на улицах, театр, цирк — об общественной ситуации. Остальные модели этого направления реализуются в единичных случаях: {П>СоцЯв/ФфФу} — Сталинградский котел, рывок из вражеских тисков; {П>СоцЯв/КвСп} — человеческий зверинец, людской муравейник и некоторые др. Субкардинальные ценности могут описываться по моделям {ФизЯв>СоцЯв/Рец}: правящая верхушка общества, низ общества, дно общества, политический кругозор, новая полоса в истории, центр — о партийной группировке между левыми и правыми, эпицентр тревожных событий, экватор чемпионата ‘о рубеже, завершающем первую часть чего-либо’ и др.; {ФизЯв>СоцЯв/РеалСП}: агония монархии, болезни общественной жизни, срывы и вывихи в работе, зараза суеверий, метастазы войны, социальная опухоль, паралич железной дороги, звездная лихорадка ‘об общественном ажиотаже, вызванным стремлением использовать космос в военных целях’, антидемократический психоз, раны войны на городе, уродства быта, социальная язва и др.; {ФизЯв>СоцЯв/РеалCП}: насыщение рынка товарами, парализация экономики, пробуждение общества к жизни, разрыв дипломатических отношений, разрядка международной напряженности, раскол политической организации, распад колониальной системы и др. Исследование метафор, описывающих субкардинальные ценности (например, свобода и независимость печати, выборные или иные формы участия граждан в политической жизни, независимость суда и т. д.) может быть чрезвычайно интересным (частично попытка описать субкардинальные ценности через “антиценности” представлена, например, в статье А. Н. Баранова “Метафорическая интерпретация понятия «коррупция»: языковые грани онтологизации бессознательного” [Баранов 2001]).
III. Этосные ценности — все необщезначимые ценности, реально служащие основаниями сознания и поведения людей [Розов 1998: 123], и анализу их номинаций посвящено колоссальное количество лингвистических работ (см., например, исследования по диалектной и социолектной метафорологии). Как справедливо отмечает В. И. Карасик, с культурологической точки зрения возможно изучение лексического (и даже грамматического) материала с позиций
226
аксиологических доминант определенного этноса. Такой подход предполагает “не столько описательную классификацию языковых единиц, сколько выделение основных типов поведения, свойственного представителям конкретного этноса и, тем более, представителям определенного социального слоя в составе того или иного этноса. Типы поведения выделяются при помощи культурно-антропологических схем и приоритетных норм. Названные схемы могут быть построены в виде статусных и ролевых моделей (в понимании данного автора. — О. А.) 114 … Типы поведения могут быть выделены на основании анализа паремиологического фонда языков, фольклора, сюжетов в художественной литературе, этнографических и культурологических описаний. Лингвистические данные — анализ значений слов, выражений, категорий языка — позволяют уточнить и, в ряде случаев, пересмотреть культурологические схемы, принимаемые в качестве гипотезы” [http://www.crc.pomorsu.ru/Science/Publish/Concepts/Issue%202(2)/sbornik2_4.htm]. Как отмечает Г. Н. Скляревская, исследуя метафоры, мы можем “сделать важные выводы о многих психологических и социальных явлениях, в частности, о том, какие человеческие качества порицаются и какие одобряются, какие явления стоят в центре и какие остаются в стороне, какие реалии действительности устойчиво связываются ассоциациями в сознании членов языкового коллектива и какие остаются изолированными” [Скляревская 1993: 101] (все исследовательские ценностные шкалы “градуированы” и, чаще всего, сами являются научными метафорами). Основу общего лингвистического анализа иерархии этосных ценностей мы находим в гл. 3 “Метафора и культурный фон” в уже упоминавшейся работе [Lakoff & Johnson 1980a]. Тезис о том, что “наиболее фундаментальные культурные ценности согласованы с метафорической структурой основных понятий данной культуры”, лег в основу огромного количества лингвистических и лингвофилософских работ во всем мире. Лакофф и Джонсон построили ряд аксиологических моделей на основе пространственных метафор типа “верх / низ” и выявили, что для западного общества (западноевропейского и северноамериканского культурных ареалов) характерны следующие представления: “больше (по количеству) – лучше”, “большее (по размеру) – лучше”, “будущее будет лучше”, “в будущем будет больше”, которые связаны с глубоко укоренившимися в культуре пространственными метафорами
114 Например, отношения “дети — родители”, “супруг — супруг”, “гость — хозяин”, “человек — животное”, “противник — противник” и т. д. Приоритетные нормы, считает исследователь, формулируются в виде исходных и производных ценностных суждений: отношение “дети — родители” важнее, чем отношение “супруг — супруг”, следовательно, родители всегда правы, родители обязаны помогать детям и дети — родителям, демонстрация привязанности родителей к детям и наоборот поощряется в обществе, в то время как демонстрация взаимных симпатий между супругами считается избыточной [Розов 1998].
227
“больше – вверху”, “хорошее – вверху”. Дж. Лакофф и М. Джонсон отмечают и возможность своеобразного аксиологического конфликта в результате изменений общественных условий при стабильности метафорического мировосприятия. Для объяснения подобных конфликтов между ценностями (и соответствующими им метафорами) мы должны обнаружить различные приоритеты, присваиваемые этим ценностям и метафорам той субкультурой, которая их использует. Например, метафора “больше – вверху”, как представляется, всегда имеет наивысший приоритет, поскольку ей отвечает наиболее очевидное физическое основание. Приоритет метафоры “больше – вверху” выше приоритета метафоры “хорошее – вверху”, что видно из примеров типа Inflation is rising ‘Инфляция повышается’ и The crime rate is going up ‘Преступность растет’. Инфляцию и преступность естественно оценивать как отрицательные явления; при этом данные фразы обладают присущим им смыслом вследствие того, что метафора “больше – вверху” всегда имеет максимальный приоритет. По мнению исследователей, отдельные люди, как и социальные группы, отличаются своими системами приоритетов и теми способами, которыми они осмысливают то, что для них хорошо или соответствует моральным требованиям (в этом смысле каждое лицо представляет собой подгруппу из одного члена, и индивидуальная система ценностей человека в целом согласована с главными ориентационными метафорами магистральной культуры). При этом могут быть межкультурные различия: не все культуры располагают приоритеты на ориентационной шкале “верх – низ”, как это делают европейцы; есть культуры, в которых понятия равновесия или расположенности относительно центра играют гораздо более существенную роль, чем в европейской культуре. Более того, если для европейцев в большинстве случаев активное находится “наверху”, а пассивное – “внизу”, то в некоторых культурах пассивность оценивается выше активности. Таким образом, главные ориентационные шкалы “верх – низ”, “внутри – вне”, “центральное – периферийное”, “активное – пассивное” и т. п. представляются общими для всех культур, однако виды ориентации, принятые для конкретных понятий, и роль ориентационных принципов, с точки зрения их важности, варьируют от культуры к культуре [Там же]. Заметим, что лингвоаксиологическое исследование индивидуальных М-
моделей, реализуемых в разных языках, может дать интересные результаты. Так, И. И. Дубровина проанализировала М-модель “Путь” в русском и английском языках (анализировались метафоры всех концептуальных объединений, в нашей терминологии — “внутреннего человека”, “внешнего” и др.) и пришла к выводу, что сходная логико-предметная информация служит основанием для разного вида оценочности. Например, трудности и страдания, сопутствующие передвижению по пути с неровной, каменистой или заросшей тернием поверхностью, имеют позитивную ценность для носителей русского языка, как способствующие укреплению характера,
228
благородному подвижничеству (ср.: тернистый путь чего-л.), и вызывают негативную реакцию англоговорящих, как требующие лишних хлопот и ненужного напряжения душевных и физических сил. В то же время, удобство и общедоступность многократно используемого большинством пути становится основанием негативного отношения со стороны русскоговорящих (идти проторенной дорожкой), поскольку ассоциируется с конформизмом и отсутствием творческого начала, но оценивается позитивно носителями английского языка, так как соотносится с социальной приемлемостью. Образу колеи в русском языке сопутствует признак устойчивости, стабильности, безопасности, но в английском rut, напротив, актуализируется признак затрудненности продвижения вперед. Для русскоговорящих очень важным является образ пути с хорошим качеством поверхности (ср.: ровный путь, ровная дорога, дорога скатертью), а для носителей английского языка этот образ не актуален. Более того, по наблюдениям исследовательницы, русский метафорический Путь чаще ведет в далекое, опасное или нереальное место, а английский путь приводит в безопасные жилища [Дубровина 2001: 15–23]. Лингвоаксиологическая система отражает сдвиги в общественно-
политической жизни общества115. Интерпретации ценностных ориентиров в языке посвящен ряд исследований [Парахонский 1989; Филюшин 1990; Арутюнова 1998; Трипольская 1999а, 1999б; Проблемы интерпретационной лингвистики 2000]. Лингвоаксиологический анализ слова возможен и в структурно-семантических описаниях языковых единиц (см. гл. II нашей диссертации). Аксиологические системы связаны с эмоционально-оценочными. Как отмечает Н. А. Лукьянова, само “словосочетание «эмоциональная оценка» называет разноуровневые явления. На экстралингвистическом уровне эмоциональная оценка представляет собой мнение субъекта (индивидуального или коллективного) о ценности некоторого объекта, которое проявляется не как логическое суждение, а как ощущение, чувство, эмоция говорящего. На языковом уровне эмоциональная оценка предстает как отраженное и закрепленное в семантике языкового знака, в качестве его микрозначения, или семы, мнение субъекта о ценности некоторого объекта” [Лукьянова 1986: 45]. В то же время, по наблюдениям Дж. Лакоффа и М. Джонсона, индекс приоритетов ценностей на аксиологической шкале только частично определяется субкультурой, в которой живет индивид, но в не меньшей степени – его личными оценками и пристрастиями, поэтому совершенно недопустимо игнорирование аксиологических параметров в исследованиях национальных и индивидуальных метафорик.
115 Ср., например, с известным наблюдением Г. Г. Гадамера: “упадок отдельных слов
показывает нам изменения, происходящие в сфере нравов и ценностей. Слово добродетель, к примеру, если еще и употребляется в нашем языковом мире, то разве лишь с ироническим оттенком. Если мы заменяем его другими словами, которые со свойственной им сдержанностью выражают обязательность нравственных норм таким образом, который уже совсем далек от былого мира твердых конвенций, – то эта замена является подлинным зеркалом того, что действительно существует” [Гадамер 1988].
229
1.6. Возможности применения результатов ассоциативно-когнитивного анализа
в интерпретационной лингвометафорологии
Полученные в ходе ассоциативно-когнитивного описания данные помогают объяснить интересные соответствия между интерпретациями различных типов метафорических текстов. В современной лингвистической науке ярко проявляется тенденция
квалифицировать литературоведческие, эстетические, этические, аксиологические, психологические и др. категории как лингвистические (Р. О. Якобсон, И. В. Арнольд, И. В. Толочин, Т. С. Борисова, А. П. Чудинов и др.) и использовать литературоведческие методы исследования в лингвистических изысканиях. Интерпретационный подход возникает на стыке психологии, лингвистики, литературоведения, герменевтики, аксиологии. В данной параграфе мы попытаемся осветить возможности применения результатов семантического моделирования и ассоциативно-когнитивного анализа его результатов в интерпретационных исследованиях. Современная интерпретационная лингвистика своими методами изначально
обязана герменевтикам прошлого. Как известно, библейские и святоотеческие тексты образовали тот гипертекст, который до сих пор является неиссякаемым источником прецедентных феноменов (мы уже отмечали выше о метафорической основе самой прецедентности 116 ). Многие исследователи отмечают, что герменевтическая ситуация возникает тогда, когда происходит “остановка-стоппер” в процессе понимания (Г.-Г. Гадамер, И. В. Соловьева), и, естественно, метафора может служить причиной возникновения такой ситуации. П. Рикер писал: “под герменевтикой я понимаю теорию операций понимания в их соотношении с интерпретацией текстов; слово «герменевтика» означает не что иное, как последовательное осуществление интерпретации. Под последовательностью я понимаю следующее: если
116 Однако, механизм цитирования, близкий прецедентности, лежит в основании
самой языковой деятельности. По мнению ряда исследователей (Б. М. Гаспарова, Ю. Н. Караулова, И. Н. Горелова, К. Ф. Седова и др.), вся языковая деятельность, в том числе и создаваемая / воспринимаемая речь, пронизаны блоками-“цитатами” из предшествующего языкового опыта. Другими словами, мы не столько “творим” речь, сколько ее воспроизводим, часто “цитируя” самих себя (метафорически эту идею В. В. Красных выразила так: “язык есть некий ментально-лингвальный аналог небезызвестной игры «Lego», а наша речевая деятельность заключается в том, чтобы из уже существующих «деталей» создать новый «предмет»” [Красных 2001: 85]), при этом трафаретность и шаблонизация в живом разговорном общении сочетаются с отчетливо выраженной установкой на творчество. Ср.: “«цитирование», «воспроизведение» (хотя, на наш взгляд, эти слова надо понимать, скорее, метафорически, нежели в прямом смысле) носит творческий характер. И речевая деятельность как таковая — процесс тоже, безусловно, творческий, ибо нельзя дважды войти в одну и ту же реку” [Там же: 86].
230
истолкованием называть совокупность приемов, применяемых непосредственно к определенным текстам, то герменевтика будет дисциплиной второго порядка, применяемой к общим правилам истолкования. Таким образом, нужно установить соотношение между понятиями интерпретации и понимания... Под пониманием мы будем иметь в виду искусство постижения значения знаков, передаваемых одним сознанием и воспринимаемых другими сознаниями через их внешнее выражение (жесты, позы и, разумеется, речь). Цель понимания – совершить переход от этого выражения к тому, что является основной интенцией знака, и выйти вовне через выражение... Что же касается перехода от понимания к интерпретации, то он предопределен тем, что знаки имеют материальную основу, моделью которой является письменность. Любой след или отпечаток, любой документ или памятник, любой архив могут быть письменно зафиксированы и зовут к интерпретации. Важно соблюдать точность в терминологии и закрепить слово «понимание» за общим явлением проникновения в другое сознание с помощью внешнего обозначения, а слово «интерпретация» употреблять по отношению к пониманию, направленному на зафиксированные в письменной форме знаки” [Рикер 1995: 3]. Отметим, что герменевтическим объектом может быть не только “интерпретируемый” текст, но и “понимаемая” коммуникативная ситуация в целом, в том числе и поведенческие метафоры как элементы внелингвистической метафорики, и именно поэтому в теории речевой коммуникации выделяют специальные постулаты герменевтики – “основания понимания”: логический (очерчивает в процессе коммуникации единство логических средств, их соотносимость, непротиворечивость; выявляет метафорические девиации при нарушении логического постулата); гносеологический (задает процедуру понимания в терминах познания, осмысленности, истинности, ценности, например, определяет гносеологическую ценность метафор-терминов в научной коммуникации); онтологический (характеризует культурно-исторический, конкретно-предметный статус процесса понимания); психологический (квалифицирует совместимость психических установок, стимулов общения, мотивов и интересов, описываемых метафорическими средствами). Понимание метафоры – это прежде всего ее выделение в тексте / дискурсе. В
качестве примера можно привести евангельские притчи. Незатейливые житейские случаи, положенные в основу притч Иисуса, воспринимаются сначала его учениками буквально, а потому вызывают у них вопросы и желание понять, что скрыто за внешней простотой: изъясни нам притчу. Обычный случай со сметливым человеком, посеявшим на своем поле пшеницу и получившим ущерб, скорее всего, из-за людской зависти, но нашедшим выход из положения (когда
люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда
231
взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою (Мф 13: 24–30)), приобретает свое величайшее эсхатологическое значение только после объяснений Иисуса: “сеющий доброе семя есть Сын
Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их” (Мф 13: 36–43). Использованные здесь метафоры впоследствии “поднимаются до символов” только благодаря этим объяснениям. Выстроенные в метафорических текстах-притчах системы метафор и символов безупречны и идеально подходят для объяснения самых сложных вещей. Определение структур и компонентов конфессиональных метафорик в национальных метафорических системах становится предметом отдельного исследования. Однако установление границ интерпретируемого объекта зависит от личности интерпретатора117.
“Метафорическое обозначение не строится по принципу однозначности. Оно организовано по принципам «как если бы»” [Серебренникова 2000: 148] и “потому что”. Но еще более важной является прагматическая установка на декодирование метафор. Это подтверждают исследования, приводимые психологами R. W. Gibbs (младшим) [1992: 565] и R. G. Fogelin [1986: 6–20]. R. W. Gibbs обнаружил, что респонденты с большей легкостью распознают и интерпретируют метафорические смыслы в высказываниях, если им сообщается, что отрывки взяты из произведений знаменитых поэтов ХХ в., но если те же
117 В своей преподавательской практике нам многократно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда слушатели — неносители языка вычленяли для особой интерпретации метафорические обозначения известных русскоговорящим реалий совершенно иначе, чем это делают носители русского языка. В качестве примера можно привести интерпретацию метафор, возникших на основе номинаций болезней. Японские студенты были чрезвычайно удивлены, что подобные метафоры вообще широко используются в русском узусе, в том числе и как характеристики лиц (что не допустимо, с позиций японского речевого этикета, даже между хорошо знакомыми людьми), но ни в одном учебном пособии или словаре как объект для особой интерпретации эти единицы не выделялись.
232
самые отрывки предлагаются испытуемым в качестве наборов слов, сделанных компьютером, распознание и интерпретация метафорических смыслов вызывают затруднение. R. G. Fogelin доказал, что одни и те же предложения, функционируя как отдельные высказывания, могут восприниматься как метафорические, буквальные или абсурдные. Таким образом, существует прямое воздействие прагматических установок участников коммуникации на восприятие метафоры (Цит. по [Толочин 1996: 28]). Это можно доказать следующими примерами из текстов “Предсказаний” Леонардо да Винчи. 1. О морские города! Я вижу ваших
граждан, как женщин, так и мужчин, туго связанных крепкими узами по рукам и ногам людьми, которые не будут понимать ваших речей, а вы сможете облегчать ваши страдания и утрату свободы лишь в слезных жалобах, вздыхая и сетуя про себя, ибо тот, кто связал вас, вас не поймет, ни вы их не поймете. 2. Много будет таких, что встанут друг против друга с острым железом в
руках, но они не причинят друг другу иного вреда, кроме усталости, ибо насколько один будет подаваться вперед, настолько другой отклонится назад. Но горе тому, кто окажется между ними, потому что он будет разрезан на куски (Цит. по [Санников 2002: 402]). В данных отрывках использовано только одно переносное средство – метонимия железо, потому что это тексты-загадки: первый – о спеленутых младенцах (а не пророчество о судьбе Италии), а второй – о простых пильщиках. Подобные тексты-пародии, содержащие ложные метафоры, интересны для специального изучения. В метафорологических исследованиях интерпретационный подход (см. работы
I. Almeida, Г.-Г. Гадамера, С. С. Аверинцева, D. Lodge, M. G. Haley, M. Stala, J. Habermas, F. Fellman, Е. Добренко, О. А. Староселец, Н. Ф. Крюковой, К. В. Томашевской и мн. др.) реализуется в нескольких направлениях, главными из которых являются, во-первых, герменевтические толкования (например, восходящие к гомилетическим работам толкования метафор и символов в сакральных языках – церковнославянском (Т. С. Борисова, Т. И. Заворина), средневековом латинском (Ф. Растье) и т. п.), а во-вторых, лингвоаксиологические интерпретации С позиций сторонников интерпретационного подхода, языковая метафорика
опосредованно “отражает” социально-культурный опыт человека и представляет собой своеобразную семиотическую матрицу очень сложной организации, поскольку один и тот же объект может получать различное, на первый взгляд, неожиданное метафорическое осмысление, например: Женщина – единственная
вера, лишь ее молюсь я божеству… Женщина – раскованное море, что меня качает на волнах… Женщина – таинственная птица, что меня уводит за собой… Женщина – зовущая дорога, не свернуть с нее мне никогда… Женщина – томящееся поле, ждущее и влаги, и луча… Женщина – чарующая сказка. Вся она – живое волшебство… Женщина – распахнутая книга. Смысл
233
ее загадочная весть… (Р. Чайковский). Метафоричность прежде всего отражается в образных средствах языка, где культурно значимая информация выражена в коннотативном аспекте значения и играет важную роль при выборе языковых средств в смыслопостроении [Крюкова 2001]. Интерпретация метафорического текста социально обусловлена. “В случае
монокультурной, но межсоциумной коммуникации основные различия касаются не столько знаний, сколько представлений, а отказаться от своих убеждений или, по крайней мере, терпимо относиться к отличным представлениям или убеждениям других подчас бывает намного труднее, чем «просто» попытаться «войти» в мир другой культуры” [Красных 2002: 33]. Кстати, одна из причин неприятия сленговой культуры – ее видимая доступность и одновременная невозможность коммуникативной интеграции. Интерпретация “чужих” метафор, используемых представителями другой социальной группы, всегда затруднительна и неоднозначна, будь то единицы метафорического языка придворных щеголей XVIII в. или сленг компьютерных хакеров XXI в. В последнем случае, например, вопрос, “какая операционная система установлена на твоем компьютере — OS/2 или Windows?”, в зависимости от ситуации общения будет звучать следующим образом: 1. У тебя Ос пополам (иногда полуось) стоит, или ты в Виндах работаешь? 2. У тебя Большой полосатый мух на тачке, или ты форточками стучишь? Данные высказывания в принципе не интерпретируются русскоговорящими, если они не владеют компьютерным сленгом. Интерпретация представляет собой одновременно и процесс, и результат в
установлении смысла речевых (и / или неречевых действий), 118 при этом предполагается, что необходима “презумпция интерпретируемости объекта” [Демьянков 1996: 31], другими словами, интерпретируемость характерна не для всех лингвистических объектов. Границы интерпретируемости метафоры предопределяют само ее существование: неинтерпретируемая метафора – не-метафора вообще. Это отмечалось представителями и логического, и структурно-семантического подходов к ее описанию. Метафора интерпретируется в определенной концептуальной парадигме
знания, при этом “метафоры, с одной стороны, снимают прежние ограничения на формы описания исследуемой области, а с другой – заменяют возникшую «размытость» отображения объектов некоторой гипотетической определенностью, приписывая объектам данной области ранее не выявленные у них свойства и тем самым направляя процесс научного поиска на обнаружение этих свойств. Эти особенности поисковой деятельности воспроизводятся или моделируются в дискурсе” [Томашевская 2000: 52]. Само языковое
118 В отечественной лингвистике проблема когнитивной интерпретации детально исследуется, прежде всего, в работах В. З. Демьянкова [1988, 1989, 1994, 1996].
234
моделирование есть реализация “отражательных”, в метафорическом смысле, свойств языка. Модельные возможности языка опосредуют отношение культурного опыта человека к реальности и представляют собой уже упоминавшуюся семиотическую матрицу. Интерпретация метафор с позиций структурно-семантического подхода
представляет собой не просто объяснение, но и приписывание данным метафорам конкретных содержаний, т. е. фактически благодаря интерпретационным возможностям осуществляется и процесс метафорического кодирования, и процесс метафорического декодирования: “интерпретационная процедура – ряд когнитивных операций, позволяющих приписать значение данной языковой последовательности” [Растье 2001: 363]. При этом интерпретация, выявляющая актуализированные в метафоре семы (ингерентные и афферентные – в терминологии Растье), обозначается как внутритекстовая, а интерпретация, обнаруживающая неактуализированные в метафоре семы – как затекстовая. Соответственно, языковой контекст, с помощью которого устанавливается семное отношение, обозначается термином интерпретант. Системная “механика” структурно-интерпретационного анализа детально
представлена в упоминавшейся прежде работе Ф. Растье [2001: 250 и послед.], мы же проилюстрируем здесь основные ее этапы только на одном примере allegoria quae verbis fit ‘иносказания в речениях’ Беды Достопочтенного, который в свое время предложил следующее толкование стиху из книги пророка Исаии: И
произойдет отрасль из корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его (Исаия 11: 1), что означает “от древа Давидова Девой Марией будет рожден Господь Спаситель”. Как считает Растье, в библейском тексте родовую изотопию (семное соответствие, близкое к тождеству) образует рекурренция (актуализация) семы “растительность” в ботаникосемизмах-метафорах отрасль, корень, ветвь, а в итоговом – рекурренция семы “Бог” в Давид, Дева, Мария, Господь. “Различие между ингерентными родовыми признаками сопровождается различием между афферентными родовыми признаками, установленными в соответствии с экзегетическими нормами: буквальный vs переносный; ветхий vs новый; иудейский vs христианский” [Растье 2001: 250–251]. Как известно, цель такого толкования – показать, что Новый Завет претворяет и превосходит Ветхий Завет, свой прообраз. Более того, Ветхий Завет соотносится с Новым как буквальный смысл с духовным. Так корень в ветхозаветном тексте соотносится с новозаветным древом в затекстовой интерпретации, аналогично Иессей – с Давидом, поскольку содержание имен собственных в основном состоит из афферентных признаков, а одним из таких признаков для Иессей является “отец Давида”; отрасль – с Девой Марией (семантический признак “женский” является ингерентным в Деве и афферентным по женскому роду в отрасли). В итоговом высказывании присутствует и доля внутритекстовой интерпретации. Природные
235
(биоморфные) метафорические символы, таким образом, получили интересное системную интерпретацию, ставшую уже канонической. В связи с этим небезынтересен следующий факт: когда в 1968 г. Ф. Растье и другие сторонники структурно-интерпретационного подхода предложили свое толкование библейских текстов участникам большого Версальского семинара – избранному, как пишет сам Растье, сообществу экзегетов, – то многие из собравшихся обратили внимание на сходство интерпретационных методов структуралистов с герменевтическим методом отцов Церкви [Там же: 250–283].
Выявленные нами модели и приведенный выше ассоциативно-когнитивный анализ метафорического материала позволяет “систематизировать” метафорическое мировидение, “зафиксированное” в разных типах текстов. Например, метафорами “внутреннего человека” — строителя, зодчего, каменщика описывается все душевное “устройство” во многих святоотеческих текстах (модели {ФизЯв>ПсЯв/Фу}, {П>ПсЯв/Фу}, {П>ПсЯв/РецФу}, ({П>Отвл/РецФу} и некоторые другие).
Приведем пример такого текста, ранее, по нашим сведениям, не привлекавшего внимание исследователей метафор и символов. Так, Преп. авва Дорофей в поучении “О созидании и совершении душевнаго дома добродетелей” своих “Душеполезных поучений” писал:
Писание упоминает о повивальных бабках, которыя оставляли в живых детей Израильских мужескаго пола, что, понеже бояхуся бабы Бога, сотвориша себе жилища (Исх. 1, 21). О чувственных (реальных. — О. А.) ли жилищах говорится здесь? И какой имеет смысл созидать себе домы по страху Божию? Мы (делаем) противное: нас учат оставлять ради страха Божия иногда и те дома, которые имеем. Писание говорит (здесь) не о чувственных жилищах, но о доме душевном, который созидает себе человек соблюдением заповедей Божиих. Писание научает нас сим, что страх Божий побуждает душу к хранению заповедей, и посредством заповедей созидается дом душевный. Будем и мы, братия, внимательны к самим себе; убоимся и мы Бога и созиждем себе домы, чтобы найти защиту во время зимы, во время дождей, молний и громов, потому что великое бедствие терпит зимою неимеющий дома. Как созидается дом душевный? Из постройки чувственного дома можем в точности научиться сему делу, ибо кто хочет построить такой дом, тот должен отовсюду укрепить его и с четырех сторон возводить стену, а не об одной только стороне заботиться, другие же оставить в небрежении: потому что он не получит никакой пользы, но понапрасну утратит все: намерение и издержки, и труд. Так бывает и относительно души: ибо человек, желающий создать дом душевный, не должен не радеть ни об одной стороне своего здания, но ровно и согласно возводить оное… Сперва должно быть положено основание, то есть вера…, и потом, на сем основании человек должен строить здание равномерно: случилось ли послушание, он должен положить один камень послушания; встретилось ли огорчение от брата, он должен положить один камень долготерпения; представился ли случай к воздержанию, должен положить один камень воздержания. Так от всякой добродетели, для которой представляется случай, должно полагать в здание по одному камню и, таким образом, возводить оное со всех сторон, (полагая) то камень сострадания, то камень отсечения своей воли, то камень кротости и т. п. И при всем том должно
236
позаботиться о терпении и мужестве: ибо они суть краеугольные камни, ими связывается здание и соединяется стена со стеною, почему оне не наклоняются и не отделяются одна от другой. Без терпения и мужества никто не может совершить ни одной добродетели… Строящий должен также на каждый камень класть известь; ибо если он положит камень на камень без извести, то камни выпадут и дом обрушится. Известь есть смирение, потому что она берется из земли и находится у всех под ногами. А всякая добродетель, совершаемая без смирения, не есть добродетель… Дом должен иметь и так называемыя связи, кои суть рассуждение: оно утверждает строение, соединяет камень с камнем и связывает стены, а вместе с тем придает дому и большую красоту. Кровля же есть любовь, которая составляет совершенство добродетелей так же, как и кровля — верх дома. Потом после кровли перила кругом ея. Что же значат перила кругом кровли? В Законе написано о сем: если построите дом и сделаете на нем кровлю, то сделайте вокруг кровли перила, чтобы дети ваши не падали с кровли (Второз. 22, 8). Перила суть смирение, потому что оно ограждает и сохраняет добродетели; и как каждая добродетель должна быть соединена со смирением подобно тому, как мы сказали, что над каждым камнем полагается известь, так и для совершенства добродетели нужно смирение… Кто же суть дети, о которых сказал Закон, чтобы они не падали с кровли? Дети суть помышления, бывающие в душе, которыя должно хранить смирением же, чтобы они не упали с кровли здания… Да, мы не упомянули еще об одном. Что же это такое? Чтобы зодчий был искусен; ибо если он не искусен, то он покривит немного стену, и дом когда-нибудь обрушится. Искусен тот, кто разумно совершает добродетели” [Душеполезные поучения 1994: 156—160].
Следует сказать, что подобные строительные и контейнерные метафоры используются до настоящего времени в когнитивистике для описания структур сознания. Святоотеческая герменевтика, связанная с толкованием сакральных текстов, имеет много общего с современной структурной интерпретацией текстов вообще: в обоих случаях требуется учитывать существование внутритекстовых и затекстовых социокультурных и идиолектных норм [Растье 2001: 250—283]. В целом, адекватное декодирование такого рода текстов в наши дни вообще возможно только потому, что древнейший концепт “внутреннего человека” — труженика и строителя до сих пор имеет массу речевых метафорических экспликаций (ср.: не позволяй душе лениться…, душа обязана трудиться и т. п. и строить догадки / предположения / , обосновывать и т. д.).
Подобные тексты, по модельным предпочтениям использованных в них результатов метафоризации, интересны в сопоставлении с текстами иного рода — политическими программами, манифестами и т. п., в которых метафорами “внешнего человека” — строителя и — одновременно — строительного объекта описывается все социальное устройство общества (модели {П>СоцЯв/Фу}, {П>СоцЯв/РецФу}, и некоторые др.). Выше уже отмечалась важнейшая роль архитектурно-строительной лексики в политическом дискурсе и — шире — архитектурно-строительных понятий в общественном сознании (например, советский народ — строитель
237
коммунизма и одновременно строительный материал). По наблюдениям Л. П. Якимовой, на глубинную укорененность строительно-архитектурного текста в культуре XIX—XX вв. обратил внимание А. Генис, даже популярность марксизма объяснявший ни чем иным как “образной мощью архитектурной метафоры: «Общество у Маркса — дом. Он не состоит из нас и не растет в нас, а нами строится. Сперва — базис, фундамент. Это экономика, производственные отношения, потом надстройка, то есть идеология, культура, искусство, мораль. Но если общество — дом, то его всегда можно снести и построить заново. Дом нуждается в ремонте, иногда в капитальном, иногда в косметическом. Перестройка, кстати сказать, — последняя в ряду архитектурных метафор» [Генис 1996: 210]”. Возможно, считает Л. П. Якимова, верно, что не тонкости политэкономии, а как раз их образная мощь и привела миллионы к марксизму, если учесть, что данные метафоры питаются из глубин мифопоэтических источников. Сочинения классиков марксизма-ленинизма, Программы РКП (б) / КПСС образовали гипертекст с огромным количеством интертекстуальных строительных метафор, часто превращавшихся в символы, причем многие из них благополучно существуют в современном российском многопартийном политическом дискурсе.
Заметим, что возможен не просто параллелизм модельных предпочтений, а даже сближение строительных метафор “внутреннего человека” и “внешнего человека” (наиболее ярко это представлено в текстах, отражающих популярную в постреволюционный период концепцию Богостроительства). Как отмечает Н. Л. Галеева [1997], метафоричность всегда выступает как показатель менталитета различных языковых сообществ людей (например, менталитета народа – носителя языка; профессионального / возрастного / гендерного менталитета и др.) и проявляется в преобладании определенных типов текстов в разных культурах (см., например, типологию текстов по эмоционально-смысловой доминанте у В. П. Белянина [2000]).
Существование параллелей между такими разнородными по происхождению, функционально-стилевой направленности и содержанию текстами, включающими архитектурно-строительные метафоры, обусловлено только тем, что наблюдается известные совпадения в организации концептов “внутреннего” и “внешнего человека”.
2. Применение результатов ассоциативно-когнитивного анализа
русской субстантивной метафорики в лингводидактике и теории перевода
238
В данном параграфе будут рассмотрены возможности практического применения результатов семантического моделирования (и последующего их ассоциативно-когнитивного анализа) в лингводидактике и теории перевода. Цель данной части исследования — кратко охарактеризовать те достоинства модельного описания, которые, на наш взгляд, могли бы помочь в решении сложных задач практической лингвометафорологии. Национальная обусловленность метафорик приводит к тому, что метафоры
представляют собой сложнейший лингводидактический объект. Н. И. Жинкин [1967] выдвинул гипотезу о существовании универсально-
предметного кода (УПК) – языка интеллекта, имеющего принципиально невербальную природу, языка схем, образов, отпечатков реальности (осязательных и обонятельных), кинетических импульсов и т. д. По мнению исследователя, движение от мысли к слову начинается с этого кода, а мысль существует в пределах возможностей данного кода. При вербализации мысль трансформируется, “обрастает” значениями единиц конкретного национального языка, но сам УПК “интернационален”, а потому является предпосылкой к пониманию иноязычной речи, в том числе и ее метафорических составляющих. Интерпретация такой мысли, “обросшей” значениями конкретного национального языка, и становится предметом лингводидактики. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, согласно своей лингвострановедческой теории слова, вычленяют в структуре семемы лексическое понятие – “семантические доли, которые обеспечивают классификацию предмета”, и лексический фон – “те (вместе взятые) непонятийные семантические доли, которые входят в семему, но не участвуют в опосредованной языком классифицирующей деятельности человека” [Верещагин и Костамаров 1980: 25]. Исследователи объясняют механизм образования метафоры следующим образом: “метафора представляет собой перемещение определенных семантических долей из фоновой части слова в понятийную. Метафора — это на самом деле перенос, но не слова на явление, чуждое семантике этого слова, а сначала перенос фоновой семантической доли в понятийную часть слова, а лишь потом обычная номинация с включением «чужого» явления в объем нового понятия” [Там же: 301]. Именно поэтому обучение системе метафор – необыкновенно сложная задача, особенно если ее поставить перед представителем иной социокультурной общности, не пересекающейся с культурным ареалом носителей изучаемого языка. Обучение усложняется еще и отсутствием тождеств в “классификационных решетках” — когнитивных системах у носителей разных языков 119 . Тем не менее, в последнее время результаты когнитивных
119 Ср.: “в ходе исторического развития разные нации, воспринимая окружающую
реальность в принципе одинаково, выделяют в одних и тех же предметах и явлениях разные признаки и поэтому объединяют их в разные группы, обозначая их разными
239
исследований стали широко использоваться в лингводидактике – при обучении иностранным языкам, в теории перевода, теории межкультурной коммуникации и т. д. Во-первых, учитывается то, что когнитивные базы и когнитивные
пространства (как индивидуальные, так и коллективные) актуализируются в пресуппозициях, т. е. в тех общих фондах знаний, общем опыте, общем тезаурусе, общих предварительных сведениях, которыми обладают коммуниканты, соответственно, первоочередной задачей становится формирование у иноязычных слушателей общей коммуникативной компетенции, а не только практических навыков в аудировании, легировании и т. д. Во-вторых, в зависимости от социальной и национальной принадлежности слушателей, определяют моносоциумный межкультурный и межсоциумный межкультурный типы коммуникации, которые учитывают при обучении чужой метафорике. Перефразируя ставшее знаменитым рассуждение В. Куайна, скажем: познание
слова состоит из двух частей, и первая заключается в ознакомлении с его звучанием и в способности воспроизвести его (это фонетическая часть, которая достигается путем наблюдения и имитации речевого поведения других людей), а другая часть, семантическая, заключается в познавании того, как использовать это слово, и эта часть, даже в парадигмальных случаях, оказывается более сложной, чем фонетическая, поскольку слово всегда относится к какому-либо наблюдаемому объекту и обучаемый должен не только узнать слово фонетически, услышав его от говорящего, но и “увидеть” объект, и в дополнение к этому, чтобы установить соответствие между словом и данным объектом, он должен “видеть”, что говорящий также “видит” тот же самый объект. Соответственно, нужно стремиться к тождеству реакций на метафоры у ее
автора и у того, кому она адресована [Nida & Taber 1974; Складчикова 1985, 1987]. В моносоциумной межкультурной коммуникации обнаруживается, что энциклопедические знания об объектах, событиях, личностях и т. д. объединяют
словами. Так возникают разные системы понятий: “классификационные решетки” [Аверина 1994], “ассоциативные тезаурусы” [Караулов 1993], или типы ассоциатов, в нашей терминологии, причем “классификационная решетка” родного языка чрезвычайно “властна”, и даже человеку, свободно владеющему иностранным языком, свойственно объединение представлений в группы, типичные для нации, к которой он принадлежит. “Классификационная решетка” формируется у носителя языка в течение всей его жизни подсознательно, следовательно, основной целью лингводидактики становится обеспечение условий формирования у обучающихся новой “классификационной решетки”. Именно связь между сигнификатом и словом (ассоциация), существующая в сознании носителя языка, лежит в основе беспереводного владения языком, следовательно, средством формирования беспереводного владения языком является создание таких ассоциаций, в том числе и метафорических [Аверина 1994: 8–9].
240
носителей всех языков, но “представления, за этими знаниями стоящие, могут значительно разниться и провоцировать конфликты (например, прецедентные имена и прономинации Суворов – для русских и поляков, Бородино – для русских и французов, Чингисхан – для русских и монголов, Хиросима или Том Сойер – для русских или американцев)” [Красных 2001: 167]. Соответственно, единицы Суворов, Чингисхан, Том Сойер, Бородино, Хиросима получат разные толкования в русском, французском, монгольском и т. д. узусах. Так, прономинация Дон Кихот в разных национальных сообществах декодируется по-разному: “для русских Дон Кихот – доблестный, бескорыстный, подчас наивный борец за справедливость, с возможной минимизацией данного набора, вплоть до одного дифференциального признака, например, в зависимости от контекста, может подразумеваться только бескорыстие. Для испанцев (точнее, каталонцев) Дон Кихот – человек не слишком большого ума, занимающийся ненужными вещами (данные О. М. Мунгаловой). Для шведов же или американцев Дон Кихот – человек, занятый бесполезным и бесплодным занятием” [Красных 2002: 89–90]. Подобные различия касаются осмысления и, соответственно, выражения в языке понятий, которые, на первый взгляд, должны были бы быть идентичными при моносоциумной межкультурной коммуникации.
Наш практический опыт работы с неносителями русского языка показал, что на начальном и продвинутом этапе обучения языку студентам целесообразно предлагать метафорический материал так, как он представлен нами в п. 1. гл. III, т. е. через знакомство с базовыми концептами, формирующими метафорическое “мировидение” русскоговорящих, а именно через анализ систем речевых экспликаций номинат-метафоризаторов и номинат-метафор и ассоциатов (естественно, в методических целях осуществляется знакомство с результатами исследования, а не терминосистемой). Заметим, что подключение метафорического материала к основному всегда вызывает повышенный интерес у аудитории.
Например, на начальном этапе обучения студентов филологических и нефилологических специальностей характеристику метафорического концепта “внутреннего человека” (а данные метафоры образуют самую объемную группу в своем разряде) даже при интенсивном методе можно начинать вводить во время изучения следующих блоков-тем (указаны в скобках): 1. “Внутренний человек” переживает тот же “жизненный цикл”, что и “телесный” (метафоры зарождения, рождения, жизни, зрелости, роста, смерти, гибели и воскресения) (темы “Моя семья”). 2. Русский “внутренний человек” может здоровым, крепким, но чаще он страдает практически всеми видами соматических заболеваний (тема “Поликлиника”). 3. Тишина и покой — идеальные состояния для “внутреннего человека”. Музыкальные метафоры (тема “Концерт. Театр”). 4. Путь “внутреннего человека” (тема
241
“Путешествие”). 4. Социальные характеристики “внутреннего человека” и события (богатство, бедность, нищета, крах и т. д.) в его мире (тема “Наш город”). Аналогичным образом подключается метафорический материал, “формирующий” “внешнего”, “природного” и “предметного” человека (ср., например: день рождения студента, рождение партии, рождение дня, день рождения города – тема “Наш город”).
Подобные метафорические “добавки”, по нашим наблюдениям, стимулируют творческое воображение студентов, позволяют даже на начальном этапе обучения не бояться “играть” со словом, значительно обогащают словарный запас, формируют общую коммуникативную компетенцию. Впоследствии студенты сами предлагают “словарные эксперименты” в парадигмальном направлении, что, бесспорно способствует сближению их когнитивных пространств с русским.
Для слушателей-филологов продвинутого уровня (при поаспектном пролонгированном обучении) возможно специальное поурочное введение данного материала (темы “Русская душа”, “Русское общество”, “Природа глазами русских”, “Быт глазами русских”).
Для слушателей интенсивных специальных курсов целесообразно подключать материал с соответствующей семантикой (например, для курса “Business Russian” - метафоры “внешнего человека” и “предметного человека”). При обучении метафорическому материалу и его переводе возникает
отмеченная уже проблема тождества интерпретации. В статье “Межкультурная призма перевода” Ж. Р. Ладмираль предлагает
использовать для перевода метафор так называемую “теорему дихотомии”, суть которой заключена в следующем (Цит. по [Горшкова 2000: 43–44]). В переводческой практике часто складывается следующая ситуация: единица Х одного языка (ОЯ) не имеет точного эквивалента в другом языке (ДЯ), что можно отобразить формулой: Х(ОЯ)Ш(ДЯ). Переводчик оказывается тогда перед “дихотомией выбора” переводческого эквивалента120. Например, во французском языке высока частотность метафорического употребления слов fasciste для обозначения грубого и авторитарного стиля обращения и sovietique для характеристики настойчивого прессинга. Для их перевода в немецком языке можно было бы использовать эквивалент Fashist, а в русском, соответственно – советский, но это привело бы к “отягощению” смысла и возникновению 120 Многие исследователи отмечают неясность, размытость границ самого этого понятия, тем не менее, существуют типологии переводческих эквивалентов (ср.: “эквивалент — слово другого языка, используемое при переводе, и степень потери первоначального смысла, степень так называемого переводческого компромисса позволяют нам установить примерную классификацию возможных эквивалентов” [Голованивская 1997: 31]).
242
нежелательных ассоциаций. Наиболее подходящим эквивалентом в немецком языке является Nazi, а в русском – давящий. Таким образом, метафорическое употребление нейтральной лексической единицы, ставшей привычной в устной речи французов, приобретает отрицательную коннотацию при таком переводе на немецкий или русский язык: Х(ОЯ)Y+(ДЯ). Подобное явление обозначается термином “паролизация”. “Облегчение” смысла при переводе слова fasciste, например, как autoritar, позволяет определить всю конструкцию термином “периязык”, по аналогии с “перифраза”: Х(ОЯ) Z(ДЯ). Вслед за Т. С. Борисовой, занимающейся изучением перевода христианских
символов (“вариантов симовола”) на церковнославянский язык [2001: 38–39], мы предлагаем использовать термин “варианты метафоры” для обозначения близких, но не тождественных переводческих эквивалентов. Особая необходимость в них возникает при выборе метафор в межсоциумной межкультурной коммуникации, например, при переводе сленговых, жаргонных и т. п. социолектных единиц на другой язык (ср., например, французские арготизмы agates, calotes, carreaux и др. как варианты русских арготических метафор, описывающих глаза: фары, шары и др.). Соответственно, переводческие варианты метафор могут быть “сильными”, “слабыми” и “нулевыми” — переводческими лакунами, отражающими ситуацию невозможности перевода на другой язык какого-либо слова.
1. Сильные варианты метафор мотивированы метафоризаторами тождественных тематических групп и представляют собой реализации одинаковых моделей метафоризации. Например: Модель {П>П/Фу} — рус. тачка ‘автомобиль’, франц. жарг. bagnole от banne
‘тележка с откидным верхом’. Модель {П>П/РеалСп} — рус. помои ‘невкусная, разбавленная пища’, франц.
жарг. lavasse ‘невкусная, разбавленная пища’ от исходного ‘помои’. Модель {П>П/Фф} — рус. горшок ‘головной убор’, франц. жарг. doulos
‘головной убор’ от douil ‘бочка для сбора винограда’; рус. пароходы ‘обувь большого размера’, франц. жарг. bateaux с тем же значением от ‘корабли’. Модель {СоцЯв>СоцЯв/Фу} — рус. школа ‘тюрьма’, франц. жарг. collиge
‘тюрьма’. 2. Слабые варианты метафор мотивированы метафоризаторами различных
тематических групп, но являются реализациями однинаковых моделей, что может быть обусловлено общими языковыми системными предпочтениями. Например, в русском языке (включая и его социолектные подсистемы), как уже отмечалось, номинации современных предметов мебели редко метафоризируются, в отличие от ситуации во французском языке. Так, во французском арго соматизмы регулярно замещаются метафоризаторами, обозначающими предметы мебели на основании формативных, функциональных и реляционных признаков: франц. жарг. buffet ‘буфет, шкаф’ — о груди и животе,
243
bauje от bouge ‘сундук’ — о груди, bureau ‘письменный стол, бюро’ — о груди, crйdense ‘род буфета’ — о груди, и рус. буфера; франц. жарг. placard ‘шкаф’ — о рте и животе, и рус. варежка, tabouret ‘табурет, высокий стул’ — о зубе, и рус. колышек, франц. жарг. tourniquet ‘вертящаяся стойка’ — о носе, и рус. рубильник, porte-manteau ‘вешалка’ — о плечах, и рус. стропила и т. д. Заметим, что в русском арго для обозначения соответствующих соматизмов также используются иногда артефактные метафоры, но соответствующие метафоризаторы относятся к иным ТГ. Актуальность метафор, возникших на основе номинаций мебели, во французском арго подтверждается и тем, что эти единицы значительно чаще, чем в русском, используются для характеристики лица (ср., например: armoire а glass ‘стеклянный шкаф, сервант’, armoire normande ‘нормандский шкаф’ об атлете, trumeau ‘трюмо’ об отстающем от моды человеке и мн. др.).
3. “Нулевые” варианты метафор мотивированы метафоризаторами различных тематических групп и даже семантических сфер и представляют собой реализации разных моделей.
“Видеть” чужую метафорику, соотносить ее со своей и обнаруживать пересекающиеся участки-эквиваленты – задача сложная, так как до сих пор не существует полных национальных словарей лингвистических метафорик. Надо признать, что метафорические системы в толковых словарях национальных языков часто отражены непоследовательно. Описание метафор как реализаций идеальных моделей связано с объективными системными закономерностями в лексике, отражение которых неадекватно представлено в соответствующих словарных дефинициях прямых и вторичных номинаций. Последовательное применение результатов нашего структурно-семантического исследования в лексикографической практике, как нам кажется, могло бы способствовать унификации словарных толкований метафорических единиц и соответствующих номинативов.
3. Применение результатов семантического моделирования
в лексикографической практике
Традиционно проблема лексикографического описания языковых метафор поднимается каждый раз, когда речь заходит о словаре, составители которого ставят перед собой цель дать детальный анализ различных аспектов “жизни” слов. Данная часть нашей работы посвящена рассмотрению языковых (узуальных) метафор в лексикографическом аспекте: нас интересовало, каким образом метафора как факт системы языка отражается в толковых словарях прошлого и настоящего. В трудах отечественных и зарубежных лексикологов (А. И. Федорова, Л. П. Ковтун, Г. Н. Скляревской, Ю. Н. Караулова,
244
А. Н. Баранова, Н. А. Лукьяновой, О. И. Блиновой, Н. А. Купиной, В. Н. Телия, Е. А. Юриной, С. Э. Мартыновой, Н. А. Кожевниковой, З. Ю. Петровой, Н. А. Тураниной, E. Sommer, D. Weiss) были структурированы и детально описаны принципы толкования вторичных номинаций. Исследователи всегда отмечали тот факт, что метафора является чрезвычайно сложным лексикографическим объектом, поскольку метафоризация может мотивироваться не только внешним сходством денотатов / референтов, но и впечатлением от них, складывающимся у автора метафоры, а также всем его социокультурным опытом и общими системными законами организации словаря его языка. У. Вейнрейх предложил фиксировать в словарях семное ядро метафоризатора и метафоры [Weinreich 1971: 31]. По мнению Ф. Растье, такое представление метафоры как лексикографического объекта неверно, и с этим нельзя не согласиться. Например, “признак ‘хитрый’ имеет действительно разный статус в fox (‘животное’) и fox (‘человек’), в которых представляет соответственно афферентным и ингерентным. Так, сочетание a stupid fox (‘глупая лиса’), которое вполне приемлемо в первом случае, кажется странным во втором… Значит, “хитрый” не входит в семное ядро, которое условно ограничивают ингерентными семами. Деривационная связь fox (‘животное’) и fox (‘человек’) характеризуется переходом признака “хитрый” из разряда афферентных в разряд ингерентных (помимо нейтрализации прочих сем)” [Растье 2001: 49]. Характеризуя человека метафорой лиса, мы не имеем в виду, что он напоминает нам хищное рыжее млекопитающее семейства псовых, с узкой мордой, стоячими, заостренными ушами, длинным и пушистым хвостом и т. д., – ни один из этих признаков не актуализируется в значении зоохарактеристики. В словарном толковании метафоры, думается, должны фиксироваться не наши знания, а наши представления.
3.1. Формирование традиции лексикографического описания
метафор Теоретические и практические проблемы отражения метафор в современных
академических словарях привлекали внимание многих исследователей, но само формирование традиции, связанное с описанием метафоры в словаре, как-то вышло из сферы интересов лексикографов. Мы решили обратиться к описанию языковой метафоры в следующих словарях: “Словаре церковнославянского и русского языка, составленном Вторым отделением121 Императорской Академии наук” (1-е изд. – 1847 г., 2-е – 1867–1868 гг.), “Словаре русского языка, составленном Вторым отделением Академии наук” (под ред. Я. К. Грота, 1891–1895 гг.), в продолжении этого издания, начатом по плану А. А. Шахматова, но оставшемся незаконченным (выпуски томов выходили в 1897–1916, 1922, 1926–1929 гг.), в новом издании “Словаря русского языка”, начатом с конца 1929 г. 121 Отделением русского языка и словесности.
245
(под ред. Н. С. Державина, В. И. Чернышева, Л. В. Щербы и др.), в Малом академическом словаре под ред. А. П. Евгеньевой (3-е изд., 1985–1988 гг.), “Большом толковом словаре русского языка” под ред. С. А. Кузнецова (1998 г.) и еще в некоторых лексикографических изданиях конца ХХ в. Кроме материалов этих словарей, мы использовали материалы “Толкового словаря живого великорусского языка” В. И. Даля. Рассмотрим, как отражалась метафора в указанных лексикографических трудах, как строились словарные статьи и был ли сформирован метаязык описания языковой метафоры в каждом из этих словарей. В словаре 1847 г. словарная статья, описывающая субстантивную языковую
метафору, строится следующим образом: после вокабулы даются грамматические пометы – форма родительного падежа, указываются принадлежность к определенной части речи и грамматический род. Система помет очень сложная и фактически никак не структурирована: “Стар.”, “Обл.”, “Геом.”, “Астр.”, “Церк.”, “Въ просторhчiи” и др. Переносные значения вводятся при помощи знака “звездочка” (*)122. Например:
ЗАКАТЪ123, =а, с. м. 1) Захождениiе небесныхъ свhтилъ подъ горизонтъ. Солнце на закатh. 2)*Въ просторhчiи: гуляка.
ВhСЪ, =а, с. м. 1) Влеченiе тhлъ къ землh въ силу тяжести, соразмhрное ихъ массh, т. е. количеству вещества въ данномъ объемh; тяжесть. Вhсъ собственный. Вhсъ каждого тhла по отдельности, без сравненiя съ другими тhлами. Вhсъ уравнительный, сравнительный, относительный. 2) Отношенiе между вhсомъ одного или многихъ тhлъ, имhющихъ одинаковый объемъ. Вhсъ тhла, въ отношенiи къ вhсу воды, взятому за единицу <…>124. 4)*Уваженiе. Онъ имhетъ большой вhсъ въ обществh.
ВОДА, =ы, с. ж. 1) Жидкое и прозрачное вещество, превращающееся отъ стужи въ ледъ. Вода ключевая, рhчная, морская. Вода прhсная, соленая. 2)*Въ драгоцhнныхъ камняхъ: качество или степень внутренней чистоты и прозрачности. Алмазъ первой, лучшей воды <…>.
При сравнении словарных статей данного словаря и словарей ХХ в. выявляется почти полное отсутствие в первом отражения уже существовавших в языке сложных семантических структур у большинства слов: многозначность – а ее наличие подтверждается многочисленными литературными контекстами того времени – в словаре почти не фиксируется, а следовательно, в него не включаются и многие метафоры. Ср.: АГАТЪ, =а, с. м. Минералъ, состоящий изъ нhсколькихъ разноцвhтных отличiй кварцовой породы. БЕЗЦВhТНОСТЬ, =и, с. ж. Качество безцвhтнаго. ЗАРЯ, =и, с. ж. 1) Свhтъ по захожденiи и предъ восхожденiем солнца, нhсколько времени на горизонтh видимый. Заря утренняя, вечерняя. 2) Ligusticum, растенiе. Уже имевшиеся в языке метафоры, возникшие
122 Традиция использования “звездочки” в этих целях сохранялась до конца ХХ в. (см. различные выпуски издания “Новое в русской лексике: Словарные материалы”).
123 В приводимых ниже толкованиях сохраняются орфография и пунктуация оригинала. 124 Толкование значения в данном и подобном случаях сокращается нами, на что указывает отточие.
246
на основе этих номинативных значений, в словаре не представлены. Для метафоролога это издание вряд ли может служить ценным источником. Толкование имеющихся метафорических значений чаще всего дается через
синоним (КРОХА, =и, с. ж. 1) Мелкая часть чего-л.; Хлhбная кроха. 2)*Остатки. Жить старыми крохами); синонимический ряд (ВhТВЬ, =и, с. ж. 1) Отрасль дерева, выходящая изъ сука. 2)*Поколhнiе, отродье <…>), а также через развернутое описание, иногда с семантическим конкретизатором (см. выше ВОДА). Следует отметить, что в толкованиях метафорических значений субстантивов не используются типы толкований со словами подобный, подобно, прямо указывающие на генетическую принадлежность к метафоре. Ср. с толкованием прилагательного: МРАМОРНЫЙ <…>. 4)*Подобный въ каком нибудь отношенiи мрамора. Мраморная грудь. В статье МРАМОРЪ толкование хроматической метафоры мрамор груди, как и, например, агат глаз, не представлено, хотя эти метафоры часто встречались в литературных произведениях конца XVIII – середины XIX вв. В словаре В. И. Даля продолжается традиция введения толкования
переносного значения после “звездочки”, преимущественно синонимическим способом толкования, иногда – через синонимичную метафору, хотя толкование номинатива или метафоры через метафору, в принципе, не допустимо, но является чрезвычайно экономным средством описания.
АДЪ м. адея, геена, тартаръ, тартарары, бездна, преисподняя, тьма кромешная, печь огненная; вят. хайло, пасть, зhвъ, горло, глотка // *Невыносимое житье, ссора в домh, крикъ, брань, драка, содомъ <…>.
ГОРИЗОНТЪ м. окраина земной поверхности, вкругъ наблюдателя, гдh примыкает небо, небосклонъ, кругозоръ, небоземъ, небоскатъ, закатъ неба; <…> // *Кругъ понятiй человhка, предhлы того, что онъ можетъ обнять умственнымъ окомъ, по степени образованiя своего, познанiямъ и уму <…>.
Описательный тип толкования метафорических значений (как, например, в статье ГОРИЗОНТЪ) у Даля встречается редко, нерегулярно используется и помета “звездочка” – она часто отсутствует, например:
БАСНЬ или басня ж. <…> вымышленное происшествiе, выдумка, рассказъ для прикрасы, ради краснаго (баскаго) словца; иносказательное, поучительное повhствованiе, побасенка, побаска, притча, гдh принято выводить животныхъ и даже вещи словесными; ложь, празднословiе, пустословiе, вздорные слухи, вhсти <…>). Иногда в словарной статье толкуется только метафорическое значение, а
прямое отсутствует, например:
ВАРВАРСТВО ср. невhжество, грубость, небреженiе къ просвhщенiю.
Словарь под ред. Я. К. Грота отличается от своих предшественников тем, что в толкованиях значений часто даются этимологические справки, иллюстрации к употреблению, в том числе и переносному:
ДРАМА, ы, ж. (греч. отъ гл. дhйствовать – дhло, дhйствiе, и за тhмъ представляемое на сценh).
1. Родъ сценическаго произвhденiя.
247
Вам насолить захочется друзьямъ? Пустите въ нихъ поэмой или драмой. Лерм. Сказка для дhтей. Довольно съ тобой, какъ искусный актеръ, Я *драму разыгрывалъ въ шутку. А. Толст. Изъ Гейне. 2.*Реальное происшествiе сценическаго характера <…> судьба какъ-то всегда
приводила меня къ развязкh чужихъ драмъ, какъ будто безъ меня никто не могъ бы ни умереть, ни притти въ отчаянiе (Герой н. вр.).
*Семейная драма.
Как видим, “звездочкой” предваряется переносное употребление как в толковании, так и в иллюстрациях. Заметим, что в этом примере, как и в некоторых других в этом словаре, иллюстрация метафорического употребления оказалась после толкования прямого значения. Богатейший иллюстративный материал содержится в дефинициях словаря
А. А. Шахматова, важно то, что именно здесь метафора впервые вводится при помощи пометы “Переносно”, которая используется достаточно регулярно. Более того, если в словаре Грота разные метафоры, образованные на основе одного и того же прямого ЛСВ, часто никак не толкуются или их описание дается через метафору, то в словаре Шахматова каждое метафорическое значение получает самостоятельное описание. Конечно, это намного увеличивает объем словарной статьи, но позволяет представить полную картину метафороупотреблений в языке данного периода. Приведем пример из этого уникального для метафоролога издания.
ЗАКАТЪ, =а. М. 1. Дhйствiе по значенiю глаг. закатывать и закатываться (закатиться) // Закатъ солнца или мhсяца – захожденiе солнца или луны (мhсяца) за горизонтъ <…>. // Переносно: конецъ чего-нибудь. Онъ (Кульновский) пришелъ въ послhднiй разъ отдежурить на своемъ стулh и насладиться на немъ закатомъ своей службы при первомъ человhкh въ имперiи (Лажечн. Ледян. домъ). Жизнь твоя близится къ закату (Чеховъ Страшн. ночь) // Закатъ дней – конецъ жизни. Успокой на закатh дней одинокаго старца (Тург. Бригадиръ) <…> // Закатъ жизни – смерть. Есть что-то поэтическое въ этомъ рhшенiи семидесятилhтняго старца, который на закатh жизни <…> препоясался мечемъ и стал ратникомъ самой величавой изъ этихъ идей (Гран. Абб. Сугерiй).
Особой системой составления словарных дефиниций, а, точнее, ее отсутствием в нашем понимании, характеризуется “Словарь русского языка” под ред. Н. С. Державина и др., но, как ни странно, именно отсутствие системы и определяет достоинство этого словаря, как и словаря В. И. Даля. В Словарь под ред. Державина и др. включен не просто богатый иллюстративный материал разговорной и литературной речи конца XVIII – начала ХХ в., а предпринята попытка проследить за функционированием одного и того же слова, как мы бы сейчас сказали, в совокупности всех его значений в текстах разной функционально-стилистической направленности. Кроме того, в этом словаре впервые предпринята попытка разграничения помет “Переносно” и “Образно”,
248
но в целом система помет нежесткая, и даже свободная, что создает неисчерпаемые возможности для демонстрации богатств языка: здесь не может быть и речи о “минимальном словаре” метаязыка, пометы оказываются, скорее, привязанными к иллюстрациям, а не наоборот, и во всем этом сказывается стремление составителей словаря описать каждое из значений слов, актуализировавшихся в предлагаемых контекстах. Фактически, со структурно-семантических позиций, любая словарная помета
представляет собой экспликацию особой семантической области – такой группы таксем, в которой не должно быть полисемии. По мнению Г. Н. Скляревской, “описательное толкование – наиболее характерный тип дефиниции языковых метафор. Многословность его обусловлена дискретным характером семантики языковых метафор, нерасчлененностью признаков, их взаимным смешением и переплетением, что затрудняет их вычленение и обозначение” [Скляревская 1988б: 12]. Поэтому словарная статья может “раздуваться” до огромных размеров, сам словарь при этом теряет свой строго лингвистический характер и становится в полном смысле историко-литературным памятником, который интересно читать и декодировать, как “потоки сознания” в романах М. Пруста или А. Белого. Словарный гипертекст приобретает особую эстетическую (не только информативную) ценность. “Казенная” сухость, присущая многим современным лексикографическим изданиям, в этом словаре отсутствует. Ср. примеры.
АД, а, м. (Греч. ‘; ц.-сл. и др.-р. АДЪ; укр. ад; болг. адъ). 1. По религиозным воззрениям, место, где томятся души или мучаются тела умерших грешников. О мерзавец! Неслыханный мерзавец! Думаю, что душh125 твоей и во адh мhста не будетъ (Сумар. Лихоимец). Латинцы, прiявшiе отчасти отъ Грековъ ученiе свое, также безсмертiе душъ, рай и адъ, признавали, яко свидhтельствуетъ сiе Виргилiй (Щербат. Соч. II, 335). (У египтян) душам грешников предстоит ад или долгое странствование из одного животного в другое до очищения и возврата в прежнее человеческое тело (Гран. Соч. II, 551). Лучше соглашусь живой провалиться в ад и достаться на завтрак чертям, нежели страдать на козенном коште (Белинск. Письма, I, 27). В аду, говорят, жарко (Гонч. Обыкн. ист., ч. 1, гл. 3) (I, 92). [Курослепов:] Дров будто много наготовлено и мурины. Для чего, говорю, дрова? Говорят: грешников поджаривать. Неужто-ж я в аде? (Остр. Горяч. сердце, д. 16, явл. 2). По христианскому представлению, упрочившемуся в средние века на западе, существовало три постоянных места пребывания для отживших: кроме рая и ада – еще и “лоно Авраамово” (Веселовск. Соч. т. IV, в. I, 352). Мыслить и “примыслить” люди могут себе всяческий ад, всяческих леших (Ленин. Матер. и эмпириокрит. гл. I, IV).
И ты, насмешник смелый, <…> Чей в аде стих веселый Поэтов раздражал. (Пушк. Городок) Говорят, ему видение Все мерещилось в бреду, Видел света преставление, Видел грешников в аду.
125 В некоторых иллюстрациях Словаря сохранена старая орфография.
249
(Некр. Влас.) [Батрак:] Да что ты кичишься какими-то вилами! Твой глупый ад все равно, что мед нам. (Маяк. Мистерия-буфф, д. III (III, 166))
<…> Как пережиток старых религиозных представлений употребляется в ряде выражений, в пословицах, поговорках, сравнениях, образно и переносно. Клясться небом и адом. Клянуся небом я и адом, Земной святыней и тобой.
(Лерм. Демон, II) <…> В пословицах и поговорках. И в аду люди живут. <…> В сравнениях. Народ-то словно в аду кипит: шум, гам, песни бесовские (Остр. Не так живи, д. I, явл. 2). Крепка, как смерть, любовь, и жестока, как ад, ревность (Куприн. Суламифь V, 286). Образно. Этот переезд (из Херсона в Симферополь) был бы переходом из ада в рай, если бы не одно обстоятельство (Белинск. Письма, III, 156). Салютные выстрелы загремели со всех судов. Ах! Какой это был прелестный ад! (Марл. Фрегат Надежда, Письмо II (VII, 24)). Он живет в моральном аду, в аду на земле… прежде смерти (Писемск. Масоны, ч. III, гл. 3). (Без правды) вселенная представляет собой вместилище погубления и ад кромешный (Салт. Сказки, XXIII (VI, 176)). Она вытащила меня со дна ада, – сказал о ней (о юродивой) кто-то (Мережк. Не мир, но меч, 176) <…>.
АЗБУКА, и, ж. Др.-русск. азбоукы; азбоука; болг. азбуке; чешск. аzbuka. 1. Общий комплекс букв любой письменности, расположенных в определенной последовательности <…>. 3. переносно. Основные начала, основа чего либо. Лекции суть не что иное, как азбука для дальнейших занятий. Арх. бр. (Тург. I, 296) <…>.
Таким образом, вопрос об описании метафор в толковом словаре, хотя и не определен теоретически, но эмпирически, непосредственно в ходе лексикографической практики, решался, правда, часто непоследовательно. Мы постоянно сталкиваемся с нарушением “одной из основных лексикографических заповедей, согласно которой “подобное всегда и неизменно должно толковаться в словаре подобно” [Морковкин 1981: 160–161]. В рассмотренных нами словарях не встречается каких-либо унифицированных определений, даже прямые наименования, принадлежащие одной ТГ, могут не иметь в своих дефинициях ни одного упоминания о “родстве” референтов, тем более сложно говорить об унификации словарных определений метафоры. Метаязык каждого словаря фактически не представляет собой завершенной системы: во-первых, используются взаимозаменяемые пометы, иногда нерегулярно, во-вторых, нет определенной организации словарных дефиниций. Словарная статья составляется стихийно, без учета опыта оформления аналогичных статей. Проблема метаязыка толкового словаря так и не решена до сих пор. По мнению Ю. Д. Апресяна, “ЛЗ слова обнаруживается в его толковании, которое представляет собой перевод слова на особый семантический язык” [Апресян 1974: 69]. Определить же “небольшой набор элементарных неопределяемых значений – слов семантического языка” [Там же] – пока не удается, возможно, потому, что “словарь охватывает чрезвычайно разнородный эмпирический материал, который нередко не укладывается в прокрустово ложе теоретических установок”
250
[Скляревская 1988б: 5]. Следовательно, для того чтобы естественный язык был пригоден в качестве семантического метаязыка, он должен быть соответствующим образом упорядочен [Вежбицка 2001]. К настоящему времени уже сложилась достаточно прочная традиция
описывать в толковых словарях грамматические формы, и мы, познакомившись, например, со вступительной статьей “Словаря русского языка” под ред. А. П. Евгеньевой [МАС-3], можем представить, что в структуре словарной статьи показатели присущей глаголу категории лица будут выражены через окончания, а указание на род существительных будет даваться при помощи помет м., ж. или ср. Но информации о принадлежности слова к метафорической сфере в этом словаре нет126. Например, из словарной статьи БРЕД мы узнаем грамматические свойства слова (сущ. м. р., в род. п. ед. ч. – бреда) и два прямых значения: БРЕД 1. Бессвязная, бессмысленная речь больного, находящегося в бессознательном состоянии <…>. 2. Разг. О чем-л. несуразном, бессмысленном. Другие утверждали, Что люди от наук Лишь только хуже стали: Что все ученье бред (И. Крылов. Водолазы). Очевидно, что второе значение возникло в результате метафорического переноса и может быть маркировано пометой перен., но составители МАС-3 предупреждают, что “если значение существительного связано определенным синтаксическим положением (в данном случае слово может выступать только в роли сказуемого, приложения, обращения), оно получает истолкование по определенной формуле: О (ком-л., чем-л.) <…>, которая указывает на то, что слово употребляется в качестве характеристики, какой-л. оценки и т. п.”, а потому помета перен. в этих случаях не ставится [МАС-3, I: 8]. Безусловно, наиболее ярко и наиболее часто оценочные характеристики предмета или лица выступают именно в указанных
126 Следует отметить, что в толковых словарях конца ХХ в. помета перен. может или отсутствовать вообще (см., например, Большой толковый словарь русского языка под ред. С. А. Кузнецова [1998], однако авторы отмечают, что “о смысловом варьировании в пределах одного значения предупреждает знак ||: АХАТЬ… 2. только 3 л. Издавать сильный, громкий звук (о колоколах, пушках и т. п.) || Раздаваться (обычно о взрывах, выстрелах, и т. п.”, а “знаком отмечены смысловые сдвиги в значении слова, отличающегося широкой сферой применения и разнообразием употреблений. а) Символические употребления: РОГ… только мн.: рога, -ов. Символическое обозначение мужа неверной жены, рогоносца. Носить рога. б) Образные употребления: АКУЛА… Публиц. О том, кто действует хищно и беззастенчиво. Акулы большого бизнеса… в) Метонимические сдвиги: АВТОПОРТРЕТ… О портретной характеристике автора в литературном произведении. Словесный а. г) Распространительные употребления: АРЕНА… чего. О месте, где разворачиваются какие-л. события (обычно драматические). А. военных действий [1998: 16]), или, наоборот, помета перен. может регулярно использоваться (“Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения” под ред. Г. Н. Скляревской [1998], “Толковый словарь языка Совдепии” В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной [1998], “Большой словарь русского жаргона” В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной [2000]).
251
синтаксических позициях, но могут выполнять и другие синтаксические функции, оставаясь при этом метафорами (Выключи, пожалуйста, телевизор. Этот бред мне надоел). Примеры удачных толкований представлены, например, в статьях нирвана и
нищета: НИРВАНА, =ы, ж. Блаженное состояние покоя, достигаемое, согласно мистическому
учению буддистов, путем полного отрешения от всего житейского. // перен. Книжн. Покой, блаженство. Не здесь ли истинное блаженство, завершение всякой философии! Степная нирвана, сладкое усыпление, во время которого снится только синее небо (Короленко, Нирвана).
НИЩЕТА, =ы, ж. 1. Крайняя бедность, нужда. [Анна:] Жить с вами в нищете, холоде, в голоде тебе нельзя. (А. Островский, Не было гроша, да вдруг алтын). – Есть средство спасти его и нас от нищеты и позора (Чехов, Хористка) // перен.; чего или какая. Крайняя недостаточность, скудость чего-л. – Ведь есть еще умственный голод, нравственный голод, душевная нищета (Мамин-Сибиряк, Хлеб). Кроме того, слова, образованные на базе номинативных, а не образных
метафор, семантически самостоятельны, но эта самостоятельность не отражается в толкованиях. “Сформировавшиеся на основе номинативной метафоры имена соотносятся с внеязыковой действительностью не через смыслы, их породившие, а непосредственно. Самостоятельность этих значений, семантическая независимость от производящих подтверждается не только компонентным анализом их семантической структуры, но и новыми словообразовательными возможностями старой формы, например, морж моржевать моржеваться моржевание… Сугубо номинативная функция семантических дериватов, их номинативная независимость передаются на письме отсутствием кавычек, характерных для метафорически употребляемых слов, а также для слов, выступающих в необычных переносных значениях… Образность, выразительность подобных слов определяется отнюдь не метафоричностью их значений, а метафоричностью способа номинации, которая еще живет в не стершейся в сознании говорящего внутренней форме” [Чернейко 1997: 227]. Легко можно допустить, что такие названия “обиталищ животных” [Харченко
1985: 11], как конюшня и конура, используемые для наименования человеческого жилья, должны обладать одинаковой интенсивностью оценки и одинаковыми синтаксическими функциями, а следовательно, и описываться в словаре по предложенной выше формуле. Тем не менее, их дефиниции составлены по-разному:
КОНЮШНЯ, =и, ж. Помещение для содержания лошадей <…> // Разг. неодобр. Об очень грязном помещении <…>;
КОНУРА, =ы, ж. 1. Будка для собаки <…> 2. перен.; обычно чья или какая. Разг. Тесное, темное, грязное помещение, жилье <…>. Другим примером неодинаковой оформленности метафор, возникших в
результате тождественных типов переносов, могут служить дефиниции уже обсуждавшихся в этой работе зоовокализмов, используемых для характеристики
252
особой манеры человеческой речи (например, блеянье, лай, чириканье, шипение, ржание и т. п.). Ср. статьи кряканье и кудахтанье:
КРЯКАНЬЕ, =я, ср. 1. Крик утки, похожий на звуки “кря-кря”. Из камышей с кряканьем вылетают утки (Арамилев, В лесах Урала). 2. Разг. Отрывистые горловые звуки, издаваемые человеком (обычно при выражении удовлетворения, удовольствия или досады, возмущения и т. п.). Евгению Алексеевну больше всего отталкивало его неудержимое стремление острить, сопровождая остроты особого значения кряканьем и смешком (Макаренко, Книга для родителей).
КУДАХТАНЬЕ, =я, ср. Громкий крик курицы, когда она снесет яйцо или когда она испугана, встревожена чем-л. <…>, КУДАХТАТЬ <…> 1. Издавать кудахтанье <…> 2. перен. Разг. Взволнованно и суетливо говорить, разговаривать. – Вот не ожидал! Вот не думал! – кудахтал Шапкин (Чехов, Старость). – Ай, матушка! – суетясь, точно испуганная курица, кудахтала Наталья: – Куда ему бегать? Как это можно! (Горький, Жизнь Матвея Кожемякина).
Как видно из всех приведенных выше примеров, особую роль в толковании метафорического значения играет контекст. Большой вклад в организацию и систематизацию требований к иллюстративным рядам в лексикографических описаниях языковых метафор внесла Г. Н. Скляревская [1988б; 1996; и др.], впоследствии применившая свои теоретические построения127 на практике при составлении “Толкового словаря русского языка конца ХХ в. Языковые изменения” [1998] – прекрасно иллюстрированного и ценнейшего для метафоролога издания128, например:
ВАКУУМ, а, м. Перен. Публ. 1. чего, какой. Отсутствие или недостаточность кого-, чего-л. нужного, важного,
обязательного. Идейный, идеологический, духовный, информационный в. В. профессионалов в психотерапии. ВАЗ заполнил автомобильный в. Людской в. в Сибири. Товарный, рыбный в. Д. Андреев пишет о том, что образовался гигантский вакуум духовности, который не в силах заполнить гипертрофированная (авторское выражение) наука. Огонек, 1991, 34.
2. Пустота (после утраты чего-л.). После войны в мире образовался своеобразный силовой вакуум, который и заполнили СССР и США. Век ХХ, 1989, 12. Во многих областях нашей жизни образовался правовой вакуум. Заполнить его – задача частного сыска. ЧД, 1991, 1. Горбачев уходит именно потому, что за его спиной стоит Ельцин. Ельцину же “в случае чего” уходить будет некуда – за ним политический вакуум. Огонек, 1992, 1. В вакууме (быть, находиться, оказаться) (в одиночестве, в изоляции, без друзей, без близких, единомышленников). В правительстве Гайдар был в вакууме. Человек может находиться в изоляции, в вакууме, и совершенно не обязательно, чтобы были люди, которые бы наблюдали за ним и контролировали его. З-С, 1990, 2. Здесь, когда я приехал, я оказался в вакууме. ЧП, 15.10.90.
ПРАВЕДНИК, а, м. Перен. Тот, кто во всем следует нормам нравственности, не совершает зла; противоп. грешник. Он [Сахаров] не только вел жизнь святого, блаженного праведника, он много думал об основах подобной жизни. З-С, 1990, 2. Народ в прозе Абрамова очень разный: на страницах практически каждого произведения мы встретим и праведника, и Иуду. Огонек, 1991, 42. 127 См., прежде всего, ее статью “Языковая метафора и контекст (о принципах иллюстрирования метафорических значений в толковых словарях)” [1996] и др. работы. 128 Мы не имеем возможности привести здесь всю систему помет, конкретизаторов и графических знаков, используемых в этом словаре.
253
– См.: Святой2. – Ср. Ож-89: 1. У верующих: человек, который живет праведной жизнью, не имеет
грехов. 2. Человек, ни в чем не погрешивший против правил нравственности (ирон.); МАС-2: 1. Человек, живущий согласно заповедям, моральным предписаниям какой-л. религии. 2. перен. Обычно ирон. Тот, кто в своих действиях руководствуется принципами справедливости, честности, не нарушает правил нравственности; Ушак.: книжн. устар.
Под контекстом Г. Н. Скляревская, вслед за Н. Ю. Шведовой [1982], понимает “ближайшее словесное окружение лексической единицы (в тексте или спонтанной речи), которое может быть истолковано как среда, наглядно показывающая соответствие слова (конкретного ЛСВ лексемы, в нашем понимании. – О. А.) одному акту мысли. Вычленяя, делая очевидным соответствие значения слова одному акту мысли, контекст, по существу, определяет всю лексикографическую деятельность” [Скляревская 1996: 132]. Существуют разные контекстные типологии. Исследователи выделяют “широкий” контекст (“предложение, которое не только дает возможность отнести слово к определенному семантическому классу, но и способствует раскрытию его семантики” [Там же: 133]) и “узкий” (“словосочетание (в словарной практике обычно речение), идентифицирующее семантику определяемого слова (вода льется, песня льется, прозрачное стекло, прозрачный голос и т. п.”, “тот «указательный минимум», который достаточен для отнесения слова к определенному семантическому классу” [Там же]); однако иллюстрирование метафорической лексики имеет свою специфику, и в лексикологической и лексикографической практике используют формальный, содержательный и экстралингвистический типы контекстов (подробнее см. [Там же: 134–140]). Степень информативной ценности различных контекстов разная: контекст
может быть информативным, слабоинформативным и вообще неинформативным (например, фиксирующий контекст), т. е. не позволяющим раскрыть семантическое наполнение ЛСВ [Лукьянова 1986], поэтому отбор контекстов для словарных иллюстративных рядов – задача чрезвычайно сложная. Мы использовали уже имеющиеся схемы представления метафорического материала в толковом словаре при разработке концепции толкового Словаря метафорики.
3.2. Концепция толкового Словаря метафорики
В настоящее время приоритетной становится детальная разработка принципов лексикографического описания разноуровневых компонентов языковых метафорик с последующим составлением толковых словарей национальных метафор и полиязычных словарей метафорических эквивалентов, отражающих специфику национальных коммуникативных норм. Поскольку к метафорическим относится обширный корпус единиц, в том числе и узуальные прецедентные единицы, словарь русской национальной метафорики должен включать толкования разноуровневых компонентов (включая социолектные и диалектные
254
образования), регулярно воспроизводимых в речи современных носителей языка. Критерий регулярной воспроизводимости единиц, используемый при отборе материала для словаря, имеет давнюю историю. Как особый лексикографический объект метафора привлекает внимание исследователей с 80-х гг. XVIII века. В проекте Словаря Академии Российской — “Начертании для составления толкового словаря Словяно-Российского языка” — отмечен тот факт, что, “как метафорическое знаменование слова не всегда столько определено и ограничено, чтобы не могло оно получить некоторого распространения по мере ума и воображения сочинительства, то из сего следует, что на Словарь строго взыскивать не можно всех знаменований и присвоений метафорических, довольно, если в нем больше употребительных” [Цит. по Кутина 1980: 77]. С этого же времени критерий “всеобщего употребления” тех единиц, которые должны иметь особые толкования, регулярно нарушается, поскольку толковые словари, как правило, включают иллюстрации из литературных произведений и, таким образом, фактически превращаются в словари языка художественной литературы [Ковтун 1978; Алешина 1996]. Обращение лексикографов к диалектному и социолектному метафорическому материалу происходит только в конце ХХ в., когда проблеме словарной фиксации вторичных номинаций начинает уделяться чрезвычайно много внимания. Мы считаем, что ценным источником узуального контекстного материала для современных лексикографических изданий становится гипертекст Интернета (в частности, Рунета), представляющий тексты всех функциональных разновидностей письменного литературного языка, разговорной речи и некоторых социолектов (отражаемых в текстах “чатов”, “форумов”, “конференций” и т. п.).
Обратим внимание на то, что практически все толковые словари адресованы носителям языка, которые быстро реконструируют в сознании недостающую информацию о метафоризаторах и, чаще всего, легко декодируют метафоры. Для неносителей языка мотивированность метафорообразования может оставаться неясной. Например, для финских слушателей курсов РКИ, плохо знавших российскую действительность, было не совсем понятным, почему русские используют метафоры конюшня, конура для характеристики ‘очень грязных’ помещений. Толкования метафоризаторов в словарях не давали достаточных оснований такому использованию данных единиц. В специальных толковых словарях русского языка, предназначенных для учащихся национальных школ или для иностранных студентов (см., например, “Толковый словарь русского языка: Пособие для учащихся национальных школ” под ред. М. И. Махмутова, А. В. Текучева, Н. М. Шанского. Л.: Просвещение, 1982, “Краткий толковый словарь русского языка для иностранцев” под ред. В. В. Розановой. М.: Русский язык, 1978), метафорический материал чаще всего не описывается. Думается, в методических интересах целесообразно включать по возможности в Словарь все
255
разновидности метафор: “генетические”, “безобразные”, “живые” и т. д., поскольку метафоризация — чрезвычайно диалектичный процесс, и состав языковых метафор довольно “мобилен”.
Логический анализ метафорообразования, позволивший рассматривать метафору как особую энтимему, показывает необходимость выявления инвариантных признаков тех сопоставляемых понятий, которые в языке описываются метафоризатором и метафорой. Мы считаем, что в толковом словаре метафор дефиниции метафоризаторов должны как-то отмечать мотивирующий перенос наименования признак/признаки (см. [Васильева 1979: 6; Алешина 1991]). В свою очередь, в дефиниции метафорического ЛСВ должно присутствовать указание на сходство называемого референта с тем объектом, наименование которого стало теперь “принадлежностью” иной реалии); метафорические омонимы должны получать специальное толкование. Другими словами, при лексикографическом описании метафор следует принимать во внимание результаты структурно-семантического анализа и метафоризаторов и метафор.
Специальные словари метафоризаторов и метафор должны содержать о них исчерпывающую информацию. Поэтому, думается, в них не может даваться информация так, как в некоторых случаях предлагается в “Толковом словаре русского языка конца ХХ столетия. Языковые изменения” под ред Г. Н. Скляревской [1998: 19], когда его составители говорят об общеизвестности прямого значения.
Поскольку к словарю метафор читатель обращается в случае затруднения в их декодировании с желанием уточнить уже имеющиеся данные, дефиниции метафор и все иллюстрации должны предварять толкования метафоризаторов. Ниже мы предлагаем образцы структур словарных статей в специальном словаре метафор. Отметим, что данные структуры могут применяться только в описании субстантивных метафор, кроме того, мы не даем здесь перечня возможных стилистических и функциональных помет, конкретизаторов (эта система, разработанная Г. Н. Скляревской и ее коллегами, представлена ими в словаре [1998] и может быть использована в специальном толковом словаре метафор), а также эмоционально-оценочных помет, отражающих коннотативное содержание метафор (список этих помет – неодобр., осуд., презрит., пренебр., бран., одобр., восхищ., ирон., шутл. – приведен, например, в [Юрина 1994: 16]).
256
3.2.1. Принципы организации и структура словарной статьи метафоры в специальном словаре метафор
Метафоризатор и метафора помещаются в одной статье, причем в вокабулу выносится метафора129.
1. Все метафорические омонимы, мотивированные одним метафоризатором, описываются в границах единой словарной статьи.
2. Метафорические омонимы, являющиеся реализациями разных моделей, описываются в рамках одной словарной статьи как самостоятельные ЛСВ.
3. Символическое функционирование метафоры в современном узусе отмечается знаком (S).
4. Описание метафоризаторов и метафор сопровождается минимальными грамматическими сведениями (указываются грамматический род, окончание родительного падежа; если при склонении существительного изменяется ударение, то приводятся окончания или полная словоформа имени; если метафора или метафоризатор не имеют форм множественного числа или используются только/преимущественно в форме множественного числа, то после вокабулы даются специальные указания).
5. При каждом метафорическом ЛСВ, описываемом в рамках одной словарной статьи, даются либо формальное толкование, либо лексический дублет, либо развернутое толкование, либо отсылка. Синонимические толкования даются через лексический дублет с графическим знаком =.
6. Толкования метафор и метафоризаторов могут содержать а) синонимические уточнения, б) антонимические уточнения и в) энциклопедические сведения, если это необходимо для декодирования метафор. Синонимические уточнения даются после знака точки с запятой (;), антонимические — после того же знака с пометой антоним., энциклопедические сведения предваряются знаком 0.
7. Толкование метафор через метафоры нежелательно 130 , однако, если антонимичные (рай на душе, ад в душе) и синонимичные (рай на душе, благодать на душе и т. п.) метафоры являются реализациями одной и той же модели, они включаются в словарную статью для уточнения толкования.
129 Принцип включения мотивирующего слова в структуру словарной статьи
мотивированного слова использован, например, в “Мотивационном диалектном словаре (говоры Среднего Приобья)” под ред О. И. Блиновой [1982–1983].
130 Нельзя согласиться с некоторыми примерами толкований языковых метафор, предложенными Е. А. Юриной, ср.: “гвоздить. Настойчиво твердить одно и то же, делать одно и то же, как бы «забивать гвозди»” [Юрина 1994: 17], хотя предложенная исследовательницей схема словарной статьи Словаря образных слов не вызывает возражений [Там же: 16–17].
257
8. Иллюстрации даются после толкований в виде речений и/или цитат и предваряются знаком •; иллюстрациям, содержащим фразеологизмы, паремии, предшествует знак ?.
3.2.2. Примеры использования результатов семантического моделирования в лексикографическом описании метафор
Приведем примеры составленных нами толкований ставших конфессиональными символами номинаций рай и ад и соответствующих общеупотребительных и социолектных метафор: летом на природе рай, вулкан превратил остров в территорию ада и т. п. – {ФизЯв>ФизЯв/РецРеалСП}; рай на душе, жизнь в моральном аду, ад в душе – {ФизЯв>ПсЯв/РеалСП}; жизнь в городе кажется адом, ад сражения, рай для ученых, рай для преступников – {ФизЯв>СоцЯв/РеалСП} и т. д. Сами единицы рай и ад являются экспликациями единого дуалистического концепта “Тот свет”, противопоставленного, в свою очередь, концепту “Этот свет”. Этим объясняется некоторый параллелизм в организации семантических структур соответствующих номинаций. В систематизации приведенных ниже толкований мы использовали результаты семантического моделирования.
Заметим, что толкования получают только узуальные (общеупотребительные и социолектные) метафоры. Наблюдения над окказиональным материалом показывают не просто параллелизм, а сближение семантических структур метафор ад и рай, отражающее “карнавальное”, игровое, “амбивалентное” отношение многих современных носителей языка к конфессиональным понятиям. Ср. метафорические, иронические, оксюморонные контексты и многочисленные, чаще всего переводные, названия иностранных видеофильмов, компьютерных игр, парадоксальные заглавия художественных и публицистических произведений, созданные на основе прецедентных единиц или сами формирующие прецедентные единицы: “Все псы попадают в рай”, “Все медиахудожники попадают в рай”, “Все киберпанки попадают в рай”, “Падение в рай”, “Восставшие из рая”, “Заброшенный рай”, “Грязный рай”, “Как пройти в рай?”, “Пароль для прохода в рай”, “Где записаться в рай?”, “Покорение рая”, “Завоевывание рая”, “Загнанные в рай”, “Дьявольский рай”, “Исчадие рая”, “Ад в поднебесье”, “Обретенный ад”, “Манящая бездна ада”, “Искушение адом”, “Забить стрелку в аду”, “День открытых дверей в аду”, “Обретенный ад” и др. Для создания комического эффекта наблюдается регулярное обновление паремиологических единиц с компонентами рай и ад (например, Рад бы в рай, да реаниматоры не пускают).
Чаще всего метафоризируется номинация рай, и именно на ее основе в языке создается огромное количество метафорических омонимов. Косвенно этому
258
способствует и неоднозначность межконфессиональных интерпретаций понятий “ад” и “рай”. Ср.: “Ни один мыслящий христианин, конечно, не верит в атеистическую карикатуру рая в облаках, хотя и есть некоторые наивные протестанты, которые готовы поместить небо на дальней галактике или в созвездии; все видимое творение пало и испорчено, и в нем нигде нет места для невидимого Божия неба, которое является реальностью духовной, а не материальной. Но многие христиане, чтобы избежать насмешек неверующих и не впасть в материализм, бросились в другую крайность и объявили, что “небо нигде не находится”. Среди римо-католиков и протестантов имеются изощренные апологи, утверждающие, что небо – это состояние, а не место, что “вверху” – это только метафора, что Вознесение Христово (Лк. 24, 50–51; Деян. 11, 9–11) не было на самом деле “вознесением”, а только изменением состояния. В результате таких апологий небо и ад стали весьма расплывчатыми и неопределенными понятиями, и чувство их реальности начинает исчезать с губительными последствиями для христианской жизни, потому что это именно та реальность, к которой направлена вся наша земная жизнь” [О. Серафим Роуз 2001: 144]. Многочисленные контексты подтверждают это мнение. Приведем примеры статей.
РАЙ, рая, о рае, в раю; м. мн. нет.
I. О социальных реалиях. 1. О благоприятных экономических условиях; антоним. ад. • Россия – инвестиционный р. Налоговый р. 2. О месте, производственная деятельность или пребывание в котором обеспечивают доход или сохранность денег; антоним. ад. • Американский р. Северный р. Аргентина – экономический р. только в сравнении с Украиной. Р. для пожилых <о супермаркете с рядом скидок и бесплатных для пенсионеров услуг>. Арбат – р. для художников. 3. Ирон. Об общественном строе с тяжелыми условиями жизни. • Не загоняйте нас в р. социализма. Фашистский р. Цивилизация американского среднего класса – мещанский р. ? Красный р. – голодный край. 4. О производственных и торговых фирмах узкой специализации, но с богатым ассортиментом изделий. • Керамический р. Компьютерный р. Мобильный р. Лимузинный р. Паркетный р. Башмачный р. Мебельный магазин “Жизнь в р.”. 5. О специальных магазинах с большим ассортиментом товаров. •
Продовольственный р. Сладкий р. Пивной р. Кофейный р. Колбасный р. Р. для интернетчиков. 6. О месте с благоприятным отношением к людям и другим живым существам; антоним. ад. • Венеция – р. для пешеходов. Германия – р. для инвалидов. Р. для ученых. Шведская тюрьма – р. для преступников. Мальчишеский р. Женский р. Собачий р. Кошачий р. Змеиный р. 7. О красивом сооружении. • Подземный р. пролетариата <о московском метрополитене>. Искусственный р. аквапарка. Рукотворный р. 9. Ирон. О привлекательном для
259
маргиналов месте. • Препятствие в р. <о квартирной сигнализации, препятствующей совершению кражи со взломом>. Врата р. <о дверях в пивную>. Р. для подонков <о злачном месте, притоне, месте сбыта краденого>. 10. Ирон. О тюрьме, лагере. • Блатной р. Дорога в тюремный р. Лагерный р. Стражи р. <охранники>. ? Попасть в рай. Угол. Быть осужденным, отбывать наказание за содержание притона воров, наркоманов. 11. О месте, в котором специально собираются и благоприятно себя чувствуют люди определенных увлечений, наклонностей. • Хакерский р. Танцевальный р. Рыболовный р. Шутовской р. Р. для гурманов. 12. Ирон. О местах, в которых комфортно себя чувствуют люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. • Р. горячих лесбиянок. Р. геев.
Интим-агентство «Потерянный р.». Р. для бисексуалов. II. О физических условиях. 1. О необыкновенно красивом месте, в
котором всего в изобилии, где можно счастливо и безмятежно жить. • Сейшилы – кусочек р. ? Рай земной. 2. О привлекательном своеобразной красотой месте. • Лунный р. Р. Сахары. 3. О месте, благоприятном для выращивания определенных культур. • Кофейный р. Бразилии. Оливковый р. – Тунис. 4. О месте с благоприятные климатическими условия для отдыха; Эдем (Едем), Элизиум (Елизиум), Елисейские поля, парадиз. • Дивноморск – р. для подводников. Сицилия – это р. Бегство в рай. Мальдивы – потерянный р. Доминикана – отдых в р. Гагра – наш р. Летом на природе р. 5. О месте, благоприятном для проживания определенных биологических видов; антоним. ад. • Р. для тараканов.
Р. для микробов. III. О психических состояниях . 1. Об умиротворенном, радостном
состоянии души. = Душевная благодать; антоним. ад. • Р. русской души. Пребывать в р. заблуждений. Р. на душе. 2. О взаимоотношениях между людьми; антоним. ад. • Ваши отношения – р. или ад? ? С милым рай и в шалаше. ? Дорога в рай. Арм. Ирон. Отбой. 3. Нарк. О состоянии кокаиниста.
IV. О Пресвятой Богородице. (S). ? Рай пищный. Рай, обильный пищею. Радуйся, Раю пищный ( 1-го гл. Богор. 1-го кан. 7-ая п.).
0 1. Самое высокое место, известное человеку; антоним. ад, преисподняя. • Несомненно, что небо – это место, и оно выше любой точки на земле, а ад
находится внизу, во внутренности земли; но люди не могут видеть эти места и их обитателей, пока не откроются их духовные очи… Эти места находятся вне координат нашей пространственно-временной системы (О. Серафим Роуз. Душа после смерти). 2. Необыкновенно красивое, охраняемое ангелом с огненным мечом (по другим сведениям, херувимом, Св. Петром) иерархически устроенное место пребывания Бога, других ангелов, а также счастливых душ верующих после телесной смерти. = Небо, небесные круги, небесная твердь, небесный свод, небеса, небесный Иерусалим; антоним. ад, пекло, преисподняя, геенна. • Я был поднят двумя ангелами и отнесен на высочайшую вершину неба.
260
Меня несли до тех пор, пока под моими стопами ни оказались не только эта жалкая земля, но были также Солнце и Луна, облака и звезды. Затем меня провели через ворота, которые сияли ярче Солнца, и ввели в здание, где все полы блестели золотом и серебром. Свет тот описать невозможно. Место это было наполнено множеством людей – не мужчин, но и не женщин… Над этим
местом висело облака ярче всякого света…, из облака изшел голос, подобный голосу вод многих (Св. Григорий Турский. История франков). Монах из Уэнлока
увидел также место дивной красоты, где множество очень красивых людей наслаждались небывалым счастьем, и они позвали его разделить с ними это счастье, если ему позволят. И от дыхания ликующих вместе блаженных душ до него донеслось дивной сладости благоухание. Святые Ангелы сказали ему, что это преславный рай Божий… он увидел великолепные сияющие стены удивительной длины и необычайной высоты. И святые Ангелы сказали: “Это тот святой и славный град, небесный Иерусалим, где души святых пребывают в радости во веки”. Он сказал, что эти души и стены этого славного города… были такой ослепительной яркости, что его глаза никак не могли взирать на них (Письма Св. Бонифация). ? И рад бы в рай, да грехи не пускают. 3. Небесный сад с прекрасными деревьями и поющими птицами. Я видел себя в прекрасном и
дивном рае… умом и сердцем удивлялся я несказанной прелести рая Божия и услаждался, ходя по нему. Там находилось множество садов, наполненных высокими деревьями, которые, колыхаясь высокими вершинами, веселили мои очи, и от ветвей их исходило великое благоухание…сих деревьев нельзя уподобить по красоте ни единому земному дереву… В тех садах были бесчисленные птицы с золотыми, белоснежными и разноцветными крыльями. Они сидели на ветвях райских деревьев и так прекрасно пели, что от сладкозвучного их пения я не помнил себя (Никифор. Житие Св. Андрея Христа ради юродивого). 4. Прекрасный насажденный Богом земной сад, из которого навеки были изгнаны прародители Адам и Ева после грехопадения и который был проклят Богом (S). = Эдем (Едем), Элизиум (Елизиум), Елисейские поля, парадиз. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и поместил там
человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла (Быт 19, 8–9).
АД, ада, об аде, в аду; м. мн. нет.
I. О социальных реалиях. 1. О крайне неблагоприятных экономических условиях; антоним. рай. • Эпоха дефицита в СССР – экономический а. А. Великой депрессии. 2. О финансовом крахе; антоним. рай. • А. “черного вторника”. 3. О невыносимой жизни при определенном общественном строе; антоним. рай. • А. капитализма. Социалистический а. А. Третьего Рейха. Не
261
жизнь была, а сплошной а. <об эпохе постсоветской перестройки в России> 6. О месте с крайне неблагоприятным отношением к людям и другим живым существам; преисподняя; антоним. рай. • А. очереди. Бюрократический а. А. бродячей жизни. Двое суток а. для зрителей модного мюзикла. 7. О жизни в тюрьме, лагере. • Лагерный а. А. на земле <о тюрьме>. Двое суток в аду КПЗ. Автор <В. Шаламов> преодолел искушение считать себя победителем а. <лагерной жизни>, который он прошел. 11. О тяжелых военных действиях. •
А. наступления. А. войны. А. бомбежек. II. О физических условиях. 1. О пустынном, непригодном для
существования месте. • А. пустыни. Ледяной а. Вулкан превратил остров в территорию а. 2. Об очень жарком, душном или задымленном месте; = пекло, геенна. • А. духоты. А. пожара. 3. О тяжелых физических испытаниях. Муки а. ? Ад кромешный.
III. О психических состояниях. 1. О нравственных страданиях; антоним. рай. • А. в душе. Носить в себе а. Шура вернулся из наркотического а. Жизнь в моральном а. ? Ад кромешный. Окунуться в словесный а. <о брани>2. О невыносимых взаимоотношениях между людьми; антоним. рай. • Ваши отношения – рай или а.? А. семейной жизни.
IV. Об отвлеченных понятиях. 1. О чрезвычайно сложной для понимания научной системе. • Добро пожаловать в а. цифровых технологий. Познать все
круги а. философской науки. 0 1. Место под землей, где обитают злые духи, доставляющие невыносимые
душевные и телесные муки умершим грешникам; = преисподняя, геенна; антоним. рай. Злые духи, взяв меня, начали бить и свели затем вниз; земля
расступилась, и я, будучи веден узкими ходами через тесные и смрадные скважины, сошел до самой глубины темниц адовых, где во тьме вечной заключены души грешников, где нет жизни людям, а одна вечная мука, неутешный плач и несказанный скрежет зубов. Там всегда раздается отчаянный крик: “Горе, горе нам! Увы, увы!” И невозможно передать всех тамошних страданий, нельзя пересказать всех мук и болезней, которые я видел (Жития святых, 28 марта). 2. Место вечной тьмы, огня, зловония и богооставленности. Часто перед нами внезапно возникали клубы тусклого
пламени, поднимающегося как бы из огромной ямы и вновь туда спадающего… По мере того как языки пламени разрастались, они наполнялись человеческими душами, которые, подобно искрам, разлетающимся с дымом, то оказывались иногда высоко в воздухе, то падали обратно в глубину по мере уменьшения огненных паров. Более того, неописуемое зловоние изливалось с этими парами и заполняло все это мрачное место (Беда Достопочтенный. История английской Церкви и народа). 3. Гроб, могила (S). • И живот мой аду приближися <и жизнь
262
моя близка к могиле – смерти>. Во аде же кто исповестся Тебе <во гробе кто будет славить Тебя?>.
Отметим, что лексикографическая систематизация толкований двух данных
лексем (их метафоризаторов и метафор) проведена на основе результатов семантического моделирования и может быть использована в лингводидактической практике (в лингвострановедческом курсе в рамках специальной темы “Рай и ад в представлении современных русских”). Мы не можем говорить о том, что традиция отражения языковой метафоры в
толковом словаре сформировалась окончательно. Конечно, за всю историю лексикографической практики был накоплен большой опыт в этом отношении, “основная лексикографическая заповедь” в современных словарях, особенно в толковых, составленных в конце прошлого столетия, нарушается все реже и реже, но все-таки вопрос об исчерпывающем системном словарном описании метафорического значения пока остается открытым. Среди успешных попыток системного представления современного метафорического материала в специальных словарях метафор – лексикографические труды E. Sommer, D. Weiss [1996], О. И. Блиновой, С. Э. Мартыновой, Е. А. Юриной [1997], Н. А. Кожевниковой, З. Ю. Петровой [2000].
4. Выводы
В данной главе были приведены примеры использования результатов семантического модельного описания метафоризации при ассоциативно-когнитивном и связанном с ним интерпретационном теоретическом изучении метафор, а также в практических лингводидактических и лексикографических исследованиях. Дальнейшая систематизация метафорического материала как результата модельного описания в данных направлениях может стать задачами самостоятельных исследований. Мы же только предприняли попытку включить модельную методику в предметные задачи когнитивистики, теории интерпретации, с одной стороны, и лингводидактики, лексикографии — с другой, для того, чтобы показать возможности ее применения. Описание систем метафор на данном этапе исследования позволило прийти к следующим выводам.
1. Метафора-языковой знак находит нейрологическое оправдание своему существованию – это такой же знак, как и любой другой в системе языка, только несколько иной природы, чем, например, прямые номинации. Нейрологические исследования подтверждают объективность результатов структурно-семантического моделирования метафоризации. Описание метафоризации через набор определенных моделей имеет прогностический характер: наиболее актуальные модели отражают мыслительные “клише”, существующие в сознании носителей данного языка. Неслучайно, закрепление в
263
узусе новых метафор зависит от актуальности модели: оно будет происходить быстрее, если реализуются актуальные для языка модели метафоризации.
2. Все выявленные на основе результатов семантического моделирования базовые концепты “внутренний человек”, “внешний человек”, “природный человек” и “предметный человек” тесно связаны между собой внутренним структурным параллелизмом и не могут существовать изолированно друг от друга. В то же время данные концепты ценностно иерархизированы. Их исследование позволяет выявить инвариантные (по R. Langacker) системы, отраженные в наиболее типичных и частотных словоупотреблениях.
3. Модельное исследование результатов метафоризации не просто подтверждает известное мнение Дж. Лакоффа и М. Джонсона о том, что в повседневной деятельности мы чаще всего думаем и действуем более или менее автоматически, в соответствии с определенными схемами, природа которых чрезвычайно сложна, и одним из способов их выявления становится изучение естественного языка, но также позволяет детально рассмотреть практически всю картину лингвометафорогенных способностей носителей языка. Ассоциативно-когнитивный подход к анализу структурно-семантических описаний в лингвометафорологических исследованиях чрезвычайно привлекателен для нас именно потому, что изначально ориентирован на описание системы метафорических по происхождению концептов, и самым интересным результатом когнитивной в своих основах метафоризации является “вербализация непредметного мира”. Бесспорно, ее описание – сложнейшая задача, для окончательного решения которой еще многое предстоит сделать, но методологически, думается, она поставлена верно: “метафорический корпус любого языка представляет собой благодатный материал для исследования когнитивной реальности эгоцентрической категории метафоричности, поскольку в нем концептуализированы не только знания о собственно человеческой наивной картине мира и все типы отношений субъекта к ее фрагментам, но как бы запрограммировано участие этих языковых сущностей вместе с их употреблением в межпоколенной трансляции эталонов и стереотипов национальной культуры” [Хахалова 2000а: 174].
4. Психофизиологической основой интерпретации является механизм синестезии. Синестезия помогает осуществить перенос со слуховых ощущений на зрительные, обонятельные, кинестезические и т. д. и возможна благодаря способности человеческого мозга устанавливать ассоциативные полимодальные связи. Результаты реализации этих связей постоянно нуждаются в системной интерпретации. Метафора всегда предполагает интерпретацию, она рассчитана на самостоятельное извлечение и анализ подразумеваемых ассоциаций. Эксплицируемым в речи системам метафор свойствен известный параллелизм (например, системам метафор
264
“внутреннего” и “внешнего” человека, реализуемым в текстах разной функционально-стилистической направленности). Это обусловлено структурным параллелизмом исходных концептов, набор которых был выявлен нами по результатам модельного описания языкового материала (гл. II). На основе владения своей концептуальной системой и знания родного языка говорящие “строят” “параллельные” тексты, которые и выступают репрезентами глубинных культурных смыслов.
5. Существование лингводидактики полностью оправдывает то языковое моделирование, применение результатов которого на практике позволяет добиться абсолютного успеха при обучении языку. Обучаемый должен не только узнать слово фонетически, услышав его от говорящего, но и “увидеть” объект, и в дополнение к этому, чтобы установить соответствие между словом и данным объектом, он должен “видеть”, что говорящий также “видит” тот же самый объект. Для оптимизации дидактического эффекта нам представляется целесообразным предлагать метафорический материал через знакомство с базовыми концептами, формирующими метафорическое “мировидение” русскоговорящих, а именно через анализ систем речевых экспликаций номинат-метафоризаторов и номинат-метафор и ассоциатов.
6. Лингводидактическая практика выявила острую необходимость в создании специальных толковых словарей метафорик изучаемых языков, отражающих ассоциативно-когнитивные системы природных носителей данных яыков. Такой словари как лексикографические “зеркала” системно организованных метафорик должны обязательно включать детальное, выстроенное по результатам структурно-семантических исследований описание литературных, социолектных и диалектных метафоризаторов и метафор, в том числе и метафорических омонимов. В дефиниции метафоризатора должен быть отмечен мотивирующий перенос наименования признак, в дефиниции метафоры должно, по возможности, присутствовать указание на сходство называемого референта с тем объектом, наименование которого стало теперь “принадлежностью” иной реалии.
265
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная диссертация была посвящена определению онтологической роли
метода семантического моделирования в лингвометафорологических исследованиях, выполненных на материале русского языка. Основными результатами диссертационной работы стали следующие.
1. В работе был реализован системный подход к определению самого исследовательского объекта лингвометафорологии, дано краткое описание истории его изучения, определены границы и содержание соответствующих базовых терминов: метафора и метафоризатор, общая и частная метафорика, метафоризация-кодирование и декодирование метафор, модель метафоризации-декодирования, метафорический омоним, ассоциат, номинат-метафора и номинат-метафоризатор, метафорический концепт и др.
2. Обобщены результаты предшествующих работ отечественных и зарубежных исследователей в области общей и лингвистической метафорологии, структурированы данные области знания. Проанализированы работы, посвященные применению семантического моделирования при описании метафорического материала. Отмечается онтологическая близость терминоупотреблений «модель» и «метафора» в отечественном лингвистическом метадискурсе.
3. Определены логические основы описания метафоризации-декодирования и метафоризации-кодирования через логическую реконструкцию русских метафорических энтимем. Метафору предлагается считать результатом позитивной логической девиации. Имплицитность любой метафоры позволяет рассматривать ее как особый «силлогизм» с нарушенным средним членом (М). Логический анализ метафоризаторов и метафор позволяет выявить те инвариантные черты, которые учитываются впоследствии при семантическом моделировании (при определении мотивирующего перенос наименования признака / признаков).
4. Результаты логического анализа метафор и метафоризаторов соотнесены с результатами семантического. При выявлении у метафоризатора потенциальных сем, онтологическому статусу которых дана специальная характеристика, предлагается принимать во внимание актуализацию данных сем и фиксировать их при моделировании в качестве «мотивирующих перенос наименования признаков».
5. На основе инвариантности гиперсем и архисем ЛЗ русских субстантивных метафоризаторов осуществлено построение их тематической классификации. Выявлены и детально описаны наиболее актуальные для метафоризации участки русской субстантивной лексической системы,
266
отражающие специфику лексической основы русского метафорообразования (количественное наполнение тематических групп дано в табл. 1 Приложения).
6. Разработаны теория и методика двухпараметрового семантического моделирования субстантивной метафоризации.
Любое моделирование, не только семантическое, возможно при наличии моделируемого объекта и собственно модели. Предлагается противопоставлять собственно моделируемый объект фактически моделируемому. При этом с о б с т в е н н о м о д е л и р у е м ы е о б ъ е к т ы — фрагменты окружающего реального (или ирреального, выдуманного) мира, в нашем случае, это метафоры — не участвуют в процедуре, а участвуют понятия о метафорах, различные по своему содержанию (ф а к т и ч е с к и м о д е л и р у е м ы е о б ъ е к т ы). Фактически моделируемым объектом оказывается частное понятие (в нашем случае — понятие о метафоре как единице метафорики: языковой, ментальной и проч.), отражающее естественный объект в его общих и существенных признаках. Определение границ фактического моделируемого объекта выявляется в результате применения целого ряда логических приемов — сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения, которые предшествуют моделированию.
Отмечается, что собственно моделируемые объекты могут являться элементами класса или подкласса, и при моделировании желательно работать, если не с универсальным классом объектов (т. е. классом, состоящим из всех элементов исследуемой области), то, по крайней мере, с относительно большой частью элементов данного класса. Для лингвометафорологических исследований универсальным классом собственно моделируемых объектов должна была бы стать совокупность всех когда-либо существовавших, существующих метафор, а также тех метафор, которые будут существовать, как речевых, так и языковых, но выстроить исследование на таком корпусе объектов — нереально, поэтому любой лингвистической работе имманентно присуща неполнота изучаемого объекта. В нашем случае моделируемый участок метафорики был ограничен перечисленными в Введении источниками.
Под метафоризацией-кодированием понимается когнитивный процесс, результат которого эксплицируется в коммуникативном поведении человека, в том числе и в языке. Лексическая метафоризация-кодирование — это формирование у лексемы метафорического значения по определенной семантической модели, выявляемой только в результате анализа моделей декодирования, свойственных другим, уже существующим в языке, метафорам. Метафорический ЛСВ (метафора) возникает на основе актуализации потенциальных сем производящего номинатива как следствия выбора определенных параметров такой модели метафоризации-кодирования. Понятие о метафоре как об исследовательском объекте, таким образом, позволяет считать ее
267
результатом реализации определенной модели метафоризации-кодирования, и все выявленные модели представляют собой научные конструкты, поскольку фактически моделируемым объектом может быть только понятие о метафоре.
Основными параметрами структурно-семантических моделей метафоризации-декодирования, на основе которых мы сможем в дальнейшем выявить модели метафоризации-кодирования, являются следующие: 1) мотивирующий перенос наименования признак (или сочетание признаков, наиболее актуальные признаки и их сочетания представлены в табл. 3 Приложения) и 2) направление метафоризации — тип метафорического переноса (направления, характерные для узуальной русской субстантивной метафоризации, даны в табл. 2 Приложения). Каждая метафора определяется принадлежностью к конкретной модели метафоризации, которая, в свою очередь, зависит от сочетания данных параметров.
7. Выявлены и подробно описаны все двухпараметровые модели метафоризации-декодирования, характерные для выбранного участка русской метафорики (об актуальности конкретных моделей метафоризации-декодирования в разряде русских неодушевленных существительных см. в табл. 4 Приложения).
8. Результаты исследования двухпараметровых семантических моделей метафоризации позволили обнаружить системное явление, обозначенное нами как «метафорическая омонимия». Один и тот же метафоризатор способен актуализировать в узусе различные потенциальные семы, использоваться для обозначения различных денотатов и, как следствие, «порождать» различные метафоры. Метафорическая омонимия достаточно системна, поскольку сами метафорические омонимы возникают на основе одного и того же метафоризатора, но являются реализациями различных моделей метафоризации. Различие между данными моделями может касаться как направлений метафоризации, так и сочетаний мотивирующих признаков.
9. Сравнение результатов нашего моделирования с результатами исследований, посвященных прояснению нейрологической природы метафоризации-кодирования и декодирования, показало, что для понимания метафор ведущую роль играет правое полушарие, и именно функциональными особенностями этого полушария объясняется тот феномен, что русские метафоры, образованные по выявленным нами актуальным моделям, чаще закрепляются в узусе, чем те, что являются реализациями в целом неактуальных для русского языка моделей.
10. Модельное описание узуальной метафоризации как языковой экспликации соответствующего когнитивного механизма позволило систематизировать когнитивное описание метафорических по происхождению концептов. Метафорическое «мировидение» русскогоговорящих, эксплицируемое в языке
268
субстантивными единицами исследуемого класса (часто — метафорическими омонимами), формируется на основе четырех базовых метафорических концептов, условно обозначенных нами как «внутренний человек», «внешний человек», «природный человек», «предметный человек». В работе дается подробное системное описание этих концептов.
11. Результаты модельного описания могут использоваться в интерпретационной и лингвоаксиологической метафорологии. Они позволяют определить интерпретационные национальные метафорические «парадигмы» и систематизировать метафоры, используемые при описании «участков» ценностного сознания русскоговорящих.
12. Результаты модельного описания русского метафорического материала позволяют унифицировать его лексикографическое толкование. В работе воссоздается история формирования отечественной лексикографической традиции описания метафор, излагается концепция толкового Словаря русских метафор (принципы организации и структура словарной статьи метафоры), приводятся примеры использования результатов семантического моделирования в лексикографическом описании метафор.
Обоснованные в диссертационном исследовании теоретические положения и структурированный материал имеют, на наш взгляд, практическую ценность и могут использоваться при разработке лекций и
семинарских занятий вузовских курсов, в частности курса «Современный
русский язык (раздел «Лексикология»)». Материалы диссертации использовались
нами в преподавательской практике при чтении базовых и специальных курсов и
проведении семинарских занятий по данным курсам: «Стилистика русского
языка» (базовые курсы для студентов гуманитарного факультета, факультетов
иностранных языков и журналистики Новосибирского госуниверситета),
«Лингвокультурология» (базовый курс для студентов факультета иностранных
языков НГУ), «Логика и лингвистика», «Основные понятия и структура
метафорологии» (специальные курсы для студентов-филологов НГУ),
«Лингвостилистика и культура речи» (специальный семинар для студентов и
аспирантов гуманитарного факультета и факультета журналистики НГУ). Как
показала наша личная практика преподавания русского языка иностранным
студентам, аспирантам и преподавателям НГУ, результаты семантического
моделирования метафоризации-декодирования могут использоваться и в работе
со слушателями курсов русского языка как иностранного филологических и
нефилологических специальностей на начальном и продвинутом уровнях
обучения (например, в курсе «Лингвострановедение» для филологов-русистов).
269
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Библиографические списки, систематизированные в хронологическом порядке и
позволяющие проследить становление метафорологии, а также динамику метафорологических исследовательских приоритетов, объединяют не только названия работ, созданных в ХХ в., но и трудов более раннего времени, научная ценность которых сохраняется до сих пор. Об этом свидетельствуют многочисленные переиздания данных работ, их включение и реинтерпретация в современных научных исследованиях. Сюда же включены труды, созданные в самом начале XXI в. Мы не претендуем на то, что эти списки исчерпывающие, хотя, по нашим наблюдениям, они отражают большинство изданий и диссертационных исследований метафорологической тематики, функционировавших в англо-, итало-, немецко-, франко-, русскоговорящем и некоторых др. научных сообществах в этот период. Работы, созданные на других языках, за редким исключением, даны в переводах на указанные языки, но ряд исследований на английском, французском и немецком языках указаны только в русском переводе, так как мы не имели доступа к оригиналам. Дополнительные библиографические сведения о метафорорологических работах можно почерпнуть из ресурсов Интернета на сайтах “The Metaphor and Metonymy Group” (http://www.psyc.nott.ac.uk/met/metaphor.html), “Conceptual Metaphor Home Page” Дж. Лакоффа (University of California, Berkely, U. S. A.: http://cogsci.berkely.edu); “Center for Cognitive Science Metaphor Online” (University of Oregon, U. S. A., руководитель проекта – Tim Rohrer, http://metaphor.uoregon.edu); “Metaphor Home Page by Tony Veale” (Dublin City University, Ireland, http://compapp.dcu.ie/~tonyv/metapor.html); “ATT-Meta Project Databank: Examples of Usage of Metaphors of Mind” (руководитель – J. Barnden, www.cs.bham.ac.uk/~jab/ATT-Meta/Databank); “Virginia Montecino’s Metaphors in Various Disciplines Resource” (U. S. A., http://mason.gmu.edu/~montecin/metasites.htm); “Metaphor in Scientific Thinking” – страница R. Paton (University of Liverpool, U. K., www.csc.liv.ac.uk/~rcp/metaphor.html); “Online Encyclopaedia of Metaphor” (Dublin City University, Ireland, www.compapp.dcu.ie/~tonyv/encyc/cyc_frame.html); “Metaphor and Symbol” (“Metaphor and Symbolic Activity”, сайт University of Toronto, Canada, citd.scar.utoronto.ca/Metaphor/Journal.html); “Искусство метафоры” (http://metaphor.narod.ru) и мн. др., выход в которые возможен при помощи практически всех поисковых систем (Rambler, Google, Yandex и др.).
1920 Сорокин П. А. Система социологии. Пг. 1920. Т. I.
1924 Vaihinger H. Die Philosophie des Als ob. Leipzig: Meiner, 1924.
1934 Bühler K. Sprachtheorie Die Darstellungsfunktion der Sprache. Stuttgart; N. Y.: UTB/Fink,
1984 (Nachdruck der Erstausgabe von 1934) [Рус. перевод – К. Бюлер. Теория языка. М.: 1993]. 1935
Pepper S. C. The Root Metaphor of Metaphysics // Journal of Philosophy. 1935. ¹ 32. 1936
Richards I. A. The Philosophy of Rhetoric. N. Y.: Oxford University Press, 1936. Stanford W. B. Greek Metaphor. Oxford, 1936.
1937 Carnap R. The Logical Syntax of Language. L., 1937. Muncie W. The Psychology of
Metaphor // Archive of Neurology and Psychology. 1937. ¹ 37. 1938
Bachelard G. La psychanalyse du feu. P.: Gallimard, 1938. 1940
270
Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. Л., 1940. Дондуа К. Метафора в широком смысле и метафора поэтическая // Язык и мышление. М.; Л., 1940. Т. IX.
1947 Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля древней Руси. М.; Л., 1947.
Никифорова О. И. Роль представлений в восприятии слова, фразы и художественного описания // Изв. АПН РСФСР. 1947. Вып. 7. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М.; Л., 1947.
1949 Foss M. Symbol and Metaphor in Human Experience. Princeton, 1949.
1950 Jones E. Papers on Psycho-Analysis. L.: Balliery, Findale, Cox, 1950.
1953 Forcheimer P. The Category of Person in Language. Berlin, 1953. Kemeny J. G. A New
Approach to Semantics // Journal of Symbolic Logics. 1956. V. 21. №№ 1–2. 1954
Бельский А. В. Метафорическое употребление существительных (к вопросу о генитивных конструкциях) // Уч. зап. I МГПИИЯ. Т. VIII. Экспериментальная фонетика и психология речи. М., 1954. Литвиненко А. С. Термин и метафора // Уч. зап. I МГПИИЯ. Т. VIII. Экспериментальная фонетика и психология речи. М., 1954. Никифорова О. И. Восприятие метафоры. // Уч. зап. I МГПИИЯ. Т. VIII. Экспериментальная фонетика и психология речи. М., 1954.
1956 Лихачев Д. С. Средневековый символизм в стилистических системах Древней Руси и
пути его преодоления // Академику В. В. Виноградову к его шестидесятилетию. Сб. статей. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка. М., 1956.
1957 Звегинцев В. А. Семасиология. М., 1957. Лясота Ю. Л. Метафоризация как один из
основных законов развития словарного состава языка // Учен. зап. Дальневост. ун-та, 1957. – Вып. I. Спиноза Б. Избранные произведения: В 2-х т. М., 1957.
Blumenberg H. Licht als Metapher der Wahrheit // Vorfeld der philosophischen Begriffsbildung. Studium Generale. 1957. № 10.
1958 Будагов Р .А. Многозначность слова // Филол. науки. 1958. № 1. Винер Н. Кибернетика и
общество. М.: Изд.-во ин. лит., 1958. Касарес Х. Введение в современную лексикографию. М., 1958. Мейлах Б. Метафора как элемент художественной системы // Он же. Вопросы литературы и эстетики. Л., 1958.
Henle P. Metaphor // Language, Thought and Culture / Ed. by P. Henle. Ann Arbor, Univ. of Michigan Press, 1958. Peirce Ch. S. Collected Papers. Vol. 1–6, Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press 1931 /1933/1935; Vol. 7 – 8. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1958. [Рус. перевод – Ч. С. Пирс. Из работы “Элементы логики. Grammatical speculative” // Семиотика. М.: Радуга, 1983.; Ч. С. Пирс. Начала прагматизма: В 2-х т. СПб.: Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000].
1959 Черкасова Е. Т. О метафорическом употреблении слов // Исследования по языку
советских писателей. М., 1959. Покровский М. М. Избранные работы по языкознанию. М., 1959. Эшби У. Р. Введение в кибернетику. М.: Изд-во ин. лит., 1959.
Asimov I. Enzymes and Metaphor // Journal of Chemical Education. 1959. ¹ 36. Vonessen F. Die ontologische Struktur der Metapher // Zeitschrift für philosophische Forschung. 1959. Bd. 13.
1960 Выготский Л. Развитие высших психических функций. М., 1960. Локк Дж. Избранные
философские произведения: В 2-х т. М., 1960. Уорф Б. Л. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. М.: Прогресс, 1960. – Вып. I. Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. М.: Прогресс, 1960. – Вып. I.
271
Blumenberg H. Paradigmen zu einer Metaphorologie // Archiv für Begriffsgeschichte. Bd. 6. Bonn: Bouvier, 1960 (или [Haverkamp 1983: 285–315]). Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Tubingen: Mohr, 1960. [Рус. переводы – Х. Г. Гадамер. Истина и метод. М., 1988; Гадамер Г.-Г. Риторика и герменевтика // Актуальность прекрасного. М., 1991]. Jakobson R. Linguistics and Poetics // Style in Language / Ed. by T. Sebeok. Cambridge (Mass.): M.I.T. Press, 1960. Lausberg H. Handbuch der literarischen Rhetorik: 2 Bde. Munchen: Hueber, 1960. Metaphor and Symbol / Ed. by L. C. Knights, B. Cottle. London: Butterworths, 1960. Quine W. V. Word and Object. Cambridge (Mass.): M.I.T. Press, 1960.
1961 Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961. Жолковский А. К., Леонтьева Н. Н.,
Мартемьянов К. С. О принципиальном использовании смысла при машинном переводе // Машинный перевод. М., 1961. – Вып. 2.
Cain A., Maupin B. Interpretation within the Metaphor // Menninger Clinic Bulletin. 1961. ¹ 25. Halliday M. A. K. Categories of the Theory of Grammar // Word. 1961. Vol. 17.
1962 Гуд Г. Х., Макол Р. Э. Системотехника. Введение в проектирование больших систем. М.:
Сов. радио, 1962. Лясота Ю. Л. Понятие о контекстуальной (метафорической) группе // Уч. зап. Дальневосточного ун-та. 1962. Вып. 5. Язикова Ю. С. Анализ метафор стиля повести М. Горького “В людях” // Уч. зап. Дальневосточного ун-та. 1962. Вып. 5.
Aleksandrovicz D. The Meaning of Metaphor // Menninger Clinic Bulletin, 1962. ¹ 26. Barfield O. Poetic Diction and Legal Fiction // The Importance of Language / Ed. by M. Black. Prentice Hall: Engelwood Cliffs, 1962. Black M. Metaphor // Black M. Models and Metaphors. Studies in Language and Philosophy. Ithaca/New York: Cornell University Press, 1962. [Рус. перевод – Блэк М. Метафора // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990]. Levi-Strauss C. Pensee sauvage. P.: P.U.F., 1962. Searles H. The Differentation between Concrete and Metaphorical Thinking in the Recovering Schizophrenic Patient // Journal of the American Psychoanalitic Association. 1962. ¹ 10. The Use and Misuse of Language: Selections from ETC: A Review of General Semantics / Ed. by S. I. Hayakawa. Greenwich (Conn.): Fawcett publ., Cop. 1962. Wheelwright Ph. Metaphor and Reality. Bloomington: Indiana University Press, 1962. Weinreich U. Lexicographic Definition in Descriptive Semantics // Problems of Lexicography / Ed. F. Househoulder. U.I.P.A.L. 1962.
1963 Коновалова О. Ф. Сравнение как литературный прием в Житии Стефана Пермского,
написанного Епифанием Премудрым (из наблюдений над стилем панегирической литературы XV века) // Сборник статей по методике преподавания иностранных языков и филологии (Ученые записки кафедры иностранных языков). Л., 1963. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Изд-во ин. лит., 1963.
Berggren D. The Use and Abuse of Metaphor (Part I and II) // Review of Metaphysics. 1963. Vol. 16. Meier H. Die Metapher. Versuch einer zusammenfassenden Betrachtung ihrer linguistischen Merkmale. Winterthur: Keller, 1963. Schön D. A. Displacement of Concepts. New York: Humanities Press, 1963. Weinreich U. On the semantic structure of language // Universals of language / Ed. by J. Greenberg. Cambridge (Mass.): M.I.T.Press, 1963.
1964 Бойко Е. И. Время реакции человека. М.: Медицина, 1964. Веккер Л. М. Восприятие и
основы его моделирования. Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. Гоббс Т. Избранные произведения: В 2–х т. М., 1964. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М., 1964. – Т. 2. Кутина Л. Л. Формирование языка русской науки. М.; Л.: Наука, 1964. Шмелев Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964.
Barthes R. Mythen des Alltags. Frankfurt: Suhrkamp, 1964. Katz J. J., Fodor J. A. The Structure of a Semantic Theory // The Structure of Language / Ed. by J. J. Katz, J. A. Fodor. Englewood Cliffs, 1964. Lieb H.-H. Der Umfang des historischen Metaphernbegriffes: Diss. Koln, 1964. McClosky M. Metaphor // Mind. 1964. № 63.
1965
272
Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965. Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение. М.; Л., 1965. Левин Ю. И. Структура русской метафоры // Учен. зап. Тартус. ун-та: Труды по знаковым системам. Тарту, 1965. – Вып. 181. Кн. 2.
Ischreyt H. Studien zum Verhltnis von Sprache und Technik. Dusseldorf: Schwann, 1965. Laffal J. Pathological and Normal Language. N.Y.: Atheron, 1965.
1966 Арнольд И. В. Семантическая структура слова в современном английском языке и
методика ее исследования. Л.: Просвещение, 1966. Бриллюэн Л. Научная неопределённость и информация. М.: Мир, 1966. Штофф В. А. Моделирование и философия. М.; Л.: Наука, 1966.
Bendix E. H. Componential Analysis of General Vocabulary: the Semantic Structure of Aset of English, Hindi and Japanese. The Hague: Mouton, 1966. Caruth E., Ekstein R. Interpretation within the Metaphor: Further Considerations // American Academy of Child Psychiatry Journal. 1966. ¹ 5. Ehrenwald J. Psychotherapy, Myths and Metaphors. N. Y.: Grune; Stratton, 1966. Greimas A.-J. Sémantique structurale. P.: Larousse, 1966. Henle P. Metaphor // Language, Thought and Culture / Ed. by P. Henke. Ann Arbor (Michigan), 1966. Hesse M. Models and Analogies in Science. Notre Dame (Quebec): Notre Dame Univ. Press, 1966. Knight D. M. Chemistry and Metaphors // Chemistry and Industry. 1966. December. Mackey L. Aristotie and Feidelson on Metaphor: toward a Reconciliation of Ancient and Modern // Arion. 1966. ¹ 4. Paul H. Prinzipien der Sprachgeschichte. Tübingen: Niemeyer, 1966. Ullmann S. Semantic Universals // Universals of Language / Ed. by J. Geenberg. Cambridge (Mass.): M. I. T. Press, 1966.
1967 Гартли Д. Размышления о человеке, его строении, его долге и упованиях // Английские
материалисты: XVIII век. Собрание произведений. М., 1967. – Т. 2. Жинкин Н. И. Внутренние коды языка и внешние коды речи // To Honor Roman Jakobson. The Hague; P., 1967. Корольков В. И. Метафора // Краткая литературная энциклопедия. М., 1967. Т. 4. Федоров А. И. Семантическая основа метафорической образности языка // Актуальные проблемы лексикологии: Тез. докл. лингв. конф. Новосибирск, 1967.
Bierwish M. Some Semantic Universals of German Adjectivals // Foundations of Language. 1967. Vol. 3. ¹ 1. Hester M. B. The Meaning of Poetic Metaphor. The Hague; P., 1967. Kurylowicz J. Metaphor and Metonymy in Linguistics // Zagadnienia rodzajow literackich. 1967. T. 9. Z. 2 (17). Pike K. L. Language in Relation to a Unified Theory of Human Behavior. The Hague: Mouton, 1967. Петровиh М. Метафоре и алегориjе. Београд, 1967.
1968 Бусленко Н. П. Моделирование сложных систем. М.: Наука, 1968. Кияненко Т. Ф. О
некоторых принципах классификации метафор (на материале французского и русского языков): Дис. … канд. филол. наук. Л., 1968. Корольков В. И. Семасиологическая структура метафоры // Учен. зап. I МГПИИЯ им. М. Тореза: Тр. каф. рус. яз. М., 1968. – Т. 41. Короткова Г. П. Принцип целостности. Л.: Изд. ЛГУ, 1968. Купина Н. А. Сущность и возникновение метафоры (на материале современной русской и украинской поэзии): Дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 1968. Потебня А. А. Из записок о русской грамматике. Т. 3: Об изменении значения и заменах существительного. М., 1968. Пятницкий В. Д. Семантико-словообразовательная соотносительность качественных прилагательных и отвлеченных существительных с качественным значением в современном русском языке: Дис. … канд. филол. наук. М., 1968. Рейтман У. Познание и мышление. Моделирование на уровне информационных процессов. М.: Мир, 1968. Рыньков Л. Н. Метафорические словосочетания в современном русском литературном языке // Вопросы современного русского литературного языка. Челябинск, 1968. – Вып. 3. Толстой Н. И. Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Славянское языкознание. М., 1968. Уилсон А., Уилсон М. Информация, вычислительные машины и проектирование систем. М.: Мир, 1968. Черкасова Е. Т. Опыт лингвистической интерпретации тропов (метафора) // Вопр. языкознания. 1968. № 2. Шмелев Д. Н. Внешние и внутренние факторы семантического развития. Основные типы семантических изменений в современном
273
русском языке // Русский язык и советское общество (социолого-лингвистическое исследование). Лексика современного русского языка. М.: Наука, 1968.
Allemann B. Die Metapher und das metaphorische Wesen der Sprache // Weltgespräch. 1968. ¹ 4. Die Metapher // Poetica. 1968. Bd. 2. Dreistadt R. An Analysis of the Use of Analogies and Metaphors in Science // Journal of Psychology. 1968. ¹ 68. Goodman N. Languages of Art. Indianapolis: Bobbs – Merrill, 1968. Sharpe E. Psycho-Physical Problems Revealed in Language: an Investigation on Metaphor // Collected Papers on Psychoanalysis / Ed. by M. Brierley. L.: Hogarth, 1968. Universals in LinguisticTheory / Ed. by E. Bach, R. T. Harms. N. Y.: Holt, 1968.
1969 Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. М., 1969.
Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энциклопедия, 1969. Гудавичюс А. Лексико-семантическая группа зрительного восприятия в русском и литовском языках (Опыт семантической типологии): Дис. … канд. филол. наук. Вильнюс, 1969. Квейд Э. Анализ сложных систем. М.: Сов. радио, 1969. Комлев М. Г. Компоненты содержательной структуры слова. М., 1969. Левин Ю. И. Русская метафора: синтез, семантика, трансформации // Уч. зап. Тартус. ун-та. Труды по знаковым системам. Вып. IV. Тарту, 1969. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М.: Наука, 1969. Поэтическая фразеология Пушкина. М., 1969. Украинцев Б. С. Отображение в неживой природе. М.: Наука, 1969.
Horkheimer M., Adorno T. Dialektik der Aufklärung. Frankfurt: Fischer, 1969. Meyer A. Mechanische und organische Metaphorik politischer Philosophie // Archiv für Begriffsgeschichte. 1969. Bd. 13. Pattee H. H. How Does a Molecule Become a Message? // Developmental Biology Supplement. 1969. ¹ 3. Piaget J. The Language and Thought of the Child. Cleveland: Meridian Books, 1969. Riffaterre M. La metaphore filée dans la poésie surrealiste // Langue francaise. 1969. ¹ 3. Searle J. R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1969. Whorf B. Language, Thought and Reality. Cambridge (Mass.): M. I. T. Press, 1969.
1970 Бахмутова Н. И. Некоторые языковые средства объективации переносного значения
глагола как необходимое условие коммуникации // Язык и общество. Саратов, 1970. – Вып. 2. Бирюков Б. В., Уемов А. И. Аналогия // Большая советская энциклопедия: В 30–ти т. М.: Сов. энциклопедия, 1970. – Т. 1. Костеловский В. А. Ассоцианизм // Большая Советская Энциклопедия: В 30–ти т. М.: Сов. Энциклопедия, 1970. – Т. 2. Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. М.: Наука, 1970. Мангейм М. Л. Иерархические структуры. М.: Мир, 1970. Морковкин В. В. Идеографические словари. М.: Изд-во МГУ, 1970. Паморозская Н. И. Развернутое поле глаголов явлений природы (Verba Meteorologica) в современном немецком языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1970.
Boguslawski A. On Semantic Primitives and Meaningfulness // Sign, Language, Culture. The Hague, 1970. Turbayne C. M. The Myth of Metaphor. New Haven: The University of South Carolina Press, 1970.
1971 Аллендорф К. А. Теория описания семантического поля // Тез. докл. науч. конф.
“Вопросы описания лексико-семантической системы языка”, 16–18 нояб. 1971 г. М., 1971. – Ч. 1. Басилая Н. А. Семасиологический анализ бинарных метафорических словосочетаний. Тбилиси, 1971. Васильев Л. М. Теория семантических полей // Вопр. языкознания. 1971. № 5. Гак В. Г. К проблеме гносеологических аспектов семантики слова // Тез. докл. науч. конф. “Вопросы описания лексико-семантической системы языка”, 16–18 нояб. 1971 г. М., 1971а. – Ч. I. Гак В. Г. Семантическая структура слова как компонент семантической структуры высказывания // Семантическая структура слова. М., 1971б. Жуков Н. И. Информация (философский анализ центрального понятия кибернетики). Минск: Наука и техника, 1971. Заонегин Е. В. К изучению смыслового объема многозначных слов // Вестник МГУ. Филология. 1971. № 2. Конецкая В. П. Смысловые отношения в лексико-семантических группах // Тез. докл. науч. конф. “Вопросы описания лексико-семантической системы языка”, 16–18 нояб. 1971 г. М., 1971. – Ч. 1. Корольков В. О внеязыковом и внутриязыковом
274
аспектах исследования метафоры // Уч. зап. МГПИ Иностранных языков. М, 1971. – Т. 58. Литвин Ф. А. Еще о типологии лексических значений слова // Тез. докл. науч. конф. “Вопросы описания лексико-семантической системы языка”, 16–18 нояб. 1971 г. М., 1971. – Ч. II. Панченко А. М., Смирнов И. П. Метафорические архетипы в русской средневековой словесности и в поэзии начала ХХ века // Труды отдела древнерус. лит-ры. Вып. 26: Древнерус. лит-ра и культура XVIII–XX вв. Л., 1971. Портнов Г. Я. Формализация задачи выявления связи между системными параметрами // Системный метод и современная наука. Новосибирск, 1971. – Вып. 1. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М.: Наука, 1971. Степанов Ю. С. Семиотика. М., 1971. Тихонова М. Ю. Лексико-фразеологическая микросистема “много” в современном русском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Самарканд, 1971. Фридрих С. А. Метафора в системе тропов (на материале современного английского языка). Калинин, 1971. Шагинуров Э. А. Семантико-словообразовательные отношения отвлеченных имен действия к базовым глаголам в современном русском языке (на материале отвлеченных существительных с формантами -ние, -ение, -тие): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1971. Шустов А. Н. Изучение одной метафоры // Русская речь. 1971. ¹ 3.
Arendt H. Vom Leben des Geistes. Bd.1: Das Denken. München: Piper Aristoteles: Rhetorik, 1971. Blumenberg H. Beobachtungen an Metaphern // Archiv für Begriffsgeschichte. Bonn: Bouvier, 1971. – Bd. 15. Foucault M. Die Ordnung der Dinge. Frankfurt: Suhrkamp, 1971. Hörmann H. Semantische Anomalie, Metapher und Witz // Folia Linguistica. 1971. – Tom V. Ingendahl W. Der Metaphorische Prozeß. Methodologie zu seiner Erforschung und Systematisierung. Düsseldorf: Schwann, 1971. Lausberg H. Elemente der literarischen Rhetorik. München: Hueber, 1971. Pelc J. Studies in Functional Logical Semiotics of Natural Language. 1971. Shibles W. A. Metaphor. An Annotated Bibliography and History. Whitewater: Language Press, 1971. Weinreich U. Explorations in Semantic Theory. The Hague: Mouton, 1971.
1972 Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и
современность. М., 1972. Басилая Н. А. Бинарные метафорические словосочетания: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Тбилиси, 1972. Бахмутова Н. И. О некоторых основных понятиях процесса метафоризации // Вопросы стилистики. Саратов, 1972. – Вып. 4. Бычков В. В. Проблема образа в византийской эстетике // Вестник МГУ. Философия. М., 1972. № 1. Вовчок Д. П. Метафорические парафразы в языке газеты // Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии. Пермь, 1972. Гарипова Н. Д. К типологии смысловых структур существительных в русском языке // Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии. Пермь, 1972. Гинзбург Р. С. О взаимосвязи лингвистического и экстралингвистического в лексике // Иностр. яз. в шк. 1972. № 5. Гутман Е. А., Черемисина М. И. Зооморфизмы в современном французском языке в сопоставлении с русским // В помощь преподавателям иностранных языков. Вып. 3. Новосибирск, 1972. Канцельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л.: Наука, 1972. Новикова Л. М. О семантической соотносительности словообразовательно связанных имен и глаголов // Современные проблемы русского языка и методики его преподавания в вузе и школе. Саратов, 1972. Новоселова Т. И. Об изучении тематических групп лексем // Рус. яз. в шк. 1972. № 1. Перетятько Т. П. Лексические средства обозначения неопределенно большого количества предметов: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Алма-Ата, 1972. Тюхтин В. С. Отражение, системы, кибернетика. М.: Наука, 1972. Шендельс Е. И. Грамматическая метафора // Филологические науки. 1972. ¹ 3.
Barthes R. Die Augenmetapher // Gallas H. (Hrsg.). Strukturalismus als interpretatives Verfahren. Darmstadt; Neuwied: Luchterhand, 1972. Borgis I. Das semantische Problem der Metapher. Ursachen und Varianten eines Scheinproblems. Diss. Hamburg, 1972. Carnap R. Sinn und Synonymität in natürlichen Sprachen // Sinnreich J. (Hrsg.). Zur Philosophie der idealen Sprache. München: DTV, 1972. Ducrot O., Todorov T. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. P.; Seuil, 1972. Eco U. Einführung in die Semiotik. München: UTB, 1972. Gallas H. Strukturalismus als interpretatives Verfahren // Strukturalismus als interpretatives Verfahren.
275
Darmstadt/ Neuwied, 1972. Juilland D. A., Roceric A. The Linguistic Concept of Word. Analytic bibliography. The Hague: Mouton, 1972. Schiffe S. Meaning. Oxford: Oxford Univ. Press, 1972.
1973 Авеличев А. К. Заметки о метафоре // Вестник МГУ. Философия. Серия 10. М., 1973.
Азнаурова Э. С. Очерки по стилистике слова. Ташкент, 1973. Будагов Р. А. Метафора и сравнение в контексте художественного целого // Русская речь. 1973. № 1. Гак В. Г. Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики – 1972. М., 1973. Голованевская А. Л. Метафора как средство создания лексики общественно-политического содержания // Лингвистические дисциплины на факультете русского языка и литературы. М., 1973. Гришкин И. И. Понятие информации. М.: Наука, 1973. Кузнецова Э. В. Ступенчатая идентификация как средство описания семантических связей слов // Вопросы металингвистики. Л.: Изд-во ЛГУ, 1973. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. М.: Мир, 1973. Панасюк А. Т. Экспрессивная лексика современного русского языка: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1973. Рыньков Л. Н. Функции метафорических словосочетаний в языке художественной литературы XIX века // Вопросы современного русского литературного языка. Челябинск, 1973. – Вып. 7. Тарасова В. К. О двух типах метафоры // Лексикологические основы стилистики: Сб. науч. работ. Л., 1973. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М.: Наука, 1973. Яворская Т. А. Лексическая валентность группы существительных, связанных значением “высота” в современном английском языке: Дис. … канд. филол. наук. Киев, 1973.
Fine H., Pollio H., Simpkinson C. Figurative Language, Metaphor and Psychotherapy // Theory, Research & Practice. 1973. ¹ 10. Kopperschmidt J. Allgemeine Rhetorik. Einführung in die Theorie der persuasiven Kommunikation. Stuttgart: Kohlhammer, 1973. Lüdi G. Die Metapher als Funktion der Aktualisierung. Bern: Francke, 1973. Merwin W. S. Asian Figures. N. Y.: Atheneum, 1973. Peterson P. L. Concepts and Language. An Essay in Generative Semantics and the Philosophy of Language. The Hague: Mouton, 1973.
1974 Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.: Наука,
1974. Басин Е. Знак, изображение, искусство (о семиотической концепции Ч. Пирса) // Вопр. литературы. 1974. № 4. Бирюков Б. В. Кибернетика и методология науки. М.: Наука, 1974. Вовчок Д. П. Типы и функции словосочетаний метафорического характера в современной газете: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1974а. Вовчок Д. П. “Экономическая” функция газетных метафорических парафраз // Исследования по стилистике. Пермь, 1974б. Корольков В. И. Метафора // Большая советская энциклопедия: В 30-ти т. М.: Сов. энциклопедия, 1974. Т. 16. Лейчик В. М. Номенклатура – промежуточное звено между терминами и именами // Вопросы терминологии и лингвистической статистики. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1974. Медникова Э. М. Значение слова и методы его описания. М.: Высш. шк, 1974. Никитин М. В. Лексическое значение в слове и словосочетании. Владимир, 1974. Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 1974. Уфимцева А. А. Типы словесных знаков. М.: Наука, 1974. Харченко В. К. О связи тематической отнесенности прямого значения с производно-оценочным значением слова // Актуальные проблемы лексикологии: Тез. докл. 4-й лингв. конф. Новосибирск, 1974. Щур Г. С. Теория поля в лингвистике. М., 1974.
Bachelard G. Epistemologie Ausgewählte Texte. Frankfurt; Berlin; Wien: Ullstein, 1974. Dubois J. et al. Allgemeine Rhetorik. München: UTB, 1974. Eisenhut W. Einführung in die antike Rhetorik und ihre Geschichte. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974. Gardner H. Metaphors and Modalities: How Children Project Polar Adjectives into Diverse Domains // Child Development. 1974. ¹ 45. Hendricks W. O. Essays on Semiolinguistics and Verbal Art. 1974. Leatherdale W. H. The Role of Analogy, Model, and Metaphor in Science. N. Y.: American Elsevier Publishing Co., 1974. Lektürekolleg zur Textlinguistik: 2 Bde. / Kallmeyer W. et al. (Hrsg.). Frankfurt: Athenäum Fischer, 1974. Montague R. Formal Philosophy. Yale: Yale Univ. Press, 1974. Mulkay M. Conceptual Displacement and Migration in Science: A Prefatory Paper // Science Studies. 1974. ¹ 4. Nida E., Taber Ch. Theory and Practice of Translation. Leiden, 1974.
276
Pollio M., Pollio H. The Development of Figurative Language in School Children // Journal of Psycholinguistic Research. 1974. ¹ 3. Schlüter H. Grundkurs der Rhetorik. München: DTV, 1974. Shibles W. Die metaphorische Methode // Deutsche Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 1974. ¹ 48. Watzlawick P., Weakland J., Fisch R. Change: Principles of Problem Formation and Problem Resolution. N. Y.: Norton, 1974.
1975 Васильев Л. М. Методы семантического анализа // Исследования по семантике. Уфа,
1975a. Васильев Л. М. О природе значения и типах языковой информации // Исследования по семантике. Уфа, 1975б. Ершова Г. В. Взаимозависимость лингвистических и экстралингвистических особенностей лексических единиц (на материале существительных современного английского языка): Дис. … канд. филол. наук. М., 1975. Иевлева И. Ю. Компоненты глагольной семантики в отглагольном имени и их реализация в контексте (на материале современного английского языка): Дис. … канд. филол. наук. М., 1975. Клименко А. П. Психолингвистическое изучение семантики // Методы изучения лексики. Минск, 1975. Котелова Н. З. Значение слова и его сочетаемость (к формализации в языкознании). Л., 1975. Купина Н. А. Основные модели сочетаемости субстантивных метафор в русском и украинском языках // Проблемы изучения слова. Свердловск, 1975. – Вып. 1. Литвин Ф. А. Многозначность на предлексемном уровне и функционирование слова в речи // Проблемы лексической и грамматической семантики. Владимир, 1975. Лопатин В. В. Метафорическая мотивация в русском словообразовании // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1975. – Вып. 1. Лукьянова Н. А. Образы множества в языке и речи // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск, 1975. – Вып. 4. Лурия А. Р. Речь и мышление. М., 1975. Маркова Н. Г. К проблеме экстралингвистического обоснования лексико-семантической группы // Вопросы романо-германской и славянской филологии. Минск, 1975. Некрасова Е. А. Метафора и ее окружение в контексте художественной речи // Слово в русской поэзии. М.: Наука, 1975. Перетятько Т. П. О семантике слова лес в современном русском языке // Гуманитарные науки: Сб. статей. Караганда, 1975а. – Вып. 2. Перетятько Т. П. О семантической структуре слов, порождающих квантитативную метафору // Гуманитарные науки: Сб. статей. Караганда, 1975б. – Вып. 2. Петрушенко Л. А. Единство системности, организованности и самодвижения. М.: Мысль, 1975. Рыньков Л. Н. Именные метафорические словосочетания в языке художественной литературы XIX в.: Послепушкинский период. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1975. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. М.: Просвещение, 1975. Тарасова В. К. О синкретизме метафоры // Экспрессивные средства английского языка. Л., 1975. Урсул А. Д. Проблема информации в современной науке. Философские очерки. М.: Наука, 1975. Хромых Г. С. Семантический анализ названий помещений в русском и английском языках // Вопросы филологии и методики исследования. Воронеж, 1975. Чейф У. Л. Значение и структура языка. М.: Прогресс, 1975.
Henry A. Metonimia e metafora. Torino: Einaudi, 1975. Keller R. Zur Theorie metaphorischen Sprachgebrauchs // Zeitschrift für germanistische Linguistik. 1975. ¹ 3. Köller W. Semiotik und Metapher. Untersuchungen zur grammatischen Struktur und kommunikativen Funktion von Metaphern. Stuttgart: Metzler, 1975. Kutschera F. von. Philosophy of Language. Dordrecht, Reidel, 1975. Link J. Die Struktur des literarischen Symbols. München: Fink, 1975. Loewenberg I. Identifying Metaphors // Found. of Language. Dordrecht, 1975. Vol. 12. ¹ 3. Mack D. Metaphoring as Speech Act: Some Happiness Conditions for Implicit Similes and Simple Metaphors // Poetics. 1975. Vol. 4. Ortony A. Why Metaphors Are Necessary and Not Just Nice // Educational Theory. 1975. ¹ 25. Putnam H. The Meaning of “Meaning” // Language, Mind and Knowledge / Ed. by K. Gunderson. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1975. Ricoeur P. La métaphore vive. P., 1975. [рус. перевод – Рикер 1990] Stierle K. Text als Handlung. Munchen: UTB, 1975. Van Dijk T. Formal Semantics of Metaphorical Discourse // Poetics. 1975. № 4.
1976 Балонов Л. Я., Деглин Л. В. Слух и речь доминантного и недоминантного полушарий.
Л., 1976. Басилая Н. А. Метафора в поэзии Валерии Брюсова // Тр. Тбил. ун-та. Языкознание. Тбилиси, 1976. № 174. Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. Избранные труды. М.,
277
1976. Гутман Е. А., Черемисина М. И. Образные значения зоонимов в словарях // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск, 1976. – Вып. 5. Дружинин В. В., Конторов Д. С. Проблемы системологии. М.: Сов. радио, 1976. Захарова В. Е. Метафора в письмах Чехова // Рус. речь. 1976. № 3. Зимин В. И. О мотивировке метафорических значений слов // Лексико-грамматические записки. М., 1976. Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М.: Наука, 1976. Клименко А. П. Ассоциативное поле и значение слова // Романское и германское языкознание. Минск, 1976. – Вып. 6. Колшанский Г. В. Некоторые вопросы семантики языка в гносеологическом аспекте // Принципы и методы семантических исследований. М.: Наука, 1976. Крылова И. А. Некоторые аспекты лингвистического изучения метафоры // Уч. зап. Горьковского ун-та. Сер. лингвистическая. 1976а. Вып. 76. Крылова И. А. О семантической природе метафоры // Уч. зап. Горьковского ун-та. Сер. лингвистическая. 1976б. Вып. 76. Крюков В. М. Ориентация как свойство и характеристика действительности: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 1976. Купина Н. А. Сравнение как этап, предшествующий возникновению метафорического слова // Науч. тр. Курск. пед. ин-та. 1976. Т. 62. № 3. Лашкевич А. И. Генетивные конструкции со значением метафорического количества в современном русском языке: Дис. … канд. филол. наук. Гомель, 1976. Плотникова Л. Ф. Семантическая деривация отглагольных имен существительных на -/e/ние в современном русском языке: Дис. … канд. филол. наук. М., 1976. Седов Е. А. Эволюция и информация. М.: Наука, 1976. Селиверстова О. Н. Об объекте лингвистической семантики и адекватности ее описания // Принципы и методы семантических исследований. М.: Наука, 1976. Телия В. Н. Семантический аспект сочетаемости слов и фразеологическая сочетаемость // Принципы и методы семантических исследований. М.: Наука, 1976. Чембай В. Н. О метафорических сдвигах и смещениях содержательной структуры слова (на материале произведений Михаила Пришвина) // Вопросы общего и славянского языкознания. Днепропетровск, 1976.
Basso K. H. “Wise Words” of the Western Apache: Metaphor and Semantic Theory // Meaning and Anthropology. Albuquerque, 1976. Berlinski D. On Systems Analysis. Cambridge; L., 1976. Bornscheue L. Topik Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft. Frankfurt: Suhrkamp, 1976. Edelman M. Politik als Ritual. Frankfurt: Campus, 1976. Haraway D. J. Crystals, Fabrics and Fields: Metaphors of Organicism in Twentieth Century Developmental Biology. Yale: Yale Univ. Press, 1976. Kommunikative Metaphorik / Pausch H. A. (Hrsg). Bonn: Bouvier, 1976. Kurz G., Pelster T. Metapher. Theorie und Unterrichtsmodell. Düsseldorf: Schwann, 1976. Lévi-Strauss C. Mythologica: 4 Bde. Frankfurt: Suhrkamp, 1976. MacCormac E. R. Metaphor and Mith in Science and Religion. Durham, 1976. Ortony A. On the Nature and Value of Metaphor: A Reply to My Critics // Educational Theory. 1976. ¹ 26. Reinhart T. On Understating Poetic Metaphor // Poetics. 1976. ¹ 5. Weinreich H. Metafora e menzogna: la serenita dell’arte. Bologna: Il Mulino, 1976. Wunderlich D. Studien zur Sprechakttheorie. Frankfurt, 1976.
1977 Бахмутова Н. И. О понятии регулярности в развитии переносных значений слов //
Проблемы развития языка. Саратов, 1977. – Вып. 1. Бондарчук Н. С. Семантическое поле “Земля по способу подготовки для сельскохозяйственного использования” в географической проекции (на материале письменных памятников XV – начала XVII вв.) // Лексико-грамматические исследования по русскому языку. Калинин, 1977. Брагина А. А. Метафора – стандарт – штамп // Вестник МГУ. Сер. Журналистика. 1977. № 2. Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1977. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология. На материале русского и французского языков. М., 1977. Голев Н. Д. Метафора в газете // Вопросы языкознания. Томск, 1977. – Вып. 7. Гончаров В. Б. Образно-метафорическая система Маяковского // Рус. литература. 1977. № 3. Гутман Е. А., Литвин Ф. А., Черемисина М. И. Сопоставительный анализ зооморфных характеристик (на материале русского, английского и французского языков) // Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977. Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. М., 1977. Зимин В. И., Модебадзе Э. А. Метафора и метонимия // Рус. яз. в нац. шк. 1977. № 2. Канделаки Т. Л. Семантика и мотивированность терминов. М.: Наука, 1977. Кисилевский А. И. Языки и метаязыки энциклопедий и толковых словарей.
278
Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1977. Колесникова Л. Н. Об отношении явления метафоризации к словопроизводственному процессу (на материале произведений М. Пришвина) // Науч. тр. Курск. пед. ин-та. 1977. Т. 175. № 4. Косарева Л. М. Предмет науки. Социально-философский аспект проблемы. М.: Наука, 1977. Кремянский В. И. Методологические проблемы системного подхода к информации. М.: Наука, 1977. Магрысь Д. Условия контекстной реализации лексико-семантических вариантов слов: (Полисемантичные отглагольные существительные): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 1977. Приступенко Т. Метафора как средство образной выразительности // Журналiстика. Киiв, 1977. – Вип. 10. Рипинская Л. В. Синтаксический окказионализм как лингвистическая основа метафоры // Язык и стиль английского художественного текста. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1977. Симашко Т. В. Метафора как частный случай семантической деривации // Словообразовательные и семантико-синтаксические процессы в языке: Межвуз. сб. научн. тр. Пермь, 1977. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М.: Наука, 1977. Тарасова В. К. Прагматика метафоры // Язык и стиль английского художественного текста. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1977. Телия В. Н. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация (Виды наименования). М., 1977. Туркина Р. В. К вопросу о развитии метафорического значения // Лексико-грамматические исследования по русскому языку: Межвуз. тематич. сб. Калинин, 1977. Убойко В. И. К методике семантического исследования метафоры // Системные отношения в лексике и методы их изучения. Уфа, 1977. Улуханов И. С. Словообразовательная семантика и принципы ее описания. М.: Наука, 1977. Федорова Т. А. Сочетания «существительное + прилагательное» как метафорические обозначения // Русский язык для студентов-иностранцев. М., 1977. Фу К. С. Структурные методы в распознавании образов. М.: Мир, 1977. Хоанг Лай. Лингвистическая природа бинарных метафорических словосочетаний: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1977. Хромых Г. С. Типы мотивации переносных значений у русских существительных (ЛСГ “Помещение”) // Материалы по русско-славянскому языкознанию. Воронеж, 1977. Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977. Языковая номинация (Виды наименований). М.: Наука, 1977а. Языковая номинация (Общие вопросы). М.: Наука, 1977б.
Bertinetto P. M. On the Inadequateness of a Purely Linguistic Approach to the Study of Metaphor // Italian Linguistics. 1977. IV. Billow R. Metaphor: A Review of Psychological Literature // Psychological Bulletin. 1977. Vol. 84. ¹ 1. Black M. More about Metaphor // Dialectica. 1977. ¹ 31. Cassirer E. Philosophie der symbolischen Formen: 2 Bde. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977. Dockhorn K. Kritische Rhetorik? // Rhetorik. München: Fink, 1977. Dörner D. Superzeichen und kognitive Prozesse // Zeichenprozesse Semiotische Forschung in den Einzelwissenschaften / R. Posner, P. Reinecke (Hg.). Wiesbaden: Athenaion, 1977. Foucault M. Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt/Berlin/ Wien: Ullstein, 1977. Grüsser O.-J. Neurobiologische Grundlagen der Zeichenerkennung // Zeichenprozesse Semiotische Forschung in den Einzelwissenschaften / R. Posner, P. Reinecke (Hg.). Wiesbaden: Athenaion, 1977. Koppe F. Sprache und Bedürfnis. Zur sprachphilosophischen Grundlage der Geisteswissenschaften. Stuttgart; Bad Cannstatt: Fromann; Holzboog, 1977. Linsky L. Names and Descriptions. Chikago, 1977. Nieraad J. „Bildgesegnet und Bildverflucht“. Forschungen zur sprachlichen Metaphorik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977. Nöth W. Dynamik semiotischer Systeme. Vom altenglischen Zauberspruch zum illustrierten Werbetext. Stuttgart: Metzler, 1977. Verbrugge R. R., McCarrell N. S. Metaphoric Comprehension: Studies in Reminding and Resembling // Cognitive Psychology. 1977. Vol. 9. Watzlawick P. How Real Is Real? Confusion, Disinformation, Communication. N. Y.: Vintage, 1977.
1978 Арутюнова Н. Д. Синтаксические функции метафоры // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз.
1978a. Т. 37. № 3. Арутюнова Н. Д. Функциональные типы метафоры // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1978б. Т. 37. № 4. Вовчок Д. П. Опыт словаря метафорической газетной фразеологии // Функциональные стили речи в синхронном и диахроническом аспектах. Пермь, 1978. Горский Д. М. Информационные аспекты управления и моделирования. М.: Наука, 1978. Зводская Т. Ф. К вопросу о метафоре // Науч. тр. Новосиб. пед. ин-та.
279
Новосибирск, 1978. – Вып. 125. Иванов В. В. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978. Исмагулова Б. Х. О моделях развития переносных значений слов в сфере русских прилагательных // Рус. яз. в шк. 1978. № 6. Ковалик Ю. Н. Компонентный анализ как метод исследования сигнификативного значения (на материале английского языка): Дис. … канд. филол. наук. Л., 1978. Ковтун Л. С. Описание метафоризации значений в толковом словаре литературного языка // Современность и словари. Л., 1978. Лисиченко Л. А. Семантическая структура слова в украинском языке: Полисемия отглагольного существительного: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Киев, 1978. Нахов И. М. Традиции аллегоризма и “Картина” Кебета Фиванского // Традиции в истории культуры. М.: Наука, 1978. Новикова Л. М. Валентность глагола и семантика производного отглагольного существительного // Семантика и структура предложения. Лексическая семантика. Уфа, 1978. Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1978. – Вып. VIII: Лингвистика текста. Рыжкина О. А. Лексико-семантическая группа зооморфизмов с общим семантическим компонентом “неловкий” // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск, 1978. – Вып. 7. Таранов Н. В. К системе значений слов “свет” и “тьма” в русском языке // Вопросы стилистики русского языка. Ульяновск, 1978. Фадеева Т. А. Слово “ветер” в составе метафорических единиц В. А. Луговского // Традиции и новаторство в поэтическом языке. Куйбышев, 1978. Филиппов А. В. К проблеме лексической коннотации // Вопр. языкознания. 1978. № 1. Фреге Г. Понятие и вещь // Семиотика и информатика. Вып. 10. М., 1978. Щербицкий Г. И. Системный характер информации. Минск: Наука и техника, 1978.
Bachelard G. Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes. Beitrag zu einer Psychoanalyse der objektiven Erkenntnis. Frankfurt: Suhrkamp, 1978. Berg W. Uneigentliches Sprechen. Zur Pragmatik und Semantik von Metapher, Metonymie, Ironie und rhetorischer Frage. Tübingen: TBL-Verlag Narr, 1978. Bernstein R. Restrukturierung der Gesellschaftstheorie. Frankfurt: Suhrkamp, 1978. Böhringer H. Avantgarde Geschichte einer Metapher // Archiv für Begriffsgeschichte. 1978. Bd. 22. Davidson D. What Metaphors Mean // Critical Inquiry. 1978. ¹ 5. De Man P. The Epistemology of Metaphor // Critical Inquiry. 1978. ¹ 5. Demand A. Metaphern für Geschichte. Sprachbilder und Gleichnisse im historisch-politischen Denken. München: Beck, 1978. Gardner H., Winner E. The Development of Metaphoric Competence. Implications for Humanistic Disciplines // Critical Inquiry. 1978. ¹ 5. Gordon D. Therapeutic Metaphors. Cupertino: META, 1978. Hörmann H. Meinen und Verstehen. Frankfurt: Suhrkamp, 1978. Kubczak H. Die Metapher. Beiträge zur Interpretation und semantischen Struktur der Metapher auf der Basis einer referentiellen Bedeutungsdefinition. Heidelberg: Winter, 1978. Kurz G. Die schwierige Metapher // Deutsche Vierteljahreszeitschrift. 1978. ¹ 52. Leach E. Kultur und Kommunikation. Frankfurt: Suhrkamp, 1978. Levinson S. C. Commentary on B. Beck. The Metaphor as a Mediator between Semantic and Analogic Modes of Thought // Current Anthropology. 1978. Vol. 19. Manella J. Zur Sprachanalyse in den Sozialwissenschaften. Zurich: Studenten-Schreib-Service, 1978. Nugel B. Architekturmetaphern und Gesamtplankonzeption in der englischen Literaturkritik des 17 Jahrhunderts // Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. 1978. ¹ 8. Ortony A., Reynolds R. E., Arter J. A. Metaphor: Theoretical and Empirical Research // Psychological Bulletin. 1978. ¹ 85. Ortony A., Schallert D. L., Reynolds R. E., Antos S. J. Interpreting Metaphors and Idioms: Some Effects of Context on Comprehension // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1978. ¹ 17. Quine W. V. O. A Postscript on Metaphor // Critical Inquiry. 1978. Autumn. Ricoeur P. The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling // Critical Inquiry. 1978. Autumn. Rosch E. Principles of Categorization // Cognition and Categorization / Ed. by E. Rosch & B. B. Lloyd. Hillsdale, 1978. Tourangeau R., Sternberg R. J. Understanding and Appreciating Metaphors // N. R. 150–412 ONR Technical Report ¹ 11. New Haven: Dept. of Psychology, Yale Univ., 1978. Watzlawick P. The Language of Change: Elements of Therapeutic Communication. N. Y.: Basic, 1978.
1979 Арнольд И. В. Потенциальные и скрытые семы и их актуализация в английском
художественном тексте // Иностр. яз. в шк. 1979. № 5. Арутюнова Н. Д. Метафора // Русский язык: Энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1979а. Арутюнова Н. Д. Языковая
280
метафора (Синтаксис и лексика) // Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1979б. Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа // Его же. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. Бессарабова Н. Д. Метафорические сочетания в общественно-публицистическом стиле русского литературного языка // НДВШ. ФН. 1979. № 1. Васильева Э. В. Типы лексико-семантических структур диалектного субстантива (метафорические отношения): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 1979. Григорьев В. П. Поэтика слова. М., 1979. Зевахина Т. С. Компонентный анализ как метод выявления семантической структуры слова: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М.: МГУ, 1979. Иванов В. В. Нейросемиотика устной речи и функциональная асимметрия мозга // Учен. зап. Тартуск. ун-та. Тр. по знаковым системам. 1979. Т. 11. Вып. 481. Семиотика устной речи. Коготкова Т. С. Русская диалектная лексикология (состояние и перспективы). М.: Наука, 1979. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979. Лурия А. Р. Язык и сознание. М., 1979. Медведева С. Ю. Проблемы стилистики: (Аспекты лингвистической теории метафоры). М., 1979. Никитин М. В. О семантике метафоры // Вопр. языкознания. 1979. № 1. Прохорова В. Н. Тематические группы как микросистемы // Вопросы русского языкознания. М., 1979. – Вып. 2. Рыжкина О. А. Предварительные результаты исследования выразительной лексики русского языка // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск, 1979. – Вып. 8. Стернин И. А. Проблемы анализа структуры значения слова. Воронеж, 1979. Сумарокова Л. М. Системный подход в современной лингвистике // Системный метод и современная наука: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1979. – Вып. 5. Тарасова В. К. Метафора качества и метафора-отношение // Теория и методы семасиологических исследований. М., 1979. Хромых Г. С. Переносные значения в лексических микросистемах: (Закономерности развития и организации): Дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 1979. Чембай В. Н. Структурно-функциональное своеобразие метафоры в произведениях М. Пришвина: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Днепропетровск, 1979. Шрамм А. Н. Очерки по семантике качественных прилагательных: На материале современного русского языка. Л., 1979. Янков М. Материя и информация. М.: Прогресс, 1979.
Black M. How Metaphors Work. A Reply to Donald Davidson // Critical Inquiry. 1979. Autumn. Blumenberg H. Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigmen einer Daseinsmetapher. Frankfurt: Suhrkamp, 1979. Boyd R. Metaphor and Theory Change. What is “Metaphor” a Metaphor for? // Metaphor and Thought / Ed. by A. Ortony. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1979. Demandt A. Denkbilder des europäischen Epochenbewußtseins // Archiv für Begriffsgeschichte. 1979. Bd. 23. Goodman N. Metaphor as Moonlighting // Critical Inquiry. 1979. ¹ 6. Grice H. P. Intendieren, Meinen, Bedeuten // Handlung, Kommunikation, Bedeutung / G. Meggle (Hrsg.). Frankfurt: Suhrkamp, 1979a. Grice H. P. Logik und Konversation // Handlung, Kommunikation, Bedeutung / G. Meggle (Hrsg.). Frankfurt: Suhrkamp, 1979c. Grice H. P. Sprecher-Bedeutung und Intention // Handlung, Kommunikation, Bedeutung / G. Meggle (Hrsg.). Frankfurt: Suhrkamp, 1979b. Kuhn T. Metaphor in Science // Metaphor and Thought / Ed. by A. Ortony. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1979. Larousse de poche. Paris, 1979. Ledanff S. Die „nackte Wahrheit“ in metaphorischer Beleuchtung // Sprache im technischen Zeitalter 1979. ¹ 68. Metaphor and Thought / Ed. by A. Ortony. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1979. Ricoeur P. The Metaphorical Process as Cognition, Imagination and Feeling // On Metaphor. Chicago; L., 1979. Scheffler I. Beyond the Letter. A Philosophical Inquiry into Ambiguity, Vagueness and Metaphor in Language. London/Boston / Henley: Routledge & Kegan Paul, 1979. Searle J. Metaphor // Metaphor and Thought / Ed. by A. Ortony. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1979. Zijderveld A. C. On Cliches: The Supersedure Of Meaning by Function in Modernity. L. etc.: Routedge & Kegan Paul, 1979.
1980 Абрамова Г. А. Метафора в тексте англоязычной рекламы: Дис. … канд. филол. наук.
Киев, 1980. Аверинцев С. С. Архетипы // Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. 1. М., 1980. Арутюнова Н. Д. К проблеме функционирования типов лексического значения // Аспекты семантических исследований. М., 1980. Аспекты семантических исследований. М.: Наука, 1980. Билсон И. А. Описание тематической группы слов современного русского языка как
281
микросистемы (на материале ботаникосемизмов). Дис…. канд. филол. наук. М., 1980. Быстрова Л. В., Капатрук Н. Д., Левицкий В. В. К вопросу о принципах и методах выделения лексико-семантических групп слов // Филол. науки. 1980. № 6. Верещагин Е. М., Костамаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. М.: Русский язык, 1980. Голев Н. Д. Заметки об условно-символической номинации в русском языке // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск, 1980. – Вып. IX. Дридзе Т. М. Язык и социальная психология. М., 1980. Дубровский Д. И. Информация, сознание, мозг. М.: Высшая школа, 1980. Коробейникова В. А. Лексико-семантическая группа прилагательных с пространственным значением: Дис. … канд. филол. наук. Саратов, 1980. Кузнецов А. М. Проблема компонентного анализа в лексике: Научно-аналитический обзор. М.: ИНИОН АН СССР. 1980. Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. Тр. по языкознанию. М., 1980. Полякова С. В. Из истории средневековой латинской новеллы XIII в. // Средневековые латинские новеллы XIII в. Л.: Наука, 1980. Рыжкина О. А. Системное исследование зооморфизмов в русском языке (в сопоставлении с английским): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1980. Селиверстова О. Н. Некоторые типы семантических гипотез и их верификация // Гипотеза в современной лингвистике. М.: Наука, 1980. Сычев А. С. Метафорическое употребление военной лексики и фразеологии в газете // Вопросы структуры и функционирования русского языка. Томск, 1980. Тарасов Л. Ф. К вопросу о лингвистической природе метафоры // Русский язык в школе. 1980. № 4. Тер-Минасова С. Г. Синтагматика речи: онтология и эвристика. М.: Изд-во МГУ, 1980. Шахова Л. И. Структурно-функциональная характеристика лексико-семантической группы существительных “чувства, переживания” в русском языке: Дис. … канд. филол. наук. Киев, 1980. Шенк Р. Обработка концептуальной информации. М.: Энергия, 1980. Яковлев Б. Н. Деривационно-семантический анализ имен существительных со значением места в русском языке: Дис. … канд. филол. наук. Л., 1980.
Akmajian A. et al. Linguistics: an Introduction to Language and Communication. Cambridge (Mass.); L.: M.I.T Press, 1980. Almeida I. L’interprétation en sémiotique et en herméneutique // Bulletin du G.R.S.L. 1980. ¹ 15. Beaugrande R. de. Text, Discourse, and Process. Toward a Multidisciplinary Science of Text. L.; N. Y.: Longman Alex Publishing Corporation, 1980. Bremer D. Aristoteles, Empedokles und die Erkenntnisleistung der Metapher // Poetica. 1980. ¹ 12. Dijk T. A. van. Textwissenschaft: Eine interdisplinaere Einfuehrung. München, 1980. Frank M. Die Aufhebung der Anschauung im Spiel der Metapher // Neue Hefte für Philosophie. 1980. H. 18/19. Frege G. Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien. Göttingen: Vandenhoek, 1980. Gadamer H.-G. Anschauung und Anschaulichkeit // Neue Hefte für Philosophie. 1980. H. 18/19. Goffman E. Rahmenanalyse. Frankfurt: Suhrkamp, 1980. Hesse M. Revolutions and Reconstructions in the Philosophy of Science. Brighton: The Harvester Press, 1980. Jakobson R. Brain and Language. Cerebral Hemispheres and Linguistic Structure in Mutual Light. Ohio, 1980. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago / London: The University of Chicago Press, 1980a. Lakoff G., Johnson M. The Metaphorical Structure of the Human Conceptual System // Cognitive Science. 1980b. ¹ 4. Minsky M. A Framework for Representation Knowledge // Frame Conceptions and Text Understanding. B., 1980. Morgan G. Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving in Organization Theory // Administrative Science Quarterly. 1980. Vol. 25. Perelman C. Das Reich der Rhetorik. Rhetorik und Argumentation. München: Beck, 1980. Pottier B. Sémantique et noémique // Annuario de Estudios filológicos. Universidad de Extremadura. Cáceres, 1980. Schlobach J. Zyklentheorie und Epochenmetaphorik. München: Fink, 1980. Weinrich H. Metapher // Historisches Wörterbuch der Philosophie / J. Ritter, K. Gründer (Hrsg.). Bd. V. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980. Winner E., Engel M., Gardner H. Misunderstanding Metaphor. What's the Problem? // Journal of Experimental Child Psychology. 1980. № 30.
1981 Бирвиш М. Семантика // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1981. – Вып. Х.
Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. Игнатова С. А. Структурно-семантическая организация обозначений совокупностей лиц в современном английском языке: Дис. … канд. филол. наук. Минск, 1981. Катц Дж. Семантическая теория // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1981. – Вып. Х. Лексика
282
русского литературного языка XIX – начала ХХ века / Под ред. Ф. П. Филина. М.: Наука, 1981. Морковкин В. В. Лексическая многозначность и некоторые вопросы ее лексикографической интерпретации // Русский язык. Проблемы художественной речи. Лексикология и лексикография: Виноградовские чтения. IX–X. М.: Наука, 1981. Рыньков Л. Н. Метафорические сочетания в языке художественной литературы XIX века: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Л., 1981. Холтон Дж. Тематический анализ науки. М., 1981. Шанский Н. М., Иванов В. В. Современный русский язык. Ч. I: Введение. Лексика. Фразеология. Фонетика. Графика и орфография. М.: Просвещение, 1981.
Aust G. et al. Ontogenese metaphorischer Kompetenz // Wirkendes Wort. 1981. ¹ 6. Bandy G. J. Metaphorik der Erfüllung. Nahrung als Hintergrundsmodell in der griechischen Ethik bis Epikur // Archiv für Begriffsgeschichte. 1981. Bd. 25. Blumenberg H. Anthropologische Annäherungen an die Rhetorik // Wirklichkeiten in denen wir leben. Stuttgart: Reclam, 1981. Cohen T. Figurative Speech and Figurative Acts // Philosophical Perspectives on Metaphor / Ed. by M. Johnson. Minneapolis: Minnesota University Press, 1981. Fachsprachen / W. von Hahn (Hrsg.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981. Goodman N. Wege der Referenz // Zeitschrift für Semiotik. 1981. Bd. 3. Johnson M. Philosphical Perspectives on Metaphor. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1981. Ledanff S. Die Augenblicksmetapher. Uber Bildlichkeit und Spontaneitt in der Lyrik. München; Wien: Hanser, 1981. Loewenberg I. Identifying Metaphors // Philosophical Perspectives on Metaphor / Ed. by M. Johnson. Minneapolis: Minnesota Univ. Press, 1981. Lyons J. Language, Meaning and Context. Glasgow: Fontana; Collins, 1981. Murat M. La métaphore verbale: une mise au point // Travaux de linguistique et de littérature. Strasbourg, 1981. Oatley K. Representing Ourselves: Mental Schemata, Computational Metaphors and the Nature of Consciousness // Aspects of Consciousness / Ed. by G. Underwood & R. Stevens. 1981. Vol. 2. Philosophical Perspectives on Metaphor / Ed. by M. Johnson. Minneapolis: Minnesota Univ. Press, 1981. Pross H. Zwänge Essay über symbolische Gewalt. Berlin: Karin Kramer, 1981. Sontag S. Krankheit als Metapher. Frankfurt: Fischer, 1981. Tourangeau R., Sternberg R. J. Aptness in Metaphor // Cognitive Psychology. 1981. № 13.
1982 Анализ метаязыка словаря с помощью ЭВМ. М.: Наука, 1982. Арнольд И. В.
Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения // Вопр. языкознания. 1982. № 4. Архарова Д. И. Функционирование тематической группы с общим семантическим множителем «дикорастущие травянистые растения» (на материале говоров Талицкого района Свердловской области) // Слово в системных отношениях: Сб. науч. тр. Свердловск, 1982. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М.: Наука, 1982. Бертельс А. Е. Разделы словаря, семантические поля и тематические группы слов // Вопр. языкознания. 1982. № 4. Гридина Т. А. О моделировании ономастической лексики // Слово в системных отношениях: Сб. науч. тр. Свердловск, 1982. Журавлев А. Ф. Технические возможности русского языка в области предметной номинации// Способы номинации в современном русском языке. М.: Наука, 1982. Залевская А. А. Психолингвистические проблемы семантики слова. Калинин, 1982. Копнин П. В. Проблемы диалектики как логики и теории познания. М., 1982. Которова Е. Г. Метафорика в словаре и тексте. Сопоставительный анализ переносных значений в немецком и русском языках: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1982. Куттубаева Г. А. Внутренняя форма и ее роль в семантической структуре слова современного русского языка (на материале имен существительных со значением характеристики лица): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1982. Лаврентьева Н. Б. К вопросу о принципах классификации глагольных метафор (на материале говоров Новосибирской области) // Лексика и фразеология русских говоров Сибири. Новосибирск: Наука, 1982. Лазарева Э. А. Существительные с орудийным значением и их связи с глаголами: Дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 1982. Молчанова А. Н. О переносно-образных значениях слов // Аспекты лексического значения. Воронеж, 1982. Новиков Л. А. Семантика русского языка. М.: Высш. шк., 1982. Ревзин И. И. Модели языка. М.: Изд-во АН СССР, 1982. Сидельников В. П. Лексика со значением “запах” в русском языке (к проблеме языковой сущности лексических микросистем): Дис. … канд. филол. наук. Донецк, 1982. Филин Ф. П. О лексико-семантических группах слов //
283
Очерки по теории языка. М., 1982. Флейшман Б. С. Основы системологии. М.: Радио и связь, 1982.
Arbib M. A., Caplan D., Marshall J. Neural Models of Language Process. N. Y.; L.; P.: Academic Press, 1982. Ebeling H. Die ideale Sinndimension: Kants Faktum der Vernuft und die Basis-Fiktionen des Handelns. Freiburg; Munchen: Alber, 1982. Henderson W. Metaphor in Economics // Economics. 1982. Winter. Jones R. S. Physics as a Metaphor. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1982. Link J. Kollektivsymbolik und Mediendiskurse. Zur aktuellen Frage, wie subjektive Aufrüstung funktioniert // kultuRRevolution. 1982. ¹ 1. Martin J., Harré R. Metaphor in Science // Metaphor. Problems and Perspectives / Ed. by D. Miall. Brighton: The Harvester Press, 1982. Metaphor. Problems and Perspectives / Ed. by D. Miall. Brighton: The Harvester Press, 1982. Moore F. C. T. On Taking Metaphor Literally // Metaphor. Problems and Perspectives / Ed. by D. Miall. Brighton: The Harvester Press, 1982. Palmer F. R. Semantics. A New Outline / Предисл. и комментарий М. В. Никитина. М.: Высш. шк., 1982. Searle J. R. Ausdruck und Bedeutung. Frankfurt: Suhrkamp, 1982. Semantic Anthropology / Ed. by D. Parkin. L.: Academic Press, 1982. Stierle K. Der Maulwurf im Bildfeld. Versuch zu einer Metapherngeschichte // Archiv für Begriffsgeschichte. 1982. Bd. 26. Theweleit K. Männerphantasien: 2 Bde. Reinbek: Rowohlt, 1982. Tourangeau R., Sternberg R. J. Understanding and Appreciating Metaphors // Cognition. 1982. № 11.
1983 Василевич А. П. К проблеме отбора материала для лексико-семантического описания
группы слов // Психолингвистические проблемы семантики. М., 1983. Деглин Л. В., Балонов Л. Я., Долинина И. Б. Язык и функциональная асимметрия мозга // Учен. зап. Тартуск. ун-та, 1983. Вып. 635. Златоустова Л. В. Интонация и просодия в организации текста // Звучащий текст. М., 1983. Ковтун Л. С. Описание метафоризации значений в толковом словаре литературного языка // Современная русская лексикография. 1981. Л., 1983. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1983. Ротова Л. Н. Семантика кулинарных прагматонимов в современном русском литературном языке: Дис. … канд. филол. наук. Алма-Ата, 1983. Скляревская Г. Н. К вопросу о метафоре как объекте лексикографии // Современная русская лексикография: 1981. Л.: Наука, 1983. Сорокин А. А. Сущность и явление // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. Спиркин А. Г., Юдин Э. Г., Ярошевский М. Г. Методология // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. Филлмор Ч. Дж. Об организации семантической информации в словаре // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV: Проблемы и методы лексикографии. М., 1983. Шершакова Н. Е. Развитие метафорических значений глаголов (на материале семантических неологизмов советского периода) // Функциональная значимость слова в тексте художественных произведений. М., 1983. Якобсон Р. О. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. М.: Радуга, 1983.
Bartel R. Metaphors and Symbols. Forays into Language. Urbana, 1983. Barwise J., Perry J. Situations and Attitudes. Cambridge (Mass.): The M. I. T. Press, 1983. Biese A. Philosophie des Metaphorischen // Grundlinien dargestellt. Hamburg; Leipzig: Voss, 1983. Blumenberg H. Ausblick auf eine Theorie der Unbegrifflichkeit // Theorie der Metapher / A. Haverkamp (Hrsg.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. Fuhrmann M. Rhetorik und öffentliche Rede. Über die Ursachen des Verfalls der Rhetorik im ausgehenden 18 Jahrhundert. Konstanz: Universitätsverlag, 1983. Genette G. Die restringierte Rhetorik // Theorie der Metapher / A. Haverkamp (Hrsg.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. Gentner D. Structure-Mapping: A Theoretical Framework for Analogy // Cognitive Science. 1983. ¹ 7. Gildea P., Glucksberg S. On Understanding Metaphor. The Role of Context // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1983. ¹ 22. Henle P. Die Metapher // Theorie der Metapher / A. Haverkamp (Hrsg.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. Johnson-Laird P. N. Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference and Consciousness. Cambridge (Mass.), 1983. Künne W. „Im übertragenen Sinne“: Zur Theorie der Metapher // Conceptus. 1983. XVII. ¹ 40–41. Küster R. Politische Metaphorik // Sprache und Literatur. 1983. ¹ 14. H. 51. Language, Logic and Method / Ed. by R. S. Cohen, M. W. Wartofsky. Dordrecht: Reidel, 1983. Lanzara G. F. The Design Process: Frames, Metaphors and Games // Systems Design
284
For, With and By The Users. Amsterdam: North-Holland, 1983. Levinson S. C. Pragmatics. Cambridge, 1983. Morgan G. More on Metaphor. Why We Cannot Contol Tropes in Administrative Science // Administrative Science Quarterly. 1983. Vol. 28. Ohala J. J. Cross-language Use of Pitch: An Ethological Veiw // Phonetica. 1983. ¹ 1. Richards I. A. Die Metapher // Theorie der Metapher / A. Haverkamp (Hrsg.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. Ricoeur P. Die Metapher und das Hauptproblem der Hermeneutik // Theorie der Metapher / A. Haverkamp (Hrsg.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. Ruwet N. Synekdochen und Metonymien // Theorie der Metapher / A. Haverkamp (Hrsg.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. Searle J. R. Geist, Hirn und Wissenschaft. Frankfurt: Suhrkamp, 1983. Theorie der Metapher / A. Haverkamp (Hrsg.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. Villwock J. Metapher und Bewegung. Frankfurt; Bern: Peter Lang, 1983a. Villwock J. Welt und Metapher // Zeitschrift für philosophische Forschung. 1983b. Bd. 37.
1984 Блинова О. И. Явление мотивации слова (лексикологический аспект). Учеб. Пособие.
Томск, 1984. Гак В. Г. К эволюции способов речевой номинации // Вопр. языкознания. 1985. № 4. Гольдберг В. Б. Типология структурных связей, организующих лексико-семантическое поле (на примере поля «Жизнь – смерть» в русском и английском языках): Дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 1984. Горбаневская Г. В. Семантическое поле звучания в современном русском языке: Дис. … канд. филол. наук. М., 1984. Гудавичюс А. Й. Семантический процесс антропоцентрической метафоризации (на примере зооморфизмов русского и литовского языков) // Семантические процессы в системе языка. Воронеж, 1984. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: Наука, 1984. Гусев С. С. Наука и метафора. Л., 1984. Денисов П. Н. Место и роль самых многозначных слов в лексической системе языка // Слово в грамматике и словаре. М.: Наука, 1984. Ермакова О. П. Лексические значения производных слов в русском языке. М., 1984. Жоль К. К. Мысль, слово, метафора: Проблема семантики в философском освещении. Киев, 1984. Казаков В. П. К типологии вторичных значений отглагольных существительных в современном русском языке // Исследования по семантике. Семантика слова и словосочетания: Межвуз. науч. сб. Уфа, 1984. Камалова А. А. Лексика со значением состояния в современном русском языке: Дис. … канд. филол. наук. Уфа, 1984. Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка. М.: Наука., 1984. Кретов А. А., Лукьянова Н. А. Семантические процессы в лексико-семантических группах // Семантические процессы в системе языка. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. Матвеева Г. Г. Актуализация прагматического аспекта научного текста. Ростов: Изд-во Ростовского ун-та, 1984. Пелих Е. А. Структура лексико-семантического поля желания (на материале русского, украинского, английского языков): Дис. … канд. филол. наук. Саратов, 1984. Попова З. Д., Стернин И. А. Лексическая система языка. Воронеж, 1984. Тиллябаева Л. Р. Механизм образования семантических дериватов качественных имен прилагательных: Дис. … канд. филол. наук. Ташкент, 1984. Ульянова Н. П. Соотношение стихийных факторов и сознательного регулирования в механизмах языковой номинации: Дис. … канд. филол. наук. М., 1984. Уфимцева А. А. К вопросу о так называемом дефиниционном методе описания лексического значения слова // Слово в грамматике и словаре. М.: Наука, 1984. Фрумкина Р. М. Цвет, смысл, сходство. Аспекты психолингвистического анализа. М.: Наука, 1984. Цветков Н. В. Методология компонентного анализа, его сферы и границы (на материале лексики русского языка): Дис. … канд. филол. наук. М., 1984.
Bewegung und Stillstand in Metaphern und Mythen / J. Link, W. Wülfing (Hrsg.). Stuttgart: Klett, 1984. Bühl W. L. Die Ordnung des Wissens. Berlin: Duncker und Humblot, 1984. Castoriadis C. Gesellschaft als imaginäre Institution. Frankfurt: Suhrkamp, 1984. Fuhrmann M. Die antike Rhetorik eine Einführung. München; Zürich: Artemis-Verlag, 1984. Gerhart M., Russell A. M. Metaphoric Process. The Creation of Scientific and Religious Understanding. Texas: Texas Christ. Univ. Press, 1984. Goodman N. Weisen der Welterzeugung. Frankfurt: Suhrkamp, 1984. Keller-Bauer F. Metaphorisches Verstehen. Eine linguistische Rekonstruktion metaphorischer Kommunikation. Tübingen: Niemeyer, 1984. Knorr-Cetina K. Die Fabrikation von Erkenntnis. Frankfurt: Suhrkamp, 1984. Kolers P. A., Roediger H. L. Procedures of Mind // Journal
285
of Verbal Learning and Verbal Behaviour. 1984. ¹ 23. Kügler W. Zur Pragmatik der Metapher. Metaphernmodelle und historische Paradigmen. Frankfurt; Bern; N. Y.: Peter Lang, 1984. Link J. „Einfluß des Fliegens! Auf den Stil selbst!“ Diskursanalyse des Ballonsymbols // Bewegung und Stillstand in Metaphern und Mythen / J. Link, W. Wülfing (Hrsg.). Stuttgart: Klett, 1984b. Link J. Über ein Modell synchroner Systeme von Kollektivsymbolen sowie seine Rolle bei der Diskurs-Konstitution // Bewegung und Stillstand in Metaphern und Mythen / J. Link, W. Wülfing (Hrsg.). Stuttgart: Klett, 1984a. Möhn D., Pelka R. Fachsprachen Eine Einführung. Tübingen: Niemeyer, 1984. Rothbart D. The Semantics of Metaphor and the Structure of Science // Philosophy of Science. 1984. № 51.
1985 Аверьянов А. Н. Системное познание мира. М.: Политиздат, 1985. Бессонова О. М.
Метафора в научном контексте // Проблемы интерпретации в истории науки и философии. Новосибирск, 1985. Болотнова Н. С. Образная перспектива глагольного слова в “Маленьких повестях” Ю. Нагибина (на материале общеязыковых глагольных метафор со значением говорения) // Вопросы стилистики. Стилистика художественной речи: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 1985. – Вып. 20. Бондаренко А. В. Опыт лингвистической интерпретации соотношения системы и среды // Вопр. языкознания. 1985. № 1. Вакарюк Л. А. Структурно-семантический анализ имен существительных со значением процесса, не мотивированных глаголами (на материале русского языка): Дис. … канд. филол. наук. Черновцы, 1985. Гак В. Г. К эволюции способов речевой номинации // Вопр. языкознания. 1985. № 4. Грайс П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. – Вып. XVI. Дмитриева В. С. Лексико-семантическая сочетаемость имен, называющих атмосферные осадки, в русском языке: Дис. …. канд. филол. наук. Казань, 1985. Кацитадзе Э. А. Метафоризация зоонимов в немецком языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Тбилиси, 1985. Кузьмина Н. А. Поэтическое слово Александра Блока // Вопросы стилистики. Саратов, 1985. – Вып. 20. Петров В. В. Научные метафоры: природа и механизм функционирования // Философские основания научной теории. Новосибирск, 1985. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Просвещение, 1985. Росинене Г. Системность в семантике зооморфизмов литовского языка // Семантика и системность языковых единиц. Новосибирск, 1985. Складчикова Н. В. Семантическое содержание метафоры и виды его компенсации при переводе // Номинация и контекст. Сб. науч. тр. Кемерово, 1985. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. М.: Высшая школа, 1985. Стернин И. А. Лексическое значение слова в речи. Воронеж, 1985а. Стернин И. А. Разграничение прямого и переносного употребления слова // Семантика и системность языковых единиц. Новосибирск, 1985б. Сункало Саного. Семантическая структура группы существительных со значением интеллекта: Дис. … канд. филол. наук. Минск, 1985. Тальягамбе С. Зрительное восприятие как метафора // Вопр. философии. 1985. № 10. Харченко В. К. Лексико-семантическая группа как отражение системности переносных значений и как прием анализа системности // Семантика и системность языковых единиц. Новосибирск, 1985. Шалютин С. М. Искусственный интеллект: гносеологический аспект. М.: Мысль, 1985.
Barker Ph. Using Metaphors in Psychotherapy. N. Y.: Brunner; Mazel, 1985. Briosi S. Il senso della metafora. Napoli: Liguori, 1985. Carroll J. M., Mack R. L. Metaphor, Computing Systems, and Active Learning // International Journal of Man – Machine Studies. 1985. ¹ 22. Gentner D., Grudin J. The Evolution of Mental Metaphors in Psychology: A 90-year Retrospective // American Psychologist. 1985. ¹ 40, 2. Habermas J. Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt: Suhrkamp, 1985. Hübner K. Die Wahrheit des Mythos. München: Fink, 1985. Künzli R. Zu Ort und Leistung der Metapher im pädagogischen Verständigungsprozeß // Unterricht Sprache zwischen den Generationen / J. Petersen (Hg.). Kiel: Verlag Wissenschaft und Bildung, 1985. MacCormac E. R. A Cognitive Theory of Metaphor. Cambridge (Mass.): M.I.T. Press, 1985. McCloskey D. N. The Rhetoric of Economics. Brighton: The Harvester Press, 1985. Metaphor. A Bibliography of Post—1970 Publications. With assistance of B. Nitelet, A. Nysenholc and W. Shibles / Ed. by J.-P. van Noppen, S. de Knop, R. de Jongen. Amsterdam; Philadelphia: Benjamins; Amsterdam: Benjamins, 1985. Robert M. Young Darwin's Metaphor: Nature's Place in
286
Victorian Culture. Cambridge; N. Y.: Cambridge Univ. Press, 1985. Soskice J. M. Metaphor and Religious Language. Oxford: Clarendon Press, 1985. Springer S., Deutsch G. Left Brain, Right Brain. N. Y.: Freeman, 1985. Talmy L. Force Dynamics in Language and Thought // Papers from the Parasession on Causatives and Agentivity. Chicago: Chicago Linguistic Society, 1985. Villwock J. Mythos und Rhetorik. Zum inneren Zusammenhang zwischen Mythologie und Metaphorologie in der Philosophie Hans Blumenbergs // Philosophische Rundschau. 1985. № 1–2.
1986 Вангелов А. Семантичките фигури во македонската народна лирика. Скопjе: Макед.
книга, 1986. Вовк В. Н. Языковая метафора в художественной речи: Природа вторичной номинации. Киев, 1986. Ибрагимова В. Л. Отражение в языке категории пространства // Исследования по семантике. Уфа, 1986. Клишин А. И. Структурно-семантический анализ тематических групп, обозначающих жилые объекты в современном русском и английском языках (гиперо-гипонимические отношения): Дис. … канд. филол. наук. Л., 1986. Кожевникова Н. А. Об одном типе глагольных метафор // Классы глаголов в функциональном аспекте. Свердловск, 1986а. Кожевникова Н. А. Словоупотребление в русской поэзии начала ХХ века. М., 1986б. Кузнецов А. М. От компонентного анализа к компонентному синтезу. М.: Наука, 1986. Лукьянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления: (проблемы семантики). Новосибирск: Наука, 1986. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. Шершакова Н. Е. О некоторых закономерностях изменения парадигматических отношений в результате семантической деривации // Классы глаголов в функциональном аспекте. Свердловск, 1986.
Arbib M. A., Hesse M. B. The Construction of Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Birus H., Fuchs A. Ein terminologisches Grundinventar für die Analyse von Metaphern // Zur Terminologie der Literaturwissenschaft. Akten des IX. Germanistischen Symposiums der DFG / C. Wagenknecht (Hrsg.). Stuttgart: Metzler, 1986. Emonds H. Metaphernkommunikation. Zur Theorie des Verstehens von metaphorisch verwendeten Ausdrücken in der Sprache. Göppingen: Kümmerle, 1986. Fogelin R. G. Figuratively Speaking. New Haven; L., 1986. Köller W. Dimensionen des Metaphernproblems // Zeitschrift für Semiotik. 1986. Bd. 8. Konersmann R. Die Metapher der Rolle und die Rolle der Metapher // Archiv für Begriffsgeschichte. 1986–1987. Bd. 30. Kövecses Z. Metaphors of Anger, Pride and Love. Amsterdam; Philadelphia, 1986. Lakoff G. The Meaning of Literal // Metaphor and Symbolic Activity. 1986. ¹ 1. Lakoff G., Brugman C. Argument Forms in Lexical Semantics // Proceedings of the Twelfth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society / Ed. by Nikiforidou et al. 1986. Maurice S. Modelling and Simulation Methodology. Knowledge System Paradigm. Amsterdam, 1986. McCloskey D. The Rhetoric of Economics. Brighton: Wheatsheaf, 1986. Mills J. C., Crowley R. J. Therapeutic Metaphors for Children and the Child Within. N. Y.: Brunner, 1986. Remortel M. van. Literalness and Metaphorization: the Case of “Turn”. Antwerpen: UP, 1986. Scheffler I. Ten Myths of Metaphor // Communication and Cognition. 1986. Vol. 19. ¹ 3–4. Schlesier R. Der bittersüße Eros. Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik des Metaphernbegriffs // Archiv für Begriffsgeschichte. 1986–1987. Bd. 30. Ueding G., Steinbrink B. Grundriß der Rhetorik. Geschichte, Technik, Methode. Stuttgart: Metzler, 1986.
1987 Алешина О. Н. Тематическая классификация номинативных лексико-семантических
вариантов слов с потенциальным метафорическим значением // Материалы XXV Всесоюз. науч. студ. конф.: Филология. Новосибирск, 1987. Антомонов А. Ю. Исследования структурной организации лексико-семантического поля. Киев, 1987. Баранов А. Н. Категории искусственного интеллекта в лингвистической семантике. Фреймы и сценарии. М., 1987. Бессарабова Н. Д. Метафора как языковое явление // Значение и смысл слова. М., 1987. Васенькин В. В. Структурно-семантическое описание ЛСВ существительных со значением “пространство”: Дис. … канд. филол. наук. Калининград, 1987. Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о терминах. М.: Высш. шк., 1987. Кинщак А. М. Актуализация метафорических эпитетов в англоязычной поэзии: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Киев, 1987. Кулиев Г.-Г. Метафора и научное познание. Баку, 1987. Литвинова М. Н. Деривационно-прагматический анализ метафоры. Автореф. дис. …
287
канд. филол. наук. Саратов, 1987. Малахова Н. Н. Семантика и функционирование лексико-семантической группы имен эмоций в современном русском языке: Дис. … канд. филол. наук. М., 1987. Мейзерский В. М. Проблема символического интерпретанта в семиотике текста // Труды по знаковым системам. Тарту, 1987. Вып. 21. Опарина Е. О. Связь метафоры с мировосприятием // Язык и культура. М., 1987. Пелепейченко Л. Н. Семантическая структура отадъекативных многозначных существительных русского языка: Дис. … канд. филол. наук. Харьков, 1987. Перминов В. О. Глагольная метафора в американском просторечии: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1987. Складчикова Н. В. Межъязыковые отношения метафор: Учеб. пособие. Кемерово, 1987. Скляревская Г. Н. Языковая метафора в словаре. Опыт системного описания // Вопр. языкознания. 1987. № 2. Страссман П. А. Информация в век электроники. Проблемы управления. М.: Экономика, 1987. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М.: Наука, 1987. Туранина Н. А. Особенности именной метафоры в поэзии В. Маяковского (лексический и семантический аспекты): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1987. Федяшина А. А. Коннотативная семантика пространственных антропоцентрических прилагательных: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Саратов, 1987.
Arbib M. A. et al. From Schema Theory to Language. N. Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 1987. Benzon W. L., Hays D. G. Metaphor, Recognition and Neural Process // The American Journal of Semiotics. 1987. Vol. 5. ¹ 1. Bosman J. Persuasive Effects of Political Metaphor // Metaphor and Symbolic Activity. 1987. ¹ 2. Bourdieu P. Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt: Suhrkamp, 1987. Burkhardt A. Wie die „wahre Welt“ endlich zur Metapher wurde. Zur Konstitution, Leistung und Typologie der Metapher // Conceptus. 1987. XXI. ¹ 52. Dennett D. C. The Intentional Stance. Cambridge (Mass.): M.I.T. Press, 1987. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus / S. J. Schmidt (Hrsg.). Frankfurt: Suhrkamp, 1987. Friedman S. Creativity and the Childbirth Metaphor. Gender Difference in Literary Discourse // Feminist Studies. 1987. Spring. ¹ 13/1. Haack S. Surprising Noises. Rorty and Hesse on Metaphor // Proceedings of the Aristotelian Society. 1987/88. Hartveldt R. Pragmatic Aspects of Coherence in Discourse. Groningen, 1987. Hesse M. Tropical Talk: The Myth of the Literal // Proceedings of the Aristotelian Society. Suppl. Vol., July 1987. Indurkhya B. Approximate Semantic Transference: A Computational Theory of Metaphors and Analogies // Cognitive Science. 1987. ¹ 11. Johnson M. The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1987. Kittay E. F. Metaphor. Its Cognitive Force and Its Linguistic Structure. Oxford: Clarendon Press, 1987. Lakoff G. The Death of Dead Metaphor // Metaphor and Symbolic Activity. 1987b. ¹ 2. Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1987a. Language Perception and Production: Relationships between Listening, Speaking and Writing / Ed. by A. Allport et al. L. etc.: Acad. Press, 1987. Ohnuki-Tierney E. The Monkey as Mirror: Symbolic Transformations in Japanese History and Ritual. Princeton (N. J.): Princeton Univ. Press, 1987. Ortony A. Some Problems for Models of Metaphor Comprehension and Their Developmental Implications // Communication and Cognition. 1987. ¹ 19. Rorty R. Unfamiliar Noises. Hesse and Davidson on Metaphor // Proceedings of the Aristotelian Society. Suppl. Vol. July 1987. Schiffer S. The Remnants of Meaning. Cambridge (Mass.): M.I.T. Press, 1987. Schöffel G. Denken in Metaphern. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987. Searle J. Intentionalität. Eine Abhandlung zur Philosophie des Geistes. Frankfurt: Suhrkamp, 1987. Sperber D., Wilson D. Précis of Relevance: Communication and Cognition // Behavioural and Brain Sciences. 1987. ¹ 10. Turner M. Death is the Mother of Beauty: Mind, Metaphor, Criticism. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1987. Verene D. Vicos Wissenschaft der Imagination. Theorie und Reflexion der Barbarei. München: Fink, 1987.
1988 Алешина О. Н. Типы метафор в их отношении к семантическим сферам номинативных
значений // Материалы XXVI Всесоюз. науч. студ. конф.: Филология. Новосибирск, 1988. Арутюнова Н. Д. От образа к знаку // Мышление, когнитивные науки, искусственный интеллект. М., 1988. Бахмутова Н. И. Системность переносных значений глаголов в русском языке // Системные отношения на разных уровнях языка. Новосибирск, 1988. Гадамер Х. Г. Истина и метод. М., 1988 (Интернет-ресурсы
288
http://astra.rsuh.ru/historycd/HISTORY/HTML/LITER/HRESTOM/G/Gadamer.htm) Демьянков В. З. Специальные теории интерпретации в вычислительной лингвистике. М., 1988. Кожевникова Н. А. О метафорической номинации персонажей в художественных текстах // Структура и семантика текста. Воронеж, 1988. Крюкова Н. Ф. Метафора как средство понимания содержательности текста: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1988. Лукьянова Н. А. Системные отношения в экспрессивной лексике разговорного употребления // Системные отношения на разных уровнях языка. Новосибирск, 1988. Мерзлова Е. А. Метафора в семантической структуре слов со значением “помещения” // Лексика русского языка и ее изучение. Рязань, 1988. Метафора в языке и тексте. Сб. науч. тр. М., 1988. Нирмала Ш. Национально-культурный компонент в составе фразеологизмов качественной оценки лица русского языка (в сопоставлении с языком малаялам): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1988. Носуленко В. Н. Психология слухового восприятия. М., 1988. Ольховников Д. Б. Лингвистическая характеристика и функции метафоричности текста: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1988. Паси И. C. Метафората. София: Наука и изкуство, 1988. Петров В. В. Язык и логическая теория: в поисках новой парадигмы // Вопр. языкознания. 1988. № 2. Петрова З. Ю. Системный характер метафорических значений и употреблений слов в русском языке (на материале обозначений эмоциональных состояний человека): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1988. Сазонова Е. Б. Метафора как средство выражения прагматической установки автора // Семантика и прагматика единиц языка и речи. Л., 1988. Семенюк Э. П. Информационный подход к познанию действительности. Киев: Наук. думка, 1988. Скляревская Г. Н. Языковая метафора в толковом словаре. Проблемы семантики. Ч. 1.: Языковая метафора как категория лексикологии/ АН СССР. Ин-т рус. яз. Препр. № 1 за 1988 г. М., 1988а. Скляревская Г. Н. Языковая метафора в толковом словаре. Проблемы семантики. Ч. 2.: Языковая метафора как категория лексикографии/ АН СССР. Ин-т рус. яз. Препр. № 2 за 1988 г. М., 1988б. Телия В. Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция. М., 1988а. Телия В. Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М.: Наука, 1988б. Уфимцева А. А. Роль лексики в познании человеком действительности и в формировании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М.: Наука, 1988. Харченко В. К. Метафора в афоризме // Исследования по семантике. Уфа, 1988. Чудинов А. П. Типология варьирования глагольной семантики. Свердловск, 1988. Этнопсихолингвистика / Отв. ред. Ю. А. Сорокин. М.: Наука, 1988.
Barthes R. Das semiologische Abenteuer. Frankfurt: Suhrkamp, 1988. Bernstein J., Shaik S. S. The Wave Particle Duality: Teaching via a Visual Metaphor // Journal of Chemical Education. 1988. ¹ 65. Campbell J. The Power of Myth / Ed. by B. S. Flowers. New York: Doubleday, 1988. De Man P. Allegorien des Lesens. Frankfurt: Suhrkamp, 1988. Derrida J. Die weiße Mythologie. Die Metapher im philosophischen Text // Randgänge der Philosophie. Wien: Passagen, 1988. Evolutionary Processes and Metaphors / Ed. by M.-W. Ho, S. Fox. N. Y.: Wiley, 1988. Graf D. Eingefleischte Metaphern. Die Vergesellschaftung des Individuums an der Nahtstelle von Sprache und Realität. Diss. München: Tuduv-Studien, 1988. Habermas J. Nachmetaphysisches Denken. Frankfurt: Suhrkamp, 1988. Haley M. C. The Semeiosis of Poetic Metaphor. Bloomington; Indianapolis : Indiana Univ. Press, 1988. Hesse M. Die kognitiven Ansprüche der Metapher // Erinnern um Neues zu sagen / J.-P. van Noppen (Hg.). Frankfurt: Athenäum, 1988. Hubig Ch. Sprache als Menschenwerk // Theorien vom Ursprung der Sprache / J. Gessinger, W. von Rhaden (Hrsg.). Berlin; N. Y.: De Gruyter, 1988. Bd. 1. Hums L. Zur Problematik metaphorischer Benennungen in Wissenschaft und Technik // Zeitschrift für Germanistik. 1988. ¹ 9. Jg. H. 1. Kurz G. Metapher, Allegorie, Symbol. Göttingen: Vandenhoeck, 1988. Lodge D. The Modes of Modern Writing: Metaphor, Metonymy and the Typology of Modern Literature. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1988. Meyer B. Métonymies et métaphores // Le Francais moderne. 1988. ¹ 3–4. O'Neill J. Relevance and Pragmatic Inference // Theoretical Linguistics. 1988–1989. Vol. 15. ¹ 3. Pross H. Die metaphorische Verwirrung. Ulm: Universitätsskript, 1988. Stala M. Metafora w liryce Mlodej Polski: Metamorfozy widzenia poetyckiego. Warszawa: Panst. wydaw. nauk., 1988. Winner E. The Point of Words: Children's Understanding of Metaphor and Irony. Cambridge
289
(Mass.); L.: Harvard Univ. Press, 1988. Wozny L. A. The Application of Metaphor, Analogy and Conceptual Models in Computer Systems // Interacting with Computers. 1988. № 1; 3.
1989 Айламазян А. К., Стаж Е. В. Информация и теория развития. М.: Наука, 1989.
Антипов Г. А., Марковина И. Ю., Донских О. А., Сорокин Ю. А. Текст как явление культуры. Новосибирск: Наука, 1989. Астраускайте Д. В. Парадигматические и синтагматические аспекты семантики существительных совокупного множества в современном английском языке: Дис. … канд. филол. наук. Вильнюс, 1989. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. Гришина Е. А. Структура поэтического текста с точки зрения теории речевых актов (на материале русского восьмистишия начала XX века): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1989. Гулый К. В. Метафора в лирике романтиков (Исследование на материале русских, английских и французских текстов): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Киев, 1989. Демьянков В. З. Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ. М., 1989. Дубичинский В. В. Национально-культурные особенности интернациональной лексики русского языка: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1989. Кошелюк М. Е. Роль образно-метафорических компонентов в речевом общении (на материале опосредованной коммуникации): Автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1989. Кузнецова И. С. История переносных употреблений цветообозначений в памятниках русской письменности XVII–XVIII веков: Дис. … канд. филол. наук. М., 1989. Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. М.: Высш. школа, 1989. Кутыбаева А. Д. Прагматический аспект речевой образности (на материале метафорических тропов английского языка): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Ташкент, 1989. Маковский М. М. Удивительный мир слов и значений. Иллюзии и парадоксы в лексике и семантике. М., 1989. Минейкене Р. Ч. Роль анкцентного выделения имен прилагательных в отображении мира художественного текста (Экспериментально-фонетические исследования на материале французского языка): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1989. Николис Дж. Динамика иерархических систем. Эволюционное представление. М.: Мир, 1989. Парахонский Б. А. Язык культуры и генезис знания: (ценностно-коммуникативный аспект): Автореф. дис. … д-ра филос. наук. Киев, 1989. Петров Ю. П. Информация и энтропия в кибернетике. Л.: ЛГУ, 1989. Походня С. И. Языковые виды и средства реализации иронии. Киев: Наукова думка, 1989. Пушкин В. Г., Урсул А. Д. Информация. Кибернетика. Интеллект. Кишинёв: Штиинца, 1989. Скляревская Г. Н. Языковая метафора как объект лексикологии и лексикографии: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Л., 1989а. Скляревская Г. Н. Языковая метафора как объект лексикологии и лексикографии: Дис. … д-ра филол. наук. Л., 1989б. Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: Вопросы теории. М.: Наука, 1989. Тарасова Т. А. Метафора в научной прозе (на материале англоязычной периодики физико-математического профиля): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Киев, 1989. Тогошвили Н. Г. Метафоры и сравнения в русских переводах поэмы Ш. Руставели “Витязь в тигровой шкуре” (на материале переводов Ш. Нуцубидзе, Н. Заболоцкого, П. Петренко и К. Бальмонта): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1989. Харченко В. К. Переносные значения слов. Воронеж, 1989. Хмелевский А. П. Национально-культурный компонент газетной лексики: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Минск, 1989.
Besien F. Metaphors in Scientific Language // Communication and Cognition. 1989. Vol. 22. ¹ 1. Danesi M. The Neurological Coordinates of Metaphor // Communication and Cognition. 1989a. Vol. 22. ¹ 1. Danesi M. The Role of Metaphor in Cognition // Semiotica. 1989b. ¹ 77/4. Gillett G. Perception and Neuroscience // The British Journal for the Philosophy of Science. 1989. Vol. 40. ¹ 1, March. Goodman N., Elgin C. Revisionen. Frankfurt: Suhrkamp, 1989. Grice P. Studies in the Way of Words. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1989. Lakoff G. Philosophical Speculation and Cognitive Science // Philosophical Psychology. 1989. ¹ 1–2. Lakoff G., Turner M. More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1989. Martin E. The Woman in the Body. A Cultural Analysis of Reproduction. Boston: Beacon Press, 1989. Metaphors of Consciousness / Ed. by R. S. Valle, R. von Eckartsberg. N. Y.: Plenum, 1989. Poser H. Vom Denken in Analogien // Berichte zur Wissenschaftsgeschichte. 1989. ¹ 12.
290
Puster E. Zur Wahrheit der Metapher // Wohin geht die Sprache? Wirklichkeit Kommunikation Kompetenz / J. Mittelstraß (Hrsg.). Essen: Hanns Martin Schleyer-Stiftung, 1989. Rorty R. Kontingenz, Ironie und Solidarität. Frankfurt: Suhrkamp, 1989. Schuster M., Wickert J. Die Metapher als Figur der Bildkommunikation // Nonverbale Kommunikation durch Bilder / M. Schuster, B. P. Woschek (Hrsg.). Stuttgart: Verlag für angewandte Psychologie, 1989. Sontag S. Aids und seine Metaphern. München; Wien: Hanser, 1989. Sprache im Faschismus / K. Ehlich (Hrsg.). Frankfurt: Suhrkamp, 1989. Turner M. Categories and Analogies // Analogical Reasoning: Perspectives of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Philosophy / Ed. by D. Helman. Dordrecht: Kluwer, 1989. Watkins K. W. Chemical Metaphors // Journal of Chemical Education. 1989. ¹ 66. Winter S. L. Transcendental Nonsense, Metaphoric Reasoning and the Cognitive Stakes for Law // University of Pennsylvania Law Review. 1989. № 137.
1990 Арутюнова Н. Д. Метафора // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов.
Энциклопедия, 1990а. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990б. Арутюнова Н. Д. Образ, метафора, символ в контексте жизни и культуры // Res Philologica. М.; Л.: Наука, 1990в. Арутюнова Н. Д. Тождество и подобие (заметки о взаимодействиях концептов). М., 1990г. Басова Г. Д. Типовые семантические мотивации производных наименований лиц в современном русском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Киев, 1990. Беркенлит М. Б., Чернавский А. В. Построение движения и метафора интеллекта // Компьютеры и познание: Очерки по когитологии. М., 1990. Бессонов А. В. Фрегевская концептуализация логико-семантической теории (критический анализ) // Концептуализация и смысл. Новосибирск, 1990. Бессонова О. М. Философско-методологический анализ теорий метафоры в обыденном языке и языке науки: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Новосибирск, 1990. Бирдсли М. Метафорическое сплетение // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. Блэк М. Метафора // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. Ващекин Н. П. и др. Информационная деятельность и мировоззрение. Иркутск: Изд-во Иркутского госуниверситета, 1990. Вежбицка А. Сравнение – градация – метафора // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. Вундт В. К вопросу о происхождении языка. Звукоподражание и звуковые метафоры // Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании / Отв. ред. С. В. Воронин. Л., 1990. Гайсина Р. М. Сопоставительное описание лексических полей (на материале разносистемных языков). Уфа, 1990. Гудмен Н. Метафора – работа по совместительству // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании языков. М., 1990. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1990. Макарова В. А. Обучение экспрессивной русской речи студентов-филологов национальных вузов (На основе изучения метафорических конструкций): Автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1990. Миллер Дж. Образы и модели, уподобления и метафоры // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. М.: Молодая гвардия, 1990. Недобух А. С. Вербальные сигналы мены коммуникативных ролей: Дисс. ... канд. филол. наук. Калинин, 1990. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. Введение. М.: Мир, 1990. Одинокова В. И. Функционально-семантические особенности метафорической конструкции n1+ae+n2 в современном французском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Киев, 1990. Опарина Е. О. Концептуальная метафора и ее функции в языке (На примере субстантивных метафор): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1990. Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры // Теория метафоры. М., 1990. Пащенко Н. В. Метафоризация в романе “Всадники” Ю. И. Яновского: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Одесса, 1990. Петров В. В. Метафора: От семантических представлений к когнитивному анализу // Вопр. языкознания. 1990. № 3. Рикер П. Живая метафора // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. Ричардс А. Философия риторики // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. Сергеева Е. В. Метафора и цетафора-символ в поэтических циклах А. А. Блока: Автореф. дис…. канд. филол. наук. Л., 1990. Серль Дж. Метафора // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. Смолина К. П. Лексика имущественной сферы в русском языке XI–XVII вв. М.: Наука, 1990.
291
Тарланов З. К. О предметах и задачи исторической стилистики русского языка // Историческая стилистика русского языка. Петрозаводск, 1990. Удальцова Э. Д. Разноуровневые характеристики метафорических глаголов в современном английском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Минск, 1990. Филюшин В. А. Аксиологические функции языка в социальном познании: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Киев, 1990. Харченко В. К. Переносные значения слов: развитие, функции, место в системе языка: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1990. Шалимова Н. А. Метафора в драматическом театре: Проблемы поэтики: Автореф. дис. … канд. искусствоведения. М., 1990.
Danesi M. Thinking is Seeing. Visual Metaphors and the Nature of Thought // Semiotica. 1990. ¹ 80, 3/4. Debatin B. Der metaphorische Code der Wissenschaft. Zur Bedeutung der Metapher in der Erkenntnis und Theoriebildung // „S“ (European Journal for Semiotic Studies). 1990. Vol. 2 (4). Gethin A. Antilinguistics. A Critical Assessment of Modern Linguistic Theory and Practice. Oxford: Intellect, 1990. Gibbs R. W., Jr. Psycholinguistic Studies on the Conceptual Basis of Idiomaticity // Cognitive Linguistics. 1990. ¹ 1–4. Haarmann H. Language in Its Cultural Embedding // Explorations in the Relativity of Signs and Sign Systems. 1990. Heringer H.-J. „Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort“. Politik, Sprache, Moral. München: Beck, 1990. Hubig Ch. Analogie und Ähnlichkeit. Probleme einer theoretischen Begründung vergleichenden Denkens // Komparative Kasuistik. Heidelberg: Asanger, 1990. Katz J. J. The Metaphysics of Meaning. Cambridge (Mass.): M. I. T. Press, 1990. Kovecses Z. Emotion Concepts. Springer – Verlag, 1990. Krämer S. Die Suspendierung des Buchstäblichen: über die Entstehung metaphorischer Bedeutung // Allgemeine Zeitschrift für Philosophie. 1990. Jg. 15. H. 2. Larsen S. The Mythic Imagination: Your Quest for Meaning Through Personal Mythology. N. Y.: Bantam, 1990. Metaphor in the History of Psychology / Ed. by D. Leary. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990. Nijhout H. F. Metaphors and the Role of Genes in Development // BioEssays. 1990. ¹ 12, 9. Ponzio A. Man as a Sign. Essays on the Philosophy of Language. 1990. Schulte J. Chor und Gesetz. Wittgenstein im Kontext. Frankfurt: Suhrkamp, 1990. Seel M. Am Beispiel der Metapher. Zum Verhältnis von buchstäblicher und figürlicher Rede // Forum für Philosophie Bad Homburg (Hrsg.): Intentionalität und Verstehen. Frankfurt: Suhrkamp, 1990. Sweetser E. From Etymology to Pragmatics: The Mind-as-Body Metaphor in Semantic Structure and Semantic Change. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990.
1991 Алешина О. Н. Метафоризация неодушевленных существительных современного
русского литературного языка: Дис. … канд. филол. наук. Томск, 1991. Арутюнова Н. Д. Истина: фон и коннотация. Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991. Баранов А. Н., Караулов Ю. Н. Метафора общественного диалога: война или согласие // Знание – сила. 1991. № 10. Баранов А. Н., Караулов Ю. Н. Русская политическая метафора (материалы к словарю). М., 1991б. Бартошевич Л. Лингво-когнитивное моделирование обработки доскурса как основа обучения чтению русскоязычной научной литературы: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 1991. Бебчук Е. М. Образный компонент в лексическом значении русского существительного: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 1991. Богин Г. И. Герменевтика // Художественное восприятие. Основные термины и понятия: (Словарь-справочник). Тверь, 1991. Борухов Б. Л. Зеркальная метафора в истории культуры // Логический анализ языка: культурные концепты. М., 1991. Вира Р. Р. Лексика с национально-культурным компонентом в повести А. П. Чехова “Степь”: Автореф. дис. … канд. филол. наук: М., 1993. Гарет К. Методика предупреждения трудностей восприятия национально-культурной специфики русского художественного текста в процессе обучения ганских студентов-филологов: Автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1991. Генюшене Э. Ш., Недялкин В. П. Типология рефлексивных конструкций // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб.: Наука, 1991. Залевская А. А. Механизмы метафоризации и их учет в целях моделирования авторской проекции текста при переводе // Перевод как моделирование и моделирование перевода. Тверь: Изд-во Тверского ун-та, 1991. Кадырбекова П. К. Лексическая полисемия имен прилагательных как фактор системности лексикона (на материале немецкого языка): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1991. Кажгалиева К. Ш. Национально-культурная специфика фатической речевой коммуникации в казахском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Алма-Ата, 1991. Коготкова Т. С.
292
Национальные истоки русской терминологии. М.: Наука, 1991. Кожевникова Н. А. Образная параллель СТРОЕНИЕ – ЧЕЛОВЕК в русской литературе XIX–XX вв. // Художественный текст: единицы и уровни организации. Омск, 1991. Мальцева Д. Г. Национально-культурный аспект фразеологии: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1991. Ортега-и-Гассет Х. “Табу” и метафора // Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991. Панов М. И. Эта неуловимая метафора (Обзор) // Философские науки: Реферативный журнал. 1991. № 5. Пацева М. А. К проблеме национально-культурной специфики значения слова (на материале русского и болгарского языков): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1991. Радзиевская Т. В. Слово судьба в современных контекстах // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991. Сукаленко Н. И. Образно-стереотипная языковая картина мира как отражение эмпирического обыденного сознания: Дис. … д-ра филол. наук. Харьков, 1991. Тихомирова Е. А. Лингвистический анализ тропа: метафора-олицетворение в русских и белорусских поэтических текстах начала XX века: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Минск, 1991. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. М: Мир, 1991. Шумейко Г. И. Метафорическая семантика и способы ее воссоздания в переводе художественного текста (на материале англоязычных переводов произведений М. Коцюбинского): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Киев, 1991. Яцевич А. В. Философия науки. Критическое введение // http://www.csbi.ru/personal/andy/notes/scphilos.htm
Alverson H. Metaphor and Experience: Looking over the Notion of Image Schema // Beyond Metaphor. The Theory of Tropes in Anthropology / Ed. by J. W. Fernandez. Stanford (Cal.): Stanford Univ. Press, 1991. Beaugrande R. de. Linguistic Theory: The Discourse of Fundamental Works. L.: Longmans, 1991. Beyond Metaphor. The Theory of Tropes in Anthropology / Ed. by J. W. Fernandez. Stanford (Cal.): Stanford Univ. Press, 1991. Chandler J. L. R. Complexity: A Phenomenonologic and Semantic Analysis of Dynamical Classes of Natural Systems // WESScomm. 1991. ¹ 1. Daugman J. G. Brain Metaphor and Brain Theory // Computational Neuroscience. Cambridge: M.I.T/Bradford, 1991. Emmeche C., Hoffmeyer J. From Language to Nature: The Semiotic Metaphor in Biology // Semiotica. 1991. ¹ 84 (1/2). Fellmann F. Geschichte als Text. Ein Plädoyer für Geschichtsphilosophie // Information Philosophie. 1991b. Okt. H. 4. Fellmann F. Symbolischer Pragmatismus. Hermeneutik nach Dilthey. Reinbek: Rowohlt, 1991a. Flynn P. J. The Ethnomethodological Movement. Sociosemiotic Interpretations. 1991. Garza-Cuarуn B. Connotation and Meaning. 1991. Habermas J. Texte und Kontexte. Frankfurt: Suhrkamp, 1991. Hülzer-Vogt H. Kippfigur Metapher metaphernbedingte Kommunikationskonflikte in Gesprächen: 2 Bde. Münster: Nodus Publ., 1991. Jakob K. Maschine, Mentales Modell, Metapher. Studien zur Semantik und Geschichte der Techniksprache. Tübingen: Niemeyer, 1991. Ji S. Biocybernetics: A Machine Theory of Biology // Molecular Theories of Cell Life and Death / Ed. by S. Ji. New Brunswick: Rutgers Univ. Press, 1991. Karlheinz J. Maschine, Mentales Modell, Metapher. Tübingen, 1991. Lakoff G., Espenson J., Schwartz A. Master Metaphor List. 2nd Edition. Cognitive Linguistics Group. Univ. of Cal. at Berkeley, 1991. Lakoff G. Metaphor and War: The Metaphor System Used To Justify War in the Gulf // Engulfed in War: Just War and the Persian Gulf. Honolulu: Matsunaga Institute for Peace, 1991. Langacker R. W. Concept, Image and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. Berlin, 1991. Menke B. Sprachfiguren. Name Allegorie Bild nach Walter Benjamin. München: Fink, 1991. Metaphor II. A Classified Bibliography of Publications from 1985–1990 / Ed. by J.-P. van Noppen, E. Hols. Amsterdam; Philadelphia: Benjamins, 1991. On Semiotic Modeling / Ed. by M. Anderson, F. Merrell. 1991. Quinn N. The Cultural Basis of Metaphor // Beyond Metaphor. The Theory of Tropes in Anthropology / Ed. by J. W. Fernandez. Stanford (Cal.): Stanford Univ. Press, 1991. Radman Z. et al. The Multidimensionality of Metaphor // Synthesis Philosophica. 1991. Vol. 6/fasc.1. Ropohl G. Die Maschinenmetapher // Technikgeschichte. 1991. Bd. 58. ¹ 1. Spinks C. W. Peirce and Triadomania. A Walk in the Semiotic Wilderness. 1991. Strub Ch. Kalkulierte Absurditäten. Versuch einer historisch reflektierten sprachanalytischen Metaphorologie. Freiburg; München: Alber, 1991. Teorie della metafora / A cura di C. Cacciari. Milano: Cortina, 1991. Turner M. Reading Minds: The Study of English in the Age of Cognitive Science. Princeton:
293
Princeton Univ. Press, 1991. Way E. C. Knowledge Representation and Metaphor. Dordrecht: Kluwer Academic, 1991. West D. M., Travis L. E. From Society to Landscape. Alternative Metaphors for Artificial Intelligence // AI Magazine. 1991b. Summer. West D. M., Travis L. E. The Computational Metaphor and Artificial Intelligence. A Reflective Examination of a Theoretical Falsework // AI Magazine. 1991a. Spring.
1992 Акиль Яхъя Х. Глагольная метафора как форма отражения поэтической картины мира в
лирике С. А.Есенина: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 1992. Апресян В. Ю. “Природные процессы” в сфере человека // Логический анализ языка: Модели действия. М.: Наука, 1992. Апресян Ю. Д. Коннотации как часть прагматики слова (лексикографический аспект) // Русский язык. Проблемы грамматической семантики и оценочные факторы в языке. М., 1992. Баранов Г. С. Научная метафора: Модельно-семиотический подход. Кемеровский госуниверситет. Кемерово, 1992–1993. Ч. 1. Современные лингвофилософские концепции метафоры. 1992. Ч. 2. Теория научной метафоры. 1993. Богин Г. И. Герменевтика как теория, искусство и философия понимания // Понимание и рефлексия: Материалы Первой и Второй Тверских герменевтических конференций. Тверь, 1992. – Ч. 2. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. М.: Прогресс; Культура, 1992. Грамматика и речевая коммуникация / Под ред. З. Г. Бурдиной. М., 1992. Казарин Ю. В. Роль абстрактных и конкретных глаголов в формировании языковой картины процессуально-событийного мира: На материале русского языка: Дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 1992. Клишин А. И. Типология квазипространственных метафорических обозначений // Семантические единицы и их парадигмы. Уфа, 1992. Кожевникова Н. А. Язык Андрея Белого. М., 1992. Колесов В. В. Концепт культуры: образ – понятие – символ // Вестник Санкт-Петербургского университета. 1992. Сер. 2. Вып. 3. № 16. Маковский М. М. “Картина мира” и миры образов // Вопр. языкознания. 1992. № 6. Марчук Ю. Н. Основы терминографии. М., 1992. Рут М. Э. Образная номинация в русском языке. Екатеринбург, 1992. Субботин М. М. Новая информационная технология: создание и обработка гипертекстов. М., 1992. Субботина М. В. Метафорические отношения между ключевыми словами публицистического текста (на материале публицистики Ф. Абрамова, В. Распутина, А. Солженицына): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1992. Фрумкина Р. М. Концептуальный анализ с точки зрения лингвиста и психолога: концепт, категория, прототип // НТИ. 1992. Сер. 2. № 3. Харченко В. К. Функции метафоры: Учеб. пособие. Воронеж, 1992.
Bowen C. W. Myths and Metaphors: Their Influence on Chemistry Instruction // Journal of Chemical Education. 1992. ¹ 69. Debatin B. Metaphors and Computers // The Semiotic Review of Books. 1992. Vol. 3.1. January. Gibbs R. W., Jr. When Is Metaphor? The Idea of Understanding in Theories of Metaphor // Poetics Today. 1992. Vol. 13. ¹ 4. Grassi E. Die unerhörte Metapher. Frankfurt: Anton Hain, 1992. Helm G. Metaphern in der Informatik. Begriffe, Theorien, Prozesse // St. Augustin. GMD-Arbeitspapiere. ¹ 652. 1992. Katz A. N. Psychological Studies in Metaphor Processing: Extensions to the Placement of Terms in Semantic Space // Poetics Today. 1992. Vol. 13. ¹ 4. Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor // Metaphor and Thought / Ed. by A. Ortony (2nd edition). Cambridge (Mass.): Cambridge Univ. Press, 1992. Mambrey P., Tepper A. Metaphern und Leitbilder als Instrument. Beispiele und Methoden // St. Augustin. GMD-Arbeitspapiere. ¹ 651. 1992. Meyer M. A., Paton R. C. Towards an Analysis and Classification of Approaches to Knowledge Acquisition from Examination of Textual Metaphor // Knowledge Acquisition. 1992. Paton R. C. Towards a Metaphorical Biology // Biology and Philosophy. 1992. ¹ 7. Radman Z. Metaphoric Measure of Meaning The Problem of Non-Literal Use of Language in Science Reconsidered // Philosophical Studies. 1992. Vol. XXXIII. Swinburne R. Revelation: from Metaphor to Analogy. Oxford: Clarendon Press, 1992. Writing Worlds: Discourse, Text and Metaphor in the Representation of Landscape / Ed. by T. Barnes, J. Duncan. L.: RKP, 1992.
1993 Абрамов В. П. Синтагматика семантического поля: На материале русского языка. Дис. ...
д-ра филол. наук. Краснодар, 1993. Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д. Метафора в семантическом представлении эмоций // Вопр. языкознания. 1993. № 3. Божко Н. М.
294
Семантика имен артефактов в современном русском языке: Дис. … канд. филол. наук. Харьков, 1993. Ваулина Е. Ю. Метафоризация глагола в современном русском языке (на материале глаголов активного физического воздействия): Дис. … канд. филол. наук. СПб., 1993. Гринев С. В. Введение в терминоведение. М.: Моск. лицей, 1993. Добренко Е. Метафора власти: Литература сталинской эпохи в историческом освещении. Mьnchen: Sagner, 1993. Емельянова О. Н. Ассоциативное поле существительных с семантикой чувства // Русский язык в школе. 1993. № 6. Караулов Ю. Н. Ассоциативная грамматика русского языка. М., 1993. Ли Тоан Тханг. Пространственная модель мира: Когниция, культура, этнопсихология (на материале вьетнамского и русского языков): Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1993. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Известия АН. Сер. лит. и языка. 1993. № 1. Т. 52. Лукин В. А. Концепт истины и слово истина в русском языке // Вопр. языкознания. 1993. № 4. Маранда П. Метаморфные метафоры // От мифа к литературе. М.: РГГУ, 1993. Мусса А. Г. Национально-культурная специфика семантики наименований родства в современном русском языке в аспекте его преподавания носителям языка бамана: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1993. Налимов В. В. В поисках иных смыслов. М., 1993. Саир А. Функции и метафоры в художественном тексте и ее лингвопрагматическая интерпретация (на материале романа М. Булгакова “Мастер и Маргарита”): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1993. Сескутова И. К. Национально-культурная специфика семантики американизмов-реалий социальной жизни США: Дис. … канд. филол. наук. М., 1993. Симашко Т. В., Литвинова М. Н. Как образуется метафора: (Деривационный аспект). Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1993. Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка. СПб., 1993. Степанова Т. С. Вещь и язык метафоры: Автореф. дис. … канд. философ. наук. М, 1993.
Debatin B. Lies about Ice and other Properties, or Metaphors, Implicit Knowledge and Expert Systems // The Expert Sign: Semiotics of Culture / Ed. by L. J. Slikkerveer et al. Leiden (Netherlands): DSWO-Press, 1993. Dewdney A. K. Misled by Metaphors: Two Tools that Don't Always Work // The Machine as Metaphor and Tool // Ed. by H. Haken, A. Karlquist, U. Svedin. Berlin: Springer – Verlag, 1993. Gelfand M. S. Genetic Language: Metaphore or Analogy? // BioSystems. 1993. ¹ 30. Harris R. Saussure, Wittgenstein and “la regle du jeu” // Linguistics and Philosophy: The Controversial Interface. Oxford, 1993. Johnson M. Moral Imagination. Implications of Cognitive Science for Ethics. Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1993. Knowledge and Language. Dordrecht etc., 1993. Vol. 3: Metaphor and Knowledge. Metaphor and Thought / Ed. by A. Ortony. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993 (2nd edition). Pielenz M. Argumentation und Metapher. Tübingen: Gunter Narr, 1993. Schneider H. J. „Syntaktische Metaphern“ und ihre begrenzende Rolle für eine systematische Bedeutungstheorie // Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 1993. H. 3. Thagard P. Societies of Minds: Science as Distributed Computing // Studies in History and Philosophy of Science. 1993. ¹ 24. Trognon A. Où va la pragmatique? De la pragmatique a la psychologie sociale. Grenoble: Presses univ. de Grenoble, 1993. Varela F. J., Thompson E., Rosch E. The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Expeerince. Cambridge (Mass.): Camb. Univ. Press, 1993.
1994 Аверина Е. Д. Иностранный за 200 часов. Система работы для самообучения: Учебное
пособие. СПб., 1994. Апресян В. Ю. Эмоции: современные американские исследования // Семиотика и информатика. Вып. 34. М., 1994. Араева Л. А. Словообразовательный тип как семантическая микросистема: Суффиксальные субстантивы, на материале русских говоров: Дис. … д-ра филол.наук. Кемерово, 1994. Архетипы в фольклоре и литературе. Кемерово, 1994. Баранов Г. С. Роль метафоры в теоретическом познании и репрезентации социальной реальности: Философский анализ: Дис. … д-ра филос. наук. Новосибирск, 1994. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс; Универс, 1994. Буробин А. В. Национально-культурная специфика анималистической фразеологии русского языка: Дис. … канд. филол. наук. М., 1994. Валькман Ю. Р. Графическая метафора – основа когнитивной графики // IV Нац. конф. с межд. уч. “Искусственный интеллект – 94”: Сб. науч. тр. Т. I. Рыбинск, 1994. Ваулина Е. Ю. Метафоризация глагола в современном русском языке (на материале глаголов активного физического воздействия): Автореф. дис. … д-ра
295
филол. наук. СПб., 1994. Ган Г. Терминология родства в лингвистическом и национально-культурном аспектах (на материале современного китайского и современного русского языка): Дис. … канд. филол. наук. М., 1994. Горюнова Е. Р. Аргументативные речевые акты в структуре коммуникативной деятельности студентов-нефилологов технического профиля в учебно-профессиональной сфере: Дис. … канд. пед. наук. М., 1994. Гудков Л. Д. Метафора и рациональность как проблема социальной эпистемологии. М.: Русина, 1994. Демидова Т. Э. Метафорическая тема дороги (пути) в английском и русском романе 40-х годов XIX в.: Теккерей, Диккенс, Гоголь: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1994. Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопр. языкознания. 1994. № 4. Еемерен Ф. Х. ван, Гроотендорст Р. Речевые акты в аргументативных дискуссиях: Теоретическая модель анализа дискуссий, направленных на разрешение конфликта мнений. СПб., 1994. Илюхина Н. А. Об одной метафорической категории // Функциональная семантика слова. Екатеринбург, 1994. Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания / Под ред. П. А. Гринцер и др. М., 1994. Карасик В. И. Оценочная мотивировка, статус лица и словарная личность // Филология. 1994. № 3. Кожевникова Н. А., Петрова З. Ю. Словарь метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв. Известия АН. Сер. лит. и языка. Т. 53. № 4. 1994. Крейдлин Г. Е. Метафора семантических пространств и значение предлога // Вопр. языкознания. 1994. № 5. Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М.: Мысль, 1994. Марков В. А. Миф. Символ. Метафора. (Модальная онтология). Рига, 1994. Мегентесов С. А. В пространстве субъектно-предикативных форм // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков: Око, 1994. – Т. 2. Одинцова М. П. Человек как вселенная: образ “целого” и “части” в языковой картине мира // Человек. Культура. Слово. Мифопоэтика древняя и современная. Омск, 1994. Очерки истории языка русской поэзии ХХ века: Тропы в индивидуальном стиле и поэтическом языке. М., 1994. Подколзина Т. А. Метафора и парадокс в английской терминологии: Дис. … канд. филол. наук. М., 1994. Портнов А. Н. Язык и сознание: основные парадигмы исследования проблемы в философии XIX–XX вв. Иваново, 1994. Розин Р. И. Когнитивные отношения в таксономии. Категоризация мира в языке и тексте // Вопр. языкознания. 1994. № 6. Рузин И. Г. Когнитивные стратегии именования: модусы перцепции (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) // Вопр. языкозания. 1994. № 6. Словарь русских политических метафор / Сост. Баранов А. Н., Караулов Ю. Н. М., 1994. Татиевская Е. Ж. Теория универсалий в структуре логико-онтологических исследований Бертрана Рассела: Автореф. дис. … канд. философ. наук. М., 1994. Топорова Т. В. Семантическая структура древнегерманской модели мира. М.: Радикс, 1994. Усминский О. И. Компаративные переносы как объективация национальной и индивидуально-художественной ментальности (на материале русского и угро-финских язков) // Роль русского культурного пространства в становлении Российской государственности в Сибири: Тез. докл. межрегион. науч-практич. конф. Тюмень, 1994. Успенский Б. А. Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI–XVII вв.) // Он же. Избранные труды, т. 2. Язык и Культура. М.: Гнозис, 1994. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. Хоссейн М. А. Национально-культурные особенности соматических фразеологизмов русского языка: Дис. … канд. филол. наук. М., 1994. Шмелев А. Д. Метафора судьбы: предопределение или свобода? // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994. Юрина Е. А. Образность как категория лексикологии: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 1994. Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира: (Модели пространства, времени и восприятия). М.: Гнозис, 1994.
Aspects of Metaphor / Ed. by J. Hintikka. Dordrecht: Kluwer Academic, 1994. Computing with Biological Metaphors // Ed. by R. Paton. L.: Chapman & Hall, 1994. Dobrzynska J. Mowiac przenosnie… Studia o metaforze. Warsz., 1994. Emmeche C. The Garden in the Machine. Princeton University Press, 1994. Encyclopedic Dictionary of Semiotics. Tome 1: A – M, Tome 2: N – Z, Tome 3: Bibliography / Ed. by T. A. Sebeok. 1994. Fauconnier G., Turner M. Conceptual Projection and Middle Spaces // Univ. of Cal. San Diego Cognitive Science Technical Report 9401. San Diego, 1994. Meijers A. W. M. Speech Acts, Communication and Collective Intentionality: Beyond Searle’s Individualism. Utrecht, Cop. 1994. Münkler H. Politische Bilder, Politik der
296
Metaphern. Frankfurt: Fischer, 1994. Paton R. C., Nwana H. S, Shave M. J. R., Bench-Capon T. J. M. An Examination of some Metaphorical Contexts for Biologically Motivated Computing // British Journal for the Philosophy of Science. 1994. ¹ 45. Rigotti F. Die Macht und ihre Metaphern. Über die sprachlichen Bilder der Politik. Frankfurt; N. Y.: Campus, 1994. Soyland A. J. Psychology as Metaphor. L.: Sage, 1994. The Ubiquity of Metaphor: Metaphor in Language and Thought / Ed. by Paprotte, Dirven R. Amsterdam; Plilodelphia, 1995. Vertosick F. Fluid Neural Networks as a Model of Intelligent Biological Systems // Computing with Biological Metaphors / Ed. by R. Paton. L.: Chapman & Hall, 1994. Wolf S. Mensch – Maschine – Metapher. Zur Exemplifikation des menschlichen Geistes durch den Computer (Diss.). Bamberg, 1994.
1995 Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995. Алексеева Л. М.
Метафоризация как основа терминологизации // Отраслевая терминология: динамика развития и пути исследования: Материалы межвуз. научн.-практич. конф. Воронеж, 1995. Апресян Ю. Д. Ибранные труды. Т. I: Лексическая семантика: синонимические средства языка. М., 1995. Банин В. А. Субстантивная метафора в процессе коммуникации (на материале современного английского языка): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1995. Бахтикиреева У. М. Художественные функции лексики с национально-культурным компонентом семантики в романе Чингиза Айтматова “И дольше века длится день”: Дис. … канд. филол. наук. М., 1995. Блинова О. И. Образная лексика диалекта и аспекты ее изучения // Лингвистические чтения, посвященные столетию проф. Н. П. Гринковой. Тез. докл. и сообщ. СПб., 1995. Борисова Т. С. Формирование системы символов церковнославянского языка // Язык памятников церковнославянской письменности. Новосибирск: Новосибирский госуниверситет, 1995. Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI–XVII вв. М.: Мысль, 1995. Варламов М. В. Типологические особенности адъективной метафоры в сопоставлении с глагольной и субстантивной метафорой: Автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 1995. Введение в культурологию / Под ред. Е. В. Попова. М.: ВЛАДОС, 1995. Гольдберг Э., Коста Л. Д. Нейроанатомическая асимметрия полушарий мозга и способы переработки информации // Нейропсихология сегодня / Под ред. Е. Д. Хомской. М.: Изд-во МГУ, 1995. Гордон Д. Терапевтические метафоры. СПб.: Белый кролик, 1995. Зубкова Л. И. Безэквивалентная лексика с национально-культурной спецификой значения в произведениях В. М. Шукшина: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 1995. Калашникова Т. В. Роль метафоры в становлении языковых значений (На примере сакральной лексики в германских языках): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1995. Кузьмина Н. А. Наивная картина мира, мифопоэтический универсум и идиостиль поэта (образы жизни – движения в художественной речи Ф. Сологуба) // Славянские чтения: Материалы докл. науч.-практ. конф. Вып. IV. Омск, 1995. Культурология / Под. ред. Г. В. Драча. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. Кунашева М. Ч. Лингвокультурологический анализ терминов народной морали (на материале кабардининских пословиц и поговорок): Дис. … канд. филол. наук. М., 1995. Лю Цзя Вэй. Научная метафора: Логико-методологический анализ: Дис. ... канд. филос. наук. М., 1995. Любичева Е. В. Лингвокультурологический и личностный подход к обучению русскому языку и роль персонального компьютера в гуманитарном образовании: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. СПб., 1995. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1995. Очерки по истории языка русской поэзии ХХ века. Образные средства поэтического языка и их трансформация. М., 1995. Павлович Н. В. Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке. М., 1995. Позднякова Н. В. Метафора в научно-популярном стиле: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Белгород, 1995. Прохоров М. М. Философская метафора экологической эпохи. Н. Новгород: Изд-во Нижегор. ун-та, 1995. Резанова З. И. Человек в ценностной картине мира (на материале сибирских диалектных лексических систем) // Культура. Отечество: прошлое, настоящее, будущее. Сб. тез. докл. IV Духовно-исторических чтений. Томск, 1995. Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика: Московские лекции и интервью. М.: Academia, 1995. Савчук Г. В. Отражение в русской фразеологии пространственной модели мира: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Орел, 1995. Саркисян И. Ф. Метафора как свойство языка: Автореф. дис. … канд. филос. наук. СПб., 1995. Сеченов И. М. Элементы мысли //
297
Психология поведения: Избранные психологические труды. М.: Изд-во “Институт практической психологии”; Воронеж: НПО "МОДЭК", 1995. Татаринов В. А. История отечественного терминоведения: В 3-х тт. М.: Моск. лицей, 1994–1995. Толстой Н. И. Славянские верования // Славянская мифология: Энцикл. словарь. М., 1995. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. У Го. Национально-культурные аспекты семантики русских номинативных единиц: С позиций носителя китайского языка: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1995. Фунг Чонг Тоан. Национально-культурная специфика русских фразеологизмов в сопоставлении с вьетнамскими в целях обучения русскому языку как иностранному: Дис. … канд. пед. наук. М., 1995. Функционирование языковых единиц в разных речевых сферах: факторы, тенденции, модели: Тез. докл. межвуз. науч. конф., Волгоград, 2–5 окт. 1995 г. Волгоград: Перемена, 1995. Хайруллин В. И. Лингвокультурологические и когнитивные аспекты перевода: Дис. … д-ра филол. наук. М., 1995. Харитонова Е. В. Драматическая функция метафоры в пьесах У. Шекспира (трагедия “Гамлет”, комедия “Сон в летнюю ночь”): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1995. Чижова Е. А. Репрезентация концептуальной картины мира в художественном тексте (на материале альтернативной литературы): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1995. Эмблемы и символы. М.: Интрада, 1995.
Bhushan N., Rosenfeld S. Metaphorical Models in Chemistry // Journal of Chemical Education. 1995. ¹ 72. Biology as Society, Society as Biology: Metaphors / Ed. by S. Maasen, E. Mendelsohn, P. Weingart. Kluwer, 1995. Debatin B. Die Rationalität der Metapher. Eine sprachphilosophische und kommunikationstheoretische Untersuchung. Berlin: De Gruyter, 1995. From a Metaphorical Point of View. A Multidisciplinary Approach to the Cognitive Content of Metaphor / Ed. by Z. Radman. 1995. Guillaume P. Myth, Metaphor and Magic. 1995. Jones M. Organisational Learning: Collective Mind or Cognitivist Metaphor? // Accounting, Management and Information Technologies. 1995. January. Keller E. F. Is there an Organism in this Text? // Notre Dame Genome Conference. 1995a. December 1. Keller E. F. Refiguring Life: Metaphors of Twentieth Century Biology. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1995b. Kövecses Z. American Friendship and the Scope of Metaphor // Cognitive Linguistics. Berlin; N.Y., 1995. Vol. 6. ¹ 4. Larson R., Segal G. Knowledge of Meaning. Cambridge (Mass.): M.I.T. Press, 1995. Lyons J. Linguistic Semantics: An Introduction. Cambridge (U. K.): Cambridge Univ. Press, 1995. McClintock A. The Convergence of Machine and Human Nature: a Critique of the Computer Metaphor of Mind and Artificial Intelligenc. Avebury, Aldershot, 1995. Meaning as Explanation. Advances in Linguistic Sign Theory / Ed. by E. Contini-Morava, B. S. Goldberg. 1995. Metapher, Kognition und Künstliche Intelligenz / H. J. Schneider (Hrsg.). München: Fink, 1995. Turner M., Fauconnier G. Conceptual Integration and Formal Expression // Metaphor and Symbolic Activity. 1995. ¹ 3 (10). Wilson B. G. Metaphors for Instructions: Why We Talk about Learning Environments // Educational Technology. 1995. № 35 (5).
1996 Аджанова И. Учет национально-культурной специфики русского делового телефонного разговора в обучении носителей чешского языка: Дис. … канд. пед. наук. М., 1996. Алексеев К. И. Метафора как объект исследования в философии и психологии // Вопросы психологии. 1996а. № 2. Алекссев К. И. Функции метафоры в политической речи // Познание. Общество. Развитие. М.: Ин-т психологии РАН, 1996б. Алешина О. Н. Метафорические значения русских неодушевленных существительных как объект лексикографии // Языковые единицы в семантическом и лексикографическом аспектах. Новосибирск: НГУ, 1996. Анаксимен. Риторика // Античные тории языка и стиля. СПб.: Алетейя, 1996. Аристотель. Поэтика // Античные тории языка и стиля. СПб.: Алетейя, 1996а. Аристотель. Риторика // Античные тории языка и стиля. СПб.: Алетейя, 1996б. Бабушкин П. А. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж, 1996. Блажевич Н. В. Универсалии языка науки: философско-методологический анализ: Автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Тюмень, 1996. Вежбицка А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. Виноградов С. И. Нормативный и коммуникативно-прагматический аспекты культуры речи // Культура русской речи и эффективность общения. М.: Наука, 1996. Воробьев В. В. Теоретические и прикладные аспекты лингвокультурологии: Автореф.
298
дис. … д-ра филол. наук. М., 1996. Генис А. Вавилонская башня // Иностр. литература. 1996. № 9. Гибатова Г. Ф. Семантическая категория и средства ее выражения в современном русском языке: Дис. … канд. филол. наук. Уфа, 1996. Голикова Т. А. Слово как интегративный компонент репрезентации концептуальной картины мира (на материале творчества В. В. Набокова): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 1996. Даниленко В. П. Язык для специальных целей // Культура русской речи и эффективность общения. М.: Наука, 1996. Демьянков В. З. Интерпретация // Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филологческий ф-т МГУ, 1996. Демьянков В. З., Кубрякова Е. С. Когнитивная модель // Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филологческий ф-т МГУ, 1996. Джон Ын Джу. Лексико-семантическое поле “Музыка” в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1996. Дмитриева Н. А. Лексико-семантическое поле “Культура” в языковой картине мира: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Донецк, 1996. Ермакова О. П. Семантические процессы в лексике // Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995). М.: Языки русской культуры, 1996. Квинтилиан // Античные тории языка и стиля. СПб.: Алетейя, 1996. Кибрик А. Е. Для чего нужны формальные модели языка? // Модели национальных языков. Тр. науч. семинара “Формально-логические и компьютерные модели языков” в рамках российской конференции по искусственному интеллекту "КИИ–96": Интеллект. Язык. Компьютер. Вып. 4. Казань, 1996. Кравченко А. В. Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой категоризации. Иркутск: Изд-во Ирк. ун-та, 1996. Кривоносов А. Т. Язык. Логика.Мышление: Умозаключение в естественном языке. М.; Нью-Йорк, 1996. Кубрякова Е. С. Компьютерная метафора // Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филологческий ф-т МГУ, 1996а. Кубрякова Е. С. Концепт // Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филологческий ф-т МГУ, 1996б. Кубрякова Е. С. Нативизм // Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филологческий ф-т МГУ, 1996в. Кузнецова Е. Б. Семантические процессы современной поэзии (Метафора и метономия в текстах метаметафористов): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1996. Ларичев В. В. Взаимосвязь поведения, общения и развития в психологической модели обучения иностранному языку: Автореф. дис. … канд. психол. наук. Нижний Новгород, 1996. Лаудан Л. Наука и ценности // Современная философия науки. М.: Логос, 1996. Лисицын А. Г. Концепт свобода – воля – вольность в русском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 1996. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб: Искусство-СПБ, 1996. Лузина Л. Г. Когнитивная метафора // Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филологческий ф-т МГУ, 1996. Лэнктон К. Х., Лэнктон С. Р. Волшебные сказки, ориентированные на цель метафоры при лечении взрослых и детей. Воронеж: НПО МОДЭК, 1996. Любимова Н. А., Пинежанинова Н. П., Сомова Е. Г. Звуковая метафора в поэтическом тексте. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. - М.: ВЛАДОС, 1996а. Маковский М. М. Язык – миф – культура. М.: Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 1996б. Малоха М. Фразеология и национальная картина мира: Фразеологизмы с компонентом “название дерева” в восточнославянских и польском языках: Дис. … канд. филол. наук. Минск, 1996. Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. М., 1996. Прикладное языкознание / Отв. ред. А. С. Герд. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. Прокофьева В. Ю. Элементы мифологической картины мира в лексической структуре текстов Вяч. Иванова: Автореф. дис. …канд. филол. наук. СПб., 1996. Прохорова В. Н. Русская терминология (лексико-семантическое образование). М.: Филологический ф-т МГУ, 1996. Риторика к Гереннею // Античные тории языка и стиля. СПб: Алетейя, 1996. Роликова Т. А. Слово как интегративный компонент репрезентации концептуальной картины мира (на материале творчества В.В. Набокова): Дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 1996. Рябова И. В. Национально-культурная специфика заимствованной лексики (на материале экономической лексики русского языка): Дис. … канд. филол. наук. М., 1996. Семантика языковых единиц: Докл. V
299
Междунар. конф.: В 2-х тт. М., 1996. Солсо Р. Л. Когнитивная психология. М.: Тривола, 1996. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школы русской культуры, 1996. Толочин И. В. Метафора и интертекст в англоязычной поэзии: лингвостилистический аспект. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. Туровская Н. С. Роль метафоры в формировании соматических фразеологизмов с компонентом “глаз”: Дис. … канд. филол. наук. М., 1996. Усминский О. И. Сенсорные тропы: классификация, значения, функции. Тюмень: Изд-во ТГУ, 1996. Ушакова Ю. Ю. Субстантивная двучленная генитивная метафора в русской поэзии XIX–XX вв.: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1996. Филодем. Риторика // Античные тории языка и стиля. CПб.: Алетейя, 1996. Халатян А. Г. Национально-культурные компоненты в языке современной рекламы: Дис. … канд. филол. наук. М., 1996. Цицерон. О возвышенном // Античные тории языка и стиля. СПб: Алетейя, 1996б. Цицерон. Об ораторе // Античные тории языка и стиля. СПб.: Алетейя, 1996а. Цицерон. Оратор // Античные тории языка и стиля. СПб.: Алетейя, 1996в. Цицерон. Письма // Античные тории языка и стиля. СПб.: Алетейя, 1996г. Штелинг Д. А. Грамматическая семантика английского языка. Фактор человека в языке. М.: МГИМО; ЧеРо, 1996. Юнг К. Г. Человек и его символы. СПб., 1996. Bergem W., Bluhm L., Marx F. Metapher und Modell. Ein Wuppertaler Kolloquium zu literarischen und wissenschaftlichen Formen der Wirklichkeitskonstruktion. Trier: Wiss. Verlag Trier, 1996. Bertau M.-C. Sprachspiel Metapher. Denkweisen und komunikative Funktion einer rhetorischen Figur. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996. Conceptual Structure, Discourse and Language / Ed. by A. Goldberg. Stanford: Center for the Study of Language and Information, 1996. Oakley T. Presence: The Conceptual Basis of Rhetorical Effect: Ph.D. Diss. Univ. of Maryland, 1996. Paton R. C. Metaphors, Models and Bioinformation // BioSystems. 1996. ¹ 38. Sommer E., Weiss D. Metaphors Dictionary. Detroit (Michigan):Visible Ink Press, 1996. Turner M. Conceptual Blending and Counterfactual Argument in the Social and Behavioral Sciences // Counterfactual Thought Experiments in World Politics / Ed. by Ph. Tetlock, A. Belkin. Princeton (N. J).: Princeton Univ. Press, 1996. Turner M. The Literary Mind. N. Y.: Oxford Univ. Press, 1996.
1997 Алешина О. Н. О терминах, используемых при изучении метафоризации //
Гуманитарные исследования: Итоги последних лет. Новосибирск: НГУ, 1997. Амичба Х. Г. Цветовая метафора в абхазском, немецком и английском языках (Сопоставительный анализ): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1997. Аннушкин В. И. Эволюция предмета риторики в истории русской филологии: Дис. … д-ра филол. наук. М., 1997. Арутюнова Н. Д. Метафора // Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов. М.: Бол. Рос. Энциклопедия; Дрофа, 1997. Астафурова Т. Н. Лингвистические аспекты межкультурной деловой коммуникации. Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 1997. Барашкина Е. А. Роль пространственной модели в метафорической характеристике интеллектуального процесса // Семантическая системность языковых единиц: Сб. науч. статей. Самара, 1997. Бацевич Ф. С., Космеда Т. А. Очерки по функциональной лексикологии. Львов, 1997. Береснева Н. И. Модель внутреннего лексикона в позднем онтогенезе: Ассоциатив. эксперимент: Дис. … канд. филол. наук. Пермь, 1997. Бирлайн Д. Ф. Параллельная мифология. М.: Крон-Пресс, 1997. Блинова О. И., Мартынова С. Э., Юрина Е. А. Словарь образных слов и выражений народного говора. Томск: Изд-во НТЛ, 1997. Борисова Т. С. Система символов оригинальных и переводных церковнославянских богородичных гомилий и акафистов: Дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 1997. Вильмс Л. Е. Лингвокультурологическая специфика понятия “Любовь” (на материале немецкого и русского языков): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 1997. Воробьев В. В. Лингвокультурология: Теория и методы. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1997. Галеева Н. Л. Основы деятельностной теории перевода. Тверь, 1997. Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Основы речевой коммуникации. М.: ИНФРА-М, 1997. Голованивская М. К. Французский менталитет с точки зрения носителя русского языка. М.,
300
1997. Голуб И. Б. Стилистика русского языка. М.: АЙРИС-пресс, 1997. Горин С. А. НЭПЛЕР в свободном полете. Канск, 1997. Гутина Е. А. Лексико-семантическое поле в индивидуальной языковой системе (на материале лексико-семантического поля “Обида” в художественной речевой системе М. Горького): Дис. … канд. филол. наук. Нижний Новгород, 1997. Деменский С. Ю. Научность метафоры и метафоричность науки (Философский аспект): Автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 1997. Категоризация мира: пространство и время: Материалы конференции. М., 1997. Каштанова Е. Е. Лингвокультурологические основания русского концепта “Любовь”. Дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 1997. Киселева Н. М. Метафоры современной немецкой разговорной речи: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1997. Лабутина В. В. О двух моделях метафорического обозначения причинно-следственных отношений // Семантическая системность языковых единиц. Самара, 1997. Льюиз Д. Истинность в вымысле // Возможные миры и виртуальные реальности / Сост. Друк В. и Руднев В. М., 1997. Вып. 1. Метафора В. Маяковского: Словарь. Таблицы. Комментарий / Сост. Н. А. Туранина. Белгород: Изд-во Белгор. гос. ун-та, 1997. Миронова Н. Н. Оценочный дискурс: проблемы семантического анализа // Изв. Академии наук. Сер. литературы и языка. 1997. № 4. Т. 56. Москвин В. П. Русская метафора. Семантическая, структурная, функциональная классификация: Учеб. пособие к спецкурсу по стилистике. Волгоград: Перемена, 1997. Мякшева О. В. Концепт “Окно” в художественном и публицистическом тексте // Язык и национальное сознание. Воронеж, 1998. Овшиева Н. Л. Интегральная модель восприятия речи. Элиста: Джангар, 1997. Пеетерс А. В. Понятия пространства и времени в португальской фразеологии: К вопросу о языковой картине мира: Дис. … канд. филол. наук. М., 1997. Пиирайнен Е. Область метафорического отображения – метафора – метафорическая модель (на материале западно-мюнстерландского диалекта) // Вопр. языкознания. 1997. № 4. Писанова Т. В. Национально-культурные аспекты оценочной семантики: Эстетическая и этическая оценки: Дис. … д-ра филол. наук. М., 1997. Плотникова А. М. Русские глаголы с включенной актантной рамкой: лексико-семантическое пространство: Дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 1997. Проза В. М. Шукшина как лингвокультурный феномен 60-70-х годов. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1997. Резанова З. И. Функциональный аспект словообразования. Русское производное имя: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Томск, 1997. Романенко Ю. М., Чулков О. А. Метафора и символ в культурном общении // Интернет-ресурсы http://lmi.philosophy.pu.ru/Journal/no5/romanenko_chulkov.htm. Седов А. Е. История генетики, запечатленная в метафорах ее языка: количественный и структурный анализ // Проблемы социолингвистики и многоязычия. М.: Московский лицей, 1997. Соловьева Г. В. Психолингвистический аспект метафорики речевого поведения // XII Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации “Языковое сознание и образ мира”. М., 1997. Староселец О. А. Экспериментальное исследование понимания метафоры текста: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 1997. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997. Толочин И. В. Системность поэтической метафоры и ее эволюция (на материале англо-американской поэзии XX века): Автореф. дис. … д-ра филол. наук. СПб., 1997. Урысон Е. В. Архаичные представления в русской языковой картине мира: Дис. … д-ра филол. наук. М., 1997. Феденева Ю. Б. Моделирующая функция метафоры в агитационно-политических текстах 90-х гг. XX века: Дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 1997. Хайруллина Р. Х. Картина мира во фразеологии: Тематико-идеографическая систематика и образно-мотивационные основы русских и башкирских фразеологизмов: Дис. … д-ра филол. наук. М., 1997. Ханпира Э. И. Идеология в новом лексическом значении // http://news.1september.ru/rus/1997/no29.htm. Хахалова С. А. Категория метафоричности (Формы, средства выражения, функции): Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1997. Цветкова Н. Е. Метафора в стихотворном тексте. Комсомольск-на-Амуре: Изд-во Комсом.-на-Амуре гос. пед. ин-та, 1997. Шаклеин В. М. Лингвокультурная ситуация и исследование текста. М.: ОЛРС, 1997.
Baars B. J. In the Theatre of Consciousness: Global Workspace Theory, a Rigorous Scientific Theory of Consciousness // Journal of Consciousness Studies. 1997. ¹ 4. Coulson S. Semantic
301
Leaps: The Role of Frame-Shifting and Conceptual Blending in Meaning Construction: Ph. D. Diss. Univ. of Cal. San Diego, 1997. Fauconnier G. Mappings in Thought and Language. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997. Ji S. Isomorphism between Cell and Human Languages: Molecular Biological, Bioinformatic and Linguistic Implications // BioSystems 1997. ¹ 44. Metaphor and Rational Discourse / Ed. by B. Debatin, T. R. Jackson, D. Steuer. Tübingen: Niemeyer, 1997. Rothbart D. Explaining the Growth of Scientific Knowledge: Metaphors, Models and Meanings. N. Y., Lewiston: E. Mellen Press, 1997. Searls D. B. Linguistic Approaches to Biological Sequences // Comput. Appl. Bioscience. 1997. № 13 (4).
1998 Алексеев К. И. Восприятие метафоры и его виды: Автореф. дис. … канд. психол. наук.
М., 1998а. Алексеев К. И. Эскиз теории метафоры // Языковое сознание: формирование и функционирование / Отв. ред. Н. В. Уфимцева. М, 1998б. Алексеева Л. М. Метафорическое терминопорождение и функции терминов в тексте: Дис. … д-ра филол. наук. Пермь, 1998. Амна А. А. Национально-культурное своеобразие русской и арабской фразеологии (на материале переводов художественного текста): Дис. … канд. филол. наук. М., 1998. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки рус. культуры, 1998. Багдасарьян Н. Г. Язык культуры // Культурология / Под. ред. Н. Г. Багдасарьян. М: Высш. шк., 1998. Балашова Л. В. Метафора в диахронии: (на материале русского языка XI–XX вв.). Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1998. Балла О. Власть слова и власть символа // Знание – сила. 1998. № 11–12. Брудный А. А. Психологическая герменевтика (наука о понимании). 2-е изд. М.: Лабиринт, 1998. Буйнова О. Ю. Производно-метафорическое значение в развитии семантической структуры слова: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1998. Быконя В. В. Имя числительное в картине мира селькупов. Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 1998. Валиева Ю. М. Поэтический язык А. Введенского (Поэтическая картина мира): Автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 1998. Воевудская О. М. Особенности структуры лексико-грамматического поля “Свет – тьма” в русском и английском языках // Язык и национальное сознание. Воронеж, 1998. Галлямова Н. Ш., Саяхова Л. Г. Общаемся на русском языке: Учеб. коммуникатив. слов. Уфа: Китап, 1998. Гамаюнова Ю. И. Названия эмоций в русском языке XI–XVII вв. (семантические модели) // Актуальные проблемы филологии: Тез. докл. / Под ред. В. А. Пищальниковой. Барнаул: Изд-во АГУ, 1998. Гронская О. Н. Языковая картина мира немецкой народной сказки: Дис. … д-ра филол. наук. СПб., 1998. Долгормаа Ж. Специфика русской категории собирательности: С позиции монгольской языковой картины мира: Дис. … канд. филол. наук. М., 1998. Драчева С. И. Экспериментальное исследование национальной специфики концептуальной картины мира (на материале русского и алтайского языков): Дис. … канд. филол. наук. Горно-Алтайск, 1998. Еремин А. Н. Переносные значения в просторечии. Калуга: Изд-во КГПУ, 1998. Жинкин Н. И. Язык – речь – творчество: Исследования по семиотике, психолингвистике, поэтике: (Избр. тр.). М.: Лабиринт, 1998. Забияко А. П. Архетипы культурные // Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т. I. СПб.: Университетская книга, 1998. Иванов Вяч. Вс. Нечет и чет // Избр. труды по семиотике и истории культуры. М., 1998. Иванюк Б. П. Метафора и литературное произведение: (Структурно-типологический, историко-типологический и прагматический аспекты исследования). Черновцы: Рута, 1998. Илюхина Н. А. Образ в лексико-семантическом аспекте. Самара, 1998. Искандарова О. Ю. Проблемы теории и практики формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности специалиста. Уфа, 1998. Катермина В. В. Личное имя собственное: Национально-культурные особенности функционирования на материале русского и английского языков: Дис. … канд. филол. наук. Краснодар, 1998. Кислова Е. П. Метафора в поэзии и прозе: Семантико-стилистический аспект (на материале лирики и романа “Доктор Живаго” Б. Л. Пастернака): Дис. … канд. филол. наук. Уфа, 1998. Клюев Е. В. Речевая коммуникация: Коммуникативные стратегии. Коммуникативные тактики. Успешность речевого взаимодействия. М., 1998. Кобринский Б. А. К вопросу о формальном отражении образного мышления и интуиции специалиста слабо структурированной предметной области // Новости искусственного интеллекта. 1998. № 3. Колосова Л. А. Концепт “Совесть” в концептосферах русского и французского языков //
302
Язык и национальное сознание. Воронеж, 1998. Кононова И. В. Метафорическое варьирование семантики английского глагола: Дис. … канд. филол. наук. СПб., 1998. Красных В. В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация). М., 1998. Культурология / Под. ред. Н. Г. Багдасарьян. М: Высш. шк., 1998. Лабутина В. В. Вторичная номинация в сфере обозначения причинно-следственных отношений в русском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Уфа, 1998. Левин Ю. И. Избранные труды: Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998. Лилеева А. Г. Научно-методические основы комплексного лингвокультуроведческого спецкурса для зарубежных филологов-русистов: Дис. … канд. пед. наук. М., 1998. Липилина Л. А. Когнитивные аспекты семантики метафорических инноваций (на материале существительных, появившихся в современном английском языке за последние 30 лет): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1998. Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. Тверь: Твер. гос. ун-т, 1998а. Макаров М. Л. Языковое общение в малой группе: Опыт интерпретативного анализа дискурса. Дисс. … д-ра филол. наук. Тверь, 1998б. Макарова И. Е. Лингвокультурная категоризация лексики по признаку “свой – чужой” // Актуальные проблемы филологии в вузе и школе: Материалы XIII Твер. межвуз. конф. ученых-филологов и шк. учителей. Тверь, 1998. Манчинова Н. В. Деривация и функционирование гипаллаги в поэтическом тексте: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Пермь, 1998. Мечковская Н. Б. Язык и религия. М.: ФАИР, 1998. Мистюк Т. Л. Тенденции семантической эволюции современного русского языка (На базе неологической метафоризации общеупотребительной лексики в газетной публицистике 1992–1997 гг.): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 1998. Михайлова О. А. Ограничения в лексической семантике: Семасиологический и лингвокультурологический аспекты. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. Мишланова С. Л. Метафора в медицинском тексте (на материале русского, немецкого, английского языков): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Пермь, 1998. Моисеева В. Л. Безличные глагольные предикаты состояния лица в русской языковой картине мира: Дис. … канд. филол. наук. СПб., 1998. Олейник М. М. Метафора истории в русской философии всеединства: Дис. ... канд. филос. наук. Екатеринбург, 1998. Попова Т. В. Деривационно-семантическое пространство русского глагола: Дис. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 1998. Почепцов Г. Г. Теория и практика коммуникации: (От речей президентов до переговоров с террористами). М.: Центр, 1998. Розин В. М. Введение в культурологию. М.: ФОРУМ, 1998. Розов Н. С. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии. Новосибирск, 1998. Русанова Е. А. Объекты земляной архитектуры как метафоры природы в городском ландшафте (С использованием материалов на основе грунтов): Автореф. дис. … канд. архитектуры. М., 1998. Руткевич А. М. Архетипы // Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т. I. СПб.: Университетская книга, 1998. Седов А. Е. Задачи и принципы анализа метафорических высказываний в проблемных монографиях // Функциональные исследования по лингвистике. Вып. 6. М.: Московский лицей, 1998. Созина Е. К. Теория символа и практика художественного анализа: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во УГУ, 1998. Соловьева Е. В. Лингвокультурологический анализ современных испанских фамилий (на материале пиренейского национального варианта испанского языка): Дис. … канд. филол. наук. М., 1998. Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка. М.: Языки русской культуры, 1998. Суровцев В. А., Сыров В. Н. Метафора, нарратив и языковая игра. Еще раз о роли метафоры в научном познании // Методология науки. Становление современной научной рациональности. Вып. 3. Томск: Изд-во ТГУ, 1998. Сухих С. А. Прагмалингвистическое измерение коммуникативного процесса. Дис. … д-ра филол. наук. Краснодар, 1998. Сухих С. А., Зеленская В. В. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного процесса. Краснодар: Изд-во Куб. гос. ун-та, 1998. Тошович Б. Структура глагольной метафоры // Stylistyka. Opole, 1998. № VII. Убийко В. И. Концепт “Душа” в концептосфере “Внутренний мир человека” // Язык и национальное сознание. Воронеж, 1998. Хан Санг Хюунг. Языковые единицы с национально-культурной семантикой в произведениях В. Ерофеева “Москва – Петушки”: Дис. … канд. филол. наук. М., 1998. Хахалова С. А. Метафора в аспектах языка, мышления и культуры. Иркутск: ИГЛУ, 1998.
303
Хлыбова С. В. Моделирование фрагмента региональной картины мира (на материале лексики русских говоров Алтая): Дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 1998. Чан Ван Ко. Теоретико-лингвистическая модель педагогической грамматики русского языка как иностранного (Билингвальное описание): Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1998. Чернейко Л. О. Лингвофилософский анализ абстрактного имени. М., 1998. Шабанова Т. Д. Семантическая модель английских глаголов зрения: Теоретико-экспериментальное исследование: Дис. … д-ра филол. наук. Уфа: Изд-во “Вост. ун-т”, 1998. Шульгин Д. Н. Язык как модель человеческой культуры: Дис. … канд. филос. наук. М., 1998. Эко У. Отсутствующая структура (Введение в семиологию). СПб.: ТОО ТК Петрополис, 1998.
Baars B. J. Metaphors of Consciousness and Attention in the Brain // Trends in Neurosciences. 1998. ¹ 21. Benzon W. L., Hays D. G. Metaphor, Recognition and Neural Process // The American Journal of Semiotics. 1998. Vol. 5. ¹ 1. Chandler J. L. R. Semiotics of Complex Systems and Emergence Within a Simple Cell // Information Processing in Cells and Tissues / Ed. by M. Holcombe and R. Paton. N. Y.: Plenum, 1998. Heelan P. A. The Scope of Hermeneutics in Natural Science Studies // History and Philosophy of Science. 1998. Part A, June. Hellberg-Hirn E. Soil and Soul: the Symbolic World of Russianness. Ashgate, Cop. 1998. Khalil E. L. The Five Careers of the Biological Metaphor in Economic Theory // The Journal of Socioeconomics. 1998. January. Streefland L., van den Heuvel-Panhuizen M. Uncertainty, a Metaphor for Mathematics Education? // Journal of Mathematical Behavior. 1998. November. Ziolkowski T. The View from the Tower: Origins of an Antimodernist Image. Princeton (N. J.): Princeton Univ. Press, Cop. 1998.
1999 Алексеева Л. М. Метафорическое терминопорождение и функции терминов в тексте:
Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1999. Алпатов В. М. История лингвистических учений. М.: Языки русской культуры, 1999. Альбрехт Ф. Б. Отанималистическая субстантивная метафора в лексике и фразеологии современного русского языка: Опыт комплексного анализа: Дис. … канд. филол. наук. М., 1999. Аннушкин В. И. Первая русская “Риторика” XVII века. Текст. Перевод. Исследование. М.: Добросвет; ЧеРо, 1999. Аристов С. А., Сусов И. П. Коммуникативно-когнитивная лингвистика и разговорный дискурс // Internet . Ахмадеева С. А. Аппликативная метафора: структурные, морфолого-семантические и коммуникативно-прагматические особенности функционирования в языковом и речевом аспектах: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Краснодар, 1999. Базылев В. Н. Новая метафора языка (Семиотико-синергетический аспект): Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1999. Блажевич Н. В. Универсалии языка науки: философско-методические аспекты. Екатеринбург: Банк культ. информ., 1999. Воронина Т. М. Особенности метафорической категоризации денотативного пространства русского глагола (на материале ситуаций движения, речевой и эмоциональной деятельности) // Русская глагольная лексика: денотативное пространство / Под ред. Л. Г. Бабенко. Екатеринбург: Изд-во УГУ, 1999. Гаек Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок // Рус. перевод работы 1948 г. представлен в ресурсах Интернет http://www.libertarium.ru/libertarium/10059/lib_chapter_t?PRINT_VIEW=1. Гнаповская Л. В. Лингвокогнитивные и лингвокультурологические характеристики английских антропонимов германского происхождения: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Киев, 1999. Гридасов В. В. Перцептивная метафора как лексико-семантическая категория (на материале современного немецкого языка): Дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 1999. Дашиева Б. В. Концепт образа мира в языковом сознании русских, бурят и англичан: Национально-культурный аспект: Дис. … канд. филол. наук. М., 1999. Елоева Л. Т. Метафора в творчестве Н. Гумилева: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1999. Житков А. В. Функционально-семантическое поле восприятия запаха и синестезия одорической лексики в произведениях И. А. Бунина: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 1999. Заворина Т. И. Некоторые проблемы изучения метафоры в церковнославянском языке // Материалы XXXVII Международной научной студенческой конференции “Студент и научно-технический прогресс”: Филология/ Новосиб. ун-т. Новосибирск, 1999. Завьялова М. В. Балто-славянский заговорный текст: Лингвистический анализ и картина мира (на материале литовских и белорусских лечебных заговоров): Дис. …
304
канд. филол. наук. М., 1999. Зарецкая Е. Н. Теория речевой коммуникации: Риторический подход: Дис. … д-ра филол. наук. М., 1999. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Омск: Изд-во Омского госуниверситета, 1999. Ким А. А. Селькупская культовая лексика как этнолингвистический источник: проблема реконструкции картины мира: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Йошкар-Ола, 1999. Козеренко А., Крейдлин. Г. Тело как объект природы и тело как объект культуры (о семантике фразеологизмов, построенных на базе жестов) // Фразеология в контексте культуры. М., 1999. Колесникова С. М. Градуальный фрагмент языковой картины мира сквозь призму словообразования. М.: Моск. пед. ун-т, 1999. Кочетова Л. А. Лингвокультурные характеристики английского рекламного дискурса: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 1999. Кошарская С. А. В зеркале лексикона: Введение в лингвокультурологию. Белгород: Изд-во Белгор. госуниверситета, 1999. Крюкова Н. Ф. Средства метафоризации и понимание текста. Тверь: Изд-во ТГУ, 1999. Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции языка. Екатеринбург; Омск, 1999. Лийв Э. Х. Инфодинамика. Обобщенная энтропия и негэнтропия // Internet http://www.bibl.ru/es/infodinamika_ob-3.htm. Маланчук И. Г. Роль языковой картины мира в политической коммуникации: Автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1999. Митамура М. Национально-культурные маркеры языкового сознания: японо-русские соматологические параллели (Экспериментальное исследование): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1999. Москвин В. П. О структурных типах русской метафоры // Русский язык в школе. 1999. № 5. Нгуен Тхань Ханг. Национально-культурная специфика русских афоризмов в сопоставлении с вьетнамскими (на материале обучения студентов-филологов): Дис. … канд. филол. наук. М., 1999. Неретина С. С. Тропы и концепты. М.: Ин-т философии РАН, 1999. Электронный вариант монографии http://www.PHILOSOPHY.ru/iphras/library/neretina/index.html. Остин Дж. Как производить действия при помощи слов. М.: Дом интеллектуальной книги: Идея-пресс, 1999. Отражение русской языковой картины мира в лексике и грамматике: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Т. И. Стексовой. Новосибирск: НГПУ, 1999. Пименова М. В. Этногерменевтика языковой наивной картины внутреннего мира человека. Кемерово; Landau, 1999. Потебня А. А. Мысль и язык. М.: Лабиринт, 1999. Рапопорт Н. В. Лингвокультурологический концепт “Французская национальная личность” (на материале афористики): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Уфа: Башкир. госуниверситет, 1999. Салимова Л. М. Энциклопедия русской жизни ...: Лингвокультурологический комментарий к роману А. С. Пушкина “Евгений Онегин”. Уфа : БИРО, 1999. Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999. Свойкин К. Б. Смысловая диалогическая конвергенция текста в научной коммуникации (на материале английских текстов): Дис. … канд. филол. наук // Internet http://phaeton.mrsu.ru/~svoikin/acad/dis.htm. Седых А. П. Трансформация значения в метафоро-метонимическом контексте (на материале произведений М. Пруста): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 1999. Снитко Т. Н. Предельные понятия в западной и восточной лингвокультурах: Дис. … д-ра филол. наук. Пятигорск, 1999. Суродина Н. Р. Лингвокультурологическое поле концепта “Пустота” (на материале поэтического языка московских концептуалистов): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 1999. Тильман Ю. Д. Культурные концепты в языковой картине мира (Поэзия Ф. И. Тютчева): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1999. Топорова В. М. Концепт “Форма” в семантическом пространстве языка. Воронеж, 1999. Трипольская Т. А. Эмотивно-оценочная картина мира: признаки, функции, пути исследования // Отражение русской картины мира в лексике и грамматике. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1999а. Трипольская Т. А. Эмотивно-оценочный дискурс: когнитивный и прагматический аспекты. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1999б. Фатенков А. Н. Органическая модель – метафора общества: Автореф. дис. . канд. филос. наук. Н. Новгород, 1999. Феденева Ю. Б., Чудинов А. П. Метафорическое моделирование в российском политическом дискурсе // Политический дискурс России-3: Материалы рабочего совещания. М., 1999. Фрумкина Р. М. Вечнозеленое дерево теории // Человек. 1999. № 4. Хазагеров Т. Г., Ширина Л. С. Общая риторика: Курс лекций; Словарь риторических приемов. Ростов н/Д: Феникс, 1999. Цивьян Т. В. Движение и путь в балканской модели мира: Исследования по сруктуре текста.
305
М.: Индрик, 1999. Чепанова Е. И. Политическая метафора в современной прессе ФРГ: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1999. Шибанова Е. О. Концептуальная метафора: направления в исследовании. Обзор // Социальные и гуманитарные науки. Отеч. и зарубеж. лит. Сер. 6. Языкознание: РЖ / РАН ИНИОН. М., 1999. ¹ 1. Blackwell A. F., Green T. R. G. Does Metaphor Increase Visual Language Usability? // Proceedings 1999 IEEE Symposium on Visual Languages VL'99. Fernández de la Torre Madueño D. Imagination and Nonliterality: A Case Study of Superhuman Entities in Religion // Journal of English Studies. Special issue: Cognitive Linguistics. 1999. Vol. 1. Lund C. A., PatonR. C. A Visual Metaphor for Psychoanalytic Training and Supervision // Visual Representations and Interpretations. L.: Springer, 1999. Metaphor in Cognitive Linguistics. Amsterdam; Philadelphia, 1999. Muhlhausler P. Metaphor and Metonymy in Environmental Advertising // Arbeiten aus Anglistik und Americanistik. 1999. № 24 (2).
2000 Агаркова Н. Э. Языковая категоризация концепта “Деньги” (на материале
американского английского) // Современные лингвистические теории: проблемы слова, предложения, текста. Вестник ИГЛУ. Сер. Лингвистика. Иркутск: ИГЛУ, 2000. – Вып. 2. Арутюнова Н. Д. Наивные размышления о наивной картине мира // Язык о языке. М., 2000. Багичева Н. В. Россия – мать или мачеха? (метафорическое моделирование образа Родины) // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества. Екатеринбург, 2000. Т. 5. Бацевич Ф. Основи комунiкативноi девiатологii. Львiв, 2000. Белянин В. П. Основы психолингвистической диагностики: модели мира в литературе. М.: Тривола, 2000. Бижева З. Х. Культурные концепты в адыгской языковой картине мира: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Махачкала, 1999. Богданова С. Ю. Отражение вертикальности в системе английских фразовых глаголов // Лингвистическая реальность и межкультурная коммуникация: Материалы Международной научной конференции. Иркутстк: ИГЛУ, 2000. Боголюбова С. Г. О проблеме понимания и интерпретации словесного текста в современной лингвистике // Когнитивные аспекты языкового значения 3. Вестник ИГЛУ. Сер. Лингвистика. Иркутск: ИГЛУ, 2000. Боженкова Р. К. Понимание текста как лингвокультурологическая категория. Курск, 2000. Боженкова Р. К. Речевое общение как лингвокультурологический феномен и процесс адекватного понимания текста (на материале русского языка): Автореф. дис…. доктор. филол. наук. М., 2000а. Болотова В. А. Смыслообразующая роль метафоры в текстах различных жанров // Лингвистическая реальность и межкультурная коммуникация: Материалы Международной научной конференции. Иркутстк: ИГЛУ, 2000. Вайчук Т. В. Философско-эпистемологические аспекты теории речевых актов: Автореф. дис. … канд. филос. наук: М., 2000. Волошин Ю. К. Общий американский сленг: состав, деривация и функция (Лингвокультурологический аспект): Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Краснодар, 2000. Глазунова О. И. Логика метафорических преобразований. СПб., 2000 // . Гонта И. А. Структурные и семантические особенности композит-метафор в американском сленге: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Киев, 2000. Горшкова В. Е. Перевод и межкультурная коммуникация // Лингвистическая реальность и межкультурная коммуникация: Материалы Международной научной конференции. Иркутстк: ИГЛУ, 2000. Грин Н. В. Метафора как средство выражения культурно-специфических моделей // Лингвистическая реальность и межкультурная коммуникация: Материалы Международной научной конференции. Иркутстк: ИГЛУ, 2000. Грязнов А. Ф. Беспокойный ум // Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. М.: Терра; Республика, 2000. Евразия на перекрестке языков и культур: Проблемы сравнительной лингвокультурологии / Ежегод. междунар. чтения памяти кн. Н. С. Трубецкого. Чтения 2000; К 110-й годовщине со дня рождения.М.: Центр яз. и культур Сев. Евразии при МГЛУ, 2000. Еременко А. М. Мировой компьютер // Человек. 2000. № 3. Ефимова Н. Н. Метафоры риска как квинтэссенция антитетической модели устройства мира // Фразеология в дискурсах разных типов. Вестник ИГЛУ. Сер. Лингвистика. Иркутск: ИГЛУ, 2000. – Вып. 3. Зализняк Анна А. Заметки о метафоре // Слово в тексте и словаре. Сб. статей к 70-тилетию Ю. Д. Апресяна. М.: Языки русской культуры, 2000. Клоков В. Т. Французский язык в Африке: Лингвокультурологическое исследование. Саратов: Изд-во
306
Сарат. ун-та, 2000. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000. Кожевникова Н. А., Петрова З. Ю. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX—XX вв. Вып. 1: “Птицы”. М.: Языки русской культуры, 2000. Козинец С. Б. Формирование переносных значений в отглагольных словообразовательных гнездах (лексико-семантическое поле “Деятельность”). Автореф. дис. … канд. филол. наук. Саратов, 2000. Козлова Л. А. Ассоциативный потенциал существительных и его реализация в процессах метафорической интенсификации (на материале английского языка) // Материалы III регионального научного семинара по проблемам систематики языка и речевой деятельности. Иркутск: ИГЛУ, 2000. Колесов В. В. Реализм и номинализм. Определения и классификации // Интернет-ресурсы http://arctogaia.krasu.ru/laboratory/people/kolesov/realism.htm. Колотнина Е. В. Метафорическое использование лексики понятийной сферы “Больной – здоровый” // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества. Екатеринбург, 2000. Т. 5. Корнилов О. А. Языковые картины мира как отражения национальных менталитетов: Автореф. дис. … д-ра культурологических наук. М., 2000. Крюкова Н. Ф. Метафорика и смысловая организация текста. Тверь, 2000. Лагута (Алешина) О. Н. Логика и лингвистика: Учеб. пособие. Новосибирск: НГУ, 2000а. Лагута (Алешина) О. Н. Стилистика. Культура речи. Теория речевой коммуникации. Учебный словарь терминов. Часть 2. Новосибирск: НГУ, 2000в. Лагута (Алешина) О. Н. Учебный словарь стилистических терминов. Практические задания. Часть 1. Новосибирск: НГУ, 2000б. Лазуткина Е. М. Причины коммуникативных неудач // Культура русской речи. М.: НОРМА, 2000. Левченко М. Л. Концептуальная картина мира Н. С. Лескова и её отражение в идиостиле писателя (Экспериментальное исследование): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 2000. Литвиненко Т. Е. Базовые метафоры английского языка, выражающие депрессивное состояние // Лингвистическая реальность и межкультурная коммуникация: Материалы Международной научной конференции. Иркутстк: ИГЛУ, 2000. Лукьянова Н. Н. Лингвистическая интерпретация текста как способ моделирования фрагмента языковой картины мира (на материале произведений Д. Хармса “Месть”, “Искушение”): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 2000. Миф – литература – мифореставрация / Под ред. С. М. Телегина. М.; Рязань: Узорочье, 2000. Моисеева В. Л. Безличные глагольные предикаты состояния лица в русской языковой картине мира: Дис. … канд. филол. наук. СПб., 1998. Москвин В. П. Русская метафора: параметры классификации // Филологические науки. 2002а. № 2. Москвин В. П. Стилистика русского языка. Приемы и средства выразительной и образной речи (общая классификация). Волгоград, 2000б. Москвин В. П. Тропы и фигуры: параметры общей и частных классификаций. Волгоград, 2000в. Мусаева Е. М. Миф и метафора // Фразеология в дискурсах разных типов. Вестник ИГЛУ. Сер. Лингвистика. Иркутск: ИГЛУ, 2000. Новикова Н. В., Даниленко В. П. Культура научной и профессиональной речи // Культура русской речи / Под ред. Л. К. Граудиной и Е. Н. Ширяева. М.: НОРМА, 2000. Опарина Е. О. Исследование метафоры в последней трети ХХ в. // Лингвистические исследования в конце ХХ в.: Сб. обзоров/исследований. М., 2000. Ору С. История. Эпистемология. Язык. М.: Прогресс, 2000. Павловская Л. Г. Русская фразеология как фрагмент языковой картины мира при обучении латышских учащихся: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2000. Попова М. И. Когнитивная основа пространственной метафоры времени // Когнитивные аспекты языкового значения 3. Вестник ИГЛУ. Сер. Лингвистика. Иркутск: ИГЛУ, 2000. Проблемы интерпретационной лингвистики: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Т. А. Трипольской. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2000. Проблемы речевой коммуникации: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. О. Б. Сиротининой. Саратов: Изд-во Сарат. госуниверситета, 2000. Прожилов А. В. Принципы отбора и семантической интерпретации лексико–семантических групп предикатов с семантикой соматических состояний // Языковая онтология семантически малых и объемных форм. Вестник ИГЛУ. Сер. Лингвистика. Иркутск: ИГЛУ, 2000. – Вып. 1. Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. М.: Терра; Республика, 2000. Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М.: Рус. словари, 2000. Серебренникова Е. Ф. К проблеме элементов лингвистической модели
307
человека по данным личных местоимений // Языковая онтология семантически малых и объемных форм. Вестник ИГЛУ. Сер. Лингвистика. Иркутск: ИГЛУ, 2000. Слышкин Г. Г. От текста к символу: Лингвокультурологические концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М.: Academia, 2000. Стародубец С. Н. Идеологизированная лексика как языковое выражение персоналистической картины мира в дискурсе Н. А. Бердяева: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Орел, 2000. Тарасова И. А. Концепт “Вечность” в поэтическом мире Г. Иванова // Предложение и слово: парадигматический, текстовый и коммуникативный аспекты. Саратов, 2000. Титченер Э. Очерки психологии // Интернет-ресурсы http://www.psyhology.ru/Library/00057.shtml. Урлапова Т. Ф. Военная терминология – источник метафоризации в подъязыке экономики // Лингвистическая реальность и межкультурная коммуникация: Материалы Международной научной конференции. Иркутстк: ИГЛУ, 2000. Феденева Ю. Б. Политическая метафора: эволюция прагматики // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2000. Федосеев А. А. Метафора как средство моделирования нового семантического пространства в политическом дискурсе // Материалы III регионального научного семинара по проблемам систематики языка и речевой деятельности. Иркутск: ИГЛУ, 2000. Фетисов А. Ю. Терминологизация содержания метафоры в научном тексте: Автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2000. Хахалова С. А. Когнитивная реальность эгоцентрической категории метафоричности // Языковая онтология семантически малых и объемных форм. Вестник ИГЛУ. Сер. Лингвистика. Иркутск: ИГЛУ, 2000а. – Вып. 1. Хахалова С. А. Языковая универсалия в межкультурной коммуникации // Лингвистическая реальность и межкультурная коммуникация: Материалы Международной научной конференции. Иркутстк: ИГЛУ, 2000б. Чинь Тхи Ким Нгок. Лингвокультурологические основы диалога культур: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2000. Чудинов А. П. Метафорическое моделирование образа России в современном агитационно-политическом дискурсе // Язык. Система. Личность. Екатеринбург, 2000а. Чудинов А. П. Теория метафорического моделирования на современном этапе развития // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества. Екатеринбург, 2000б. Т. 5. Шенделева Е. А. Ассоциативно-образное семантическое поле как единица анализа образного строя языка // Русистика сегодня. Томск, 2000. Юрковская Е. А. Действие концептуальной метафоры politics is play в политическом дискурсе (на материале лексики и идиоматики редакторских статей английской и американской прессы) // Когнитивные аспекты языкового значения 3. Вестник ИГЛУ. Сер. Лингвистика. Иркутск: ИГЛУ, 2000. ¹ 5.
Kovecses Z. Metaphor and Emotion: Language, Culture and Body in Human Feeling. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Schneider S. Monsters as (Uncanny) Metaphors: Freud, Lakoff, and the Representation of Monstrosity in Cinematic Horror // J. Ursini, A. Silvers. Horror Film Reader. N. Y.: Limelight Editions, 2000. Scott D. S. Mozart, Metaphor and Math // International Journal of Hydrogen Energy. 2000. November. Shi-xu. Linguistics as Metaphor: Analysing the Discursive Ontology of the Object of Linguistics // Language Sciences. 2000. October. Tesauro E. Il cannocchiale aristotelico. Editrice Artistica Piemontese, 2000.
2001 Алешина О. Н. Интерпретация коммуникативных процессов в свете теории связи и
общей теории информации // Сибирский лингвистический семинар. Новосибирск: Новосибирский классический институт, 2001а. № 1. Алешина О. Н. К вопросу о границах моделируемого объекта в языкознании // Материалы II науч. конф. преподавателей и студентов “Наука. Университет. 2001”. Новосибирск: Новый сибирский университет, 2001б. Алешина О. Н. Моделирование и категоризация в лингвистических исследованиях: причины неразличения // Материалы IV регионального научного семинара по проблемам систематики языка и речевой деятельности. Иркутск: ИГЛУ, 2001в. Алешина О. Н. Семантическое моделирование как метод лингвистической метафорологии // Русский язык: исторические судьбы и современность: Международный конгресс исследователей русского языка: Труды и материалы. М: Изд-во МГУ, 2001г. Баранов А. Н. Метафорическая интерпретация понятия “коррупция”: языковые грани онтологизации бессознательного // Текст. Интертекст. Культура: Сб. докл. Междунар. науч. конф. М.: Азбуковник, 2001.
308
Бацевич Ф. Теоретические аспекты коммуникативной девиатологии (на материале русского языка) // Русский язык: исторические судьбы и современность. Международный конгресс исследователей русского языка: Труды и материалы. М.: Изд-во МГУ, 2001. Борисова Т. С. Символы Богоматери в церковнославянском языке. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2001. Буйнова О. Ю. Универсальные и специфические черты процесса метафоризации // Лингвистические исследования. К 75-летию профессора Владимира Григорьевича Гака. Дубна: Феникс, 2001. Васильева А. А. Ассоциативные связи метафор в лирике О. Мандельштама // Вопросы языковой политики и языкового планирования в условиях информационного общества: Тез. докл. науч. конф. Иркутск: ИГЛУ, 2001. Вежбицка А. Из книги “Семантические примитивы” // Семиотика: Антология / Сост. Ю. С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. Вершинина Т. С. Метафора в политическом дискурсе: традиции и новаторство // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества. Екатеринбург, 2001. Т. 6. Грин Н. В. Метафора, метафорические выражения и метафоризация // Современные лингвистические теории: проблемы слова, предложения, текста: Вестник ИГЛУ. Сер. Лингвистика. Иркутск: ИГЛУ, 2001. № 2. Дубровина И. И. Особенности проявления семантической универсалии в разносистемных языках (метафорическая модель “Путь” в русском и английском языке): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Саратов, 2001. Дубровская О. Н. Имена сложных речевых событий в русском и английском языках: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Саратов, 2001. Кананыхина Т. А. К вопросу о метафоре в текстах конституций России и США // Вопросы языковой политики и языкового планирования в условиях информационного общества: Тез. докл. науч. конф. Иркутск: ИГЛУ, 2001. Колотнина Е. В. Метафорическая модель “Субъекты экономической деятельности – это животные” // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества. Екатеринбург, 2001. Т. 6. Косых Г. Д. Мотивационные признаки метафорического высказывания // Современные лингвистические теории: проблемы слова, предложения, текста: Вестник ИГЛУ. Сер. Лингвистика. Иркутск: ИГЛУ, 2001. № 2. Красных В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций. М.: Гнозис, 2001. Крюкова Н. Ф. Метафоричность как критерий менталитета различных групп людей // Языковое бытие человека и этноса: психолингвистический и когнитивный аспекты / Под ред. В. А. Пищальниковой. Вып. III. Барнаул, 2001. Кутергина И. Г. Использование метафор в семейной терапии // Интернет-ресурсы http://www.ozersk.ru/philosophy/ro2/kuter_ro2.shtml. Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. Междунар. науч. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. Мерзлякова А. Х. Типология адъективной метафоры // Лингвистические исследования. К 75-летию профессора Владимира Григорьевича Гака. Дубна: Феникс, 2001. Морозовская И. Терапевтические истории // Интернет-ресурсы http://medin.hotmail.ru/psycho/psych_pop.htm. Пополов Д. С. Метафоры коммуникации в электронных технологиях и современных социальных коммуникационных процессах: Автореф. дис. … канд. философ. наук. М., 2001. Растье Ф. Интерпретирующая семантика. Н. Новгород: Деком, 2001. Ряпосова А. Б. Милитарная метафора в современном агитационно-политическом дискурсе // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества. Екатеринбург, 2001. Т. 6. Скопинцева Т. А. Метафора в дискурсе парламентских дебатов // Вопросы языковой политики и языкового планирования в условиях информационного общества: Тез. докл. науч. конф. Иркутск: ИГЛУ, 2001. Федосеев А. А. О некоторых функциях метафоры в политическом пропагандистском дискурсе // Вопросы языковой политики и языкового планирования в условиях информационного общества: Тез. докл. науч. конф. Иркутск: ИГЛУ, 2001. Хазагеров Г. Приключения метафоры, метонимии и символа в научном и общественном дискурсе // Интернет-ресурсы // http://www.znanie-sila.ru/online/issue_1508.html. Хахалова С. А. Модель, концепт, метафора // Вопросы языковой политики и языкового планирования в условиях информационного общества: Тез. докл. науч. конф. Иркутск: ИГЛУ, 2001а. Хахалова С. А. Язык прессы и метафора // Материалы IV регионального научного семинара по проблемам систематики языка и речевой деятельности. Иркутск: ИГЛУ, 2001б.
309
Черниговская Т. В., Деглин В. Л. Метафорическое и силлогистическое мышление как проявление функциональной асимметрии мозга // Интернет-ресурсы http://metaphor.narod.ru/misc/num1/num1.htm. Черникова Н. В. Метафора и метонимия в аспекте современной неологии // Филологические науки. 2001. № 1. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000). Екатеринбург, 2001а. Чудинов А. П. Сексуальная метафора в современном политическом дискурсе // Языковое бытие человека и этноса: психолингвистический и когнитивный аспекты / Под ред. В. А. Пищальниковой. Вып. III. Барнаул, 2001б. Чудинов А. П. Структурный и когнитивный аспекты исследования метафорического моделирования // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества. Екатеринбург, 2001в. Т. 6. Шитикова Е. В. Место метафоры в процессе обучения иностранному языку // Методика обучения иностранному языку в ситуации языковой полифонии. Барнаул, 2001.
2002 Агеев В. Н. Семиотика. М.: Весь Мир, 2002. Алешина О. Н. Априорность
семантического моделирования метафоризации // Методологические основания современной филологии: материализм и идеализм в науке. Калининград: Калиниград. госуниверситет, 2002а. Алешина О. Н. Модель, моделирование и языковая картина мира как лингвокультурологические метафоры // Материалы Регионального научного семинара по проблемам систематики языка и речевой деятельности. Иркутск: ИГЛУ, 2002б. Безлепкин Н. Философия языка в России. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. Борисова Т. С. Символ в православной культуре // Филологъ. 2002. № 3. Бытева Т. И. Феномен перифразы в русском литературном языке: проблемы семантики и лексикографии: Дис. … д-ра филол. наук. Красноярск, 2002. Гришина Н. В. Концепт “Вода” в языковой картине мира (на основе номинативного и метафорического полей русского языка XI—XX вв.): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Саратов, 2002. Ермоленкина Л. И. Метафорическое моделирование этико-эстетической оценки человека в русских народных говорах: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 2002. Колосько Е. В. Метафорическая лексика в русских народных говорах (на материале субстантивной антропоцентрической метафоры). СПб., 2002. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. М.: Гнозис, 2002. Куликова И. С., Салмина Д. В. Введение в металингвистику (системный, лексикографический и коммуникативно-прагматический аспекты лингвистической терминологии). СПб.: САГА, 2002. Нагайцева Е. В. Концептуальная символическая модель (на материале творчества А. С. Грина): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 2002. Новикова О. В. Структурно-функциональная характеристика русских неологизмов двух стилистических подсистем конца XX – начала XXI вв. (газетного дискурса и компьютерного сленга) // Материалы XL Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс»: Филология / Новосиб. ун-т. Новосибирск, 2002. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Сборник. М.: АСТ, 2002. Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. – 2-е изд. М.: Языки славянской культуры, 2002. Сомова Е. Тембральная метафоризация в радиоречи // Русский язык. 2002. № 1. Интернет–версия http://www.relga.rsu.ru/n79/rus79.htm. Шитикова Е. В. Процесс формирования метафорического значения: когнитивный аспект: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 2002.
2003 Алешина О. Н. Речевая ошибка — свидетельство хаоса или порядка в языке? // Теория и
история культуры в вузовском образовании: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Н.А.Хохлова, А.М.Фурсенко, Е.Б.Шерешевской / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2003. Лагута О. Н. К концепции толкового словаря метафор современного русского языка (лексикографическое описание субстантивных метафор) // Вестник НГУ. Серия: история, филология. Т. 2 Вып. 2: Филология / Новосиб. гос. ун-т. 2003а. Лагута О. Н. Метафора как исследовательский объект античной филологии // Вестник НГУ. Серия: история, филология. Т. 2 Вып. 2: Филология / Новосиб. гос. ун-т. 2003б. Лагута О. Н. Метафорология: теоретические аспекты. В 2-х ч. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2003в. Ч. 1. Метафорология: проникновение в реальность. Ч. 2. Лингвометафорология: основные подходы.
311
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1 Количественное наполнение тематических групп неодушевленных
метафоризаторов Название ТГ
% от общего количества единиц всех ТГ
Номинации артефактов ТГ1 24,6 % Имена действия ТГ14 13,7 % Номинации явлений природы ТГ17 9,1 % Номинации мест ТГ10 6,5 % Номинации свойств ТГ13 5,8 % Номинации организмов ТГ19 5,8 % Номинации состояний ТГ11 5,6 % Номинации совокупности предметов ТГ16 4,2 % Номинации результатов литературно-словесной
деятельности человека ТГ8 3,2 %
Рельефно-ландшафтная лексика ТГ18 2,5 % Номинации социально-политических явлений ТГ3 2,3 % Номинации знаков, символов ТГ2 2,2 % Номинации отраслей науки и учений ТГ6 2,2 % Номинации реалий театрально-музыкальной культуры ТГ9 2,0 % Номинации веществ ТГ20 1,9 % Номинации культовых и религиозных реалий ТГ4 1,6 % Номинации реалий изобразительного искусства ТГ7 1,4 % Номинации из сферы торгово-денежных отношений ТГ5 1,2 % Мотивированные глаголами номинации действий и
состояний ТГ15 1,2 %
Номинации временных отрезков ТГ21 1,2 % Мотивированные прилагательными номинации свойств и
состояний ТГ12 1,1 %
312
Таблица 2 Актуальность направлений узуальной метафоризации-декодирования в разряде
русских неодушевленных существительных
№№ пп
Направление % от общего количества метафор
1 “Физическое явление > психическое явление”
13,7
2 “Физическое явление > социальное явление”
12,8
3 “Физическое явление > физическое явление”
12,1
4 “Физическое явление > отвлеченное понятие”
10,9
5 “Социальное явление > социальное явление”
9,5
6 “Предмет > физическое явление” 7,8 7 “Предмет > отвлеченное понятие” 7,3 8 “Предмет > предмет” 7,2 9 “Предмет > социальное явление” 5,6 1
0 “Физическое явление > предмет” 3,4
11
“Социальное явление > психическое явление”
2,5
12
“Социальное явление > физическое явление”
2,2
13
“Предмет > психическое явление” 1,6
14
“Психическое явление > физическое явление”
1,2
15
“Отвлеченное понятие > отвлеченное понятие”
0,6
16
“Психическое явление > социальное явление”
0,5
17
“Социальное явление > отвлеченное понятие”
0,5
18
“Отвлеченное понятие > социальное явление”
0,5
19
“Отвлеченное понятие > физическое явление”
0,1
20
“Отвлеченное понятие > психическое явление”
0,1
313
Таблица 3 Актуальность мотивирующих метафорический перенос наименования признаков в
классе неодушевленных существительных
Мотивирующие перенос наименования признаки
% от общего количества метафор
Реализационный + субъективно-психологический 32,7 Физические 17,5 Реляционный 9,0 Функциональный 8,1 Реализационный 6,7 Квантитативный 4,5 Реализационный + динамический 4,0 Функциональный + реализационный 2,1 Реляционный + субъективно-психологический 1,1 Субъективно-психологический 0,9 Консистенциальный 0,5
314
Таблица 4
Актуальность моделей метафоризации-декодирования в разряде русских неодушевленных существительных
Формула модели ТГ, номинации которой
метафоризируются по данной модели
Количество метафор
{ФизЯв>ПсЯв/РеалСП} ТГ10, ТГ11, ТГ12, ТГ13, ТГ14, ТГ15 , ТГ17, ТГ18, ТГ19
15%
{ФизЯв>СоцЯв/РеалСП} ТГ10, ТГ11, ТГ13, ТГ14, ТГ17, ТГ15, ТГ18, ТГ19
10%
{П>П/Фф} ТГ1, ТГ2 6,2% {П>ФизЯв/Фф} ТГ1, ТГ2 5,7% {ФизЯв>Отвл/РеалСП} ТГ10, ТГ11, ТГ12, ТГ13, ТГ14 5,2% {СоцЯв>СоцЯв/РеалСП} ТГ3, ТГ5, ТГ8, ТГ9, ТГ14 5,2% {ФизЯв>Отвл/Рец} ТГ6, ТГ10, ТГ13, ТГ18, ТГ19 4,7% {ФизЯв>ФизЯв/РеалСП} ТГ11, ТГ12, ТГ13, ТГ14, ТГ15,
ТГ17 4,3%
{ФизЯв>ФизЯв/Фзв} ТГ17 4% {П>Отвл/Фу} ТГ1, ТГ2 3% {ФизЯв>СоцЯв/Рец} ТГ9, ТГ10, ТГ12, ТГ17, ТГ19 2,8% {ФизЯв>П/Фф} ТГ19 2,8% {П>Отвл/Рец} ТГ1, ТГ2, ТГ5 2,6% {СоцЯв>ПсЯв/РецСП} ТГ3, ТГ5, ТГ6, ТГ8, ТГ14 2,6% {ФизЯв>СоцЯв/РеалДи} ТГ14, ТГ17 2,2% {ФизЯв>ПсЯв/Рец} ТГ9, ТГ10, ТГ12, ТГ17, ТГ18 2% {П>ФизЯв/Фу} ТГ1 2% {ПсЯв>ФизЯв/РеалСП} ТГ11, ТГ13 1,9% {ФизЯв>СоцЯв/ФуРеал} ТГ14 1,9% {П>ФизЯв/Фвр} ТГ21 1,6% {ФизЯв>ФизЯв/Фф} ТГ17, ТГ19 1,6% {ФизЯв>Отвл/ФуРеал} ТГ14 1,5% {СоцЯв>ФизЯв/РеалСП} ТГ8, ТГ9, ТГ14 1,3% {СоцЯв>СоцЯв/Кв} ТГ16 1,3% {ФизЯв>СоцЯв/Кв} ТГ16 1% {ФизЯв>ФизЯв/РеалДи} ТГ14, ТГ17 0,9% {ФизЯв>ФизЯв/Фцв} ТГ20 0,9% {ФизЯв>Отвл/Кв} ТГ16, ТГ18 0,8% {СоцЯв>СоцЯв/Рец} ТГ8, ТГ9 0,8% {ФизЯв>Отвл/РеалДи} ТГ14 0,8% {СоцЯв>СоцЯв/РецСП} ТГ8, ТГ9 0,7% {П>СоцЯв/Реал} ТГ7 0,7% {ПсЯв>СоцЯв/РеалСП} ТГ11, ТГ13 0,7% {СоцЯв>СоцЯв/РеалДи} ТГ14 0,7%
315
Таблица 5
МП, реализуемые в моделях метафоризации единиц ТГ1
МП
Примеры метафор
% от общего количества членов ТГ1
1. Физические подушечка опухоли, нить реки, евстахиева труба, стрелы ресниц, ковш бухты, лепешки снега, шатры берез и дубов
31,9
2. Функциональный горнило испытаний, детонатор энергетического кризиса, Польша – буфер между Германией и Россией, ключ к шифру, пули слов разят, дорожная пробка
25,4
3. Реляционный веха истории, эталон поведения, стержень исследования, венец творения, творческий потолок
6,2
4. Квантитативный умственный багаж, корзина вопросов, короб новостей, пакет идей, арсенал доказательств, пантеон слов
3,9
5. Субъективно-психологический
бич сатиры, елей речей, острие критики, суррогат счастья
3,4
6. Консистенциальный минеральная вата, кашица из снега, снежный кисель, месиво – о еде
2,8
7. Реализационный сделать бифштекс, котлету, жаркое из кого-л., сказать в запале
1,6
8. Динамический калейдоскоп событий, карусель событий
0,4
316
Таблица 6
Типология направлений метафорических переносов на основе номинаций звуковой
стихии
Направление Количество ЛСВ
Примеры
“Звук природы > Звук человека”
42 Гром аплодисментов, журчание речи, звон пустых людей – о сплетнях, пустой звук – о бессмысленной речи, трезвон – о сплетнях, шипение старухи, бабий вой, гоготанье – о хохоте, лай – о ругани, ржание – о смехе, скулеж – о нытье, стрекот – о болтовне и
др. “Звук человека > Звук
природы” 12 Всхлипы дождя, говор ручья, лопотание
осинок, пение ветра, смех дрозда, хохот шакала, шепот листвы и др.
“Звук природы > Звук природы”
2 Вой ветра, щебетание ручья
“Звук предмета > Звук человека”
3 Скрип старческого голоса, скрежет речи, тарахтение
“Звук человека > Звук предмета”
2 Песня водопроводных труб, стоны дверей
“Звук человека > Звук человека”
1 Пение – о напевной речи
“Звук предмета > Звук предмета”
1 Стрельба тракторного мотора
![Page 1: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/61.jpg)
![Page 62: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/64.jpg)
![Page 65: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/65.jpg)
![Page 66: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/66.jpg)
![Page 67: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/67.jpg)
![Page 68: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/68.jpg)
![Page 69: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/69.jpg)
![Page 70: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/70.jpg)
![Page 71: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/71.jpg)
![Page 72: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/72.jpg)
![Page 73: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/73.jpg)
![Page 74: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/74.jpg)
![Page 75: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/75.jpg)
![Page 76: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/76.jpg)
![Page 77: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/77.jpg)
![Page 78: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/78.jpg)
![Page 79: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/79.jpg)
![Page 80: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/80.jpg)
![Page 81: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/81.jpg)
![Page 82: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/82.jpg)
![Page 83: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/83.jpg)
![Page 84: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/84.jpg)
![Page 85: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/85.jpg)
![Page 86: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/86.jpg)
![Page 87: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/87.jpg)
![Page 88: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/88.jpg)
![Page 89: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/89.jpg)
![Page 90: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/90.jpg)
![Page 91: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/91.jpg)
![Page 92: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/92.jpg)
![Page 93: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/93.jpg)
![Page 94: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/94.jpg)
![Page 95: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/95.jpg)
![Page 96: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/96.jpg)
![Page 97: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/97.jpg)
![Page 98: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/98.jpg)
![Page 99: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/99.jpg)
![Page 100: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/100.jpg)
![Page 101: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/101.jpg)
![Page 102: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/102.jpg)
![Page 103: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/103.jpg)
![Page 104: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/104.jpg)
![Page 105: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/105.jpg)
![Page 106: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/106.jpg)
![Page 107: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/107.jpg)
![Page 108: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/108.jpg)
![Page 109: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/109.jpg)
![Page 110: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/110.jpg)
![Page 111: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/111.jpg)
![Page 112: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/112.jpg)
![Page 113: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/113.jpg)
![Page 114: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/114.jpg)
![Page 115: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/115.jpg)
![Page 116: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/116.jpg)
![Page 117: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/117.jpg)
![Page 118: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/118.jpg)
![Page 119: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/119.jpg)
![Page 120: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/120.jpg)
![Page 121: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/121.jpg)
![Page 122: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/122.jpg)
![Page 123: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/123.jpg)
![Page 124: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/124.jpg)
![Page 125: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/125.jpg)
![Page 126: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/126.jpg)
![Page 127: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/127.jpg)
![Page 128: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/128.jpg)
![Page 129: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/129.jpg)
![Page 130: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/130.jpg)
![Page 131: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/131.jpg)
![Page 132: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/132.jpg)
![Page 133: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/133.jpg)
![Page 134: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/134.jpg)
![Page 135: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/135.jpg)
![Page 136: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/136.jpg)
![Page 137: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/137.jpg)
![Page 138: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/138.jpg)
![Page 139: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/139.jpg)
![Page 140: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/140.jpg)
![Page 141: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/141.jpg)
![Page 142: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/142.jpg)
![Page 143: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/143.jpg)
![Page 144: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/144.jpg)
![Page 145: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/145.jpg)
![Page 146: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/146.jpg)
![Page 147: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/147.jpg)
![Page 148: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/148.jpg)
![Page 149: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/149.jpg)
![Page 150: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/150.jpg)
![Page 151: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/151.jpg)
![Page 152: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/152.jpg)
![Page 153: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/153.jpg)
![Page 154: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/154.jpg)
![Page 155: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/155.jpg)
![Page 156: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/156.jpg)
![Page 157: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/157.jpg)
![Page 158: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/158.jpg)
![Page 159: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/159.jpg)
![Page 160: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/160.jpg)
![Page 161: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/161.jpg)
![Page 162: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/162.jpg)
![Page 163: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/163.jpg)
![Page 164: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/164.jpg)
![Page 165: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/165.jpg)
![Page 166: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/166.jpg)
![Page 167: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/167.jpg)
![Page 168: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/168.jpg)
![Page 169: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/169.jpg)
![Page 170: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/170.jpg)
![Page 171: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/171.jpg)
![Page 172: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/172.jpg)
![Page 173: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/173.jpg)
![Page 174: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/174.jpg)
![Page 175: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/175.jpg)
![Page 176: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/176.jpg)
![Page 177: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/177.jpg)
![Page 178: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/178.jpg)
![Page 179: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/179.jpg)
![Page 180: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/180.jpg)
![Page 181: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/181.jpg)
![Page 182: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/182.jpg)
![Page 183: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/183.jpg)
![Page 184: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/184.jpg)
![Page 185: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/185.jpg)
![Page 186: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/186.jpg)
![Page 187: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/187.jpg)
![Page 188: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/188.jpg)
![Page 189: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/189.jpg)
![Page 190: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/190.jpg)
![Page 191: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/191.jpg)
![Page 192: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/192.jpg)
![Page 193: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/193.jpg)
![Page 194: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/194.jpg)
![Page 195: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/195.jpg)
![Page 196: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/196.jpg)
![Page 197: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/197.jpg)
![Page 198: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/198.jpg)
![Page 199: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/199.jpg)
![Page 200: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/200.jpg)
![Page 201: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/201.jpg)
![Page 202: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/202.jpg)
![Page 203: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/203.jpg)
![Page 204: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/204.jpg)
![Page 205: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/205.jpg)
![Page 206: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/206.jpg)
![Page 207: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/207.jpg)
![Page 208: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/208.jpg)
![Page 209: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/209.jpg)
![Page 210: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/210.jpg)
![Page 211: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/211.jpg)
![Page 212: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/212.jpg)
![Page 213: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/213.jpg)
![Page 214: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/214.jpg)
![Page 215: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/215.jpg)
![Page 216: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/216.jpg)
![Page 217: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/217.jpg)
![Page 218: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/218.jpg)
![Page 219: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/219.jpg)
![Page 220: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/220.jpg)
![Page 221: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/221.jpg)
![Page 222: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/222.jpg)
![Page 223: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/223.jpg)
![Page 224: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/224.jpg)
![Page 225: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/225.jpg)
![Page 226: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/226.jpg)
![Page 227: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/227.jpg)
![Page 228: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/228.jpg)
![Page 229: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/229.jpg)
![Page 230: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/230.jpg)
![Page 231: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/231.jpg)
![Page 232: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/232.jpg)
![Page 233: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/233.jpg)
![Page 234: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/234.jpg)
![Page 235: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/235.jpg)
![Page 236: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/236.jpg)
![Page 237: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/237.jpg)
![Page 238: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/238.jpg)
![Page 239: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/239.jpg)
![Page 240: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/240.jpg)
![Page 241: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/241.jpg)
![Page 242: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/242.jpg)
![Page 243: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/243.jpg)
![Page 244: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/244.jpg)
![Page 245: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/245.jpg)
![Page 246: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/246.jpg)
![Page 247: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/247.jpg)
![Page 248: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/248.jpg)
![Page 249: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/249.jpg)
![Page 250: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/250.jpg)
![Page 251: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/251.jpg)
![Page 252: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/252.jpg)
![Page 253: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/253.jpg)
![Page 254: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/254.jpg)
![Page 255: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/255.jpg)
![Page 256: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/256.jpg)
![Page 257: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/257.jpg)
![Page 258: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/258.jpg)
![Page 259: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/259.jpg)
![Page 260: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/260.jpg)
![Page 261: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/261.jpg)
![Page 262: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/262.jpg)
![Page 263: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/263.jpg)
![Page 264: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/264.jpg)
![Page 265: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/265.jpg)
![Page 266: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/266.jpg)
![Page 267: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/267.jpg)
![Page 268: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/268.jpg)
![Page 269: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/269.jpg)
![Page 270: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/270.jpg)
![Page 271: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/271.jpg)
![Page 272: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/272.jpg)
![Page 273: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/273.jpg)
![Page 274: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/274.jpg)
![Page 275: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/275.jpg)
![Page 276: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/276.jpg)
![Page 277: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/277.jpg)
![Page 278: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/278.jpg)
![Page 279: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/279.jpg)
![Page 280: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/280.jpg)
![Page 281: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/281.jpg)
![Page 282: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/282.jpg)
![Page 283: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/283.jpg)
![Page 284: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/284.jpg)
![Page 285: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/285.jpg)
![Page 286: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/286.jpg)
![Page 287: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/287.jpg)
![Page 288: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/288.jpg)
![Page 289: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/289.jpg)
![Page 290: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/290.jpg)
![Page 291: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/291.jpg)
![Page 292: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/292.jpg)
![Page 293: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/293.jpg)
![Page 294: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/294.jpg)
![Page 295: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/295.jpg)
![Page 296: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/296.jpg)
![Page 297: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/297.jpg)
![Page 298: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/298.jpg)
![Page 299: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/299.jpg)
![Page 300: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/300.jpg)
![Page 301: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/301.jpg)
![Page 302: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/302.jpg)
![Page 303: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/303.jpg)
![Page 304: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/304.jpg)
![Page 305: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/305.jpg)
![Page 306: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/306.jpg)
![Page 307: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/307.jpg)
![Page 308: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/308.jpg)
![Page 309: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/309.jpg)
![Page 310: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/310.jpg)
![Page 311: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/311.jpg)
![Page 312: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/312.jpg)
![Page 313: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/313.jpg)
![Page 314: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/314.jpg)
![Page 315: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/315.jpg)
![Page 316: Semantic modeling in the linguometaphorological studies [Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032903/632f3d2f7eed730a0f09b751/html5/thumbnails/316.jpg)