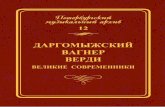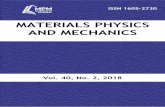Санкт-Петербургский государственный ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Санкт-Петербургский государственный ...
1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)
На правах рукописи
Соболева Ксения Валерьевна
ВИЗУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГОРОДЕ
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
Специальность: 22.00.04 – социальная структура, социальные институты
и процессы
Диссертация на соискание ученой степени
кандидата социологических наук
Научный руководитель
кандидат философских наук, доцент
Н.В. Казаринова
Санкт-Петербург
2014
2
Оглавление ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................. 3
Глава 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ВИЗУАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ В
ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ................................... 13
1.1. Предметные границы визуальной социологии ................................................................... 13
1.1.1 Предметные границы .......................................................................................................... 14
1.1.2 Понятийный ряд .................................................................................................................. 18
1.1.3 Проблемные области ........................................................................................................... 32
1.2 Визуальные репрезентации как способ конструирования социальной идентичности........ 35
1.2.1 Социальная идентичность как социологическая проблема ............................................ 36
1.2.2 Механизмы идентификации ............................................................................................... 41
1.2.3 Фотография как средство социальной идентификации ................................................... 47
1.3 Методы анализа визуальных данных ....................................................................................... 61
1.3.1 Социологические визуальные данные .............................................................................. 62
1.3.2 Методы анализа содержания визуальных данных .......................................................... 64
1.3.3 Методы анализа контекста визуальных данных .............................................................. 72
Выводы по главе 1 ............................................................................................................................ 83
Глава 2. ВИЗУАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И РАССМАТРИВАНИЕ ГОРОДА КАК
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................... 86
2.1 Город как текст: перспектива «дистанцированного» наблюдения ....................................... 89
2.2 Город как «свой/чужой»: перспектива обыденного восприятия ......................................... 106
2.2.1 Ментальные карты города: обучение видеть ................................................................. 110
2.2.2 Рассматривание города: стратегии ролевой идентификации ....................................... 117
2.2.3 Любительские фотографии города: «присвоение» городского пространства ............ 123
2.2.4 «Чувство места»: наблюдаемое и демонстрируемое поведение «своих» и «чужих» 125
2.3. Визуальные версии современного Санкт-Петербурга как стратегии групповой
самоидентификации ....................................................................................................................... 130
2.3.1 «Парадный Петербург»: стратегии визуальной самоидентификации городской
администрации ........................................................................................................................... 133
2.3.2 «Город контрастов»: стратегии визуальной самоидентификации медиа-групп ......... 141
2.3.3 «Узнаваемый Петербург»: стратегии визуальной самоидентификации бизнес-групп
...................................................................................................................................................... 145
2.3.4 «Мой Петербург»: стратегии визуальной самоидентификации рядовых горожан .... 148
Выводы по главе 2 .......................................................................................................................... 159
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................................. 161
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................................................. 167
ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................................. 190
3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Происходящие в современном
российском обществе экономические, политические, социально-культурные
трансформации, вызвавшие интенсивные перемены в повседневной жизни людей,
потребовали от отечественных социологов значительных усилий, направленных на
разработку и проверку методологической перспективности пока еще не
устоявшихся концептуальных моделей с целью проблематизации тех сторон и
аспектов социальной жизни, которые редко оказывались в фокусе
социологических исследований. Обращение в данном диссертационном
исследовании к визуальной социологии как складывающейся отрасли
социологического знания вызвано стремлением включиться в решение актуальной
задачи дисциплинарного развития социологии, в ведущийся поиск новых тем и
апробации неиспытанных методологических ресурсов. Для визуальной
социологии «визуальность» не вторичное или подчиненное измерение культурной
практики. Социологическое изучение визуальности включает анализ культурных
практик видения, визуального восприятия в повседневной жизни, технологий
визуальной репрезентации и художественной образности.
Выбор города в качестве объекта исследования в контексте визуальной
социологии, на наш взгляд, позволяет обратить внимание еще на один аспект
актуальности проводимого исследования. Города, в советский период
выступавшие объектами рационального централизованного планирования, в новой
социально-политической системе получили роль самостоятельных агентов
деятельности, по-разному стали приспосабливаться к новым социально-
экономическим и политическим условиям. Жители городов оказались вовлечены в
сложнейшие процессы ломки социальной идентичности.
Предложенный в диссертации контекст изучения города позволил
обнаружить, что для жителей городов одним из эффективных ресурсов
преодоления кризиса идентичности оказались разнообразные формы визуальной
4
репрезентации городской среды как способ соотнесения себя с городом,
вовлечение в городские проблемы. Проводимый в диссертации анализ визуальных
версий Санкт-Петербурга рассматривается нами как вклад в решение актуальной
для управления городом задачи формирования городского самосознания и
городской самоидентичности. Деятельность по созданию имиджей Санкт-
Петербурга отражает потребность населения города в осмыслении происходящих
в последние годы преобразований. Она продолжает многолетнюю традицию
обращения к теме Петербурга как к универсальной отправной точке обсуждения
общества и самих себя, построения иерархий, разделения на «своих» и «чужих».
В ходе активного обмена и потребления визуальных образов горожане
переосмысливают городскую среду, наполняют ее новыми социальными
значениями. Актуальность исследования, таким образом, определяется
необходимостью концептуализации процесса возникновения и содержания новых
визуальных репрезентаций города, социальных функций и роли этих
репрезентаций в развитии городского сообщества.
Степень разработанности проблемы. Тема диссертации потребовала
обращения к результатам исследований как в различных отраслях собственно
социологического знания, так и социальной философии и социальной психологии.
К наиболее значимым следует отнести работы следующих авторов:
В области изучения визуального аспекта социальной жизни, разработки
социологии визуального исследования Р. Барта, Г. Беккера, В. Беньямина, А.
Бригенти, М. Бэнкса, О. Гавришиной, А. Ганжи, А. Горных, Б. В. Дубина, О.
Запорожец, Н. Ю. Захаровой, С. Зонтаг, В. В. Колодий, В. Л. Круткина, Е. В.
Петровской, В. М. Розина, П. Свитмана, О. Сергеевой, Р. Уильямс и С. Холл, П.
Штомпки, Дж. Элкинса, Е. Ярской-Смирновой и др. В.Дж.Т. Митчелл [281]
предложил термин «визуальный поворот» (pictorial turn), желая подчеркнуть, что
на смену лингвистическому обществу, когда слово было основным средством
приобретения и воспроизводства знания, в конце ХХ в. начинает утверждаться
общество визуальное, в котором базовые представления о мире существуют в
видимых образах. Важнейшим достижением исследователей, разрабатывающих
5
визуальную социологию, является последовательное обоснование того, что
визуальное – это «не лишенный собственной сущности референт социальности.
Напротив, в различных своих воплощениях оно выводится на авансцену,
подвергается анализу как особая форма восприятия и представления мира. Это уже
не простое отражение реальности, а особая оптика взгляда, рожденная культурой и
в свою очередь создающая новые культурные образцы» [78, с.20]. Таким образом,
выделился значительный круг исследователей (и это профессиональное
сообщество постоянно пополняется новыми членами), изучающих визуальные
репрезентации социальной реальности.
Исследование в диссертации вопроса конструирования социальной
идентичности с использованием визуальных практик опирается на значительный
объем социологических и социально-психологических источников, посвященных
теме социальной идентичности и процессам социальной идентификации, в том
числе на работы Г. М. Андреевой, П. Бергера и Т. Лукмана, Э. Гидденса, Л. Д.
Гудкова, С. Климовой, Ч. Кули, Дж. Марсиа, Э. А. Орловой, П. Рикера, Е. Ю.
Рождественской, А. М. Сосновской, Э. Тоффлера, Г. Тэджфела, В. А. Ядова и др.
Самопрезентация как идентификационная практика исследована в работах И.
Гофмана, Л. М. Даукши, У. С. Некрасовой, Н. А. Федоровой и др.
При обсуждении социологических аспектов фотографии и
фотографирования, функций фотографии как инструмента формирования
идентичности, а также влияния визуальных репрезентаций на социальные
представления и социальные практики важнейшее значение имеют работы Р.
Барта, Г. Беккера, П. Бурдье, Ж. Дийка, Б. Дубина, С. Зонтаг, В. Л. Круткина, С.
Мельшиор-Бонне, Е. Петровской, Н. Покровского, Д. Урри , П. Штомпки и др.
Обсуждая методический инструментарий визуальной социологии,
нацеленный на отбор и анализ социологически значимой информации
относительно визуальной реальности, мы учитывали достижения, идеи,
предложения, рассматривающие методы анализа визуального, изложенные в
работах М. Алварадо, Н. М. Богдановой, Р. Брекнер, М. Бэнкса, Т. ван А. Дейка,
В. И. Ильина, В. Л. Круткина, С. Лангер, А. Людтке, М. Л. Макарова, А. Сарна, Э.
6
Панофского, Е. Ю. Рождественской, Г. Роуза, В. В. Семеновой, Л. Дж. Филлипс и
М. В. Йоргенсен, П. Хейв, В. Хернан, П. Штомпки и др.
Важное значение для решения задач диссертационного исследования имели
работы по социологии пространства, территориальной идентичности и
переживанию чувства места, прежде всего исследования таких авторов, как П.
Бурдье, А. В. Дахин, Ю. Л. Качанов, Г. Коржов, А. Лефевр, Л. Лофланд, М. де
Серто, Э. Соджи, Э. Сойа, М. С. Уваров, А. Ф. Филиппов, Н. А. Черняева, Н. А.
Шматко и др.
Анализ различных перспектив восприятия города и моделей поведения в
городской среде проводился с учетом концептуальных идей и результатов
эмпирических исследований, содержащихся в работах таких авторов, как Э. Амин,
В. Беньямин, А. Т. Бикбов, В. Л. Глазычев, Дж. Голд, Дж. Джекобс, А. А Желнина,
Д. Н. Замятин, О. Н. Запорожец, К. Линч, С. Милграм, О. Сётер, Р. Парк, В. В.
Семенова, Н. Трифт, Е. Г. Трубина, Дж. Урри и др.
При описании визуальных версий современного Санкт-Петербурга
потребовалось обращение к работам по социологии архитектуры, литературы и
искусства, в частности таких авторов, как Р. Арнхейм, М. Б. Вильковский, В. Л.
Глазычев, Ле Корбюзье, Г. Поллок, Федоров А. В. и др.
Наконец, анализ визуального образа Петербурга становился предметом
изучения многих исследователей. При решении задач диссертационного
исследования были использованы работы Н. П. Анциферова, Ю М Лотмана, Н. А
Синдаловского, Д. Л. Спивака и др. Отметим социологические исследования
репрезентаций Петербурга в художественных фильмах и литературе, а также
изучение новых городских сообществ и публичных пространств: в частности,
работу А. Кинчаровой, анализирующую репрезентации Санкт-Петербурга в
фильме А. Учителя «Прогулка»; исследование А. Желниной, посвященное Малой
Садовой улице в Санкт-Петербурге; статьи о новых публичных пространствах
Петербурга С. Дамберга, О. Панченкова, Н. Соколова, А. Хохловой; анализ С.
Чуйкиной имиджа Петербурга в прессе и др.
7
Цель диссертационного исследования – выявление основных стратегий
групповой самоидентификации горожан с использованием визуальных средств
репрезентации города (любительских и профессиональных фотографий, рекламы,
туристических карт, открыток и др.).
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1) рассмотреть методологические ресурсы визуальной социологии в
исследовании процессов социальной идентификации;
2) описать методы исследования визуальной реальности;
3) охарактеризовать рассматривание и репрезентации города как
социокультурно заданные виды человеческой деятельности, как важнейшие
идентификационные практики, посредством которых различные группы горожан
(вос)производят свою идентичность;
4) провести социологический анализ визуальных репрезентаций Санкт-
Петербурга, представленных в работах фотохудожников, репортеров, фотографов-
любителей, картографов;
5) выделить визуальные стратегии групповой самоидентификации
различных групп городского сообщества: жителей города и туристов, наделенных
административной властью и рядовых горожан, профессиональных и
непрофессиональных агентов в области производства визуальных образов Санкт-
Петербурга.
Объектом исследования выступают профессиональные и
непрофессиональные социальные группы, производящие визуальные тексты,
содержанием которых является образ города.
Предмет исследования – стратегии конструирования социальной
идентичности горожан посредством визуальных репрезентаций города.
Методологической базой диссертационного исследования стали идеи,
положения, принципы, разрабатываемые в рамках так называемой
коммуникативной парадигмы в социальном знании, берущей начало в концепции
социального действия М. Вебера и получившей продолжение и реализацию в
различных социологических теориях и концепциях так называемой
8
интерпретативной социологии (от символического интеракционизма,
феноменологической социологии до теории социальной драматургии и
социального конструкционизма), а именно толкование социальной коммуникации
как конститутивного фактора поведения и деятельности людей, а не простого
обменного процесса между носителями информации. При выявлении социального
содержания визуального поведения и визуального продукта существенную
методологическую помощь и импульс оказали идеи Георга Зиммеля о
непсихилогичности переживания, уникальной социологической функции взгляда,
визуальном контакте как базовом типе человеческого взаимодействия. Автору
диссертации близка позиция сторонников экоантропоцентрической социологии,
подчеркивающей органическую связь между жизненной средой и поведением
человека, исходящей из понимания человека как носителя жизненного потенциала,
в той или иной мере позволяющего ему адаптироваться в интенсивно меняющейся
среде обитания. Немаловажное значение для диссертационной работы
представляла практическая ориентированность данной методологической позиции,
а именно то, что экоантропоцентрическая парадигма принята в качестве исходной
платформы в прогнозном социальном проектировании, которое трактуется ее
авторами как вариант «мягкой» социальной технологии, позволяющей
интегрировать научное знание в практику выработки и принятия управленческих
решений.
Эмпирические данные, включенные в диссертационное исследование, были
получены в результате анализа: 30 плакатов наружной рекламы и лайтбоксов в
петербургском метро с видами города; 19 туристических карт Санкт-Петербурга (в
том числе включённых в путеводители); 304 открыток с видами Санкт-Петербурга,
изданных в период с 2002 по 2012 год; 4 экспертных интервью с бильд-
редакторами таких петербургских изданий, как «КоммерсантЪ», «Невское время»,
«The St.Petersburg Times», фотоагентство «Тренд»; содержания фотоальбомов и
фотографий, размещенных на страницах восьми наиболее многочисленных групп
социальной сети «В контакте», объединенных темой «Санкт-Петербург» («Мой
Питер», «Питер-столица мира», «Это Питер, детка (Типичный Питер)», «Санкт-
9
Петербург», «Город, которого больше нет», «Весь Питер», «Другая сторона
Петербурга», «Дворы Петербурга»); 149 комментариев, опубликованных в чате
«Странное чувство (места города, которые вызывают странные чувства)»;
визуальных материалов, представленных на фотовыставке «Город глазами
людей», которая состоялась в 2010 году в Санкт-Петербурге в культурном
пространстве «Лофт проект ЭТАЖИ».
Методический инструментарий диссертации включает: контент-анализ
изображений Санкт-Петербурга на открытках, рекламе, фотографиях;
идеографический анализ визуальных репрезентаций Санкт-Петербурга на
открытках, рекламе, фотографиях, картах; качественный дискурсивный анализ
подписей, размещенных под фотографиями и открытками; текстов экспертных
интервью; комментариев и высказываний респондентов на интернет-форумах с
целью выявления предпочитаемых стратегий групповой самоидентификации;
анализ нормативных документов правительства Санкт-Петербурга с целью
реконструкции видения администрацией стратегического развития города.
Научная новизна работы определена теоретико-методологическими и
эмпирическими задачами диссертационного исследования. Наиболее значимые
научные результаты заключаются в следующем:
1. Предложен и содержательно разработан ряд понятий и
концептуальных положений, обеспечивающих последовательное развитие и
самоопределение визуальной социологии как самостоятельной отрасли
социологического знания. В их числе: визуальная реальность; визуальные
репрезентации; визуальные версии; визуальные коммуникативные практики.
2. Обосновано и эмпирически проверено функционирование визуальных
коммуникативных практик (таких как фотографирование, картографирование,
художественное изображение, рассматривание и пр.) в качестве важного средства
групповой самоидентификации субъекта деятельности.
3. Показаны концептуальные возможности визуальной социологии при
обращении к теме города. В частности становится возможной проблематизация
профессиональной и непрофессиональной деятельности, направленной на
10
создание разнообразных визуальных версий города как относительно
самостоятельной визуальной реальности с присущими именно ей формами
социальной организации, особенностями функционирования, моделями
социального поведения, способами социальной идентификации.
4. Проведен социологический анализ значительного объема визуальной
продукции с изображением Санкт-Петербурга (профессиональных и
любительских фотографий, рекламных плакатов, открыток, туристических карт) с
целью прояснения их функционального значения как средств социальной
идентификации.
5. Выделены и классифицированы визуальные стратегии групповой
самоидентификации различных групп городского сообщества, а именно: жителей
города и туристов; групп, наделенных административной властью, и рядовых
горожан; профессиональных и непрофессиональных агентов в области
производства визуальных образов Санкт-Петербурга.
Практическая значимость работы определяется, в первую очередь,
описанием и классификацией визуальных стратегий групповой
самоидентификации различных групп городского сообщества Санкт-Петербурга,
что может быть использовано как административными структурами города, так и
общественными организациями при разработке программ развития городского
самоуправления, формирования комфортной городской среды. Содержательный
анализ визуальных версий современного Петербурга и характеристика
особенностей их восприятия различными группами горожан, на наш взгляд, могут
быть востребованы как экспертами в области имиджевой деятельности, так и в
сфере бизнеса. Разработка понятий и концептуальных положений визуальной
социологии может быть использована при разработке учебного курса
«Визуальная социология», предназначенного для студентов,
специализирующихся в области социологии города, социологии культуры,
социологии массовой коммуникации, связей с общественностью. В целом
результаты исследования могут быть использованы в научной деятельности и
11
чтении учебных курсов по социологии, культурной антропологии, социальной
психологии, методам социальных исследований.
Положения, выносимые на защиту
1. Визуальная социология может быть выделена в качестве
самостоятельной отрасли социологического знания, со своим особым предметом,
понятийным рядом, нацеленным на описание и объяснение социальных функций,
процесса и процедур наблюдения, видения, рассматривания, изображения,
визуальной репрезентации социальных объектов.
2. Визуальные коммуникативные практики (фотографирование,
картографирование, художественное изображение, рассматривание и пр.)
являются для социальных субъектов важным средством самоидентификации.
3. Визуальная социология города, обращаясь к анализу различных
способов и форм визуализации городского пространства, позволяет
проблематизировать социальные функции и социальное значение
пространственных и оформляющих городское пространство наблюдаемых
продуктов человеческой деятельности.
4. Важнейшие визуальные стратегии социальной идентификации зависят
от принадлежности/непринадлежности наблюдателей к числу жителей данного
города, их профессионального и социально-политического статуса, используемых
каналов коммуникативной связи.
5. Визуальные версии Санкт-Петербурга, создаваемые различными
группами горожан, фиксируют их социальный статус и становятся средством
воспроизводства социальной стратификации. Город как визуальная реальность
может быть рассмотрен как множество не связанных между собой «мест»,
которые требуют от людей, оказавшихся в этих местах, определенного способа
поведения/функционирования.
Апробация работы
Обсуждение промежуточных результатов работы проводилось на
российских и международных конференциях: «Всесоюзный социологический
12
конгресс», Москва, МГУ.-2006, «Реальность этноса», СПб, РГПУ им. А.И.
Герцена.-2007, 2011, 3 и 5 конференции молодых ученых «Социальные
коммуникации: профессиональные и повседневные практики», СПб, СПбГУ –
2009, 20011, «Потребление как коммуникация», СПб, СПбГУ.-2009, 2011,
«Экология: синтез естественнонаучного, технического и гуманитарного знания»,
Саратов, СГТУ.-2011, «Цели развития тысячелетия и инновационные принципы
устойчивого развития северных регионов», СПб,-2010, 2011, «Социальные
коммуникации: универсум профессиональной деятельности», СПб, -2011,
«Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия,
история», Новосибирск, 2014. Результаты, полученные в диссертационном
исследовании, внедрены в НИР по научному обоснованию проектов
территориального планирования Республики Саха (Якутия) (2008), Эвенкийского
муниципального района (2011), Мурманской области (2010), выполняемых по
заданиям Российского научно-исследовательского и проектного института
Урбанистики и Агентства по наукоёмким и инновационным технологиям, а также
в учебном процессе Якутского университета высоких технологий.
Структура диссертации ориентирована на решение поставленных задач.
Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка
литературы и 13 приложений. Общий объем работы составляет 255
машинописных страниц.
13
Глава 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ВИЗУАЛЬНОЙ
СОЦИОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
1.1. Предметные границы визуальной социологии
Понятие «визуальная социология» перестало быть необычным. За сорок лет с
момента выхода классической статьи Говарда Беккера «Фотография и социология»,
в которой прозвучал призыв «Сделать социологию визуальной» [220], сложилась
самостоятельная отрасль социологического знания со своими предметными
границами, тематической определенностью, способами представления
приобретенного знания. Выделился значительный круг исследователей,
изучающих визуальные репрезентации социальной реальности, и это
профессиональное сообщество постоянно пополняется новыми членами [251, р.18;
35, с. 7-16]. Издаются профессиональные журналы и периодические издания, в
которых публикуются работы, открывающие все новые и новые аспекты
визуальной деятельности людей [См.: 78; 170]. Проводятся конференции,
семинары, симпозиумы, предоставляющие возможность для дискуссионного
обсуждения положения дел и перспектив развития визуальной социологии. В
Оксфордский «Социологический словарь» с 1994 г. включена статья «Visual
sociology», в которой последняя определяется как направление социологии,
изучающее социальные и культурные явления сквозь призму визуальных образов и
репрезентаций (фотографий, фильмов, рекламы и пр.) [288]. Наконец,
увеличивается число университетов, предлагающих своим слушателям учебные
курсы по визуальной социологии, издаются и переиздаются учебники и учебные
пособия с названием «Визуальная социология» [См.: 206; 251]. Все это указывает
на то, что данная отрасль знания набирает зрелость и институциональную
определенность.
14
В настоящем параграфе мы обозначим те достижения в области
социологического изучения визуальной реальности, которые, на наш взгляд,
позволяют признать притязания визуальной социологии на дисциплинарную
самостоятельность оправданными. К числу таких достижений отнесем
следующие: 1) всё более отчетливо проявляющееся согласие среди исследователей
относительно ее предметных границ; 2) введение и расширение системы
специальных терминов, понятий, категорий, позволяющих фиксировать, описывать
и объяснять визуальные явления социальной жизни; 3) использование ресурсов
визуальной социологии для проблемного осмысления социальных процессов и
явлений, уже казалось бы истолкованных средствами не визуальных
социологических направлений.
1.1.1 Предметные границы
Важнейшим достижением исследователей, разрабатывающих визуальную
социологию, является последовательное обоснование того, что визуальное – это
«не лишенный собственной сущности референт социальности. Напротив, в
различных своих воплощениях оно выводится на авансцену, подвергается анализу
как особая форма восприятия и представления мира. Это уже не простое
отражение реальности, а особая оптика взгляда, рожденная культурой и в свою
очередь создающая новые культурные образцы». [78, с.20]. При этом
исследовательскую ценность (и в этом тоже имеется значительное согласие между
исследователями) представляет как социологическая проблематизация доступной
наблюдению предметной среды, так и собственно визуальная деятельность людей:
от ее созерцательных форм (рассматривание, разглядывание, наблюдение) до
разнообразных способов производства визуальных образов (фотографирование,
рисование, дизайн и пр.). Другими словами, признается принципиальное наличие
двух векторов исследовательской перспективы визуальной социологии: изучение
социального посредством визуального и самого визуального как социального
конструкта [См.: 78]. «Визуальная социология может быть разделена на два
направления: методологическое (создавать фотографии, чтобы анализировать
15
социальную реальность) и культурологическое (анализировать фотографии,
сделанные другими, чтобы исследовать индикаторы культуры и социальных
отношений)» (Цит. по: 80, с. 156).
П. Свитман обратил внимание на существующую опасность размывания
предметных границ, если включить в сферу социологии визуального любой
объект, человека, место, событие или происшествие, которое может быть
наблюдаемо человеческим зрением. По его мнению, это означало бы обратиться к
предметам, рассматриваемым социальными науками почти во всей их полноте.
«Представляется разумным вводить различия между социологией визуального и
визуальной социологией, понимая под последней формы социологического
исследования, в которых используются визуальные методы. Термины социологии
визуального в потенциале оказываются действительно столь же широкими, как и
сама социология, поскольку почти любой аспект социологического исследования
потенциально обладает визуальным компонентом, даже те, которые на первый
взгляд не представляют собой визуальные объекты или темы (такие, как изучение
музыки или акустическая социология в широком смысле). Существует опасность
слишком широко раскинуть концептуальную сеть, и поэтому, развивая
социологию или антропологию визуального, мы должны весьма внимательно
определять, какие области или проблемы мы имеем в виду» [33, с. 89-90]. В свою
очередь практически все методы социологического исследования, а также способы
представления социологического знания также обладают (или потенциально
обладают) визуальной составляющей. По мнению П. Свитмана, для того, чтобы
удержать дисциплинарные рамки, «…разумно зарезервировать термин
«визуальная» социология для форм социологического исследования, опирающихся
в большей или меньшей степени на специфически визуальные методы <…> такие,
например, как сбор фоторепрезентаций у респондентов, которые используют уже
существующие образы или образы, созданные как часть исследования, в процессе
исследования, а не просто в качестве объекта анализа или изучения» [Там же. c.
91].
16
Размышляя в этом же направлении, Д. Харпер ввѐл понятие photo-elicitation
(фото-выявление), то есть прием, который основывается на идее «помещать
фотографию в исследовательское интервью» [Цит. по: 99, с. 68]. Г. Беккер также
подчеркивал, что, используя в исследовательских целях, например, фотографии,
мы должны быть уверены, что остаемся на территории реальной социологии, а не
просто заняты интересными картинками [Becker, 1974. Цит. по 99, с. 68]. Пример
реализации этого принципа приводится в книге Д. и М. Коллиеров «Визуальная
антропология. Фотография как исследовательский метод». В ней показано, как с
помощью снимков (фото, кино, видео) можно значительно повысить
эффективность традиционных методов познания. Новые медиа во многом
снимают власть интервьюера, превращающего интервью в подобие допроса. Как
отмечают Коллиеры, «фотографии в интервью выполняют роль третьей стороны.
Мы задаем вопросы о фотографии и информант становится нашим помощником в
поиске ответа на эти вопросы. Мы исследуем фотографии вместе» [Collier, 1986:
105. Цит. по: 99, с. 68].
Визуальные формы и реальность состоят в сложной взаимозависимости.
«Фотоизображение служит одним из элементов монтажа, при помощи которого
фрагменты несовершенного настоящего (как раз и регистрируемые камерой),
вкупе со всеми иными инструментами преобразования мира сливаются в
целостный механизм проектирования. К этим элементам следует отнести
визуальный текст и абстрактно-геометрическую графику. Изощрённые ракурсы,
непривычность такого видения, гротесковые пропорции, сверхдальние и
сверхкрупные планы необходимы для того, чтобы устранить из визуальной
реальности рутину повседневности, детали сегодняшнего дня настоящего.<…>
Хотя Анри Картье-Брессон считается лучшим репортажным фотографом, его
снимки нисколько не похожи на хронику событий. Каждый из них существует
отдельно, каждый закончен и завершен, каждый относится к тому, что фотограф
определил как «решающий момент». По большому счету в них нет никакой
документальности, так как каждое его произведение образ, а не фиксация,
сконструированный образ. Камера Картье-Брессона не ловит мгновенье, а, скорей,
17
реконструирует его, становясь не менее активным участником события, чем свет,
воздух, время суток и время года, культура, история и география. Фотографии
Картье-Брессона рождают ощущение, что они не увидены, а изобретены, хотя в
них нет ни малейшего следа постановки и практически ни одна из них не сделана в
ателье. Образ, в отличие от впечатления, результат размышлений, а не
наблюдений, и те моменты, что запечатлены Картье-Брессоном, создают
впечатление вечности, сохраненной в мгновении, а не мгновения, застывшего в
вечности» [См.: 95, c. 18-19] .
Тем самым, как полагают исследователи, изобразительные медиа начинают
активно вмешиваться в опыт, жить независимо от обстоятельств их
возникновения, в том числе и от замысла автора. Глядя в видоискатель, фотограф
ожидает момент, когда картинка станет похожей на то, что он о ней думает. Он и
его зрители думают изображениями. Именно этот момент времени схватывает
ситуацию, в хорошую фотографию войдет выразительная, “говорящая”
композиция из предметов и людей, ракурса, фона, света и тени, выражения лиц.
Сразу возникает вопрос: «говорящая» кому? Обнаруживается, что возникающее
значение фотографии не является окончательным, оно зависит от аудиторий. Над
последним обстоятельством фотограф уже не властен. Но то, что он сделал перед
этим, вполне можно назвать фотографическим анализом реальности [99, с.68-69].
Отечественная исследовательница становления новой отрасли
социологического знания О. В. Сергеева подчеркивает, что хотя визуальная
социология вбирает в себя огромное разнообразие интересов и проектов,
выполненных в различных теоретических парадигмах, существуют три
разделяемых всеми исследователями основных методологических установки,
касающихся понимания природы визуальных образов как объекта
социологического анализа.
«Во-первых, образы являются конструкцией. Это означает, что они
неизменно созданы для репрезентации какого-либо значения, что их кто-то создал
для некоторой цели в определенный исторический момент времени <…> Во-
вторых, изображения содержат и символическую информацию, и
18
документальную информацию о действиях. Принимая во внимание, что все
изображения произведены как действия человека для целей, которые не лежат на
поверхности и неочевидны, их физическая природа тем не менее гарантирует, что
представленное есть объективный продукт конкретного акта репрезентации. Все
фотографии, например, представляют более или менее ясно, что некоторая часть
реальности была взята в рамки камеры, они также идентифицируют точку
преимущества камеры и, возможно, фотографа<…> Наконец, изображения —
часть коммуникативных стратегий, они обычно используются, чтобы рассказать
или сообщить какую-либо историю. В дополнение к информации, которую эти
истории передают, изображения также имеют риторическую функцию, которая
неотделима от их ценности в качестве данных. <…> Таким образом, все
социологи, ориентированные на визуальные проекты, соглашаются, что
изображения составляют богатые источники информации о различных аспектах
социальной и культурной жизни и их использование предъявляет комплекс
методологических и интерпретативных вызовов исследователю». [См.: 170, с. 144].
Становление предметной области любого научного знания сопровождается
разработкой соответствующего понятийного аппарата. Для визуальной
социологии это также насущная задача, на решение которой направлены
значительные усилия.
1.1.2 Понятийный ряд
Вводимые и разрабатываемые в визуальной социологии понятия, категории,
концепты ориентированы на решение, на первый взгляд, парадоксальной задачи:
найти вербальные средства для описания и обозначения тех сторон социальной
действительности, которые сложно «схватить» вербальными средствами.
Собственно, как уже говорилось в кратком экскурсе становления визуальной
социологии, острая неудовлетворенность социологов-исследователей,
обратившихся к визуализации социальных проблем, и была связана с тем, что
нередко «не находилось слов» для точного описания того, на что можно было
указать.
19
П. Свитман, размышляя о взаимоотношении между визуальным образом и
письменным текстом как одной из ключевых проблем визуальной социологии,
формулирует ее как поиск границы размежевания и взаимодействия между
логоцентричными и оптикоцентричными способами представления знания, когда
и в какой мере в современных формах академической дискуссии, анализа и
репрезентации можно отказаться от первых в пользу вторых. Приведем некоторые
рассуждения П. Свитмана, изложенные им в форме ответов на вопросы издателей
журнала «Антропологический форум», которые имеют, на наш взгляд,
принципиальное значение для разработки понятийного аппарата визуальной
социологии: «В рамках визуальной социологии существует, вне всякого сомнения,
тенденция использовать визуальный материал как часть анализа, однако при этом
привязывать подобные репрезентации к письменным или вербальным текстам
более традиционного (и часто описательного) типа. Все это может стать
предметом дискуссии относительно того, способна ли визуальная репрезентация,
использованная подобным образом, выступать сама по себе, без письменных или
вербальных «подпорок». <…> Может ли сам образ выступать самостоятельно в
аналитическом смысле, функционировать как собственно социологический или
антропологический текст, или он должен быть прочитан только как
художественная или документальная фотография, если не сопровождается каким-
то анализом или описанием? В данном случае трудность отчасти заключается в
кажущейся двусмысленности визуального образа. Широко распространена
убежденность в том, что, как формулирует это Элизабет Чаплин, «поскольку
образы не конституируют доминирующий у нас способ коммуникации, они
обычно не так хорошо отполированы, как слова, и не являются носителями таких
культурно специфических посланий». Подобная позиция, по-видимому,
достаточно уязвима во все более визуализирующейся культуре, в рамках которой
мы становимся все более искусными в чтении или интерпретации даже наиболее
ироничных или утонченных визуальных текстов. Следует также помнить, что в
образах рекламы и других важных текстах потребительской культуры
производители по большей части «не создают ритуализованные выражения,
20
которые используют; они <...> полагаются на тот же самый корпус способов
самоэкспонирования, тот же самый ритуальный язык, который является ресурсом
всех нас, участвующих в социальных ситуациях, и для той же самой цели —
сделать увиденное действие читабельным». Образы могут быть поэтому менее
двусмысленными (и более легко читаемыми), чем считают авторы некоторых
работ. И по сравнению с другими формами качественных данных (таких, как
извлечения из интервью) существуют случаи, когда визуальные данные могут на
самом деле схватывать более точно некоторые аспекты ситуации (когда
фотография улыбающегося человека, например, обнаруживает эмоциональную
тональность события лучше, чем цитата, лишенная всего, кроме буквального
значения, и следовательно таких особенностей, как иронические или смеховые
интенции говорящего). Однако даже при учете этих вещей остаются важные
вопросы о способности образов функционировать в качестве самостоятельных
аналитических текстов. Фотография в состоянии передать большое количество
информации экономичным и доступным способом, однако она не может сама по
себе передать сложный или детализированный тезис. Фотоэссе или фильм делают
это лучше, но без сопровождающего комментария передаваемое сообщение
оказывается не столь просто закрепляемым и, по всей вероятности, более
родственным поэзии, чем большинство форм академического спектра с их
осознанными (иногда тяжеловесными) попытками передать очень конкретные
тезисы точно и недвусмысленно. Одна из ключевых трудностей в данном случае
заключается в том, что мы не можем быть уверенными, если нам об этом не
скажут, в той интерпретации, которой наделяют образ фотограф или
кинематографист, а также в том, что именно они намереваются сообщить.
Подобная неопределенность отлично работает в искусстве, но она дает нам лишь
намеки или возможности, а не академический анализ. <...>Визуальные методы
являются полезными как способ непосредственного порождения данных в
визуальном виде и как способ получения новых данных благодаря сбору
фотоизображений у респондентов и связанных с этой методикой техник. С другой
стороны, визуальные методы особенно пригодны для исследования конкретных
21
тем, вроде тех проблем, которые трудно как-то оформить словесно...» [33, с.91-92,
95].
В этой пространной цитате, на наш взгляд, либо отчетливо сформулировано,
либо пока намечено содержание тех понятий, используя которые можно
разрабатывать ключевые мотивы и темы визуальной социологии, тем самым по
существу определять ее предметную область. В этот ряд следует включить прежде
всего такие понятия, как визуальная реальность, визуальная деятельность,
визуальные практики, визуальные дискурсы. Ниже охарактеризуем аналитический
потенциал и предложим собственный вариант определения указанных понятий.
Визуальная реальность
Понятие «визуальной реальности» для визуальной социологии аналогично
понятию «социальной реальности» для социологии вообще, то есть является
предметообразующим. Представляется обоснованным понимание «социальной
реальности» как действительности, осмысленной социологически. Иными
словами, социальная реальность включает в себя интерпретации таких атрибутов
социальной действительности, которые считаются существенными для
социологического подхода [См.: 117, с.44]. Осмысливая действительность
социологически, А. Шюц определял социальную реальность как мир повседневной
жизни, как интерсубъективный мир, «который существовал задолго до нашего
рождения и переживался и интерпретировался другими, нашими
предшественниками, как мир организованный. Теперь он дан нашему
переживанию и интерпретации. Любая интерпретация этого мира базируется на
запасе прежних его переживаний – как наших собственных, так и переданных нам
нашими родителями и учителями, – и этот запас в форме «наличного знания»
функционирует в качестве схемы соотнесения. В этот наличный запас
переживаний входит и наше знание того, что мир, в котором мы живем, есть мир
хорошо очерченных объектов, обладающих определенными качествами, –
объектов, среди которых мы движемся, которые оказывают нам сопротивление и
на которые мы можем воздействовать» [208, с.402].
22
Отталкиваясь от изложенного понимания социальной реальности, визуальная
реальность может быть определена, говоря словами Д. Харпера, как «мир, который
рассматривается, фотографируется, рисуется или какими-то иными средствами
визуально представлен, отличается от мира, который описывается словами или
статистикой. В результате мы приходим к новым открытиям и новому пониманию,
поскольку такой взгляд обращает нас к иным социальным реальностям, чем те,
которые известны благодаря устоявшимся исследовательским методам, … чем мир
на компьютерном экране, заполненном цифрами» [251, р.17]. Визуальная
реальность это не просто визуальные объекты как таковые, но объекты,
наделенные контекстами и эффектами, которые они производят. «Показывающий
фотографию человек повествует от ее имени, в его речи будет то, что он с
изображением делает. Но в его речи присутствует и то, что изображение сделало с
ним. Содержательно – это двойной отчет о том, что произошло: человек и образ
повлияли друг на друга» [100, с. 91].
В. Л. Круткин обратил внимание на важность различения репрезентативного и
презентативного видов человеческой активности для понимания разнообразия
функционирования визуальной продукции в социальной среде. На наш взгляд,
различение такого рода представляет не только эпистемологический интерес
(исследователь говорит о соответствующих парадигмах изучения визуального в
социальных исследованиях), но содержательно обогащает понимание визуальной
реальности.
«Репрезентация раскрывает то, что люди делают с изображением; но когда
оказывается, что изображения тоже могут что-то делать с людьми, это
свидетельствует о презентативных сторонах опыта. Дж. Элкинс ставит под вопрос
основное положение визуальной семиотики, где считается, что "визуальные
элементы являются либо беспорядочными, бессмысленными метами, либо
знаками как таковыми". Он показывает, что "графические меты могут быть поняты
как объекты, которые одновременно являются и не являются знаками". О
фотографии (как впрочем, и о тексте) ничего нельзя сказать, не зная о том, в чьих
руках она находится. Но то, что скажут нам люди многочисленных аудиторий
23
фотографии, не исчерпает ее значений. <…> если в репрезентативной части образ
нацеливается на нашу рассудочную способность интерпретировать, то
презентативной частью образ нацеливается на воображение, чувства, нашу
способность аффективно переживать происходящее. <…> Образы не только могут
быть основанием для социальных размышлений, они обучают, выступают
фотографическими учителями, фотографы … обучаются техникам
выразительности, как музыканты, слушая музыку, обучаются техникам
исполнительским. Выразительность снимка - это его способность напрямую
связывать с миром, быть презентацией» [99, с. 70].
Когда фотография рассматривается как репрезентация, она воспринимается
как информация о событии. На первое место выступает при этом когнитивная
активность людей. Однако фотографирование не совпадает лишь с
репрезентацией, там есть еще и презентация, когда на первое место выступает
аффект, чувство, переживание. Момент поражает мастера, мастер успевает этот
момент заснять, теперь изображение эмоционально поражает зрителей. Интересно,
что переживания сопротивляются выражению в речи. Типичные проявления таких
реакций фиксируются высказываниями типа: «Очень правдивый и именно от этого
очень печальный репортаж». «Какое странное чувство. И радость искренняя, и
плакать хочется». [См.: 100, с. 94].
Анализируя фоторепортаж с деревенской свадьбы, В. Л. Круткин обратил
внимание еще на один социологически интересный феномен: отождествление
фотографии только с репрезентативной стороной дела приводит интерпретаторов
к попыткам на практике доминировать над всеми субъектами фотографического
опыта. Интерпретатор наделяет себя правом и властью контролировать
происходящее. Делая критические замечания в адрес автора фотографий,
интерпретаторы распространяют эти замечания и на организаторов торжества.
Правильно ли устроители свадьбы все делают? Выносятся суждения, что «нет, это
не русская свадьба», «не типично». Начинается критика персонажей репортажа по
вопросу «правильно ли вообще они живут»» [99, с. 71].
Визуальная деятельность
24
Обсуждение социальной активности, связанной с формированием,
представлением, передачей визуального образа уже содержит (не всегда явно)
понятийный аппарат, фиксирующий и показывающий разнообразие этого вида
человеческой деятельности. Основная задача визуальной социологии при этом
задать исследовательский контекст, в котором сложноорганизованная зрительная
система человека представлена как деятельность социальная, как совокупность
социально значимых действий, реализуемых в процессе взаимодействия между
людьми. Говоря словами Б. В. Дубина, визуальным социологам необходимо
исследовать зрение, представление, видение как разновидности социального
действия, то есть как действия, обусловленного социальным контекстом,
опосредованного социально значимыми символами и обращенного к “другим”,
реальным или потенциальным социальным партнерам, различающимся по своему
общественному положению и амбициям, смысловым ресурсам, культурным
навыкам и ориентирам [См.:66, с. 31].
Поиск такого различения проводит М. Фуко в своей работе «Рождение
клиники» [См.:201]. В сфере того, что связано со зрением существуют две силы –
взгляд и взор. Взгляд распространяется на мир, который уже является миром
языка, его главная активность в последовательном порядке чтения, он записывает
и обобщает, постепенно замещает имманентные организации, он распространяется
на мир, который уже является миром языка, поэтому спонтанно соотнесен со
слухом и речью, он формирует привилегированные детали двух фундаментальных
аспектов говорения (то, что высказано, и то, о чем говорится). Взор, по мнению М.
Фуко, связан не с речью и слухом, а с телесностью, чувствами, эмоциями,
аффектами, это молчаливая сторона зрения, он может быть отнесен к
невербальному контакту. Взгляд работает как речь, взор работает как рука. Опыт
осязания – это опыт прикасаться к миру руками и привилегия ощущать себя в
«руках» мира, переживать касания и наступающий резонанс – на этом держатся
наши эмоции и аффекты. «Взор не витает над полем, он упирается в точку,
которая обладает привилегией быть центральным или определяющим пунктом.
Взгляд бесконечно модулирован, взор двигается прямо: он выбирает, и линия,
25
которую он намечает, в одно мгновение наделяет его сутью. Он направлен, таким
образом, за грань того, что видит; непосредственные формы чувствительности не
обманывают его, так как он умеет проходить сквозь них, по существу он
демистификатор. Если он сталкивается со своей жесткой прямолинейностью, то
чтобы разбить, чтобы возмутить, чтобы оторвать видимость. Он не стеснен
никакими заблуждениями языка. Взор нем как указательный палец, который
изобличает. Взор относится к невербальному порядку контакта, контакта, без
сомнения, чисто идеального, но в конечном итоге более поражающего, потому что
он лучше и дальше проникает за вещи» [201, с.188].
Иные основания в поиске выявления социального содержания зрительного
восприятия предложены в работе Андреа Бригенти (Andrea Brighenti) [225]. Он
обратился к терминологии программистов, в частности к использованию термина
visibility как свойства CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы
стилей), то есть формального языка описания внешнего вида документа (прежде
всего для оформления внешнего вида веб-страниц) с использованием языка
разметки. Как описывают это свойство сами программисты, свойство CSS visibility
способно сделать любой элемент видимым или невидимым, с его помощью
определяется, будет объект показываться или будет скрыт, иначе говоря, свойство
visibility используется для того, чтобы динамически скрывать или показывать
отдельные блоки сайта или части контента, осуществляя таким образом
взаимодействие с пользователем: объект физически присутствует на странице, но
остается невидимым для пользователя до тех пор, пока не возникает
инструментальная потребность в нем.
[http://www.spravkaweb.ru/css/reference/attributes/positioning/visibility]
А. Бригенти вскрывает в этой операции фундаментальный смысл любой
человеческой деятельности по управлению информацией и социальными
отношениями: сделать видимым или скрыть; обнаружить ранее не замечаемое и
тем самым открыть для себя это заново; предъявлять информацию, когда это
требуется, и отвлекаться, когда потребности в ней нет, и т. д. Предлагая
рассмотреть возможность включения понятия «вѝдение» (visibility) в число
26
категорий социальных наук [225, р. 324], автор обращает внимание на два
органически присущих этому процессу атрибута, а именно способность нагружать
возникающие образы символическим значением и способность как самого
действия, так и порождаемых в его процессе образов оказывать воздействие на
людей и объекты, вовлеченных в этот процесс.
Выделенные измерения процесса вѝдения позволяют, по мнению А. Бригенти,
рассмотреть три социально значимых области его функционирования:
формирование социальных отношений, социальный контроль, создание
публичных пространств. В первом случае речь идет о том, что «сделать другого
видимым» прямо связано с интимностью. Бригенти отсылает читателя к работе Г.
Зиммеля «Социология чувств: Визуальное взаимодействие (интеракция)» (1969), в
которой была исследована уникальная социологическая функция взгляда и в
особенности взаимного глаза-в-глаза контакта. Симметричная направленность
глаза-в-глаза, взаимный взгляд без посредника (в виде слов или других образов)
для Зиммеля является базовым типом человеческого взаимодействия
(интеракции), поскольку ведет к пониманию другого, которое не проходит
фильтры общих категорий, но действительно является индивидуальным и
исключительным. Что касается области социального контроля, Бригенти
отмечает, что в реальности желание быть в поле видимости друг друга редко
бывает взаимным, симметричным. Скажем, в военных действиях в более
выгодном положении находится тот, кто невидим. Человечество на протяжении
своего существования придумывало простые и технологически сложные средства
для поддержания асимметричности видимости – от занавесок и каменных стен до
видео камер и спутников. Видимость оказывается обоюдоострым мечом, который
может как наделять властью, так и делать беззащитным. Наконец, в современном
обществе визуальное становится предметом рынка спроса-предложения. В
результате, возникает вопрос о том, что стоит видеть и какой ценой – вместе с
нормативным вопросом о том, что должно и что не должно быть видимым [225,
р.327]. Описанные области, по Бригенти, проясняют следующие важнейшие
функции (или в его терминологии – типы) процесса вѝдения: социальное
27
признание (форма социальной видимости) как базовое условие личностной
идентичности; управление визуальными образами посредством конструирования
особой визуальной среды (так называемый медиа-тип), который работает по
принципу механизма «ореол вспышки», когда субъекты отделены от своего
изначального контекста и проецированы в совершенно иное пространство,
наделенное собственной логикой и правилами; наконец, управление социальными
отношениями (так называемый тип-контроль), когда возможность быть видимым
или невидимым трансформируется в стратегический ресурс власти (подобно
модели паноптикума, рассмотренной М. Фуко) или социальной избирательности и
стратификации [См.:225, р.339].
Еще один вариант понимания визуальной деятельности предпринят в
диссертационной работе Жигаревой А. А. Автор, следуя принципам веберовской
теории социальной деятельности, предлагает термин «визуализация» как синоним
визуальной деятельности, утверждая, что визуализация как социальное явление
представляет собой процесс активной мыслительной деятельности по восприятию
объективной реальности в виде зрительных изображений, придания зримой формы
как реально существующим, так и созданным искусственно в сознании любым
мыслимым объектам и явлениям, результаты которого активно влияют на
различные аспекты жизни социума. Анализируя визуализацию как вид социальной
деятельности, она выделяет ряд атрибутов, среди которых:
технологические и базисные субъекты прямой формы (теле- и кино-
компании, создатели компьютерных игр и другие лица или подразделения,
которые занимаются созданием, распространением и организацией визуализации)
и превращенной формы (мифологии и архетипы, идеологии и идеологемы);
объекты (массовое и индивидуальное сознание);
цель (визуальное преобразование реальности);
средства, понимаемые как технологии ее реализации: создание гиперсобытия
(монополизация сетевого вещания в рамках единого медийного глобального
пространства), распространение медиавирусов (единиц культурной информации,
обладающих способностью проникать на различные уровни социальной
28
реальности и вызывать общественно-значимые последствия) и создание
визуальных дискурсов (практики, формирующей особый тип идентичности с
помощью ассимиляции в визуальном дискурсе знаков иной природы - условных,
вербальных и др.).
Функции визуализации как особого вида деятельности, по мнению Жигаревой
А. А., являются детализацией ее цели и представляют собой:
функцию описания реальности и конструирования действительности
(изменение негативного проблемного образа, «создание миров» при опоре в
большей степени на образы, ощущения, символы, то есть на визуальное
восприятие-реальности);
функцию контроля общественного мнения и определения «повестки дня»
(постоянное воздействие на общественное мнение с помощью утверждения темы,
выбора повестки дня);
функцию навязывания символических визуальных кодов (с помощью
визуального конструирования изображений реальных объектов на основе
перцептивного «кода узнавания» создается семиологическая система мифа,
который одновременно обозначает и оповещает, внушает и предписывает через
репрезентацию означаемого посредством означающего).
При этом комплексной функцией интегрирующей в себя все остальные
выступает функция управления коммуникативным пространством, которая
обозначает возможность и действительность деятельности субъектов
визуализации по сбору, анализу, корректировке, распределению визуальных
информационных потоков, направленных на выбор информационной политики с
учетом их последствий для общества [См.:74].
В рассмотренных исследованиях, на наш взгляд, убедительно выявлены
основания для того, чтобы придать термину визуальная деятельность статус
центрального понятия визуальной социологии.
Вместе с тем описание и объяснение разнообразных задач, решаемых
субъектами визуальной деятельности, требуют введения дополнительных
29
аналитических инструментов, в числе которых особое место занимает понятие
визуальных дискурсивных практик.
Визуальные дискурсивные практики
Предлагаемое нами понимание визуальных дискурсивных практик опирается
на две концепции, разрабатываемых в рамках коммуникативной традиции в
современной социологии, а именно на концепции социальных практик и дискурса.
В определении социальных практик мы следуем изложенному в работе В. В.
Волкова пониманию их как различных упорядоченных совокупностей навыков
целесообразной деятельности (практического искусства), которые, в то же время,
раскрывают человеку возможности состояться в том или ином социальном
качестве («врач», «политик», «отец», «плотник», «предприниматель», «женщина»,
«шаман» и т. д.). Благодаря этому практики конституируют и воспроизводят
идентичности или «раскрывают» основные способы социального существования,
возможные в данной культуре и в данный момент истории [См.: 40, с.16].
Обращаясь к понятию дискурса, мы опираемся на ключевые положения этой
концепции, сформулированные в различных исследовательских работах [См.,
напр., 62, 113, 199 и др.]. Наиболее значимыми для нашего исследования являются
следующие принципы:
1) Дискурс, определяемый как ситуативное использование языка в
определенных контекстах, является динамической формой социальной
практики.
2) Дискурс это модус социального действия. Это не просто язык, но язык-в-
использовании. Он всегда выполняет определенную социальную работу в
обществе (продвигает чьи-то интересы, отличает одних от других и т. д.).
3) С помощью дискурсов создаются версии реальности. Знать что-либо
означает знать в терминах одного дискурса или нескольких.
4) Это относительно ограниченные наборы утверждений, которые
устанавливают пределы того, что имеет значение, а что значения не имеет,
благодаря чему некоторое явление получает свою определенность.
30
5) Дискурс служит не для того, чтобы выражать предшествующие
психологические состояния. Субъективные психологические реальности скорее
формируются в дискурсе. Дискурс открывает “следы” (шифтеры, или индексы)
субъекта речи и языка, автора высказывания, указывающие на присвоение
говорящим языка.
6) Люди используют дискурс риторически, то есть для того, чтобы совершить
социальное действие в определенных контекстах взаимодействия.
Таким образом, дискурсивные практики – это способы, посредством которых
люди активно производят социальные и психологические реальности, приводят в
действие специфические социально узнаваемые контексты. Конкретные
дискурсивные практики позволяют индивиду презентировать разные варианты
своего “Я”, обосновывать и оправдывать свои действия, поддерживать отношения
власти, доминирования и подчинения, тем самым демонстрировать владение
коммуникативной ситуацией.
На наш взгляд, использование данного понятия позволяет выделить и описать
специфические виды визуальных действий, представить их как поступки, акты
личностной активности, продемонстрировать как в процессе визуальной
деятельности конструируются конкретные социальные роли субъектов визуальной
коммуникации.
Описывая виды визуальных практик, исследователи обычно в качестве
основания их классификации используют те или иные виды изобразительной
деятельности. Соответственно выделяют фотографирование, рисование,
картографирование, создание и демонстрацию видеоматериалов, все виды дизайна
как проектно-художественной деятельности, связанной с разработкой предметного
среды человека и др. Для нас в данном случае важно, что разнообразные
визуальные артефакты в визуальной социологии рассматриваются прежде всего
как виды дискурсивных практик, благодаря которым и посредством которых
формируется то, что можно назвать визуальной реальностью. Фото, видео, кино,
электронные СМИ, другие разнообразные визуальные материалы могут быть
исследованы и в качестве культурных текстов, и как репрезентации социального
31
знания, и как контексты культурного производства, социального взаимодействия и
индивидуального опыта, задающие вполне определенные сценарии ролевого
поведения. Как отмечается в большинстве исследований социального значения
фотографирования, фотографическое поведение включает в себя разные практики:
фотографировать, фотографироваться, рассматривать фотографии. В. Л. Круткин
отмечает, что в репрезентативной модели хорошо показано, что культура это не
предметы, а процессы и практики, “весь образ жизни, а не просто самое лучшее из
того, что было сказано или подуманоˮ. Репрезентация, как перевод какого-то
содержания в другую форму, пронизывает все виды активности людей (и на
первом месте будет активность эпистемологическая). Смыслы вовлечены в
круговорот культуры, где ее продукты «ведут себя как язык» [См.: 99, с.70]. В. В.
Колодий подчеркивает, что репрезентация – это не отражение, но, скорее,
активный процесс отбора и представления, структурирования и формирования, это
процесс наделения чего-либо смыслом [95, с.11]. Визуальные репрезентации
позволяют выявить и объяснить неявные мотивы действий, мотивы, которые
спрятаны в глубине бессознательного [95, с. 25]. Благодаря визуальным практикам
человек научается быть видимым Другим, быть видимым для Другого, что
позволяет понять ожидания и ролевое поведение в ответ на ожидания в контексте
конкретных социальных ситуаций.
Презентативные виды визуальных действий конституируют ситуации и
соответственно такие социальные роли, как фланёр, путешественник и горожанин
или исследователь-журналист. В этой связи заслуживает внимания точка зрения Л.
Воронковой о том, что в визуальную эпоху необходимо использование визуальных
образов не только в процессе исследования, но и для презентации результатов
научного проекта. «Мои идеи и усилия направлены на развитие именно этого
направления… важность здесь приобретает не только научное содержание
презентации, но и его форма, доступная для понимания обычных людей. Залогом
успеха становится обращение к визуальным средствам. Для решения этой
проблемы социальным ученым, вероятно, имеет смысл обратиться к методам и
способам, выработанным в искусстве. Одним из удачных форматов публичных
32
научных презентаций я считаю социологические выставки
(социологической/антропологической фотографии, социальной фотографии,
документальной фотографии). Они позволяют продемонстрировать взгляды (часто
альтернативные и оппозиционные) социальных ученых, провоцирует рефлексию и
реакцию общества. «Социологические выставки» выглядят логичным
междисциплинарным союзом двух форм знания об окружающем мире –
социальной науки и искусства» [42, с.160].
Захарова Н. Ю. также обращает внимание на то, что визуальный дискурс
меняется в зависимости от того, кто является, скажем, автором этой фотографии и
где ее можно увидеть. «Если автор социолог, использующий фотоаппарат как
инструмент сбора материала, то по фотографии можно определить тему его
исследования, поставленные проблемы, ракурс подачи, и они будут, в таком
случае, относиться к социальным явлениям, названным выше. Если эту
фотографию сделал обычный человек, это может быть расценено как
демонстрация интересов, по Бурдье, как акт самоидентификации, сознательной
или неосознанной демонстрации принадлежности к определенной социальной
группе носителя ее норм, ценностей, установок. <…> Зная, что эта фотография
выложена на личном сайте определенным человеком, можно утверждать, что это
факт осознанной публичной демонстрации интересов и, в случае именно этого
изображения, призыва к смотрящим обратить внимание на конкретное явление»
[80, с. 159].
1.1.3 Проблемные области
Завершая данный параграф, отметим, что важным показателем становления
визуальной социологии как самостоятельной отрасли социологического знания, на
наш взгляд, является то, что можно назвать «сформированностью ее научной
повестки дня», то есть использование ресурсов визуальной социологии для
проблемного осмысления социальных процессов и явлений, уже казалось бы
истолкованных средствами не визуальных социологических направлений.
33
При этом речь идет, как о выделении проблемных областей,
актуализирующих процессы и аспекты социальной реальности как реальности
визуальной, так и об исследовании традиционных для социологии вопросов
(например, социальная стратификация, социальные общности, социальные
институты и пр.) средствами визуальной социологии.
В качестве примера первого направления укажем на статью Б. В. Дубина
«Визуальное в современной культуре. К программе социологического
исследования» [66], в которой автор намечает возможность анализа различных
форм и семантики визуальных феноменов в качестве компонентов социального
действия, а также на описание пяти проблемных исследовательских областей, в
которых реализуется взаимопроникновение между социологами и визуальными
явлениями, предложенное американским исследователем Майклом Хиллом. Хилл
определяет исследовательскую область как изучение рефлексивных отношений
между социальными структурами, с одной стороны, и восприятием, выбором,
познанием и созданием визуальных образов, с другой. В числе таких областей он
называет:
Определение предмета. Каковы социальные факторы, которые влияют на
видение? Что определяет способ видения вещи и способ придания значения тому,
что мы видим? Каков характер, роль и институциональная организация визуальной
символики в социальном конструировании реальности? Какие идеи в понимании
характера и организации общества могут быть отчетливо показаны через анализ
изображений?
Социальные образы в средствах информации. Определенное внимание
должно быть направлено на фотографии, телевидение и кинофильмы. Должны
быть рассмотрены содержание образов в развлекательных программах,
информационных программах и рекламе. Важны для исследования контроль и
управление образами в СМИ, осуществляемые корпорациями и социальными
институтами в целом. Визуальные образы в СМИ инициируют социальные
изменения или просто отражают происходящие изменения?
34
Визуальные измерения социального взаимодействия. Внимание здесь может
быть сосредоточено на невербальной коммуникации и создании имиджа тела.
Какими способами одежда и мода проявляются как символы статуса и власти?
Какие имиджи тела используются в художественной среде, а какие в
повседневных невербальных коммуникациях? Каким образом ландшафты
предстают как средства передачи смысла в различных типах социального
взаимодействия?
Социология визуального искусства. Исследование социального содержания
искусства как художественного мира и как институциональной сферы. Кто
приходит в художественные музеи и почему? В какой степени искусство является
автономным от других институтов? Какова степень связи искусства с другими
институтами? Каковы отличительные характеристики символического языка в
визуальных искусствах? Какие социальные значения накладываются как
культурный багаж на символы в визуальных искусствах?
Визуальные технологии и социальная организация. Каковы последствия
главных событий в развитии визуальных технологий фотографии,
кинематографа, телевидения, цветной печати, копировальной техники,
компьютерных программ и т. д. — для семьи, образования, политики, бизнеса и
других сфер? Какую роль семейные фотографии играют в структурировании
личной истории? В какой степени основные социальные институты управляют
развитием и использованием визуальных технологий? Каковы наилучшие способы
применения визуальных технологий в изучении общества, в образовании, в целом
в создании «человека понимающего»? [Цит. по: 170, с. 8].
Примером второго направления могут служить издания, вышедшие в 2007-
2009 гг. в рамках проекта «Визуальные репрезентации социальной реальности:
идеология и повседневность» [См.: 34, 35, 36]. В частности, в редакционной статье
к сборнику статей «Визуальная антропология: настройка оптики» говорится:
«Визуальные методы и источники играют все более значительную роль в науке,
образовании, социальной практике. Они прокладывают новые маршруты к
пониманию прошлого, постоянно меняющихся в истории определений
35
социальных отношений, способов конструирования и решения социальных
проблем… Антропологи и социологи феноменологического направления
обращаются к интерпретации визуального, стремясь к изучению микро-контекстов
повседневной жизни, способов и идеологий производства визуальных образов.
<…> Как мы, буквально, можем видеть мир глазами обычных людей, студентов,
специалистов или клиентов? Каким образом камера, оказавшись в руках ребенка,
человека с инвалидностью, работника местной социальной службы, может помочь
нам деконструировать и понять социальные проблемы, социальное неравенство, а
также пересмотреть и развить подходы и попытки помочь людям улучшить их
жизнь? Как будут смотреться их дворы, улицы и дома глазами живущих там
детей? Как видят насилие пострадавшие от него люди? О чем фотографии и
рисунки позволяют высказываться женщинам и мужчинам, юным и пожилым?
Усомнившись в предположениях взрослого мира о детях и принимая всерьез
детские практики использования камеры, исследователи постигают новые
методологические перспективы и совершают открытия. <…> Заметность и
невидимость неравенства, прорисовка социальных границ и культурных меток,
символизация материальных объектов и терапевтический характер интеракций
между людьми и образами, идеология моды и ностальгии, кинополитика
зрительского потребления, переформатирование гендерных идентичностей –
…такова проблематизация визуального, замешанная на теоретической
основательности, этической рефлексии и ощутимой связи с реальной практикой –
исследований, презентаций и социальных изменений» [35, с.8, 10,15].
Одной из традиционных социологических проблем, получающей новую
жизнь в рамках визуальной социологии, является проблема социальной
идентичности и процессов социальной идентификации, чему посвящен
следующий параграф данной главы.
1.2 Визуальные репрезентации как способ конструирования социальной
идентичности
36
1.2.1 Социальная идентичность как социологическая проблема
Интересующая нас проблема социальной идентичности и в частности виды
идентификационных практик имеет давнюю историю. Это история того, что
можно назвать социологизацией психологического знания. Как известно, само
понятие идентичности возникло в психоанализе и было метафорическим
перенесением некоторых процедур опознания или отождествления, появившихся в
практике уголовного расследования, на психологические ситуации при
диагностике неврозов. Позже оно стало использоваться для описания эмпирически
фиксируемых процессов социализации в группе, принятия различных ролей в
институте, коллективе или неформальной группе для характеристики усвоения
общих верований, ценностей, символов [См.:58, с. 265]. Механизм социализации
личности, посредством которого происходит усвоение ценностей и норм
поведения социальных групп, с которыми личность себя идентифицирует, получил
название идентификации.
В ставшей уже классической теории Г. Тэджфела социальная идентичность
определяется как знание индивида о том, что он принадлежит к определенной
группе, а также эмоциональная значимость для него группового членства.
Идентичность – это когнитивная система, выполняющая роль регуляции
поведения в соответствующих условиях, причем личностная и социальная
идентичность глубинно связаны. Одной из основных закономерностей процесса
идентификации, согласно Тэджфелу, является стремление индивида к достижению
или сохранению позитивной социальной идентичности. Он выделил следующие
этапы процесса идентификации: а) социальная категоризация, когда индивид
самоопределяется как член некоторой социальной категории (например,
определяет себя как мужчину или женщину, человека определенной
национальности, вероисповедания, возраста и т. п.); б) социальная идентификация,
когда индивид усваивает нормы и стереотипы поведения, свойственные этой
категории; в) социальная идентичность – когда усвоенные нормы и стереотипы
соответствующей группы становятся внутренними регуляторами социального
поведения индивида.
37
Ключевые положения этой теории могут быть изложены в следующих шести
постулатах:
1. Социальная идентичность складывается из тех аспектов «образа Я»,
которые возникают в процессе восприятия индивидом себя как члена
определённых социальных групп.
2. Индивиды стремятся к сохранению или повышению своей самооценки, то
есть стремятся к положительному «образу Я».
3. Оценка собственной группы определяется индивидом в результате
взаимодействия с другими группами посредством социального сравнения
ценностно-значимых качеств и характеристик.
4. Сравнение, результатом которого становится положительное отличие своей
группы от чужой, порождает высокий престиж группы, отрицательное отличие –
низкий.
Из данных постулатов выводится ряд следствий:
- индивиды стремятся к достижению или к сохранению позитивной
социальной идентичности;
- позитивная социальная идентичность основана на благоприятных
сравнениях своей группы (ингруппы) с несколькими релевантными внешними
группами (аутгруппами);
- члены группы стремятся дифференцировать, отделить свою группу от
других групп;
- существует, по меньшей мере, три класса переменных, которые оказывают
влияние на межгрупповую дифференциацию в конкретных социальных ситуациях:
а) индивиды должны осознавать принадлежность к группе как один из аспектов
своей личности, субъективно идентифицировать себя с релевантной группой; б)
социальная ситуация должна быть такой, чтобы имели место межгрупповые
сравнения, которые дают возможность выбора и оценивания релевантных качеств;
в) ингруппы не сравнивают себя с каждой мысленно доступной аутгруппой
(аутгруппа должна восприниматься как релевантная для сравнения).
38
5. Цель дифференциации – достичь превосходства над аутгруппой по
определенным параметрам. Поиск положительных отличий своей группы от
других и стремление их увеличить (так называемый ингрупповой фаворитизм)
способствует интеграции группы.
6. Если социальная идентичность не удовлетворяет членов группы, они
стремятся либо покинуть группу, к которой в данный момент принадлежат, и
присоединиться к более высоко оцениваемой ими группе, либо сделать так, чтобы
их настоящая группа позитивно отличалась от других. [См.: 87, с. 25-26].
По общему признанию, теория Г. Тэджфела заложила основы современной
теории стереотипизации, объясняющей причины возникновения
дискриминационных стереотипов (гендерных, этнических, расовых и др.).
Поскольку формирование идентичности предполагает такую степень освоение
субъектом обычаев и норм, когда индивид уже не отделяет себя в определенном
плане от группы, воспринимая происходящее как имеющее отношение не к нему
отдельному, а к определенному «мы», для социолога это «мы» становится одним
из объяснений характера групповой солидарности. Аналитические усилия при
этом направлены на то, чтобы установить и описать структуру ценностных
представлений, образующих «мы», интенсивность подобных связей, сами
ситуации возникновения или распада «мы», формы и механизмы
институционализации и репродукции «мы» и пр. [58, с. 265].
Вместе с тем, начиная с работы П. Бергера и Т. Лукмана, общим местом в
социологии стало представление о том, что социализация никогда не бывает
завершенной, соответственно идентичность и реальность не являются раз и
навсегда решенным делом. Заданная и более или менее сформированная
идентичность в современном мире вполне может быть подвергнута риску
изменения, трансформации [См.:18, с. 223]. Иными словами, структура
идентичности является не статичной конфигурацией ценностных представлений,
существующих сами по себе, без связи с другими представлениями, культурными
нормами или социальными регулятивами, но изменчивой, условной, социально
детерминируемой конструкцией [См.:58, с. 268]. Наряду с этим, тот факт, что
39
человек одновременно принадлежит более чем к одной группе, вызвал появление
понятия «множественные идентичности» [См., напр.: 156]. В результате быстрого
расширения числа сообществ, с которыми человек может себя идентифицировать,
можно говорить не только о множестве идентичностей, но и об их неустойчивости
и кратковременности, а также об отсутствии базовой “доминанты” идентичности,
или их равнозначности. Как следствие, для современного человека ответ на вопрос
“кто я?” нередко становится проблемой, то есть может иметь место так
называемый кризис идентичности.
Таким образом, хотя понятие «идентичность» по определению постулирует
тождество с «другим», идентичность изменчива и непостоянна как в
самоощущении, так и в сопоставлении с постоянно меняющимися другими
индивидами. Л. Гудков предложил представить структуру идентичности в виде
системы зеркал (включая и кривые, и льстящие зрителю), так что смотрящийся в
них может найти наиболее эффектное для себя изображение. Оно будет меняться
как в детском калейдоскопе, при каждом повороте, то есть при новом
соотношении участников действия, давая каждый раз несколько иные
конфигурации смыслов в зависимости от воображаемого характера партнера
[См.:58, с. 269].
Большинство исследователей согласны с тем, что идентичность развивается
по мере разрешения значимых социальных проблем, принятия значимых решений,
в ситуации социального выбора и предстаёт как динамическая организация
потребностей, способностей, убеждений и собственной истории. Стремясь
операционализировать понятие идентичности, Дж. Марсиа предложил
рассматривать идентичность как структуру эго, то есть внутреннюю
самосоздающуюся, динамическую организацию потребностей, способностей,
убеждений и индивидуальной истории. Данная структура проявляется
феноменологически через наблюдаемые паттерны «решения проблем». Решение
каждой жизненной проблемы вносит определённый вклад в формирование
идентичности, усиливает эго, наполняет его содержанием, раскрывает сильные и
слабые стороны. По мере принятия все более разнообразных решений
40
относительно себя и своей жизни развивается осознание индивидом своих
сильных и слабых сторон, целенаправленности и осмысленности своей жизни, то
есть складывается определенная структура идентичности. Модель идентичности
Дж. Марсиа включает в себя два параметра: 1) наличие или отсутствие кризиса –
состояния поиска идентичности; 2) наличие или отсутствие единиц идентичности
– личностно значимых целей, ценностей и убеждений. В соответствии с этим
исследователь выделяет четыре состояния, или статуса, идентичности:
1. Достигнутая идентичность. Этим статусом обладает человек, прошедший
период кризиса и самоисследований и сформировавший определённую
совокупность личностно значимых для него целей, ценностей и убеждений. Такой
человек знает, кто он и чего он хочет, и соответственно структурирует свою
жизнь. Таким людям свойственно чувство доверия, стабильности, оптимизм в
отношении будущего. Осознание трудностей не уменьшает стремления
придерживаться избранного направления. Свои цели, ценности и убеждения такой
человек переживает как личностно значимые и обеспечивающие ему чувство
направленности и осмысленности жизни.
2. Мораторий. Этот термин Дж. Марсиа использует по отношению к человеку,
находящемуся в состоянии кризиса идентичности и активно пытающемуся
разрешить его, пробуя различные варианты. Такой человек постоянно находится в
состоянии поиска информации, полезной для разрешения кризиса (чтение
литературы о различных возможностях, беседы с друзьями, родителями, реальное
экспериментирование со стилями жизни). На ранних стадиях такого поиска
человек переживает чувства радостного ожидания и любопытства.
3. Преждевременная идентичность. Этот статус приписывается человеку,
который никогда не переживал состояния кризиса идентичности, но тем не менее
обладает определённым набором целей, ценностей и убеждений. Содержание и
сила этих элементов идентичности могут быть такими же, как у людей, достигших
идентичности, различен же процесс их формирования. У людей с
преждевременной идентичностью её элементы формируются на раннем этапе
жизни не в результате самостоятельного поиска и выбора, а в основном вследствие
41
идентификации с родителями или другими значимыми людьми. Принимаемые им
ценности и убеждения могут быть сходными с родительскими или отражать
ожидания значимых людей.
4. Диффузная идентичность. Такое состояние идентичности характерно для
людей, которые не имеют прочных целей, ценностей и убеждений и которые не
пытаются активно сформировать их. Они или никогда не находились в состоянии
кризиса идентичности, или оказались неспособными решить возникшие проблемы.
При отсутствии ясного чувства идентичности люди переживают ряд негативных
состояний, включая пессимизм, апатию, ненаправленную злобу, отчуждение,
тревогу, чувства беспомощности и безнадёжности [См.:87, с.16-17.].
Вместе с тем идентичность, опосредуя институциональный, групповой и
индивидуальный уровни действия, удерживает определенность (тождественность)
социальной личности в разнородном контексте противоречивых мотивов,
интересов, желаний или социальных требований. В этом состоит как практические
значение процесса идентификации, так и методологический ресурс данного
понятия [См.:58, с. 271].
1.2.2 Механизмы идентификации
Обсуждение вопроса о механизмах идентификации предварим важным, на
наш взгляд, наблюдением Л. Гудкова, который обратил внимание на то, что
«работа идентификационных механизмов, при всем их многообразии, сводится к
квалификации или оцениванию действующим ставших для него
проблематичными, неопределенными или неизвестными обстоятельств жизни или
конкретной ситуации, то есть соотнесению их с некоторыми идеальными
представлениями, задающими образ поведения должного или желаемого,
возможного или бывшего в далеком прошлом. Идентификация может
представлять «восходящий», «повышающий» вариант отождествления индивида
(предполагающий ориентацию на референтную или статусно более высокую
группу) либо «понижающий» вариант». При этом необходимо принимать во
внимание не только прямые высказывания и самоквалификации, но и
подразумеваемые, скрытые связи, которые респондентом не упоминаются по
42
разным причинам: в силу обычая, из-за вероятности негативных санкций,
непроработанности, неартикулированности языка выражения и пр. [См.:58, с. 270].
В приведенном высказывании отметим два момента: 1) доминирующими
механизмами самоидентификации выступают вербальные средства, то есть
самоописания и высказанные самооценки; 2) обращение к невербальным
средствам самоидентификации вызвано прежде всего неумением, недоступностью,
невозможностью использовать речевые действия.
Анализу речевых практик идентификации посвящено немало работ
социологов и социальных философов. Так, Э. Гидденс описывал
самоидентичность как рефлексивный рассказ о себе в контексте множественного
выбора с учетом абстрактных систем, выделив десять качественных характеристик
такого самоописания:
1) «Я» есть рефлексивный проект, за который отвечает сам индивид; «мы
являемся тем, что мы сами из себя создаем»;
2) «Я» разрабатывает траекторию своего развития, возвращаясь к прошлому и
прогнозируя будущее; путешествие в прошлое дает эмоциональную свободу для
предвидения и созидания грядущего, построение траектории «Я» базируется на
идее многоэтапного жизненного цикла;
3) рефлексивность «Я» непрерывна. Искусство самонаблюдения заключается
в том, что индивид постоянно задает себе вопросы: «Как я могу использовать этот
момент, чтобы измениться?», «Что происходит прямо сейчас?», «Что я думаю?»,
«Что я делаю?», «Что я чувствую?», «Как я дышу?»;
4) самоидентичность проявляет себя как рассказ, в том числе и в регулярно
ведущемся дневнике;
5) самоактуализация подразумевает контроль и управление временем;
6) рефлексивность «Я» охватывает и сферу телесности индивида, так как тело
– это часть индивидуальной системы действий, а не ее пассивный объект;
7) самоактуализация индивида требует равновесия возможностей и риска,
которое достигается благодаря эмоциональному преодолению прошлого и
осмысленному прогнозированию будущего;
43
8) нравственная задача самоактуализации – это достижение аутентичности
«Я», т. е. верности самому себе; этот процесс требует интерпретации прежнего
опыта, отделения истинного «Я» от ложного;
9) жизненный цикл личности воплощен в последовательной смене этапов,
которые, в отличие от традиционного общества, почти не имеют ритуальных
меток или внешней обусловленности; движение от эпизода к эпизоду,
воплощающее в себе баланс возможностей и риска, осуществляется благодаря
«рефлексивной мобилизации траектории Я»;
10) развитие «Я», т. е. его жизненная траектория, обладает внутренней
референтностью; единственно значимой «путеводной нитью» жизненной
траектории выступает она сама [Цит. по:181, с. 14-15].
Таким образом, внутренняя целостность «Я», его аутентичность, достигается
посредством интеграции всего жизненного опыта в контексте биографического
повествования о саморазвитии.
П. Рикер предложил понятие нарративной (повествовательной) идентичности,
приложимое как к общности, так и к личности. Индивиды и общности
конституируются в их идентичности, создавая и разрабатывая нарративы, которые
становятся для них их действительной историей. Привлекая к рассмотрению
коллективных и индивидуальных идентичностей библейские, исторические и
литературные нарративы, ученый показывает, что история жизни индивида и
общности конституируется посредством серий исправлений, которым
подвергаются предыдущие нарративы: история всегда происходит из истории
[См.: 157].
В теориях социально-конструктивистской и интеракционистской
направленности проблема идентичности рассматривается в контексте ее
конструирования, то есть описание любой общности как социальной конструкции,
возникающей и развивающейся в результате целенаправленных усилий со стороны
людей и создаваемых ими институтов.
Так, нарративная идентичность конституируется непосредственно в речевых
практиках повседневных рассказов. Это локальная и прагматически размещаемая
44
идентичность, которая производится и изображается посредством
автобиографического рассказа и вследствие этого является лишь частичной
идентичностью, не реализующей самости личности и не обладающей
онтологическим статусом. Как отмечает Рождественская Е. Ю., производство
идентичности происходит в дискурсивных практиках повседневной интеракции,
под которыми понимаются формы языкового поведения. Дискурсивные практики
в обществе – распространенные, часто рутинизированные решения для
повторяющихся коммуникативных задач и проблем. Они имеют центральное
значение, позволяя ответить на вопрос, как идентичность воспроизводится в языке
и как осуществляется самоутверждение в повседневности. Тем самым
рассказывание может быть рассмотрено как специфическая форма дискурсивной
практики, которая через вербальное отображение опыта времени, композиционных
усилий и потенциала реинсценирования открывает особые возможности
дискурсивного производства и управления идентичностью. Конкретным
субстратом эмпирического изучения нарративной идентичности являются
автобиографические рассказы, в которых акторы рассказывают о пережитом. Они
не вполне адекватны воспоминаниям как вербальные продукты, поскольку
подлежат прагматическим и синтаксическим правилам, ситуативно и темпорально
определенны. Для анализа они описываемы как данные в форме протокола аудио-
или видеозаписи. При этом возникает вопрос о том, какие данные считать
релевантными для задачи эмпирического изучения нарративной идентичности?
При ответе на него необходимо исходить из того, что эмпирическое исследование
идентичности возможно на основе конкретных манифестаций того способа, каким
личность достигает самопонимания и интеграции в трех аспектах:
● в темпоральном измерении – структурация и взаимосвязи
автобиографических опытов, смыслов с временным изменением;
● в социальном измерении – относительно активности субъекта в социальном
позиционировании, социальной мобильности;
45
● в саморефлексивном измерении – обоснование своего Я, представлений о
целостности, связности биографического конструкта с различными аспектами
личностного опыта. [160, c.19-20].
Вместе с тем, как уже говорилось, не все аспекты своего «Я» человек
способен высказать в речи. Э. Тоффлер в своей работе «Шок будущего»
убедительно показал, что важнейшим для современного западного человека
ресурсом самоидентификации выступает просмотр–отбор вещей, мест для
посещения, идей, друзей, употребляемой лексики, иначе говоря, стиля жизни.
«Поскольку стиль жизни стал способом самоидентификации с той или иной
субкультурой, подобное взрыву увеличение числа субкультур в обществе
принесло с собой так же подобное взрыву увеличение числа жизненных стилей.
Следовательно, то, как мы выбираем стиль жизни и что это означает для нас,
оказывается одним из основных вопросов психологии завтрашнего дня, поскольку
выбор жизненного стиля, сознательный или неосознанный, в огромной степени
предопределяет будущее человека, внося в его жизнь определенный порядок,
определенные принципы и критерии выбора» [См.: 186, с. 331]. Тоффлер особо
подчеркивает, что большинство из нас в действительности не думает о своей
жизни в терминах стиля жизни, и у нас часто бывают трудности при объективном
разговоре об этом. Еще больше трудностей возникает, когда мы пытаемся
сформулировать структуру ценностей, заключенных в нашем стиле [Там же, с.
339]. «Если кто-нибудь станет подробно изучать наше поведение в этот момент, то
обнаружит резкое возрастание того, что можно назвать Индексом Быстротечности.
Темп оборота вещей, мест, людей, организационных и информационных
отношений резко возрастает. Мы ощущаем, что нам надоело шелковое платье, или
галстук, или старый светильник Тиффани, ужасный викторианский столик на
ножках-лапах — все эти символы наших связей с субкультурой прошлого. Мы
начинаем, шаг за шагом, заменять их новыми вещами, символическими для нашей
новой самоидентификации. Тот же самый процесс происходит и в нашей
социальной жизни — “пропускная способность” людей увеличивается. Мы
начинаем отказываться от идей, которых придерживались (или объяснять, или
46
осмыслять их по-новому). Мы вдруг оказываемся свободными от всех
ограничений, которые накладывали на нас наша субкультура или стиль. ...Именно
в такие периоды мы демонстрируем огромные колебания, которые инженеры
называют “поисковым поведением”. Сейчас мы наиболее чувствительны к
призывам новых субкультур, к их требованиям и требованиям других, которые
сотрясают воздух. Мы склоняемся то к одному, то к другому. Могущественный
новый друг, новое увлечение или идея, новое политическое движение, некий
новый герой, возникший из недр средств массовой информации, — все это в такой
момент затрагивает нас с особой силой. Мы более “открыты”, более неуверенны,
более готовы к тому, чтобы кто-то или какая-то группа говорила нам, что делать,
как вести себя [Там же, с. 343].
В приведенном отрывке особый интерес представляет описание того, что
можно было бы назвать «идентификационными функциями» предметной среды, то
есть, становясь потребителем определенных вещей, знаков, идей, человек строит
свою линию поведения, демонстрирует себе и другим символическое значение
своих действий.
Невербальными ресурсами социальной идентичности могут выступить вещи и
интерьеры не как предметы потребления, но как средства репрезентация
идентичности их владельца [См.:147]. В своем исследовании А. Печурина
показывает, что «…предметы, хранящиеся или выставляемые напоказ в доме,
выражают связь как с индивидуальным опытом жильцов, так и с коллективным
чувством прошлого и воспоминаниями, которые являются одновременно
частными и общественными. Окружая себя значимыми материальными
объектами, индивид чувствует и выражает свою принадлежность к определенной
нации. Он будто вольно или невольно организует свою повседневную жизнь
согласно неформальным правилам: тому, как «там» принято делать что-то «по-
нашему». Таким образом, материальные предметы выступают своеобразными
«жизненными документами», изображающими и репрезентирующими
повседневную культуру мигрантов» [147, с.213].
47
В ряду невербальных средств социальной идентификации, безусловно, особое
место принадлежит визуальным репрезентациям людей и прежде всего
фотографии.
1.2.3 Фотография как средство социальной идентификации
Важнейшее значение фотографии в процессе идентификации определяется
ее репрезентативной природой. Социальное взаимодействие предполагает, что
стороны предъявляют себя друг другу, фотография свидетельство такого
предъявления. Причем идентификационным ресурсом обладают все виды
фотографического поведения: само фотографирование, позирование фотографу,
наконец, рассматривание фотографий. К числу характерных особенностей этой
визуальной практики, непосредственно связанных с процессами социальной
идентификации, на наш взгляд, следует отнести, во-первых, то, что фотография
претендует на изображение реальности; во-вторых, то, что фотография с
неизбежностью создает коммуникативное событие: фотоизображение должно
быть показано и рассмотрено;
Остановимся подробнее на каждой из этих особенностей.
Р. Барт в работе «Фотографическое сообщение» специально отметил то, что
он назвал парадоксом фотографии. Неискушенным зрителем фотографический
образ обычно признается как наиболее достоверная репродукция реальности,
содержанием фотографического сообщения выступает сцена как таковая, в ее
буквальной реальности, «…конечно, изображение не реальность, но оно
является ее точным аналогом, и эта точная аналогия для повседневного мышления
как раз и служит определяющей чертой фотографии» [8, с. 378-379]. Барт
подчеркивал, что речь идет о веровании, об убежденности, об удостоверении того,
«что виденное мной действительно было». Подобная уверенность, по мнению
Барта, вызывается техническими условиями производства изображения, тем, что
фотография является следствием «химического откровения объекта». Тем самым
фотографическое сообщение приобретает своеобразный статус сообщения без
кода [См.: 8, с. 380]. Но такая установка зрителя и превращает фотографию в
средство идентификации. Как бы тривиально это не звучало, но уверенность
48
человека, рассматривающего фотографии со своим изображением, в том, что на
фотографии изображен именно он, что он выглядел именно так, как запечатлен на
снимке, фиксация по фотографиям изменений своей внешности с годами и, тем
самым, заключение об изменении своей личности, есть не что иное, как одна из
процедур самоидентификации. В этом смысле фотография – это своеобразное
зеркало, или, говоря словами Барта, «зеркало с памятью», а история фотографии
продолжает социальную историю зеркала.
Вместе с тем, продолжает Барт, такая чистая «денотативность» фотографии,
ее аналогическая точность и полнота, одним словом ее «объективность» это
миф. Фотографическое сообщение также обладает коннотацией. Эту коннотацию
не всегда удается сразу уловить в рамках самого сообщения (она является
одновременно незримой и действенной, ясной и имплицитной), но ее уже можно
вывести из некоторых явлений, имеющих место в ходе создания и восприятия
сообщений. «…Парадокс фотографии заключен в сосуществовании двух
сообщений одно из них без кода (фотографический аналог реальности), а другое
с кодом («искусство», обработка, «письмо», риторика фотографии); со
структурной точки зрения парадоксален, конечно, не сам тайный сговор
денотативного сообщения с коннотативным <…> парадоксально то, что
коннотативное, кодированное сообщение развивается на основе сообщения без
кода.:. <…> Этот структурный парадокс совпадает с другим, этическим: желая
быть «нейтральными и объективными», мы стараемся тщательно копировать
реальность, подразумевая, что такая аналогическая копия фактор, противящийся
вторжению ценностных значений <…> Как же тогда фотография может быть
одновременно «объективной» и «инвестированной», природной и культурной?
Ответить на этот вопрос, возможно, удастся, определив, каким именно образом
денотативное и коннотативное сообщения проникают друг в друга. Коннотация, то
есть наложение вторичного смысла на собственно фотографическое сообщение,
осуществляется на различных уровнях создания фотоснимка (отбор, техническая
обработка, кадрирование, верстка); в общем и целом ее задача закодировать
фотографический аналог; соответственно представляется возможным выделить
49
приемы коннотации, необходимо только помнить, что они не имеют ничего
общего со знаковыми единицами.<…> Приемы эти известны; здесь мы лишь
переформулируем их в структурных терминах. Строго говоря, три первые из них
(монтаж, позу, объекты) следовало бы отделить от трех последних (фотогении,
эстетизма, синтаксиса), поскольку при этих трех первых приемах коннотация
создается изменением самой реальности, то есть денотативного сообщения; <…>
тем не менее мы включаем их в число приемов фотографической коннотации,
потому что они все же пользуются престижем денотации фотография позволяет
фотографу скрадывать постановочный характер снимаемой им сцены [8, с. 381-
382].
Приведенные рассуждения Барта, на наш взгляд, раскрывают механизмы
конструирования визуальной реальности средствами фотографии:
фотографические изображения человека, создаваемые по законам постановки,
самими приемами коннотации конституируют иную – задаваемую фотографом –
(визуальную) реальность. Но будучи восприняты человеком как точная аналогия
реальности (пусть подвергнувшаяся определенному сокращению и упрощению),
они начинают функционировать как условия его деятельности, учитываться им
при взаимодействии с другими, запуская процессы групповой и личностной
идентификации.
«Фотографический сегмент» визуальной реальности (вос)производится
благодаря активности субъектов, вовлеченных в эту деятельность. Вслед за Бартом
в качестве самостоятельных субъектов фотографической деятельности можно
назвать фотографирующего (Operator), снимающегося (Spectrum),
рассматривающего снимки (Spectator) [9, с.19]. Визуальные практики,
свойственные каждой из названных групп (фотографирование, позирование,
рассматривание фотографий), становятся для них условием и средством
производства (конструирования) идентичности и самопрезентации.
Опишем особенность процесса и процедур идентификации субъектов
фотографической деятельности, опираясь на анализ содержания фотографического
сообщения и социальных функций фотографии, содержащийся в работах Р. Барта
50
и П. Бурдье, а также российских исследователей их творчества (См.: 8; 9; 10; 41;
98; 101; 102).
Фотографирующий (Operator)
Среди огромного числа фотографирующих людей наиболее остро проблема
социальной идентификации, то есть необходимость подтверждения своей
принадлежности к определенному социальному сообществу, касается группы
профессиональных фотографов, а также тех, кого иногда называют фанатами-
любителями.
Для профессиональных фотографов основным занятием является создание
фотографий по заказу. Заказчиками могут выступать различные организации: от
органов власти, СМИ, школ, академических институтов до коммерческих фирм,
правовых инстанций, медицинских учреждений, почтового ведомства и т. д.
Размышляя об особенностях деятельности профессиональных фотографов,
исследователи отмечают, что к фотографирующему сообществу практически не
применима характеристика «профессионал» в смысле представителя особого
социального слоя, владеющего теоретическими знаниями, подтвержденными
сертификатами о полученной подготовке и наделенного властными полномочиями
совершать профессиональные действия, которые другие не могут осуществлять.
Фотографу не нужны дипломы для того, чтобы практиковать профессию [См.:98,
с.17]. Но если формальное профессиональное образование не является
необходимым условием принадлежности профессиональной субкультуре, как
происходит отграничение профессионалов от непрофессионалов?
Необязательность формального образования для профессионального фотографа
рождает проблему неопределенности его статуса, или, говоря языком Бурдье,
недостаток легитимации [См.: 98, с.19]. Фотографу непрерывно нужно доказывать,
что он фотограф, и доказывать это как своим заказчикам, так и своему сообществу.
Очевидно, что это идентификационная проблема. Как же осуществляется в данном
случае групповая идентификация?
Наиболее эффективными идентификационными механизмами для этой
группы, как представляется, становятся дискурсивные практики власти и высокого
51
искусства. Первые реализуются посредством формирования того, что можно
назвать институтом экспертизы. Полагая, что можно говорить о фотографической
власти (по аналогии с властью интеллектуалов), В. Л. Круткин пишет:
«Интеллектуалы обычно выступают экспертами по правильному усвоению
картины мира. Фотографические сайты, где устраиваются выставки и
конференции любителей, имеют своих экспертов. С их участием складываются
правила видения кадром, производимые продукты дифференцируется по жанрам,
вырабатывается сам язык, на котором станут говорить о фотографии. С их
участием складываются правила приема в члены клубов. Выставлять баллы по
поводу работ на выставке могут только посвященные. Это только кажется, что
суждения вкуса (типа: «это мне нравится») возникают в голове посетителя сайта.
Они обретаются в более широком поле культуры, где будут и эксперты, и
кураторы выставок, преподаватели фотографических школ, их студенты,
редакторы журналов и т. д. Многие города имеют фотографические сайты своих
любителей, с выставками, регулярными обновлениями, упорядоченным
членством, откликами, обсуждениями» [98, с. 18]. Ответ на поставленные в
цитируемой статье вопросы – «почему они часто предпочитают выступать под
псевдонимами, почему их суждения зачастую резки, чем объяснить их готовность
низвергать любую предъявляемую извне норму, как норму прежде принятого типа
визуальной репрезентации, так и норму грамматического комментирования?» [там
же] – может заключаться именно в том, что описанные коммуникативные
практики реализуют властное воздействие на публику с целью конструирования
идентичности фотографа-профессионала.
Для понимания механизмов идентификации, используемых этой группой,
ценность представляет наблюдение П. Бурдье относительно того, что хотя внутри
профессионального сообщества могут иметь место конфликты и противостояния,
что в их среде можно найти как сторонников авангарда, так и ортодоксов, однако
их всех объединяет помещение фотографии в мир искусства, в классическом
понимании последнего, где абсолютизируется фигура «творца», порождающего
«шедевр». Такое понимание искусства дистанцируется от учета исторического
52
контекста его бытования [См.: 98, с.18]. Восприятие профессиональными
фотографами себя людьми искусства многие исследователи объясняют тем, что
при становлении фотографии от них требовалось немалое художественное
воображение. Так, начиная с 1840-х гг., когда в Нью-Йорке и Лондоне появились
первые фотоателье, многие десятилетия профессиональные фотографы делали
индивидуальные и групповые снимки на фоне нарисованного пейзажа, специально
снимали ландшафты и архитектурные сооружения, существовала услуга
подкрашивания фотографии миниатюристом. Они сами готовили себе эмульсию
для негативов. Сложность этого процесса сближала фотографа и художника,
одновременно эта сложность была ограничителем для вхождения новичков в
профессиональную группу. С развитием техники эти ограничения снимаются.
Перестав готовить для себя негативы, фотографы еще оставались виртуозами
глубины резкости, определения выдержки и диафрагмы. С появлением цифровой
техники и это исчезает. Исчезает колдовской мир темной комнаты и красного
фонаря. Техническое продвижение отнимает у группы ее единство, специалисты
других сфер быстро усваивают технологии письма светом [См.:98, с.19]. На этом
фоне эффективным приемом самоидентификации и становится отнесение себя к
сфере высокого искусства. В профессиональном сообществе культивируются
высказывания, авторы которых выделяют особые качества, ценные для
творческого воображения и свойственные только выдающимся фотографам (что и
отличает их от любителей). В числе этих качеств: быстрота действия,
непревзойденная способность точно улавливать наиболее сложные, конкретные,
индивидуальные и мимолетные зрительские впечатления, способность придавать
фотокадру сюжет [См.:68]. И «дело не в создании бесконечного потока
изображений мир и без того накопил столько картин, что уже не может уделять
всем им необходимое внимание, дело в возможности полнее и разностороннее
использовать увлекательные особенности видения нашего зрения и выяснить,
насколько обозрим через его окошко мир. Интуитивно принимаемому решению
нажать на спуск предшествует тысяча предварительных решений, начиная с
общих (и весьма важных) решений. Например, должен ли фотограф остаться дома
53
или поехать в Чичен-Ицу, и кончая частными (и весьма важными) решениями
например, не лучше ли немного согнуть колени и отклониться влево на десять
сантиметров? Если полученный негатив окажется достойным внимания, нужно
будет вспомнить, какой была обстановка в момент съемки: насколько сумрачным,
ярким или радостным было освещение, насколько гладкой или зернистой казалась
фактура, какие узоры и контрасты образовали линии, объемы и поверхности.
Нельзя по-разному высказать одно и то же. Изменение формы есть и изменение
содержания» [68].
В приведенном высказывании показательна формула переосмысления места
профессионала в мире массового распространения фотокамеры: «Большинство
фотографов, обучавшихся своему делу в сравнительно неторопливые времена
фотоаппарата со штативом, впали в состояние близкое к панике при появлении
малоформатных камер. Даже старинный фотоаппарат предлагал достаточно
богатый ассортимент возможностей, но с появлением «Лейки» исчезло, казалось,
само понятие невозможного, голова кружилась, глаза разбегались от возникшего
изобилия вариантов. Однако современные фотомастера научились справляться с
многовариантностью малоформатной камеры и пользоваться ею
целенаправленно» [Там же]. Важным для понимания данного механизма
идентификации является описанное С. Зонтаг принципиальное отстранение
фотографа от своей модели, ее опредмечивание в процессе фотографирования:
«Процесс фотографирования сравним с приобретением предметов; более того,
фотографирование порождает новое отношение человека к миру как к объекту, и
отношение, вызывающее у фотографа чувство, родственное знанию <…> процесс
фотографирования фактически исключает возможность для фотографа принять
участие в том или ином событии в своем первичном человеческом качестве.
Вспомним такие примеры фотожурналистики, как снимок вьетнамского бонзы,
протягивающего руку к канистре с бензином, или партизана в Бенгалии,
прокалывающего штыком свою связанную жертву. И тем не менее посредством
события-съемки фотограф все-таки в некоторой степени принимает участие в
происходящем: ведь съемка предполагает наличие интереса в происходящем.
54
Фотограф заинтересован в происходящем, даже если его интерес ограничен лишь
желанием событие продлить до тех пор, пока ему не удастся сделать “хороший
снимокˮ; он заинтересован во всем, что придает снимаемому им событию
“фотогеничностьˮ, включая боль или несчастье, переживаемое его моделью» [85,
с.56-57].
Таким образом, владение риторическими приемами конструирования
уникальной неповторимой фотографической реальности, позволяющее говорить о
себе как о тех, кому «удается выявить новые трассы видения» [98, с. 23], является
важнейшим средством группой самоидентификации фотографов-профессионалов.
К группе любителей-фанатов (т. е. непрофессионалов, серьезно
занимающихся фотографией) Круткин В. Л. предлагает отнести так называемых
продвинутых любителей, снимающих тысячи кадров в год с изображением очень
широкого круга людей и событий без каких-то устремлений к доходу. «Эта группа
фотографов объединяет представителей самых разных возрастов и профессий.
Чаще всего его члены эволюционируют в сторону выставочной фотографии – это
предмет их тайных мечтаний («Стать бы этаким Хельмутом Ньютоном!», «Ну
прям как Саудек!» (из высказываний любителей на форуме). С их подачи
циркулирует распространенное мнение о фотографии как о художественной
практике и виде искусства» [98, с.17].
Как видим, не располагая властным ресурсом экспертного знания, в своем
самоопределении представители данной группы предпочитают
идентификационный ресурс, связанный с реализацией художественного видения
реальности, с фотографической изобретательностью, с фотографией в
этимологическом значении этого термина как «письмо светом». В этой
устремленности они сближаются с группой профессиональных фотографов.
Снимающийся (Spectrum)
Если идентификационные практики профессиональных фотографов
направлены в первую очередь на конструирование своей уникальности (групповой
и личностной), своего рода «герметичности», своей «посвященности» в знание,
недоступное другим («непосвященным»), то процесс самоидентификации тех, кого
55
снимают, имеет другой вектор, а именно продемонстрировать соответствие
групповой и культурной норме, в этом смысле «быть похожими на других».
Подчеркнем, что речь идет не о скрытой съемке, когда люди не знают, что их
фотографируют, но о ситуациях, когда кто-то по своему желанию или под
давлением позирует фотографу. В этот момент фотографирующиеся и
сталкиваются с проблемой самоидентификации. Содержание этой проблемы, на
наш взгляд, выражено в высказывании П. Бурдье о том, что событие
фотографирования – это важная часть системы социальных ритуалов, в которых
осуществляется познание и социальный контроль, устанавливаются границы
группы, фиксируется иерархия [См.: 98, с. 21]. Бурдье предложил следующее
толкование социального смысла позирования для фото: «…фотография есть не что
иное, как образ интеграции группы» [Цит. по: 41, с. 150]. Сфотографироваться и
затем взять фотографию – означает унести с собой образ группы в момент ее
наивысшей интеграции. «Часто люди на фотографии стоят в обнимку, тесно
прижавшись друг к другу, – принимая такие позы, они полусознательно дают
запечатлеться групповой солидарности. Социальная интеграция группы и ее
ритмы, связанные с особыми событиями, местом и временем, жестко управляют
практикой фотографирования. Это особенно четко проявляется в сельской среде,
среди крестьян и сельской буржуазии с их более традиционными ценностями. В
интервью они говорят о том, что не находят смысла просто фотографировать друг
друга или улицу поселка или что-то еще, тем самым сводя фотографию только к
особым, чётко предписанным случаям, когда они действительно видят в этом
смысл» [41, с. 150].
Референтные для позирующего человека группы и моменты жизни группы,
представленные на снимках, могут быть любыми, фотоизображения могут быть не
такими архаичными, как на давних фотографиях, однако сама функция
воспроизводства своей принадлежности определенным группам и сообществам
посредством фотографии, остается той же самой.
Еще на одну идентификационную задачу, решаемую в процессе позирования
для фото, обратила внимание С. Мельшиор-Бонне. Сравнивая социальные
56
функции фотографии и зеркала, она отмечает: «В зеркало не смотрятся, нет, это
зеркало всматривается в нас, это зеркало диктует свои законы и служит
нормативным орудием, в котором, так сказать, измеряются соответствия
приличиям и светскому своду правил поведения» [118, с.208], иначе говоря, в
зеркало смотрят не только для того, чтобы разгадать свое непонятное Я, но для
того, чтобы сделать реальным тот образ, который другие желают увидеть.
Приведенное наблюдение развивает идеи П. Бурдье о конструировании своей
принадлежности группе благодаря следованию нормативным ожиданиям,
укорененным в культуре и группе. Нередко звучащие реплики в ответ на
предложение сфотографироваться, например такие: «я сегодня не в форме», «я не
готов/а», «я не фотогеничен/фотогенична» и т. п., обнаруживают (пусть не всегда
ясную самому говорящему) потребность в групповой самоидентификации, то есть
стремление соответствовать стереотипному образу, или, иначе говоря,
предполагаемым ожиданиям тех, кто будет рассматривать фото. При этом для
снимающегося не имеет принципиального значения, реализуется фотография как
открыто постановочная или фотограф предлагает позирующим симулировать
естественное поведение (то есть вести себя, как если бы фотографа не было). В
любом случае на выбор демонстрируемой позы фундаментальное влияние
оказывают представления о нормах, ожиданиях и поведенческом стиле той
группы, с которой снимающийся в данный момент себя идентифицирует.
Этот конфликт ожиданий и состояний человека, которому предстоит стать
«видимым» и потому он начинает сам себя воспринимать глазами «своей группы»,
для которого фотограф оказывается носителем комплекса установок, правил и
норм той группы, с которой он себя идентифицирует, описан в работе Р. Барта
«Camera lucida»: «…Как только я чувствую, что попадаю в объектив, все меняется:
я конституирую себя в процессе «позирования», я мгновенно фабрикую себе
другое тело, заранее превращая себя в образ <…> Я хотел бы, чтобы мой внешний
вид, переменчивый и амортизированный в зависимости от возраста и
обстоятельств в тысяче меняющихся снимков, всегда совпадал с моим «я»
(отличающимся, как известно, особой глубиной). Но утверждать можно как раз
57
противоположное: это «я» никогда не совпадает с моим изображением; ведь
изображение тяжело, неподвижно, упрямо (поэтому общество и опирается на
него), а «я» легко, разделено, распылено, оно как сфера, которая не стоит на месте,
постоянно меняя положение в сосуде моего тела <…> Фотопортрет представляет
собой закрытое силовое поле. На нем пересекаются, противостоят и деформируют
друг друга четыре вида воображаемого. Находясь перед объективом, я
одновременно являюсь тем, кем себя считаю, тем, кем я хотел бы, чтобы меня
считали, тем, кем меня считает фотограф, и тем, кем он пользуется, чтобы
проявить свое искусство. <…> я непрестанно имитирую самого себя, и в силу
этого каждый раз, когда я фотографируюсь (позволяю себя сфотографировать),
меня неизменно посещает ощущение неаутентичности, временами даже
поддельности, какое бывает при некоторых кошмарах. В плане воображения
фотография (та, которая соответствует моей интенции) представляет то довольно
быстротечное мгновение, когда я, по правде говоря, не являюсь ни субъектом, ни
объектом, точнее, я являюсь субъектом, который чувствует себя превращающимся
в объект: в такие моменты я переживаю микроопыт смерти (заключения в скобки),
становлюсь настоящим призраком» [9, С. 20, 22, 25-26].
Таким образом, владение телесными и поведенческими практиками
имитирования, инсценирования визуального образа, соответствующего
стереотипным представлениям о нормах и предпочтениях той или иной группы,
становится решающим условием социальной идентификации субъектов,
позирующих для фото.
Рассматривающий снимки (Spectator)
Нам уже приходилось говорить, что рассматривание признается первичной и
доминирующей над прочими практикой самоидентификации. Человек становится
существующим для себя лишь тогда, когда может себя увидеть. Вместе с тем для
того, чтобы рассматривание фотографий (не зависимо от того, изображен на них
сам рассматривающий или нет) «запустило» процесс социальной идентификации,
необходим ряд условий.
58
Важнейшим условием актуализации процесса социальной идентификации при
рассматривании является эмоциональная вовлеченность зрителя в содержание
снимка. Пока рассматривающий остается в роли «социального исследователя», то
есть должен узнать и понять, что изображено, или, говоря словами Р. Барта, видит
на фотографии денотативный срез «самой реальности», механизмы
самоидентификации задействованы незначительно. Но как только рассматривание
начинает сопровождаться достаточно сильными эмоциями, сменяющие друг друга
типы изображений вызывают к жизни пласты сменяющих друг друга систем
чувственностей, можно утверждать, что изображение коснулось личностно
важных переживаний, центром которых обычно является самоопределение
человека в отношении значимых для него людей и групп, соответствие (или
несоответствие) системе ценностей человека того, что изображено. На это
обращает внимание Е. Петровская, когда пишет: «…узнавание – механизм, не
имеющий отношения ни к производству знания, ни к обусловленным им
категориям истины и лжи. Узнавание – это способ включения памяти, в том числе
и коллективной, как аффекта» [144, с. 38.].
Размышляя о содержании идентификационного процесса, кажется, что
рассматривающий решает задачи, аналогичные тем, с которыми сталкивается
человек фотографирующийся, а именно – соответствовать нормам и ожиданиям
той группы, глазами которой (через посредничество фотографа) он себя
воспринимает. Об этом высказывался П. Бурдье: «То, что фотографируется, и то,
что читается на фотографиях, – не индивиды с их характеристиками, но
социальные роли – это образ мужа, образ ребенка на первом причастии, образ
солдата, образ американского дяди, образ тети из Савиньяно. Фотография,
посланная дочерью, это не изображение ее мужа, но скорее символ ее социального
успеха» [Цит. по: 101, с.45].
Вместе с тем изменение фотографического поведения (не снимающийся, а
рассматривающий) влечет за собой изменение точки зрения: если для Spectrum
значение имеет соответствие ожиданиям других, то для Spectator – то, кем я себя
считаю, насколько фотографический образ (самого себя или других лиц и
59
объектов) соответствует (или не соответствует) моим ценностным ориентирам,
моим представлениям о важном, допустимом, прекрасном и пр.
В этой связи, на наш взгляд, важнейшей особенностью идентификационной
составляющей процесса рассматривания является то, что можно назвать «игрой с
самоидентичностью». Тот факт, что человек видит себя на фотографии, приводит
к возникновению своеобразной дистанции по отношению к самому себе, что, в
свою очередь, открывает для него возможность манипулирования своими
фотографическими образами (ретушируя фото, удаляя из фотографий
изображения людей, вызывающих неприятные эмоции и пр.). Особым видом такой
«игры» можно признать уничтожение снимков, на которых человек себе не
нравится. Повсеместное использование колоссальных возможностей графического
редактора Photoshop при работе с собственными изображениями обнажает
идентификационные задачи, которые встают перед Spectator. Как заметила в своей
статье Н. Сосна, фотография способствует выявлению того, что и «Я» это
конструкт, границы которого не закреплены. И только «интенция» зрителя, только
работа его памяти, способная наделять предметы значением, позволяет
действительно увидеть фотографию и того, кого она «изображает». Иными
словами, только взгляд зрителя, находящегося в своем настоящем, может заново
собрать утерянный было порядок, что и будет означать «увидеть» фотографию
[См.:180].
Не менее важный идентификационный смысл имеет совместное
рассматривание фотографий. Анализируя меняющееся место фотографии в
повседневной жизни, исследователи отмечают, что с распространением цифровых
технологий рассматривание фотографий утрачивает свою мемориальную
функцию, направленную на сохранение семейного визуального наследия, и
предстает как коммуникативная практика: фотоснимки все чаще используются для
«живой» коммуникации, а не для хранения фотографий «жизни»» [Cм.: 244, p. 57,
58]. Такими «живыми» сообщениями могут быть улыбка, отправленная по
мобильному телефону подруге, фото из поездки или с работы, прикрепленные к е-
мейлу, фото с концерта, сделанное с помощью мобильного телефона и тут же
60
отправленное друзьям. Фотографии становятся разговорным языком,
превращаются, говоря словами Жозе Ван Дийка, в «новую валюту социальной
интеракции». Изображения, подобно словам, циркулируют между людьми и
группами, чтобы установить и подтвердить социальные связи между ними. Иногда
фото сопровождаются поясняющими заголовками, как бы восполняя
отсутствующий голос. Так, поклонник на концерте любимой группы делает
снимок, добавляет слово «зацените» и немедленно отсылает сообщение своим
друзьям. Превращение фото в визуальный язык, в своеобразный канал
коммуникации, приводит к снижению ценности отдельных снимков и
одновременно увеличению значения самой визуальной коммуникации. Обмен
фотографиями реализуется как разговор: фотографирование, отправка и получение
снимков происходит в реальном времени, причем изображения, которыми
обмениваются, не предназначены для того, чтобы быть напечатанными,
заархивированными, организованными в альбомы. Если представители старших
поколений, занимающиеся фотографией, тратили много времени и сил на то,
чтобы собирать, хранить, создавать коллекции из фотоснимков, неоднократно
рассматривая их при встрече с родственниками, то для современных молодых
людей снимок интересен не как материальный объект, но как обмен опытом.
Наличие фотокамер в телефонах усиливает это новое коммуникативное измерение
цифровой фотографии. Кадры, циркулирующие по сотовой связи, обычно
передают короткое сообщение. Они служат скорее для того, чтобы «связаться»
или «быть в контакте», чем «запечатлеть реальность» или «сохранить их на
память». Тем самым фотографирование и рассматривание фотографий в группе
«массовых фотографов» оказываются сторонами одного и того же
коммуникативного процесса.
Вместе с тем, на наш взгляд, изменение форм коммуникативного поведения
при рассматривании фотографий, не влияет на идентификационное значение этой
коммуникативной практики, имеющей отношение как к «игре с идентичностью»,
так и к укреплению групповой солидарности (семейной группы, группы друзей
или сверстников). Если люди старшего возраста рассматривают фотоальбомы со
61
снимками семейных событий и путешествий, то тинейджеры, зарегистрированные
в социальных сетях, создают фотопапки, в которые загружают свои и своих друзей
изображения в разнообразных ситуациях (этакое своеобразное «дефилирование» с
соответствующими комментариями), а затем рассылают свои фотографии в
качестве поздравлений или сообщений с целью (вос)производства социальных
связей (совместное фото с функцией «подтвердить, что я присутствую на этой
фотографии»). Последние мгновенно «обрастают» комментариями и новыми
значениями, тем самым становясь частью разговора, конституирующего
социальную связь между участниками интернет-коммуникации.
Итак, фотографирование как вид визуальной деятельности проясняет
идентификационный потенциал визуальных репрезентаций, оказывающих
глубокое влияние на процессы личностной, ролевой, групповой идентичности.
«Фотография как медийный инструмент создает определенное «смешение»
интимности и представления (перформанса), адресованного внешнему зрителю, в
котором мы участвуем более или менее добровольно» [27, c. 15].Отбор объекта,
ракурса съемки и формирование кадра профессиональным фотографом,
подготовка к съемке и позирование фотографирующегося, узнавание и
эмоциональное принятие/непринятие полученного изображения
рассматривающим все эти действия представляют собой часть процесса
самоидентификации, свойственного разным социальным группам, вовлеченным в
фотографическую деятельность.
1.3 Методы анализа визуальных данных
Методы сбора, анализа и представления данных в не меньшей степени
конституируют область визуальной социологии, чем определение ее предметных
границ, понятийного аппарата и проблемных областей. Обоснование этого будет
представлено в данном параграфе. При этом нас будут интересовать прежде всего
методические и методологические ресурсы визуальной социологии в
исследовании социальной идентичности.
62
1.3.1 Социологические визуальные данные
В современной социологии общепризнанным является представление о том,
что социологическая информация – это сложный интеллектуальный продукт,
который порождается с помощью специальных методических инструментов.
«Информационные основания, на которые опирается научный анализ, никогда не
даются нам готовыми, но всегда оказываются продуктом конструирования. <…>
Применительно к социологической науке Мосс и Фоконэ формулируют это
следующим образом: “Наблюдение социальных феноменов не является, как может
показаться на первый взгляд, сугубо описательным методом. Социология не
только описывает факты; но делает большее — в действительности, она их
конструирует. Для социологии, как и для любой другой науки, не существует
сырых фактов, которые можно было бы, так сказать, только фотографировать.
Научное наблюдение опирается на методически отобранные и изолированные от
прочих, т. е. абстрактные, феномены ( Faucon - net , Mauss , 1901, p . 32)» [110,
с.147]. Таким образом, социологические эмпирические данные предстают как
информация о социальных объектах, преобразованная в результате активного
воздействия методического инструментария.
В визуальной социологии конструирование исследователем данных особенно
заметно как при отборе визуальной информации для анализа и интерпретации, так
и при целенаправленном создании изобразительных текстов, соответствующих
социологическим проблемам. Такое «откровенное» конституирование визуальной
реальности посредством методических процедур отбора и анализа визуальных
данных, когда, по замечанию П. Штомпки, от визуального социолога требуется
«активное наблюдение, проявление и упорядочивание наблюдений посредством
мобилизации видения и концентрации взгляда» [206, с. 17], на наш взгляд,
является принципиальным условием самоопределения визуальной социологии как
самостоятельной отрасли социологического знания.
П. Штомпка отнес к социологическим визуальным данным те видимые для
глаза (а затем и для фотоаппарата) внешне наблюдаемые объекты или явления,
которые дают возможность более глубокого, описательного или обобщающего
63
познания общественного мира, на которых человек и коллективы оставили
отпечаток своей активности или присутствия. [См.: 206, с. 30]. Уточняя свое
понимание социологических визуальных данных, он пишет: «Действительно ли
турист…, который спешил за гидом, держа в руках фотокамеру и время от
времени механически нажимал на спуск, занимался визуальной социологией,
поскольку на его снимках неизбежно оказывались какие-то люди и какие-то
фрагменты людского городского окружения? Нет и по трем причинам. Во-первых,
он не делал снимки с социологическим намерением, т. е. руководствуясь каким-
либо вопросом или проблемой, вытекающими из ранее сложившихся
теоретических воззрений на общество, которым соответствовали бы выбор темы,
композиции снимка, способ кадрирования…и другие композиционные и
технические меры. Во-вторых, он намерен показать свои снимки родным или
знакомым как доказательство того, где был и что видел, но ему бы и в голову не
пришло отнестись к ним как к предмету герменевтического, семиотического или
дискурсивного анализа, чтобы выявить кроющееся за ними социологическое
содержание…но наиболее важным является то, что не все, что случайно
запечатлено, помимо наверняка содержащегося проявления общественной жизни,
было также социологически важно, приносило потенциально важную
социологическую информацию, оказываясь ключом к более глубоким, скрытым
слоям общества, его чертам или закономерностям» [206, с. 31].
Методический инструментарий визуальной социологии и нацелен на то,
чтобы посредством целенаправленного отбора/создания и анализа
изобразительных текстов получить социологически значимую информацию
относительно изображенной реальности, создателей изобразительных текстов, а
также приемов саморефлексии о своей аналитической деятельности самих
визуальных социологов.
Часто цитируемое в разных работах, посвященных визуальной коммуникации,
высказывание Маркуса Бэнкса о применении к визуальным данным двойной
64
перспективы анализа, а именно анализа контента и контекста1, имеет, на наш
взгляд, методологическую ценность как возможное основание для разделения
методов визуальной социологии на две относительно самостоятельных группы,
что позволяет обнаружить значительное разнообразие идентификационного
содержания визуальной практики и ее продуктов.
Рассмотрим подробнее методологические ресурсы, соответствующие каждой
из указанных перспектив.
1.3.2 Методы анализа содержания визуальных данных
В предыдущем параграфе была описана специфика идентификационных
задач, стоящих перед субъектами фотографической деятельности:
фотографирующим, снимающимся, рассматривающим снимки.
Методы анализа, обращенные к содержанию отобранных или созданных
визуальных текстов, могут прояснить, как в самой структуре изобразительного
образа реализуются социальные и культурные смыслы. Тем самым визуальные
формы начинают работать как идентификационные механизмы. Подчеркнем, что
многослойность изображения как уникального вида социологических данных
предполагает использование особых методов для анализа внешних, явных,
зрительно заметных элементов изобразительных текстов и для выявления скрытых
за ними значений. П. Штомпка, цитируя Тимоти Карри, пишет об этом так:
«…визуальные социологи, интересуясь внешним видом объектов, стараются
выяснить, что скрывается за этим видом, откликаясь на условия социологии (...)
Когда внешний вид чего-либо связывается с социологическим объяснением,
можно сказать, что задание визуальной социологии выполнено» [См.: 206, с. 29]. В
то же время, говоря словами Г. Беккера, хорошие снимки устроены так, что в них
содержатся правила их рассматривания. Этих указаний бывает достаточно для
1 «С одной стороны, речь идет о содержании любой визуальной репрезентации, и мы
задаемся вопросом, в чем состоит «смысл» того или иного элемента дизайна или произведения
искусства? Кто этот человек, изображенный на фотоснимке? С другой стороны, они связаны с
контекстом любой визуальной репрезентации: кто создал это произведение искусства и для
кого? Почему фотограф заснял именно этого человека, и почему снимок потом хранился кем-
то?» [Цит. по: 35, с. 8].
65
запуска речи. И в этих речах обнаружат себя не только репрезентативные стороны
образов, но и те, что воздействуют непосредственно (“пунктум”, по Барту). В
образ входит не только то, что дозволяют интерпретации демонстратора, но и то,
что их превышает, изображение «начинает само себя показывать» [Цит. по: 99, с.
69].
Важнейшей методической задачей становится поиск и использование
процедур анализа визуальных данных, которые учитывали бы принципиальную
несводимость последних к вербальным средствам языка. Как отмечала С. Лангер,
визуальные формы (линии, цвета, пропорции и пр.), как и слова, могут быть
выражены посредством артикуляции, но законы, которые этими формами
управляют, полностью отличаются от тех законов синтаксиса, которые управляют
языком. Коренное отличие заключается в том, что визуальные формы в принципе
не дискурсивны. Они представляют составляющие их элементы не
последовательно, как это происходит в речевой практике, а одновременно.
Соответственно, отношения между этими элементами в визуальной сфере
схватываются нами сразу, целиком, одним актом видения. Изображение
(фотография или картина) не обладает никаким словарем, т. к. нет «слов», для
которых были бы применимы общие правила («синтаксис»), а также не может
быть никакого фиксированного значения отдельно от контекста. Можно выделить
какую-то линию на определенном рисунке, но в другом месте та же самая линия
может иметь уже совсем другое значение. Недискурсивные символы
(презентативные формы) нельзя определить и переопределить на другом языке,
как в случае с дискурсивными. Не может быть и переводного словаря, поскольку
нет стандартного единого «ключа» для перевода, например, скульптуры в
живопись или рисунка карандашом – в мазок краской. Их эквивалентность
основана на общем полном соответствии всех составных частей, а не однозначной
соотнесенности этих частей, как в случае дословного перевода [См.:108, с. 85-87].
Решению этой же задачи посвящены описанные П. Штомпкой
функциональные различия герменевтического, семиотического, структурного и
дискурсивного подходов к анализу фотографического образа [См.: 206. Гл.5].
66
Сарна А., отталкиваясь от различных теоретических традиций анализа
визуальных текстов, предлагает комплексный подход, включающий методический
разбор изображения как визуального сообщения, который должен быть адекватен
своему объекту в соответствии с 1) репрезентацией (отображением внешней по
отношению к самому тексту реальности) и 2) инвенцией (внутренним смыслом
текста). Визуальный текст рассматривается как сложно организованный феномен,
объединяющий в себе различные средства репрезентации (знак, символ, образ,
метафору, «визиотип» и пр.), которые воспринимаются как осмысленное
сообщение, доносящее информацию до реципиента с помощью изображений.
Двойственная природа изображения, характерная для любых типов визуальных
материалов, объединяет в себе субъективный аспект, т. е. произвольность выбора
объекта изображения и технических средств этого изображения, а также
объективные данные – место съемки, выбор кадра, ракурс, перспектива, монтаж и
т. п. Сарна А. предлагает следующий алгоритм исследования визуального текста
на основе выделения формальной последовательности применяемых
аналитических процедур:
1) описание видимых данных;
2) распределение их на структурные элементы и выявление взаимоотношений
между ними;
3) поиск взаимосвязи значения и изображения в данной конкретной ситуации
осуществления коммуникации.
Каждому из этих этапов соответствует свой метод изучения:
- дескрипция (фиксация изобразительного материала и его описание);
- реконструкция, т. е. анализ смыслового содержания визуального сообщения;
- интерпретация социокультурного контекста сообщения.
Логика анализа разворачивается от «края к середине», когда воссоздаются
формальные взаимосвязи между отдельными элементами сообщения, затем
реконструируются их значения в контексте целостного образа. При этом
дескрипция включает детальное описание элементов изображения (общий фон,
место изображения, композиционная структура, передача цветов, деление на
67
планы, точное обозначение параметров, их пространственные локализация и
взаимосвязь, вербализация эстетических элементов). Реконструкция предполагает
разделение текста изображения на составляющие его элементы, затем выявление
их значения на предмет совпадения/различия в процессе восприятия, раскрытие их
смыслового содержания и герменевтическое выстраивание скрытой
символической структуры, где целое определяет свойство частей. Интерпретация
включает формулирование соответствия денотативных и коннотативных аспектов
содержания в контексте целостного истолкования изображения как текста, анализ
элементов формы изображения, ведущий к восстановлению социокультурного
комплекса, воссоздание системы взаимосвязей фрагментов текста в соответствии с
культурно значимыми и традиционно закрепляемыми образцами [См.: 164].
Приведенный алгоритм функционально близок иконологической методике
анализа произведений изобразительного искусства, разработанной Э. Панофским,
который предлагал выделять уровни 1) пре-(или до-)иконографического или
формального анализа картины, в том числе фактического и экспрессивного
анализа; 2) иконографического анализа картины, а именно сопоставления образов,
нарратива и аллегорий и их комбинаций, используемых в картине, с известными
темами и сюжетами из мировых литературных источников, тем самым
выявляющего вторичный смысл художественного произведения; наконец, 3)
собственно иконологического анализа, направленного на поиск скрытого
внутреннего смысла изобразительного произведения в целом. Э. Панофский
приводит такой пример: когда знакомый приветствует меня на улице,
приподнимая шляпу, он предполагает, что признание того факта, что он
джентльмен со шляпой подразумевает некоторую интерпретацию, но
«элементарную и легко понятную». Это интерпретация до-иконографическая
(сопоставимая с близким наблюдением). Однако, мое осознание, что «поднятие
шляпы» представляет собой приветствие – это уже другой уровень интерпретации.
Этот уровень адресован к образам, которые имеют специфический символический
резонанс (отклик) – это второй уровень интерпретации, иконографический. Третий
уровень интерпретации – это попытка выяснить общее культурное значение
68
образа. Исследователь предположил, что в случае, если он знает, что такое
«шляпа», то понять символическое значение этого образа, или выполнить
иконологические условия анализа, – значит интерпретировать жест поднятия
шляпы как определенный признак воспитания личности. [См.: 142].
Для всех исследователей, работающих с визуальными текстами, очевидно, что
формальный, стилистический и семантический анализ структуры текста должны
дополняться социокультурным анализом, выявляющим особенности общественно-
политической и исторической ситуации, непосредственно влияющей на
коммуникационные процессы и саму возможность его создания, а также
особенности его трансляции, восприятия и понимания.
Для выявления связи изображения с социокультурным контекстом
эффективными оказываются операции, применяемые в рамках нарративного
секвенциального анализа в следующей последовательности:
1. Фиксируется процесс последовательности восприятия изобразительных
элементов.
2. Осуществляется формальное описание композиции изображения через
соотношение цвета, тени, величины положений и позиций, сочетание планов,
центра и периферии и т.д.
3. Выдвигаются гипотезы связи изображения с локальным временным,
тематическим и биографическим контекстом.
4. Формулируются положения относительно генетического и
функционального использования средств выразительности для конкретного
изображения в контексте его жанровой принадлежности
Именно этот подход позволяет достаточно полно выявить различные аспекты
выразительности и норм репрезентации, а также включить в общую структуру
анализа методы и принципы сопутствующих подходов – субъективистских
(феноменологического и психоаналитического), объективистских (семиотического
и текстологического), социальных (генетического и критического). [См.: 164].
Вместе с тем для рассматриваемых нами методов анализа содержания
объектом интерпретации остается визуальный текст, социальные смыслы которого
69
проясняются посредством описания основных параметров и формы организации
материала в самом тексте.
П. Штомпка предложил еще один вектор социологического анализа
содержания визуальных образов (на примере фотографий), когда предметом
исследования становятся не одиночные фотоснимки, но серия снимков,
упорядоченных по времени, что позволяет выявить существенные, регулярные,
повторяющиеся зависимости между общественными явлениями [См.:207, с.29].
Наиболее эффективным методом работы с визуальными текстами в этом случае
является контент-анализ, нацеленный на выделение визуальных элементов,
существенных с точки зрения поставленной проблемы или вопроса исследований,
частоты их появления в тщательно отобранной коллекции снимков, а затем
интерпретацию количественных результатов. Польский исследователь выделяет
семь этапов последовательной реализации такой аналитической работы. Первый
этап – четкое определение исследовательской задачи. Второй этап выбор такого
объекта, который может предоставить богатый фотографический материал для
анализа определенной проблемы. Третий этап отбор снимков, фиксирующих
изучаемый объект. Четвертый этап создание протокола кодирования
фотографического материала, что предполагает выделение важнейших для
исследования проблемы элементов образа (переменных), которым затем
присваивают отдельные категории. Эти категории должны быть: (а)
исчерпывающими, т. е. охватывать все элементы картины, признанные важными;
(б) разъединительными, т. е. давать возможность однозначно идентифицировать
каждый элемент, без четких границ между ними. Пятый этап кодирование
снимков, когда каждому снимку присваиваются установленные категории.
Шестой этап собственно количественный анализ, т. е. определение частоты
появления каждой категории в фотоматериалах. Простейшим является бинарный
анализ: есть ли в картине данный элемент или нет. Более сложная процедура
подсчет частоты появления данного элемента в границах картины. Другие формы
анализа имеют дихотомический характер: устанавливается появление
70
определенной черты или ее противоположности. Можно также измерить
пространство, занимаемое анализируемой единицей (например, отдельным
человеком, коллективом, материальным контекстом, техническим оборудованием
и т. п.)., Наконец, можно измерять степень интенсивности, выразительности,
вычленения единицы анализа из фона (фокусирования на данном объекте).
Последующие категории требуют подсчета элементов по определенной шкале,
например разных границ возраста: грудные дети, дети, молодежь, взрослые,
пожилые. Наконец, седьмой этап формулирование выводов: генерализации
эмпирических и теоретических обобщений, вытекающих из проанализированного
материала. На этом этапе могут быть использованы различные статистические
методы, среди которых установление корреляции между разными категориями,
факторный анализ и др. Сравнение появления разных категорий во времени
позволяет увидеть изменчивость и определить тенденции развития изучаемого
социального явления [См.:207, с.57-59].
Вариантом контент-анализа может быть сопоставительный анализ
изобразительных текстов. В этом случае возможно использование двух стратегий:
сравнение изображений изучаемого объекта с изображениями этого же объекта, но
в других социальных ракурсах и сравнение изображений с письменными
источниками (напр., письмами, дневниками, актами и т. д). Немецкий историк,
специалист по истории повседневности Альф Людтке полагает, что «особенно
эффективно сопоставление с фотографиями, которые показывают нечто
противоположное. Допустим, мы хотим интерпретировать кадры, на которых
сняты вычищенные установки и убранные фабричные залы, например,
фотографии фирмы «AEG» в Берлине, сделанные в начале XX в. <…>Нам стоит
поискать для сравнения другие фотографии фабрики, например, те, на которых
показаны несчастные случаи, разрушенная продукция или механизмы.
Источником таких снимков могли бы стать документы и брошюры по
страхованию от несчастных случаев. Нужные снимки могут оказаться и в
производственных архивах: обычно они хранились в качестве документации (для
тех же страховых случаев), а, кроме того, использовались и при обучении. <…>
71
Другой пример: стандартные фото из семейного альбома. Даже у них есть
антиподы. Наверняка, всем знакомы «неудачные» фотографии, которые были
сняты «до» и «после» предполагаемого момента. А именно, группа уже или еще
стоит наготове, но улыбку еще не надели или уже выключили. Именно такие
моментальные снимки разоблачают «ритуальные» фотографии с изображением
счастья и праздника. <…> Сопоставление с другими источниками (текстами,
документами, письмами и т. д.) – еще одна возможность интерпретации <…>
Почти всегда существуют тексты, которые сообщают о том же событии. Это
может быть протокол спортивного общества о спортивном мероприятии, письмо
или выдержка из дневника о личном переживании. Интервью очевидцев ... Речь
идет о реконструкции «контекста» снимка – обстоятельств, в которых он возник.
Только так удается понять, какой эпизод действительности был изображен» [См.:
114].
На наш взгляд, для анализа содержания визуального образа в аспекте его
строения/воплощения методическую ценность представляет предложенная Г.
Роузом цепочка вопросов, ответы на которые и могут быть получены благодаря
использованию соответствующего инструментария. В их числе:
1. Что показывается? Из каких элементов состоит образ? Как эти элементы
упорядочены?
2. Какую материальную форму имеет образ?
3. Единичный ли это образ или часть серии?
4. Каково положение зрителя при восприятии образа? И почему?
5. Какие отношения устанавливаются между частями образа?
6. Как используется цвет?
7. Как технология повлияла на текст?
8. Каков жанр образа?
9. В какой степени строение образа зависит от его жанровых характеристик?
10.Что обозначают различные составляющие образа?
11.Какие знания включаются, а какие исключены из данной репрезентации?
12.Стабильны ли отношения между составляющими образа?
72
13.Не противоречивый ли это образ? [Цит.: по 164]
Описанные процедуры представляют методическую ценность для решении
задач нашего исследования, позволяя на дескриптивном уровне отличать
профессиональных и непрофессиональных создателей изобразительных текстов;
на уровне реконструкции текста изображения, а также контент-анализа серии или
значительного объема изобразительной продукции выявлять разделяемые в
конкретном культурном сообществе стереотипы, правила и нормы социального
поведения и самопредъявления.
1.3.3 Методы анализа контекста визуальных данных
Методы, которые отнесены к группе анализа контекста визуальных данных,
также исследуют визуальный текст, однако в данном случае ставится задача
прояснить не его структуру, но его производство и потребление, иначе говоря,
выйти за пределы анализа изображений. Как отмечают редакторы сборника статей
«Визуальная антропология: настройка оптики», все визуальные репрезентации
производятся и потребляются в социальном контексте, это касается как
профессиональных, так и любительских визуальных продуктов. Визуальные
артефакты являются историческими источниками, свидетельствующими о формах
мировосприятия, характерных для той или иной эпохи, ценностях, жизненных
стилях, социально и политически одобряемых моделях поведения. Напечатанная
фотография, опубликованная книга или журнал с иллюстрациями, выпущенный в
прокат фильм начинают свою собственную жизнь в качестве текста культуры.
Поэтому следует говорить не только о различиях в понимании смысла текста
автором и аудиториями, но и об эффекте взаимовлияний текста и контекста
социальных, экономических, политических и культурных условий производства
визуального текста, его распространения и восприятия [См. 35, с.7-15).
Характеризуя социальный аспект функционирования фотографии, П.
Штомпка отмечал, что начиная с 1980-х гг. в так называемой «новой этнографии»,
а позднее в постмодернистских направлениях разрабатывается подход, согласно
которому фотография отражает не реальности, а скорее «персональные и
профессиональные намерения фотографа, которым подчинены его действия,
73
способ использования фотографии в отношении специфических культурных
дискурсов и особых аспектов своей самоидентификации, а также того, какие
теории представления инспирируют его практику, тем самым фотография
оказывается инструментом познания, но не того, что она представляет, а скорее
субъективного и общественного контекста производства снимка [См.: 206, с. 46].
После исследований П. Бурдье, понимание фотографии как носителя информации
о субъекте фотографической деятельности является для социологов общим
местом. «Если во главу угла мы берем не просто случайности индивидуального
воображения, пишет П. Бурдье, то обнаруживается, что «большинство
тривиальных фотографий выражают, независимо от внутренних интенций
фотографа, систему схем восприятия, мышления и оценок, общую для всей
группы». “Нормы, которые организуют фотографическую оценку мира в терминах
оппозиции между тем, что подлежит фотографированию и не подлежит, эти
нормы неотделимы от внутренней системы ценностей, поддерживаемой классом,
профессией, художественным объединением, частью которого фотографическая
эстетика должна быть, даже если она отчаянно требует автономии … Как бы не
отрицали это индивидуальные фотографы, обнаруживается, что регламентации и
конвенции присутствуют как в самой непритязательной любительской
фотографии, так и в фотографической практике, претендующей быть искусством.
Именно поэтому возможно и критическое восприятие, чего бы оно не касалось —
технического несовершенства или бедного вкуса» [101, с. 42-43].
Методом, обеспечивающим раскрытие коммуникативных сторон визуального
сообщения, его денотативных и коннотативных характеристик, выступает
дискурсивный анализ.
Обсуждая в первом параграфе данной главы дискурсивные практики, мы уже
рассматривали понятие дискурса как обозначение ситуативного использования
языка, как социального действия, создающего версии реальности. Знать что-либо
означает знать в терминах одного дискурса или нескольких. Штомпка,
подчеркивая аналитическую ценность этого поднятия, отмечает, что оно позволяет
фиксировать не только знаки и правила, придающие знакам определенные
74
значения, но и переговорную практику и институциональные контексты, в
которых правила используются. «Это язык и институции, в рамках которых он
используется, вводится в оборот, а также общественные позиции тех, кто его
создает и использует» [206, с. 96].
Содержание методологических возможностей дискурс-анализа ясно
сформулировано в следующем утверждении: «Цель исследователя в дискурс-
анализе состоит не в том, чтобы выйти «за пределы» дискурса и выяснить, что
люди действительно подразумевают, когда они говорят что-либо, а также не в том,
чтобы обнаружить действительность за «пределами дискурса». Отправной точкой
в рассуждениях исследователя является то, что реальность невозможно
рассматривать вне дискурса и, таким образом, сам дискурс непосредственно
является объектом анализа. <…> аналитик должен работать с тем, что фактически
было сказано или написано, исследуя структуры дискурса вдоль и поперек, и
определять все социальные последствия различных представлений о
действительности, воссозданных в дискурсе» [199, с. 42-43]. Именно методическая
оснащенность дискурс-анализа в получении значимой информации о
коммуникативных процессах в социальном взаимодействии позволяет отнести его
к группе методов анализа контекста.
П. Штомпка объясняет функциональное назначение дискурсивной
интерпретации в визуальной социологии следующим образом: «Визуальный
дискурс особенная разновидность дискурса: сложный интерактивный процесс, в
котором называются значения образов. Дискурсивная интерпретация стремится к
выявлению того, кому адресована фотография и каким образом адресат
соучаствует в формировании значения снимка посредством «практик
рассматривания»…, предпринимаемых в рамках определенных институций.
Следовательно, такая интерпретация требует, во-первых, идентификации
категорий получателей (характеристики получателей интенциональных и
реальных адресатов образа) и, во-вторых, определения режимов получения
(характеристики институций, в рамках которых образ создан, передан и
75
экспонирован), а также связанных с этим своеобразных практик рассматривания
образа, его считывания и интерпретации» [206, с. 96].
В свою очередь, В. Л. Круткин предлагает следующую характеристику
фотографического дискурса: «Фотографический дискурс – это способ, каким
контекст делается явным, это не «речь» изображения, потому что бумага
«молчит». Это речь человека (и не одного) по поводу фотографирования, о
фотографирующем, фотографируемом, рассматривающем фотографию и
показывающем её, о занятых ее производством и распространением. Снимок – это
сообщение лишь в рамках подходящего дискурса. “Дискурс есть, в наиболее
общем смысле, контекст высказывания, это условия, удерживающие и
поддерживающие значение этого высказывания, определяющие его
семантическую перспективу. Это общее определение предполагает, что
фотография – это высказывание особого рода, оно несет послание или является
посланием, но является неполным высказыванием, сообщением, которое зависит
от внешних условий и допущений для ее читаемостиˮ (A. Sekula)» [100, с 91].
Итак, очевидно, что обращение к дискурсивному анализу в визуальной
социологии сдвигает вектор исследования со структуры визуального текста к
изучению высказываний по поводу и в связи с таким текстом. То есть
исследователь отбирает суждения участников визуальной деятельности о себе,
других, об изображениях и визуальных практиках, в которые они вовлечены,
используя опросные методы (прежде всего интервью), записи разговоров или
контент-аналитические процедуры, после чего этот вербальный материал
подвергается дискурсивному анализу.
Если вновь обратиться к методической цепочке Г. Роуза, то необходимая для
последующего дискурс-анализа информация, проблематизирующая аспект
производства и потребления образа, которую исследователь должен получить от
своих респондентов, связана с ответом на следующие вопросы:
1. Когда был создан этот образ?
2. Где был создан этот образ?
3. Кто создал этот образ?
76
4. Был ли этот образ создан ради кого-то ещё?
5. От каких технологий зависит создание такого образа?
6. Каковы социальные идентичности создателя, владельца и персонажа
образа?
7. Каковы отношения между создателем, владельцем и персонажем?
8. Воспроизводятся ли эти идентичности и отношения в самой форме образа?
Вопросы, нацеленные на прояснение аспекта потребления образа, поставлены
так:
1. Какой была первоначальная аудитория этого образа?
2. Когда и как представлялся образ изначально?
3. Как образ хранился и распространялся?
4. Как образ представлялся вновь?
5. Какая аудитория является более недавним потребителем этого образа?
6. Где находится зритель по отношению к различным составляющим образа?
7. Какие отношения выстраиваются между образом и его зрителями в
зависимости от занимаемой ими позиции?
8. Сопровождается ли образ текстом, направляющим его интерпретации?
9. Влияют ли технологии распространения и представления образа на
интерпретации этого образа разнообразными аудиториями?
10.Возможны ли несколько интерпретаций образа?
11.Как различные аудитории интерпретируют конкретный образ?
12. Как эти различные аудитории дифференцируются по классу, гендеру,
этничности, сексуальности и т. д.? [276, р. 6-27. Цит.: по: 164].
Для описания и характеристики специфики методических ресурсов сбора и
анализа контекста визуальных данных, на наш взгляд, значительный интерес
представляет исследование В. Л. Круткина, посвященное социологическому
анализу обсуждений на форуме в интернет размещенных в сети фотографий с
деревенской свадьбы [См. 99, 100].
Как описывает исследователь предметное поле своего интереса, он изучает не
фотографии, а людей, которые держат их в руках. «Показывающий фотографию
77
человек повествует от ее имени, в его речи будет то, что он с изображением
делает. Но в его речи присутствует и то, что изображение сделало с ним.
Содержательно – это двойной отчет о том, что произошло: человек и образ
повлияли друг на друга. Для самого человека эти отчеты сольются в один, для него
это будет одна речь, одно чтение, одно понимание и интерпретация. Людям часто
кажется, что они действуют автономно, хотя в их суждениях звучат голоса их
группы. При этом все упомянутые действия (речь, чтение, понимание,
интерпретация) будут проявлениями второго шага, они будут зависеть от первого
шага, который происходит, когда изображение входит в мир человека. Значение
фотографии контекстуальное, слоистое, в него войдет все, что об этом
изображении писали, говорили, думали (вслух или про себя), в значение войдут
все поводы, по которым рядом с ними возникали смех, стыд, гордость или тоска.
Предметом нашего интереса выступают не просто визуальные объекты как
таковые, но объекты, наделенные контекстами и эффектами, которые они
производят» [100, с.91]. Информантами в этом исследователи стали: сам фотограф,
раскрывающий в переписке с исследователем мотивы, побудившие его заняться
фотосъемкой свадьбы; участники обсуждения фотографий на страницах Живого
Журнала, в том числе профессиональные фотографы и обычные горожане
пользователи интернет. Систематизируем использованный в работе методический
инструментарий при сборе и анализе социологически значимой информации о
визуальном опыте всех участников изучаемой ситуации. С этой целью выделим
наиболее важные, на наш взгляд, методические наблюдения автора исследования.
Фото-интервью. Сравнение обычных интервью и фото-интервью дает
основание выделить последнее в особый вид. Ссылаясь на Д. и М Коллиеров,
Круткин В. Л. замечает: «Интервью обычно – это отношение один на один, оно
отделяет окружающих. Фотографии меняют этот шаблон. Фотографии играют
роль третьего участника. Мы задаем вопросы о фотографии, и информанты
становятся нашими помощниками в поиске ответов на эти вопросы. Мы исследуем
фотографию вместе. Если интервью проводится в группе, то каждый участник
хочет посмотреть снимки и высказаться по этому поводу. Начинается дискуссия, и
78
темы этих дискуссий не всегда предвосхищаются исследователем, они не были
структурированы и предварительно записаны» [См.: 100, с. 89]. Важнейшая
особенность фото-интервью – обращение к презентативной стороне образа, то есть
к воображению и чувствам. Переживания и эмоции пропитывают фотографии.
Именно это и звучит в обобщающих суждениях участников интервью.
Дискуссии на форуме. Форум Интернета виртуальная площадка, где
рассматриваются фотографии, здесь любой может стать участником их
обсуждения. Основные темы задаются высказываниями об авторе снимков, об
изображенных людях, о самих себе как зрителях. Речи в ЖЖ во многом похожи на
фрагменты открытого, неструктурированного интервью, но такого, в котором
никого из участников не смущает присутствие интервьюера с диктофоном (его
просто нет), никому не приходит мысль, что его суждения будет анализировать
какой-то внешний наблюдатель. Если фото рассматривают двое, то дискурс
должен разделяться сторонами. Но он может остаться и неразделенным, за
различными дискурсами – различие интересов. Как высказался один из участников
дискуссии о фотографиях на форуме, «кто-то видит на этих снимках счастливые
русские лица, бескрайние поля и простое деревенское счастье под яблоней. А кто-
то, как вы, чернуху и скотское происхождение. В этом-то и сила фотоискусства –
выявлять подлинные личины зрителей, а не персонажей». Многие участники
форума – фотографы. За бурными обсуждениями стоит нечто иное – размышления
участников фотографического сообщества о самих себе, о природе их работы, об
имеющейся у них власти «изображать реальность», об эфемерном характере этой
власти. Форумы предоставляют возможность наблюдать, как люди пользуются
языком для описания опыта, который во многом как раз и отрицает язык [См.:100,
с. 91].
Комментарии. «Сама процедура создания комментария исключает то, что
участники будут говорить, перебивая друг друга, как бывает на фокус-группе.
Здесь вопросы фактически “задаются” молчаливыми снимками, хотя за ними,
конечно же, автор, который вдобавок расположил снимки в серию, как обычно
монтируют фильм. Монтаж привносит дополнительное содержание, участники
79
взаимодействуют с изображениями, спрашивают и отвечают друг другу. Нет
необходимости транскрибировать суждения, они уже изложены в письменной
форме. Мы мало что знаем об участниках обсуждения, лишь косвенно можем
догадываться про их возраст и пол. Однако и в обычном интервью информанты
«исчезают», остаются лишь их суждения. Но в данном случае мы можем заглянуть
на странички дневников самих участников, уточнить какие-то их позиции и
пристрастия, что невозможно в традиционном интервью. Мы отталкиваемся от
речей но все же это не конверсационный анализ разговоров, и не дискурсивный
анализ текстов. Форма сбора информации, какая нам предстоит, занимает
промежуточное положение между фокус-группой и глубинным интервью» [99,
с.66].
Таким образом, «методически обработанные» речи людей, рассматривающих
фотографии, раскрывают познавательный и идентификационный потенциал
изображений.
Описанные Круткиным В. Л. особенности сбора информации о визуальных
данных при совместном обсуждении фотографий, размещенных в Интернет, очень
близки по своему содержанию так называемым партисипаторным, или
коллаборативным, методам. Как отмечают Романов П. В. и Ярская-Смирнова Е. Р.,
«партисипаторный (от англ. рarticipation – участие) подход обеспечивает
альтернативный подход к исследованию, поскольку подразумевает исследование
совместно с кем-либо, а не изучение «кого-то» или «для кого-то». Этот подход
основывается на принципе, что простые люди, так же как и профессионалы,
способны к критическому мышлению и анализу, что их знания содержательны и
ценны для образования и социального развития. При таком подходе сами
участники организации проводят анализ проблемы, а исследователь лишь
фасилитирует этот процесс, избегая акцентировать свою роль как эксперта» [162,
с. 72].
В рамках визуальной социологии партисипаторные методы представляют
собой сознательное сотрудничество исследователя с другими группами людей в
процессе производства и анализа визуальных репрезентаций. Иначе говоря,
80
партисипаторная стратегия работы с визуальными данными имеет место, когда
представители изучаемой социальной группы включаются в креативный процесс
исследования, активно сотрудничают с исследователем, порой акцентируя его
внимание на тех или иных фактах и сторонах изучаемого феномена. Один из ярких
примеров партисипаторного создания визуальных репрезентаций был реализован
американскими исследователями, изучающими работающих подростков. В своём
проекте авторы сочетали создание фотографий о трудовой жизни подростков с
традиционными социологическими методами: интервью, фокус-группой и
анализом записей в дневниках. Особенностью исследования было то, что
социологи не только сами вели фотосъёмку, но и выдали простые фотокамеры с
фиксированной фокусировкой изучаемым ими подросткам. Тем самым подростки
становились активными участниками исследовательского процесса. И хотя
фотоматериалы, собранные исследователями в процессе съёмки, скорее
подтвердили письменные и устные отчеты о содержании работы подростков и
природе рабочих мест, вместе с тем с помощью фотографий, которые представили
подростки, исследователи открыли такие ракурсы и сюжеты, на которые раньше
не обращали внимания и которые обычно не видят посетители. Не меньший
интерес представляли зафиксированные подростками-фотографами отсутствие
людей и «действий» там, где этого не ожидалось. [См.: 22, с.134]. Задачи в рамках
партисипаторной стратегии могут быть следующими: (1) выяснить, совпадают ли
выделенные исследователем особенности изучаемых визуальных репрезентаций, и
(2) определить, насколько схоже считываются смыслы, скрытые за визуальными
данными. Решение этих задач, в свою очередь, позволит узнать, являются ли
принятыми, разделяемыми и понятными те или иные представленные в
повседневной жизни визуальные посылы. А это уже даст основания говорить о
наличии устоявшихся в данном обществе визуальных стереотипах, нормах и
идеалах. [См.: 22, с.135].
Партисипаторные методы оказываются не только инструментами совместного
сбора и анализа данных, но нередко воздействуют на реальность, способствуя
пересмотру практики, сложившейся в той или иной жизненной области,
81
стереотипных определений социальных проблем, а следовательно, возможности
переосмысливать и переустраивать социальное пространство отношений. В
сборнике «Визуальная антропология: настройки оптики» приводятся
интереснейшие примеры эффективного результата такой работы. «Объединившись
со студентами, преподаватели и практики снимают учебные фильмы, тем самым
сближая и пересматривая свои точки зрения, а также информируя друг друга о том
опыте исключения, к которому у многих из них просто нет доступа, и формируя
эмпатию к жителям маргинализованных семей или целых районов … Пациенты
начинают обучать врачей посредством визуальных нарративов; женщины,
пострадавшие от домашнего насилия, организуют группы самопомощи в
результате серии обсуждений сделанных ими фотографий, а дети, фотографируя
«опасные» и «безопасные» места внутри и вокруг школы, убеждают
администрацию и сотрудников ЮНИСЕФ в необходимости реорганизации
пространства... Выставки работ, сделанных в рамках таких проектов, тоже вносят
вклад в переустройство социального пространства: открытые в бесплатных музеях,
местных центрах социального обслуживания или школах, они оказываются
доступными рассматриванию, рефлексии и комментированию различными
группами зрителей [35, с. 10-11].
Отметим в качестве важнейшей методологической установки для
исследователя визуальной реальности необходимость «академической
саморефлексии». «Социолог всегда помещен в ситуацию анализа реальности,
которая ему предъявляет, в более или менее разработанных формах,
представление о самой себе. Он обязан от нее дистанцироваться, но одновременно
быть способным отдавать себе в этом отчет» [110, с.223].
Иначе говоря, предлагаемый П. Штомпкой в рамках герменевтического
анализа ряд вопросов, нацеленных на прояснение характеристик личности автора
фотографических снимков, может быть использован как методический прием
саморефлексии самого исследователя. «Предметом анализа становятся ответы на
вопросы: кто делал снимок? В какой общественной роли он это делал? Зачем он
это делал, с каким намерением? Какие предубеждения, преувеличения,
82
стереотипы, враждебность, симпатии или антипатии играли роль при съемке
объекта? С какой общественной позиции – классовой, возрастной, связанной с
полом, культурной, расовой, этнической – смотрел автор снимка? Какой личный
опыт автор выразил в снимке? Какое настроение отражено на снимке?» [206, c.
78].
Завершая обсуждение методических ресурсов визуальной социологии,
приведем один из ответов на вопрос, поставленный редколлегией журнала
«Антропологический форум» перед участниками дискуссии, посвященной теме
«Визуальная антропология»: «Существуют ли формализованные методы анализа
визуальных источников, которым можно научить других, или в области
визуальных исследований субъективизм настолько неизбежен, что даже и
пытаться не стоит?» В этом ответе, на наш взгляд, его авторам удалось
резюмировать важнейшие задачи методического характера.
«…Любые методы в социальных науках независимо от того, являются они
качественными или количественными имеют свои ограничения в аспекте
субъективизма. Люди независимо от выполняемых ими в исследовании ролей
саморефлексирующие субъекты, привносящие разнообразные «помехи» в
измерение и понимание социальных категорий. Кроме того, самые изощренные
процедуры формального обоснования вывода в рамках статистических процедур,
если мы оперируем категориями мнений, суждений, оценок, опираются на
категориальный аппарат, являющийся продуктом исследовательского разума со
всеми возможными культурными, классовыми заданностями, определяющими
природу не только ответов, но и вопросов. А ведь есть еще множество допущений
в области процедур отбора, концептуального представления о генеральной
совокупности в случае любого анализа, которые тоже забывать нельзя. Поэтому
любые различения в области методологии, построенные на представлениях о
возможности выработки каких-то особых, объективных методов, нам
представляются сомнительными. Другое дело в некоторой степени
формализованные и уже конвенциальные аналитические алгоритмы, которые
83
направлены не столько на производство «объективного вывода», сколько на
поддержку исследовательских усилий по систематизации и интерпретации
полевых материалов. Речь идет о достаточно простых процедурах, которые в
определенной степени сходны как в работе над текстами (интервью, официальных
документов, газетных публикаций), так и в анализе визуальных материалов
(фотографий, кино). Исследователи разделяют анализируемый материал на
элементы, интерпретируют их содержание, сортируют, выделяют логику их
соединения в единое целое, стремясь не столько определить смыслы, которые
были заложены в них создателями, наблюдаемыми субъектами, сколько
реконструировать социальный контекст, который репрезентируется
рассматриваемым текстом. В этом смысле текст вербальный и визуальный открыт
для таких процедур в равной степени. Любой интересующийся может достаточно
легко найти и теоретическое подкрепление, легитимацию таких приемов
например, в рамках обоснованной теории…Задача не в том, чтобы произвести
полностью объективный текст, а в том, чтобы сделать явными аналитические
процедуры, проговорить их, сделать открытыми для воспроизводства и критики со
стороны коллег. Как зрители, так и читатели академического текста должны иметь
возможность узнать, как этот вывод конструируется …» [33, с. 87].
Выводы по главе 1
Визуальная социология может быть выделена в качестве самостоятельной
отрасли социологического знания, со своим особым предметом, понятийным
рядом, нацеленным на описание и объяснение социальных функций, процесса и
процедур наблюдения, видения, рассматривания, изображения, визуальной
репрезентации социальных объектов. Ресурсы визуальной социологии открывают
новые возможности для проблемного осмысления социальных процессов и
явлений.
Понятийный ряд визуальной социологии включает такие понятия, как
визуальная реальность, визуальная деятельность, визуальные дискурсивные и
84
коммуникативные практики. Визуальная реальность – это социальный мир,
который рассматривается, фотографируется, рисуется или какими-то иными
средствами визуально представлен, в отличие от мира, который описывается
словами или статистикой. Визуальная реальность (вос)производится благодаря
активности субъектов визуальной деятельности. Визуальная деятельность это
активность, связанная с формированием, представлением, передачей визуального
образа. Для понимания разнообразия функционирования визуальной продукции в
социальной среде важно различать репрезентативную и презентативную
составляющие визуальной деятельности: репрезентативный аспект относится к
тому, как люди создают и интерпретируют создаваемые образы; презентативный –
обращен к эмоциональной стороне визуальной деятельности, выявляя то, как люди
реагируют на изображения, их чувства и переживания. Понятие «визуальные
дискурсивные практики» позволяет выделить и описать специфические виды
визуальных действий, представить их как поступки, акты личностной активности,
продемонстрировать как в процессе визуальной деятельности конструируются
конкретные социальные роли субъектов визуальной коммуникации. Основанием
видовой классификации визуальных практик выступают различные виды
изобразительной деятельности, такие как фотографирование, рисование,
картографирование, создание и демонстрация видеоматериалов, все виды дизайна
как проектно-художественной деятельности, связанной с разработкой предметной
среды человека и т. д. Создаваемые визуальные материалы могут быть
исследованы социологами и как репрезентации социального знания, и как
контексты культурного производства, социального взаимодействия и
индивидуального опыта, задающие вполне определенные сценарии ролевого
поведения.
Методический инструментарий визуальной социологии нацелен на то, чтобы
получить социологически значимую информацию относительно изображенной
реальности, создателей изобразительных текстов, а также приемов саморефлексии
о своей аналитической деятельности самих визуальных социологов. Методы
визуальной социологии можно разделить на две относительно самостоятельных
85
группы: 1) методы анализа содержания (контента) визуального текста (такие как
иконологический анализ; контент- и сопоставительный анализ), позволяющие
посредством описания основных параметров и формы организации
изобразительного текста прояснить, как в его структуре реализуются социальные и
культурные смыслы; 2) методы анализа контекста визуальных данных (прежде
всего опросные методы, особенно интервью; дискурсивный анализ,
партисипаторные методы, то есть включение представителей изучаемой
социальной группы в процесс исследования и активное их сотрудничество с
исследователем), позволяющие посредством анализа высказываний по поводу и в
связи с визуальным текстом получить информацию о его производстве и
потреблении. Выделенные категории методов позволяют обнаружить
значительное разнообразие идентификационного содержания визуальной
деятельности и ее продуктов.
Визуальные практики (фотографирование, рисование, картографирование,
наблюдение, разглядывание и т. д.) являются важным средством
самоидентификации социальных субъектов прежде всего потому,
конструирование визуальных образов следует рассматривать как своеобразное
высказывание субъектов о себе, своей принадлежности к определенному
социальному сообществу. Наиболее очевидным идентификационное содержание
визуальных образов выступает в фотографии. Идентификационным ресурсом
обладают все виды фотографического поведения: само фотографирование,
позирование фотографу, рассматривание фотографий. Профессиональные
фотографы и фанаты-любители используют дискурс власти и высокого искусства
в качестве основного ресурса своей социальной (профессиональной)
идентификации. Если идентификационные практики профессиональных
фотографов направлены в первую очередь на конструирование их уникальности
(групповой и личностной), «посвященности» в знание, недоступное другим
(«непосвященным»), то процесс самоидентификации тех, кого снимают, имеет
другой вектор, а именно стремление продемонстрировать соответствие групповой
и культурной норме, в этом смысле «быть похожими на других». Для тех, кто
86
рассматривает фотографии, условием актуализации процесса социальной
идентификации является эмоциональная вовлеченность зрителя в содержание
снимка. Пока рассматривающий остается в роли «социального исследователя», то
есть должен узнать и понять, что изображено, механизмы самоидентификации
задействованы незначительно. Но как только рассматривание начинает вызывать
достаточно сильные эмоции, можно утверждать, что изображение коснулось
личностно важных переживаний, центром которых обычно является
самоопределение человека в отношении значимых для него людей и групп,
соответствие (или несоответствие) системе ценностей человека того, что
изображено. Важнейшей особенностью идентификационной составляющей
процесса рассматривания является то, что можно назвать «игрой с
самоидентичностью»: возникающая в процессе рассматривания себя на
фотографии своеобразная дистанция по отношению к самому себе открывает для
рассматривающего возможность манипулирования своими фотографическими
образами (ретушируя фото, удаляя из фотографий изображения людей,
вызывающих неприятные эмоции и пр.).
Глава 2. ВИЗУАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И РАССМАТРИВАНИЕ
ГОРОДА КАК ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ
В предельно общем определении города исследователи сходятся в том, что
это – поселение, которое по своим функциональным признакам отличается от
сельской местности, это тип социальной общности, функционирующей на основе
интеграции социально обособленных групп населения. Обращаясь к визуализации
городского пространства как объекту нашего исследования, в настоящей главе мы
ставим задачу показать, что репрезентации и рассматривание города выступают
важнейшими идентификационными визуальными практиками, посредством
которых различные группы горожан (вос)производят свою идентичность.
87
Взгляд на город – это всегда чей-то взгляд из определенной точки в
пространстве. Визуальное освоение города реализуется как в фиксации образа
города в различных изображениях/текстах, так и в эмоциональных переживаниях
и поведенческой активности горожан, возникающих в их повседневном опыте
пребывания в городской среде, ее рассматривания и использования. Тем самым
методологической установкой для разработки темы диссертации в данном разделе
является отмеченная в первой главе необходимость различать репрезентационную
и презентационную составляющие визуального образа и, соответственно,
визуальной деятельности.
В. Л. Круткин, обращаясь к анализу содержания «философии присутствия» в
работах К. Мокси, подчеркивает: «…дело не в том, что репрезентации ошибочны.
Ошибочной является точка зрения, что репрезентацией исчерпывается вся сфера
образа. Репрезентация предполагает интерпретативные действия субъекта, здесь
мы нечто привносим в опыт. Но есть другая сторона опыта, которая нас в опыте
скорее встречает» [103, с.32].
В свою очередь, разрабатывая социологию пространства, А. Ф. Филиппов в
качестве важнейшего базового различения вводит перспективы наблюдения: «Мы
принимаем как не требующее доказательств, что пространство всегда доступно
созерцанию и воображению и в этом смысле не нуждается в определениях. Мы
различаем далее значение пространства в зависимости от перспективы
наблюдателя (подчеркнуто мною – С.К.). Мы различаем перспективу наблюдения
с точки зрения социолога, не участвующего в наблюдаемых коммуникациях (это
теоретическая фикция, но как таковая она значима для наблюдения), и
перспективы наблюдения самих участников коммуникации. Мы различаем,
наконец, понятие пространства в собственном смысле (пространство тел,
имеющих форму и дистанцированных друг от друга, пространство мест, где тела
могут быть размещены), понятие пространства в обобщенном смысле (как
порядок сосуществования произвольно избираемого многоразличия) и понятие
пространства в метафорическом смысле (прежде всего социальное пространство
как порядок социальных позиций). Наблюдатель различает, таким образом: a)
88
свое видение пространства взаимодействия; b) самоочевидное для участников
взаимодействия значение пространства и c) пространство как оно рефлектируется
и обсуждается участниками взаимодействия» [197, с. 5].
К теоретическим размышлениям в этом же направлении следует отнести идеи
М. де Серто о необходимости выделять взгляд на город «сверху» как на
пространство, организованное определенным образом, и взгляд человека,
воспринимающего городское пространство в ходе непосредственного
взаимодействия с ним, погружения в него как прохожего. «Поднимаясь наверх,
человек оставляет позади себя поток, похищающий и перемешивающий любые
«я» – и творцов, и зрителей. Новый Икар, он парит над волнами, и может
пренебречь уловками Дедала, пригодными лишь для бесконечных подвижных
лабиринтов внизу. Вознесение есть преображение – в Видящего. Мир, которым он
был одержим, точно наваждением, теперь лежит перед ним, как открытая книга –
он может читать его, стать солнечным Оком, смотреть свысока, подобно богу.
<…> Необъятная текстурология – свиток, развернутый перед моими глазами –
лишь репрезентация, оптический артефакт; в нем используется та же проекция,
дистанцирующая и упорядочивающая пространство, что и в творениях
инженеров, градостроителей и картографов <…> Однако жизнь горожан
протекает на земле, ниже порога обозримости. Тела этих пешеходов, следуя всем
изгибам городского «текста», записывают его, но неспособны прочесть… в этих
границах я обнаруживаю практики, чуждые «геометрическому» или
«географическому» пространству визуальных, паноптических, теоретических
конструкций. Они отсылают к иному способу обращения с пространством, к иной
спациальности («антропологическому», поэтическому и мифологическому
пространству), а также к темному и слепому течению городской жизни. Таким
образом, в прозрачный текст спланированного города вторгается город кочевой,
город метафорический» [171, с.24-26]. Используя ролевые метафоры, нередко две
крайние позиции восприятия города обозначаются как взгляды «планировщика» и
«фланёра».
89
Последующие параграфы данной главы посвящены выявлению
идентификационного ресурса различных перспектив восприятия города.
2.1 Город как текст: перспектива «дистанцированного» наблюдения
Визуальные репрезентации города в любом виде (будь это архитектурный
проект, городская карта, художественный образ, научная концепция,
концептуальная выставка и т. п.) предполагают взгляд на город как на текст, а
значит наличие читателя и языка. Использование метафоры «текста» по
отношению к визуальным репрезентациям города требует от наблюдателя
соблюдения принципов и правил социолингвистического анализа текста.
Предложенное в семиосоциопсихологии определение текста как «целостной
совокупности коммуникативно-познавательных элементов, функционально
объединенных в замкнутую иерархическую содержательно-смысловую структуру
на основе общей концепции или замыслов партнеров по общению» [64, с.149], на
наш взгляд, включает в себя ключевые характеристики текстологического
анализа. К ним следует отнести: смысловую целостность высказывания; его
относительную автономность (завершенность); тематическую определенность;
структурную организованность в смысле логической связанности речевых
единиц: высказываний, сверхфразовых единиц, фрагментов, разделов и т. д. (лат.
textus означает «соединение»); подчиненность субъективному замыслу
говорящего.
Нельзя не согласиться с де Серто, что представление города в формате текста
оказывается проекцией взгляда инженера, градостроителя, картографа,
концептолога, дистанцирующих и упорядочивающих пространство. Иначе говоря,
данная перспектива наблюдения реализует субъект-объектную парадигму знания.
Наиболее последовательно «текстологическое» восприятие города
воспроизводится в структуралистских и семиотических подходах.
Ключевое понятие структурализма – структура – предназначено подчеркнуть
ключевую характеристику целостности, а именно подчинение элементов системе.
Составляющие структуру элементы рассматриваются как функции. Переход
90
одной подструктуры в другую объясняется на основе правил порождения и
саморегулирования.
К основным принципам структурализма обычно относят следующие:
1) социальные и культурные явления не имеют субстанциальной природы, а
определяются своей внутренней структурой (отношениями между их частями) и
своими отношениями с другими явлениями в соответствующих социальных и
культурных системах;
2) эти системы суть системы знаков, так что социальные и культурные
явления – это не просто объекты и явления, но объекты и явления, наделенные
значением.
В идеале структурный анализ должен вести к созданию «грамматики»
рассматриваемого явления – системы правил, задающих возможные комбинации
и конфигурации и демонстрирующих отношение ненаблюдаемого к
наблюдаемому. Структурные объяснения не отслеживают предшествующие
состояния и не выстраивают их в причинную цепочку, а объясняют, почему
конкретный объект или действие обладают значением, соотнося их с системой
скрытых норм и категорий. Иначе говоря, структуралистское описание какого
либо объекта связано не с поиском причин его происхождения, а с определением
его места в структуре некоторой системы. Такое замещение диахронической
перспективы синхронической, характерное для структурализма, имеет три
важных следствия: 1) то, что могло бы в конкретный момент вызвать некоторое
явление, менее интересно структурализму по сравнению с теми условиями,
которые делают это явление уместным и значимым; 2) структурные объяснения
опираются на понятие бессознательного; 3) объясняя значение, ссылаясь на
системы, не осознаваемые субъектом, структурализм тяготеет к тому, чтобы
трактовать сознательные решения скорее как следствия, а не причины.
Человеческое «я», субъект – это не нечто данное, а продукт социальной и
культурной систем [См.:184].
Ярким примером использования принципов структурализма в социологии
города являются работы Р. Парка и Э. Берджесса, прежде всего их проект «Город
91
как социальная лаборатория», в котором город был представлен как множество
концентрических зон, процессы городского роста описаны в понятиях
«расширение», «последовательность» и «концентрация», сам рост города был
определен как «метаболическая» дисфункция в городском организме, источником
которой является пространственная (затем и социальная) мобильность,
поддающаяся измерению. «Чикаго, представленный в таком районированном
виде, наглядно демонстрировал все разнообразие поселенческих типов,
промышленных пригородов, иммигрантских районов, деловых и коммерческих
зон, гостиничных и фешенебельных районов. В свою очередь, каждый из 75
районов представлял собой “общество в миниатюре, с его собственной историей,
традициями, своими проблемами и своими представлениями о будущем. Гайд
Парк, Северный Центр, Бриджпорт, Южный Чикаго это не просто названия на
карте. Это разные составляющие внутри города, каждая из которых, будучи его
частью, играет свою, особую, роль в судьбе Чикаго» [См.:7, с. 25-26].
Еще более отчетливо структуралистский взгляд на город отражен в
следующем высказывании Р. Парка: «Город, по существу, является
констелляцией естественных зон, каждая из которых имеет свою специфическую
среду и свою особую функцию в городской экономике в целом. Характер
соотношения различных естественных зон города наиболее четко обнаруживается
в отношении «город – пригород». Очевидно, что пригороды большого города
являются просто продолжением городского сообщества. Каждый пригород,
выталкиваемый в открытые просторы, отличается по своему характеру от любого
другого пригорода. А метрополис, таким образом, представляет собой огромный
движущий и сортирующий механизм, который еще не вполне понятными
способами безошибочно отбирает людей, более всего пригодных для проживания
в том или ином районе и в той или иной среде. Чем крупнее город, тем больше у
него пригородов, и тем более определенен их характер. Город растет в ходе
экспансии, но он приобретает свой особый характер в ходе селекции и сегрегации
своего населения; так, что каждый индивид непременно находит место, где он
может жить, или же – где он должен жить» [140, с.7].
92
Таким образом, городское пространство в структурализме предстает как
место жизни социальных групп, оно структурировано и размечено таким образом,
чтобы обеспечить и поддержать как функциональную особенность этой
территории, так и возможность процессов интеграции городского сообщества.
Структурно-функциональные методологические установки разворачиваются в
разработку моделей пространственной организации населенных мест и городов.
Интеллектуальным продуктом такого анализа становятся модели города как
средство городского планирования и управления.
Показателен комментарий декана Высшей школы урбанистики ВШЭ А. А.
Высоковского, в котором он, предваряя открытие в 2011 г. новой магистерской
программы «Управление пространственным развитием городов», прямо заявляет
о необходимости формирования специалистов-планировщиков как людей,
имеющих специфический взгляд на город: «Традиционно в СССР и России
градостроительство, пространственное планирование, были частью архитектуры,
а не системы управления или экономики. Логика была примерно такой:
существуют разные направления подготовки архитекторов, связанные с
промышленной, жилой, ландшафтной архитектурой, и градостроительство — это
одно из таких направлений. С советских времен считалось, что архитектор может
спроектировать целый город так же, как здание. Это глубочайшее заблуждение.
Человек, который занимается планированием городского развития, не должен
воспринимать город как сочетание архитектурных, а тем более, эстетических
решений. Он должен разбираться в экономике, управлении, логистике,
транспорте, рынке недвижимости… Во всем мире это поняли еще сто лет назад.
Поэтому в 1920–1930-е годы в Западной Европе и США планирование
пространственного развития отделилось от архитектуры, составив
самостоятельную дисциплину. Настала пора готовить специалистов по
урбанистике и в России. Города становятся все более значимыми элементами
национальной и мировой экономики. Невероятно усложнилась система
городского управления. Кадров для научного планирования городского развития
решительно не хватает. В частности, многочисленные проблемы Москвы — яркое
93
тому подтверждение. Поэтому столь актуальна новая образовательная программа,
отвечающая современным требованиям исследования и управления городами и
агломерациями [см.: http://www.hse.ru/news/admission/31623258.html].
Определяемые в этой магистерской программе навыки и умения,
необходимые для специалиста, можно оценивать как образец операционализации
«текстологического», или структурно-функционального, обращения с городом
[См.:43]:
«В результате освоения дисциплины студент должен:
<…>Уметь:
7)находить, собирать и обрабатывать статистическую информацию,
необходимую для выявления сложившейся пространственной организации города
и планирования ее развития;
1. картировать, измерять и генерализовывать территориально
распределенные данные, строить картографические отображения
пространственных структур;
анализировать сложившуюся пространственную структуру городов,
устанавливать взаимосвязь с качеством жизни, условиями перемещения людей и
транспорта, экономическими процессами, в том числе с доходностью городских
территорий, продуктивностью городской экономики;
Иметь навыки (приобрести опыт):
исследования и построения пространственной структуры сложившегося
города;
разработки карт и схем, отображающих пространственную структуру
города;
проведения эмпирических социологических и экономических
исследований, характеризующих городскую среду, основанных на данных
опросов и интервью и статистических показателях…»
Соответственно предложенные в программе курса «Теория пространственной
организации города и формирование городской среды» теоретические подходы и
концепции города становятся инструментом формирования не только
94
профессионального знания, но и особой перспективы наблюдения. Приведем в
качестве примера фрагмент тематического плана из раздела «Пространственная
структура города: эволюция теорий и методология исследований», а именно
перечень обсуждаемых концепций города [См.:43]:
Кольцевая модель города Эрнста Берджеса.
Секторальная модель города Хойта.
Многоядерная модель города Гаррисона-Ульмана.
Поляризованный ландшафт Родомана.
Теория центральных мест Кристалера и Лёша – иерархии городов и центров.
Ступенчатая (функциональная) планировочная структура советского города.
Каркасная организация города Гутнова и систем расселения Лаппо.
Семиотический подход, вышедший из структурализма, нацелен на изучение
формальных свойств знаковых систем, выявляя их синтаксический,
семантический и прагматический аспекты. В структурно-семиотическом подходе,
как известно, культура рассматривается как многослойный текст, записанный
разнообразными шрифтами и алфавитами в самых разных областях – искусстве,
социальных формах (учреждения, институты), ритуалах, традициях, мифах,
обширных символических системах. Культура «говорит» символами и знаками.
Изучая знаковые системы различных культур, можно обнаружить их глубинные
смыслы, извлекая ту или иную информацию.
Семиотика города обращена к видимым формам «культурной разметки»
города, символической организации и социальной картографии городского
пространства.
Санна Турома, сравнивая семиотическую интерпретацию Петербурга,
осуществленную Ю. Лотманом, с осмыслением города как культурного
пространства в работах Георга Зиммеля, Вальтера Беньямина и Мишеля де Серто,
убедительно показывает, что, несмотря на некоторое сходство между этими
исследователями, в своем «прочтении» города они радикально отличаются друг
от друга. Это отличие задается прежде всего методологической – семиотической –
95
установкой. «Лотман <…> не выдвигает на передний план свой субъективный
опыт, но, скорее, сосредоточивается на широких мифологических категориях, при
помощи которых город предстает статичным и нечеловеческим. В феноменологии
Зиммеля, так же как в теоретически многостороннем проекте Беньямина, город
всегда и, прежде всего – место человеческих взаимодействий, и часто это
взаимодействие тех, кто ходит по городу пешком. У Лотмана город — это,
прежде всего понятие; операциональное основание для семиотического
воображения ученого, используемое для создания абстракции и типологии. Одно
из главных различий между феноменологией Зиммеля и Беньямина, с одной
стороны, и семиотической моделью Лотмана, с другой, состоит в том, что Лотман
читает текст прошлого, тогда как Зиммель и Беньямин расшифровывают текст
современной им действительности. Лотман исследует мифологию Петербурга и
показывает, как она развивалась в русской устной традиции и канонической
литературе, тогда как его собственный текст – исследование мифа, его анализ и
пересказывание – является вкладом в культурную мифологию, окружающую
городское пространство и архитектуру Петербурга» [См.:189]. Исследовательница
подчеркивает, что городская семиотика Лотмана должна рассматриваться в
конкретном пространственно-временном контексте. «Точка зрения, с которой
Лотман смотрит на город, - это взгляд не с высоты небоскреба, символа
современного городского столпотворения, а из советского Тарту, одной из
университетских гетеротопий советского пространства, удаленной от двух
городских центров официального интеллектуального мейнстрима советской
эпохи, Ленинграда и Москвы. Из них Ленинград, бывшая столица Российской
империи, была маргинализирована, оттеснена советским режимом на периферию,
а Москва представляла собой настоящую космополитическую столицу советского
государства. Именно об этой дихотомии свидетельствует этос лотмановского
текста. Его эссе о городской символике было вкладом в те расходящиеся с
официальными, нонконформистские репрезентации Ленинграда/Петербурга,
которые ностальгически поддерживали историческое значение и культурный
престиж прежней столицы России и бывшей имперской метрополии, которая, с
96
точки зрения специфики семиотического объекта, «по количеству текстов, кодов,
связей, ассоциаций, по объему культурной памяти <...> по праву может считаться
уникальным явлением в мировой цивилизации», как с воодушевлением пишет
Лотман в конце своей статьи «Символика Петербурга и проблемы семиотики
города»» [См.:189].
Методический инструментарий семиотического анализа города предельно
отчетливо описан в работе Л. К. Козыревой «Проблемы, методы и перспективы
семиотического моделирования городского пространства» [См.:94]. Поставив
перед собой задачу превратить «незнаковое» в «знаковое» в условиях городской
среды, она предлагает ее решение, используя структуралистский и
феноменологический подходы. В первом случае требуется «структурный анализ
знаковых систем архитектуры и пространства города, изучение и вычленение
отдельных взаимосвязей. Результатом будет являться совокупность неких
признаков, присущих конкретному анализируемому городу... «город как знак»
будет суммой отдельных, но взаимосвязанных компонентов – пластов городской
среды в различные периоды городской истории, т.е. моделью в неком движении,
развитии. <…> С феноменологической точки зрения знаки анализируются
относительно некоего воспринимающего субъекта (горожанина)» [94].
Автор составляет основанный на базовых семиотических методах алгоритм
анализа городского пространства, полагая, что его применение позволит получить
«несколько качественных структур пространства», а именно:
а) описательную языковую структуру, состоящую из ключевых
обозначений и коннотаций;
б) незакодированную иконографическую (буквальную) структуру –
планы города, фотографии, отдельные виды-схемы;
в) закодированную иконографическую (символическую) структуру. Это
знаковый каркас городской среды, с учетом взаимосвязей структурных элементов,
визуальных коннотаций, находящихся в определенной последовательности.
Предлагаемый ею алгоритм семиотического анализа города описан как
последовательность решения следующих задач:
97
1. Описать впечатления от конкретного города определенными образными
сообщениями – словесными кодами.
2. Определить ключевые означающие (материальные объекты) и означаемые
(их символические значения). ...Ответить на вопросы: Какие важные означающие
есть в пространстве города и что они означают? Что будет являться означаемым,
формирующим систему знаков для данного города, что придает особый смысл
городской среде, что определяет ее уникальность? Какие идеологические и
социокультурные вопросы с этим связаны?
3. Обозначить описательные парадигмы, определяющие характер городского
пространства. Ответить на вопросы: Что определяет целостность среды, а что
находится в оппозиции к ней и к каким категориям их можно отнести? Есть ли у
этих оппозиций географические, социокультурные или экономико-политические
предпосылки?
4. Определить синтагмы (комбинации знаков, находящихся в некоей
протяженности, последовательности), которые формируют знаковый каркас
городской среды. Ответить на вопрос: Какие знаковые объекты, пространства и
их взаимосвязи являются наследуемыми в историческом плане? [Там же].
Для нас особый интерес представляет сформулированное автором
практическое назначение проводимого ею анализа: «Данная стратегия,
основанная на модели научного наблюдения и прогнозирования, имеет далеко
идущие перспективы, направленные на оптимизацию существующих городских
структур и сохранение преемственности их развития» [См.: 94].
В этом заявлении можно обнаружить идентификационное содержание любых
визуальных репрезентаций города. Таковым, на наш взгляд, является
конструирование субъекта власти: власти-знания или власти-насилия. Иначе
говоря, социальный субъект, занимающий позицию взгляда на город как на текст,
реализует себя как наделенного правом этот текст создавать, преобразовывать,
структурировать, устранять, нормативно оценивать, то есть использовать
разнообразные практики контроля и власти. Тем самым визуальные
репрезентации города выдают идеологические подходы его создателей, допуская
98
манипуляцию его адресатами. В субъект-объектной парадигме «на объект
набрасывалось покрывало знания, и было известно, что знание – это сила. Объект
подлежал укрощению властью знания. Всегда существовала возможность
редукции образа к знаку, когда вступала в силу привычная лингвистическая
репрезентации, предлагающей постоянный взгляд, «большое повествование»,
перед которым опыт отчитывался бы» [См.:103, с.32].
Концепт «власть-знание», как известно, использован М. Фуко для
обозначения власти «научных дискурсов» над сознанием человека. Иначе говоря,
«знание», добываемое наукой, само по себе относительное и поэтому якобы
сомнительное с точки зрения «всеобщей истины», навязывается сознанию
человека в качестве «неоспоримого авторитета», заставляющего и побуждающего
его мыслить уже заранее готовыми понятиями и представлениями. Этот языковой
(дискурсивный) характер знания и механизм его превращения в орудие власти
объясняется довольно просто, если мы вспомним, что самосознание человека как
таковое еще в рамках структурализма мыслилось исключительно как языковое.
Согласно Фуко, власть производит знание; власть и знание непосредственно
предполагают друг друга; нет ни отношения власти без соответствующего
образования области знания, ни знания, которое не предполагает и вместе с тем не
образует отношений власти. С точки зрения Фуко, «познающий субъект,
познаваемые объекты и модальности познания представляют собой проявления
этих фундаментальных импликаций отношения «власть — знание» и их
исторических трансформаций. Полезное для власти или противящееся ей знание
производится не деятельностью познающего субъекта, но властью, знанием,
процессами и борьбой, пронизывающими и образующими это отношение, которое
определяет формы и возможные области знания». Призывая анализировать
«микрофизику власти», Фуко постулирует, что власть — это стратегия, а не
достояние, это «механизмы, маневры, тактики, техники, действия». Это «сеть
неизменно напряженных, активных отношений», а не «привилегия, которой
можно обладать». Это «совокупное воздействие стратегических позиций»
господствующего класса. Отношения власти у Фуко «не локализуются в
99
отношениях между государством и гражданами», для них характерна
«непрерывность», они «выражаются в бесчисленных точках столкновения и
очагах нестабильности, каждый из которых несет в себе опасность... временного
изменения соотношения сил» [См.: 6].
Для определения идентификационного содержания текстологического
анализа города столь же ценными являются идеи А. Лефевра о трех видах
производства социального пространства, а именно посредством (1)
пространственных практик (spatial practice), благодаря которым в процессе
повседневного взаимодействия (вос)производятся пространственные отношения в
любом сообществе; (2) репрезентаций пространства (representations of space), то
есть «изобретения» специального знания, знаков, кодов, с помощью которых
пространственные отношения «приводятся в порядок»; 3) формирования
репрезентационных пространств (representational spaces) – своеобразного синтеза
повседневных пространственных практик и их репрезентаций, когда «живое»
пространство воспринимается непосредственно (беспроблемно, как некая
данность) и в то же время как созданное (или «произведенное») в ходе
повседневного опыта и символической работы [См.: 263, р. 38-39]. Тем самым,
согласно Лефевру, производство пространства, в том числе и городского, может
быть реализовано в трех модальностях как воспринимаемое, осмысленное и
проживаемое (the perceived— conceived — lived spaces). Характеризуя второй вид
производства пространства, а именно его репрезентации, Лефевр отмечает, что
эксперты-профессионалы, создающие и преобразующие пространство в картах,
чертежах, моделях, расчетах и т. п., демонстрируя свою профессиональную
компетентность, по существу занимаются своеобразной «колонизацией»
повседневности, поскольку сначала на бумаге воплощают свои специфические
представления о нем, а затем принимаются за переустройство жизни [См.: 263, p.
59].
Подтверждение этому наблюдению можно обнаружить в социологических
работах, посвященных городской картографии, а именно выявлению
идеологического (и шире – властного) ресурса картографических репрезентаций
100
социального пространства города. Джон Харлей, посвятивший свои работы
анализу карт и картографии как особой формы контроля власти над
пространством, утверждал, что карты следует отнести (наравне с музыкальными
композициями и архитектурными структурами) к так называемым некнижным
культурным текстам, поскольку они представляют собой конструкции,
использующие конвенциональную систему знаков. В этом смысле карты не могут
быть нейтральны. Чтение картографического текста не может ограничиться
оценкой геометрической точности, фиксацией местоположения объекта и его
топографии. Карты являются инструментами государственной политики.
Создание карт представляет собой риторический маневр: то, что отбирается,
упускается, упрощается, классифицируется, символизируется, располагается «в
центре», прямо связано с субъективными целями создателя карты, с интересами
политических элит. Не трудно заметить, что карты (особенно используемые
государственными органами) реализуют, говоря словами М. Фуко, матрицу
власть-знание. Картографы, создавая карты, производят власть: они создают
пространственный паноптикум. Вот почему можно говорить о власти карты, как
говорят о власти слова или книги. Манипуляции с картой во всех случаях имеют
прямое отношение к активному воздействию на пространство и установлению над
ним контроля [См.: 250]. «Сознательное искажение содержания карт в
политических целях можно наблюдать на протяжении всей истории
картирования, а картографы никогда не были независимыми художниками,
ремесленниками или мастерами… За фасадом процесса картографического
производства можно различить сеть отношений власти…» [Mommonier, 1996. Р.
7]. Сходным образом формулировал проблему картографических технологий и
Дэнис Вуд, считавший, что именно в технологии и форме карты, в ее свойствах
медиума особого рода следует искать объяснения исключительному
политическому ресурсу картографии [Wood, 1992] [Цит. по: 134, с. 88].
Г. А. Орлова выявляет политико-идеологическую функцию использования
географической карты в сталинской культуре: «Географическая карта была одним
из приоритетных визуальных объектов для специального рассматривания, о чем
101
свидетельствуют фотографии из газет и журналов этой эпохи. На снимках далеко
не всегда советский человек смотрит на карту – часто он изображается на ее фоне
лицом к зрителю, – но географическая карта всегда «смотрит» на советского
человека, определяя его позицию для всякого, кто рассматривает фотографию.
<…> В эпоху повышенного политического интереса к пространству и способам
его освоения именно география и картография становятся в СССР медиатором,
соединяющим воображаемое сообщество воедино на основе «технологий
территориальности». Карты, бесчисленные картосхемы, географические картины
и даже пейзаж, внезапно переставший быть непролетарским жанром, активно
используются для визуального определения и натурализации советской Родины»
[134, с.77,79 ].
З. Бауман также видит в картах и картографировании инструмент
государственной власти. Анализируя концепцию пространства, свойственную
новому времени и методам ее претворения в жизнь, он отмечает, что «первой
стратегической задачей «войн за пространство» в эпоху нового времени стало
картографирование пространства в виде, удобочитаемом для государственной
администрации, но противоречащем местной практике – так, чтобы оставить
«местных» без хорошо знакомых средств ориентации, а значит, привести их в
замешательство <…> Раньше карта отражала и фиксировала рельеф местности.
Теперь пришла очередь местности стать отражением карты, подняться до уровня
упорядоченной прозрачности, которого стремились достичь на картах. Теперь
само пространство будет перекроено или выстроено с нуля наподобие карты и в
соответствии с решениями картографов» [13, с.54-55]. И далее: «Добиться
монополии, куда легче, когда карта «идет впереди» картографируемой
территории: если город с момента создания и на протяжении всей своей истории
является проекцией карты на местность; если, вместо отчаянных попыток
втиснуть беспорядочное разнообразие городской реальности в безличную
элегантность картографической сетки, карта превращается в рамки, куда заранее
помещаются еще не возникшие городские реалии, чье значение и функции
проистекают только из места, отведенного им на этой разметке» [13, с.62].
102
Обращение с городом как с картой или проектом, а точнее стремление к
картографической монополии, по мнению З. Баумана, сближает государственную
и архитектурную деятельность. «В утопических представлениях об «идеальном
городе», характерных для эпохи нового времени, неизменное и неослабное
внимание авторов было приковано к урбанистическим и архитектурным
правилам, построенным вокруг одних и тех же базовых принципов: во-первых,
строгого, детального и всеобъемлющего предварительного планирования
городского пространства – создания города «с нуля», на чистом или расчищенном
месте, в соответствии с замыслом, разработанным еще до начала строительства; и
во-вторых, регулярности, однородности, единообразия, воспроизводимости
пространственных элементов, окружающих административные здания,
помещенные в центре города, а еще лучше – на вершине холма, откуда все
городское пространство можно охватить взглядом. <…> Чертежи
«проектировщиков» были островками будущего не только в их собственном
воспаленном воображении. Не было недостатка в армиях и полководцах,
рвущихся использовать «плацдармы» утопистов для развертывания генерального
наступления против сил хаоса и помочь будущему прорваться в настоящее и
покорить его» [13, с. 55-56, 58]. З. Бауман иллюстрирует властные притязания
архитектуры на примере проектов Ле Корбюзье и О. Нимейера. Для Корбюзье
архитектура – враг любому беспорядку, стихийности, хаосу, неряшливости; это
искусство платонической возвышенности, математической упорядоченности,
гармонии; ее идеалы – непрерывная линия, параллели, правильные углы; ее
стратегические принципы – стандартизация и сборка из готовых деталей. Именно
поэтому он мечтал о городе, где власть «Плана-диктатора» над жителями была бы
полной и непререкаемой. Авторитет Плана, заимствованного и укорененного в
объективных истинах логики и эстетики, не терпит возражений и несогласия; он
не принимает никаких аргументов, не признающих строгих правил логики или
эстетики, или не опирающихся на них. Градостроитель-планировщик должен по
определению действовать, не обращая внимания на кипение предвыборных
страстей и оставаясь глухим к жалобам своих подлинных или воображаемых
103
жертв. «План» - это необходимое и достаточное условие счастья людей, которое
не может основываться ни на чем, кроме идеального соответствия между научно
определенными потребностями человека и однозначным, прозрачным и понятным
устройством жилого пространства. В Лучезарном городе Корбюзье власть
архитектуры означала бы, например, смерть улицы как неорганизованного и
случайного побочного продукта нескоординированной и асинхронной истории
застройки, места, где правит стихийность и двусмысленность. Дороги и здания
должны служить конкретным задачам, таким как перемещение людей и товаров с
одной функциональной площадки на другую, и эту единственную функцию
следует избавить от всех нынешних помех, создаваемых прогуливающимися
фланерами, праздношатающимися и просто случайными прохожими [См.: 13,
с.64, 65].
Но если идеальный город Корбюзье остался только на бумаге, то Оскар
Нимейер получил шанс его материализовать в строительстве новой столицы
Бразилии. Это город, в котором, в полном согласии с постулатами Корбюзье,
случайность и неожиданность были изгнаны окончательно и бесповоротно.
«Однако для своих жителей Бразилиа превратилась в кошмар. Ее незадачливые
жертвы мгновенно вызвали к жизни понятие «бразилита» — нового
патологического синдрома, прототипом и эпицентром которого по сей день
остается Бразилиа. Самыми заметными симптомами бразилита, по общему
мнению, является отсутствие толп и тесноты, пустые перекрестки, анонимность
окрестностей и безликость человеческих фигур, цепенящая монотонность среды,
где ничто не способно удивить, озадачить или заинтересовать. Проектировщики
Бразилиа устранили саму возможность случайных встреч везде, кроме нескольких
мест, специально предназначенных для публичных собраний. Назначить встречу
на единственном спроектированном для этого «форуме», гигантской «Площади
трех сил», это, согласно популярной шутке, все равно, что договориться
встретиться в пустыне Гоби. <…> Она была бы безупречно структурированным
пространством для идеальных, воображаемых жителей, отождествляющих
счастье с беспроблемной жизнью, поскольку в ней отсутствуют неоднозначные
104
ситуации, нет необходимости делать выбор, не существует риска и шанса на
приключение. Для всех остальных город оказался пространством, лишенным
подлинной человечности – всего, что наполняет жизнь смыслом и ради чего
стоит жить» [См.: 13, с. 65, 67].
Анализ репрезентаций города в медиатекстах также обнаруживает
притязание на власть-знание их создателей. Манипулятивная природа любых
медиатекстов обстоятельно исследована. Медийные коммуникации – газеты,
радио и телевидение, туристическая реклама, сайты городов и регионов, брендинг
территорий, имиджевые фотографии и видео – вносят свой вклад в
репрезентацию городского пространства.
Подчеркнем, что особенность реализации стратегий власти и контроля
авторов репрезентаций города как кинематографического, рекламного,
фотографического и иного изобразительного текста, транслируемого в масс-
медиа, связана прежде всего с тем, что некоторые исследователи предлагают
обозначить как «формирование пространственной повестки дня». «Внимание
исследователей практически всегда сосредоточено на событийном,
содержательном аспекте медийных сообщений. Иначе говоря, исследуется
тематическая повестка дня. Однако все, что происходит, происходит где-то – и
место действия (события, происшествия и т.д.) в обязательном порядке
обозначено в любом медиатексте. СМИ проблематизируют не только
определенные явления или события, включая их в повестку дня – они
проблематизируют также и конкретные места, территории, придавая им статус
благополучных или неблагополучных, обычных или экзотичных и т.д. При этом,
очевидно, что образы регионов могут быть клишированы и стереотипизированы,
одни регионы становятся зоной постоянного внимания, в то время как другие
практически не появляются в ней» [См.: 128]. Иначе говоря, интерес к тому или
иному событию, последующему его копированию и тиражированию, включению
в информационный обмен и товарооборот может быть сознательно
спровоцирован. «Мы видим лишь то, что нам предлагают увидеть, мы знаем о
том, что нам позволяют узнать. Так происходит практика «вытеснения» и
105
«подмены» реальности ее образами»[165, с. 96]. Средства массовой
коммуникации продуцируют то, что М. Оже называл городом-фикцией, городом,
порожденным образами и экранными отражениями [См.: 132]. Конструируя и
транслируя образы, символы, истории, артефакты, масс-медиа не только
удерживают внимание аудиторий на отобранных ими городских текстах, но берут
на себя роль «воспитателя», создавая своего рода словарь для выражения мыслей
и чувств, подсказывая и показывая, как следует относиться к феномену города,
что и как следует делать, что можно или нужно говорить. Собственно в этом
форматировании массового сознания и реализуются властные стратегии
производителей городских медиатекстов.
Наконец, в качестве особого вида визуальной репрезентации города можно
рассмотреть разнообразные информационно-указательные уличные знаки:
вывески, номерные знаки домов, указатели улиц, дорожные и предупреждающие
знаки в зонах транспортных и пешеходных потоков, знаки визуальной навигации,
по которым любой человек сможет самостоятельно ориентироваться в новом для
него месте, запрещающие (например, «не курить», «не мусорить», «посторонним
вход запрещен», «вход с животными запрещен») и указательные (например,
«место для курения», «запасной выход», «место сбора») знаки. Использование
изобразительных средств как для структурной и социальной разметки городского
пространства (и тем самым его конституирования), так и для регулирования
поведения людей в городе выступает важнейшим ресурсом воспроизводства
субъекта власти, монополизирующего не только функции размещения, установки
и контроля за соблюдением на контролируемой территории тех или иных
уличных знаков2, но даже их графический дизайн. И хотя горожане зачастую не
воспринимают уличные знаки как форму принуждения и контроля,
2 Показательны нормативные документы, жестко регламентирующие внедрение и
установку информационно-указательных знаков на подчиненной административной
территории. См., напр.: http://mosopen.ru/document/287_rp_1999-04-02 или
http://www.chelmuzhi.ru/postanovleniya/2012_god.html (Постановление “Об утверждении
положения об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и
номерами домов на территории Чёлмужского сельского поселения от 17.02.2012?).
106
«объективирование и обозначение аспектов социальной жизни позволяет
формализовать социальные практики таким образом, чтобы они могли быть
наблюдаемы, исследованы, произведены и выполняли регулирующую функцию»
[253, c. 461]. По мнению Дж. Хермера и А. Ханта, городские уличные знаки могут
рассматриваться как пример «идеографии идеологии», использующей широкий
лексикон артикуляций и формирующей дискурс для доминирования и
позиционирования акторов в социальном пространстве [См.:253, c. 475].
Таким образом, визуальные репрезентации города обнажают позицию
наблюдателя, отстраненного, дистанцированного, находящегося над или вне
городского пространства. Такая перспектива наблюдения открывает возможность
взаимодействия с городом как с объектом управления, исследования,
архитектурного эксперимента, художественного истолкования и иных форм
«манипуляций». Соответственно за визуальными репрезентациями города
обнаруживается самопрезентация субъекта власти /контроля/порядка.
2.2 Город как «свой/чужой»: перспектива обыденного восприятия
Смена точки зрения на город означает смену ролевого поведения
смотрящего и, соответственно, решение им иных идентификационных задач.
Взгляд на город, говоря словами А. Лефевра, как на «проживаемое пространство»,
позволяет визуальному социологу выявить взаимообусловленность визуального
поведения и территориальной идентичности социальных субъектов, включение
визуальных коммуникативных практик в наблюдаемые и демонстрируемые
модели городского территориального поведения. Тем самым данная перспектива
проблематизирует прежде всего процедуры и процесс городской
самоидентичности.
Понятие «территориальная идентичность» обозначает одну из форм
социальной идентичности, а именно отнесение и самоотождествление
социального субъекта с конкретной территориальной общностью. Шматко Н. А. и
Качанов Ю. Л., размышляя о территориальной идентичности, отмечают, что «она
устанавливается как результат двух процессов: объединения и различения. Чтобы
107
идентифицировать территориальную общность, необходимо ее для себя
«определить» (хотя бы на аффективном уровне) и одновременно отделить от
остальных общностей. Поэтому истинное значение территориальной
идентичности связано со всеми сходствами и различиями, объединениями и
противопоставлениями общественной жизни. Взгляд субъекта на себя в
определенном месте пространства социальной географии есть отношение образа
Я к структуре интериоризированных образов территориальных общностей. В этом
плане территориальная идентичность является идеальной представленностью
социального отождествления “Я как член территориальной общности?» [205, с.
94].
Изучение того, что люди думают и как ощущают место и пространство, как
формируется ощущение привязанности к дому, району, городу и стране в целом,
потребовало введения и разработки специального ряда понятий. Г. Коржов,
перечисляя имеющиеся в исследовательской литературе термины, близкие или
тождественные по смыслу с термином «территориальная идентичность»,
приводит следующие: идентичность с местом (place identity), локальная
идентичность (local identity), региональная идентичность (regional identity),
идентичность со средой (environmental identity), городская идентичность (‘city’
identity, urban related identity, social urban identity), идентичность с местом
проживания (settlement identity). Такие понятия, как ощущение места (sense of
place) и укорененность (rootedness) акцентируют эмоциональное отношение к
месту. «Первое означает осознание позитивных чувств к определенному месту, а
второе — ощущение “быть как дома”. Эти понятия перекликаются с другим,
ставшим в последние годы более привычным и нормативным среди
исследователей территориальных явлений, а именно: привязанность к месту
(attachment to place). Оно означает аффективную связь (эмоции, чувства,
настроения и т. п.), которую индивид ощущает по-разному, с разной силой, в
разных формах и с разной степенью осознания в отношении тех мест, где он
родился, живет и действует»[96, с. 111].
108
Подчеркнем, что приведенный терминологический ряд, обозначающий
«территориальную идентичность», в полном соответствии с содержанием базовой
категории «социальная идентичность», нацелен на описание взаимодействия
когнитивной и поведенческой систем социального поведения. Иначе говоря,
идентификация с той или иной территориальной общностью неотделима от того,
как социальная группа или индивид осваивает и обживает эту территорию, то есть
имеет место взаимообусловленность территориального поведения,
самоопределения и самопрезентации действующего субъекта. Тем самым
исследование территориальной идентичности, на наш взгляд, стимулирует
обращение к социально-конструкционистской традиции в социологии, согласно
которой «мы не можем сделать исчерпывающее заключение о внутренних
причинах, побуждающих людей действовать так или иначе, но мы можем
рассмотреть те действия (языковые и неязыковые), которые воспринимаются и
интерпретируются ими как имеющие определенный смысл и, соответственно,
запускают определенную ответную реакцию. Иными словами, значения, которые
коммуникаторы придают сообщению, не заданы заранее, но создаются,
производятся, конструируются в процессе коммуникативного взаимодействия
посредством дискурсивных процедур и практик, зависимых от контекста и в то же
время приводящих в действие специфические социально узнаваемые типы
контекстов»[90, с. 3]. Предлагаемые в литературе определения территориального
поведения подтверждают это предположение: «…территориальное поведение
можно описать, как коммуникативно-инструментальные действия индивидов и
групп (складывающиеся “внутри? социально-территориальной общности и между
общностями), являющиеся рефлексией их территориальных интересов и
формирующие на данной территории жизненное пространство и политико-
экономическую систему, призванные обеспечить успешную адаптацию к
условиям проживания на ней посредством как стратегического (политико-
экономического) телеологического действия, так и коммуникативного
(вербального (непосредственного) и технологического (опосредованного))
обмена» [76, с. 87].
109
В этой же плоскости ведется поиск и в рамках так называемой «культурной
географии», изучающей «пространственные и культурные различия между
регионами Земли, основанные на идентификации географических пространств с
точки зрения их культурной самобытности» [См.: 106]. Рецензируя работы
зарубежных исследователей, которые могут быть отнесены к области культурной
географии (прежде всего работы А. Лефевра, Л. Лофланд, Э. Соджи и др.),
Черняева Н. А. отмечает: «…новая культурная география рассматривает
пространство как социальный продукт, результат экономического и культурного
производства, который при этом скрывает условия своего формирования и
предстает как натуральный. <…> Категория «места» в современной культурной
географии стала…той категорией, через которую осмысляются наиболее важные
теоретические проблемы дисциплины – проблемы соотношения экономического и
дискурсивного в производстве пространства, «аутентичности» и
«репрезентирования», механизмов и факторов смыслообразования в сфере
географии и ландшафта и др. В не меньшей степени категория «места» создает
инструмент политического анализа сегодняшних экономических и культурных
территорий, позволяя анализировать, чьи именно интересы, системы
репрезентации, чья память и чье культурное наследие оказываются
воплощенными в отдельных местах культурного ландшафта, будь то город,
район, отдельно взятое здание или архитектурный памятник» [См.:204]. Дж.
Роуэлс выделяет три стадии в освоении пространственной среды: первая – стадия
«физических интеракций» со средой, детальная осведомленность относительно
окружающего пространства (по типу «как добраться»); вторая стадия –
«социальные интеракции» как ощущение себя частью данного сообщества
(например, «земляки») и третья – «автобиографическая» стадия формирования
«пространственной идентичности» как ощущение биографической
«встроенности» в данное пространство в течение длительного времени [Rowles,
1983] [См.: 168, с. 76].
Решение поставленной в данном параграфе задачи, а именно определение
места визуальных практик в процессе самоидентификации субъектов «внутри»
110
городской среды, предполагает прояснение следующих вопросов: 1) какие виды
визуальных практик функционируют как практики идентификационные и 2) какие
векторы территориальной/городской идентичности возникают при обращении
социальных субъектов к тем или иным визуальным практикам.
Обращаясь к первому вопросу, оценим идентификационный потенциал
следующих визуальных практик, реализуемых жителями города: создание
ментальных (или когнитивных) карт города; рассматривание города;
любительские фотографии города.
2.2.1 Ментальные карты города: обучение видеть
Понятия «ментального образа города» (mental image) и ментальных карт
(mental maps), как известно, были использованы К. Линчем для обозначения
восприятия и организации людьми пространственной информации во время
перемещения по городу. Предложив респондентам нарисовать карты своих
городов, какими они им представляются, и получив в результате множество
разных карт, он обнаружил повторяющиеся визуальные характеристики, которые
и были предложены им в качестве ключевых структурных элементов образа
города: пути (paths), края (edges), ориентиры (landmarks), районы (districts) и узлы
(nodes) [См.: 112].
«1. Пути – это коммуникации, вдоль которых наблюдатель может
перемещаться постоянно, периодически или только потенциально. Их роль могут
играть улицы, тротуары, автомагистрали, железные дороги, каналы: люди
обозревают город, двигаясь по нему, относительно путей организуются все
остальные элементы среды.
2. Границы, или края, – это те линейные элементы окружения, которые
наблюдатель не использует в качестве путей и не рассматривает их в этом
качестве. Это границы между двумя состояниями, линейные разрывы
непрерывности: берега, железнодорожные выемки, края жилых районов, стены.
Это скорее линии соотнесения по горизонтали, чем координирующие оси. Такие
границы могут быть легко или трудно преодолимыми барьерами,
111
отгораживающими один район от другого; они могут быть лишь швами, линиями,
вдоль которых два района как-то соотнесены и связаны между собой.
3. Районы – это части города, средние по величине и представимые как
двухмерная протяженность, в которую наблюдатель мысленно входит «изнутри».
Всегда опознаваемые изнутри они могут служить и в качестве системы отнесения
извне, если только их можно рассматривать с внешней позиции. Большинство
людей упорядочивает свой город по районам с большей или меньшей четкостью,
вопрос о том, пути или районы являются доминантными элементами, решается
индивидуально, что зависит не только от личности, но и от характера каждого
города.
4. Узлы – это места или стратегические точки города, в которые
наблюдатель может свободно попасть, фокусирующие пункты, к которым и от
которых он движется. Это прежде всего соединительные звенья, места разрыва
транспортных коммуникаций, перекрёстки или слияния путей, моменты
скачкообразного перехода из одной структуры в другую. Узлы могут быть и
просто местами максимальной концентрации каких-то функций или особенностей
облика: от кафе на углу до замкнутой площади. Некоторые из таких мест
концентрации являются фокусирующими точками целого района или даже
отождествляются с ним, если их воздействие носит центробежный характер и
сами они приобретают символическое значение. Такие узлы можно было бы
назвать сердцевиной.
5. Ориентиры – тоже точечные элементы, но наблюдатель не вступает в их
пределы, и они остаются внешними по отношению к нему. Обычно это
достаточно просто определяемые материальные объекты: здание, знак, фасад,
витрина, гора. Использование ориентира означает вычленение одного элемента из
множества. Одни ориентиры – дистанционного типа – воспринимаются обычно
под разными углами и с различных расстояний, поверх элементов меньших
габаритов и служат для ориентации относительно центра или центров. Они могут
быть расположены внутри города или на таком удалении, что для практических
нужд вполне надёжно обозначают направление: отдельно стоящие башни,
112
золоченые купола, крутые холмы. Другие ориентиры – локального типа, видимые
только в ограниченных пределах и с определённых подходов. Это бесчисленные
знаки, вывески, витрины, деревья, дверные ручки и прочие детали, которые
насыщают образ города для большинства наблюдателей. Они часто служат
ключами опознания даже структуры образа, и на них люди полагаются вовсе
большей степени по мере того, как маршрут становится знакомым.
Образ данной предметной действительности может менять позицию к
нашей классификации в зависимости от обстоятельств восприятия. Так,
скоростная магистраль одновременно играет роль пути для водителя и границы
для пешехода; зона центра может трактоваться как район в городе средней
величины или как узел, если учесть территорию агломерации. Однако нами
избраны категории, обладающие стабильностью для данного наблюдателя,
действующего в определённой роли».
Методологической установкой исследования образа города, по заявлению
самого К. Линча, было достижение очевидной ясности, или читаемости,
городского ландшафта, под которой он понимал «лёгкость, с которой части
города распознаются и складываются в упорядоченную картину». Казалось бы,
перед нами явно выраженная «текстологическая» перспектива, с характерной (как
было рассмотрено в предыдущем параграфе) установкой на управление и
преобразование городской среды: «Читаемым городом мы назовем такой, в
котором районы, ориентиры или пути легко определяются и легко группируются
в целостную картину. Цель книги – отстоять взгляд, согласно которому
читаемость имеет ключевое значение в сложении города, и показать, как эту
концепцию можно было бы использовать сейчас в перестройке наших городов»
[112].
Вместе с тем ментальные карты города, выступая одновременно
исследовательским методом и полученным в результате проведенного
исследования продуктом, имеют отношение прежде всего к повседневному
восприятию города, то есть к визуальной деятельности рядового горожанина. В
связи с этим показательны рассуждения Линча, касающиеся стратегического
113
воздействия ментальных карт именно на визуальный опыт людей: «…конечной
целью плана визуальной организации является не предметная форма как таковая,
а качество образа. Поэтому не меньшее значение имеет улучшение этого образа
через подготовку наблюдателя, через обучение горожан смотреть на свой город,
видеть многообразие его форм и их взаимопереплетение. Извлекая людей на
улицу, проводя занятия в школах и вузах, можно преобразовать город в живой
музей нашего общества. Искусство проектирования города будет во многом
зависеть от информированности и критического чувства городской аудитории;
образование и реконструкция предметного окружения представляют собой две
стороны единого процесса. <…> В процессе формирования образа обучение
видеть будет играть не меньшую роль, чем перестройка того, что открывается
взгляду. Это и в самом деле циклический, а в идеале – спиральный процесс:
визуальное просвещение толкает горожан к воздействию на видимый мир, а это
воздействие в свою очередь позволяет видеть его чётче и острее. Развитие
искусства проектирования для города тесно сопряжено со сложением
внимательной, способной на критику аудитории, и если само искусство и публика
будут развиваться вместе, наши города превратятся в источник повседневного
удовлетворения для миллионов их обитателей» [112]. Очевидно, что в данном
обращении актуализированы визуальные процедуры формирования идентичности
горожанина как стратегическая задача.
Критически развивая идею ментальных карт города, Дж. Голд, в свою
очередь, обратил внимание на то, что «…даже следуя по одному и тому же пути,
пешеход и человек, едущий в автомобиле, обычно видят окружающий мир по-
разному вследствие неодинаковости углов зрения, под которыми воспринимаются
объекты, а также разницы в продолжительности времени их обозрения, связанной
с разницей скоростей передвижения…, что ведет к тому, что впечатления людей,
принадлежащих к разным группам, уже совершенно не совпадают» [51, с. 123-
124]. Утверждая, что статус пребывания человека в городе оказывает
существенное влияние на характер его восприятия, Голд тем самым переводит
тему ментальных карт в социологический контекст, а конкретное указание на
114
особенность картирования города представителями различных социальных групп
ставит «в повестку дня» проблему территориальной (городской) идентичности:
«турист видит город «свежим взором», однако может быть настолько поглощен
поиском правильного пути в неизвестном ему месте, что будет способен
воспринять совсем немногое из того нового, что содержит неизвестный ему
город. С другой стороны, маятниковый мигрант за рулем автомобиля может быть
совершенно равнодушен к пространственному окружению своего каждодневного
маршрута передвижения. Он, конечно, заметит появление какого-либо нового
объекта и зафиксирует случившееся происшествие, но, как правило, он
практически не обращает внимания даже на яркие особенности окружающих
ландшафтов, сосредоточивая основное внимание на автомобилях, движущихся по
дороге, и том, что происходит по обеим ее сторонам» [51, с. 124]. Дж. Голд
выявил существенные различия ментальных карт микрорайона у людей,
проживающих на одной и той же улице, но принадлежащих разным социальным
группам в зависимости от уровня дохода и вида занятий [См.: 51, с.133].
Рассуждая о природе городской идентичности, он отмечал: «Видимо, человек не
способен идентифицировать себя с городом в целом, однако вполне может
ощущать свою принадлежность к какому-либо внутригородскому сообществу
<…> …чувства дружелюбия и взаимной поддержки… характерны для обитателей
отдельно взятых районов города. В этом же ряду стоит тот факт, что люди,
являющиеся членами местного городского сообщества, обычно испытывают
чувство близости друг к другу, как и к элементам их общей микросреды. Это
ощущение близости, которое появляется в результате долгого повседневного
обитания в пределах одной территории, дает человеку возможность чувствовать
себя в большей безопасности» [51, с.169].
Сходные результаты, демонстрирующие принципиальное отличие
ментальных карт горожан в зависимости от длительности пребывания в городе,
вида занятий, обладания властью, в целом «исходя из логики своей жизни»,
получены в исследовании Тимофеевой Т. Н., изучавшей когнитивные карты
города Кяхты [См.:185].
115
Таким образом, находит экспериментальное подтверждение идея о том, что
между «реальностью» и «ментальным образом» отсутствует жесткая связь, что
ментальные карты города, скорее выступают инструментами группового
самоопределения, хотя идентификационный смысл этих процедур визуализации
города, как правило, не осознается социальными субъектами.
С. Милграм в одном из своих исследований показал, что для создания
ментальной карты города принципиальное значение имеет предварительная
установка или инструкция, которую получает респондент. Он просил парижан
нарисовать карту города, на которой они могут обозначить все его элементы,
которые придут на ум: памятники, площади, отдельные кварталы, улицы или что-
то еще, при этом предупреждая участников, что набросок должен выражать их
видение, а не представлять собой туристическую карту города [См.: 122, с. 93].
Подобное инструктирование, используемое при изучении ментальных
образов и карт города, на наш взгляд, представляет собой прием актуализации
групповой принадлежности и тем самым запускает процесс групповой
идентификации. Инструкции могут акцентировать коммуникативный мотив:
например, в анкете, разработанной Д.Ч.Д. Пококом для жителей, приезжих и
туристов английского города Дарема, информантам было предложено изобразить
такую карту, чтобы другие люди смогли найти по ней дорогу: «Представьте, что у
Вас есть друг, который собирается впервые посетить Дарем. Он(а) слышал(а) о
нем от вас и беспокоится, что не хватит времени. Поэтому Вас просят сделать
рисованную или эскизную карту, показав (1) то, что поможет ему (ей)
сориентироваться и (2) то, что, по Вашему мнению, стоит пропустить». Или в
исследовании М.Х. Мэтьюза детей 6-11 лет просили нарисовать карту,
сопровождая задание словами: «Представь, что ты возьмешь меня с собой, когда
отправишься из дома в школу. Пожалуйста, нарисуй мне карту…»; «Я
остановился у тебя дома и ты собираешься показать мне окрестности своего дома.
Пожалуйста, мог бы ты нарисовать мне карту…» [Цит. по:32, с. 13, 14]. И хотя,
казалось бы, такие задания измеряют то, чем положено гордиться в этом месте,
что принято показывать, что может быть интересно другим, иначе говоря, то, что
116
информант желает сообщить Другому, а не то, как он представляет некое место
«для себя» [См:32, с. 14], тем не менее очевидно, что, как отмечалось выше, для
формирования территориальной идентичности процесс установления отличия от
«не своей» территориальной общности не менее важен, чем процесс объединения
«со своими».
Семенова В. В., опираясь на работы зарубежных исследователей, полагает,
что «визуальные презентации образов городского пространства могут
рассматриваться как способы самопрезентации, т. е. как способность через
пространственные образы отображать собственную субъектность, собственные
личностные смыслы. Тогда пространственные образы понимаются как образы,
имеющие некую концептуальную основу, как форма визуализации своего «я»
[Jameson, 2007; Kuby et al., 2007]. «Картирование» в этом случае понимается как
символическая форма презентации себя, и, следовательно, от исследователя
требуется интерпретация и расшифровка субъективных смыслов, которые
заложены в построение этих своего рода «ментальных» карт [Soja, 2000]. [См.:
167, с. 76). «Зрительные образы «моего» пространства отображают сложность его
восприятия и визуального выстраивания: от простого «линейного» картирования
до сложной, населенной образами и людьми модели мира… Тем самым
картирование становится способом выхода на проблематику субъектности,
раскодирования скрытых личностных смыслов и проблематику коллективной и
индивидуальной идентичности» [167, с. 77].
Таким образом, ментальные карты города, представляя собой визуальные
образы городской территории, интересны для нашего исследования именно
потому, что это «не продолжение или дублирование («иллюстрация») вербальной
информации, а самодостаточный эмпирический материал, где визуальное
является центральным, приоритетным» [32, с.7]. Поскольку непосредственным
создателем ментальной карты является не эксперт или исследователь, а
горожанин-информант, выражающий свое видение местности (пусть и
спровоцированное исследователем), постольку можно говорить о визуальных
117
практиках особого рода, раскрывающих и конституирующих горожанина как
субъекта визуальной деятельности.
2.2.2 Рассматривание города: стратегии ролевой идентификации
Поведение горожанина, рассматривающего город, - одна из центральных
тем в рамках урбанизма повседневности. Методологическая установка осмыслить
рассматривание и наблюдение города и в городской среде как особого рода
визуальную практику, сформулирована Амином Э. и Трифтом Н. Обсуждая
пространственную и временную открытость города (обозначенную ими термином
«транзитивность»), они (ссылаясь, в свою очередь, на работу М. Шерингэма)
утверждают, что «“скрытый принцип изменчивости”, который движет городской
жизнью, требует и “соответствующего ему движения со стороны наблюдателя”.
Традиционные средства – карты, описания, макеты, выделение самого
существенного – малопригодны. Нужно вжиться в рефлексирующего прохожего,
во фланера, который, погружаясь в прогулку по городу через ощущения, эмоции и
восприятия, вступает в “двусторонний контакт между городом и сознанием”. В
итоге этого контакта мы получаем “знание, неотделимое от этого процесса
взаимодействия”. Современный урбанизм возродил традицию фланерства
рассматривать город с близкого, уличного, расстояния. Здесь мы опять
наталкиваемся на мысль о том, что город как “переживаемое сложное
образование” (Chambers 1994) требует альтернативных описаний и карт,
основанных на странствиях» [2, с.5].
А. В. Дахин, размышляя о проблеме коллективной идентичности городского
сообщества, использует понятие городская loci-совокупность для обозначения тех
мест, расположение и облик которых известен всем жителям города. Он выделяет
три составляющих loci-совокупности: 1) фоновые практики, то есть повседневную
бытовую и профессиональную (функциональную) активность жителей
сообщества на территории города, благодаря которой городская территория
становится для них «своей», «знакомой», «освоенной», является частью
коллективного имени (например, «нижегородец») и частью общегородской
118
идентичности: предполагается, что человек, относящий себя к конкретному
городскому сообществу (называющий себя, к примеру, «москвич», «томич»,
«петербужец»), живёт в этом городе, бывает на таких-то улицах, площадях и
считает эти места частью своей жизни; 2) топонимический язык городского
сообщества, позволяющий, благодаря сохранению/возвращению исторических
названий улиц, площадей, районов, отдельных зданий, имени самого города,
удерживать образы городской жизни и обеспечивать их историческое
наследование; 3) специализированные социальные институты, призванные
хранить фрагменты предшествующей истории города и
институционализированные объекты памятования: это музеи, библиотеки,
архивы, архитектурные и пр. памятники, экскурсионные бюро и т. п. [См.: 60,
с.169-170].
Визуальное поведение горожан, на наш взгляд, можно рассматривать как
одну из составляющих фоновых практик, о которых говорит исследователь: речь
идет о привычке видеть свой город, рассматривать и любоваться им,
присматриваться и делиться своими наблюдениями. «Никаких историй не будет
существовать в городе, жители которого стремглав передвигаются в теле города,
ничего не видя вокруг, ничего не замечая, не рассматривая. Манера жизни
делового человека-кочевника отчасти стимулирует эту «абсолютную
проходимость» (Бодрийяр) городских пространств, когда события повседневной
жизни даже визуально привязываются только к деловому ежедневнику, к
интерьерам деловых офисов, автомобилей или самолётов. Город остаётся за
рамкой процесса жизни.
- Что Вы видели сегодня в городе?
- Ничего.
Это значит, что произошло отслоение зрения (а значит и чувства, и
мышления) человека от города» [60, с. 177].
Тема рассматривания города как своеобразного ресурса самоидентификации
человеком себя в качестве горожанина проработана в литературе при описании
феномена фланёрства.
119
Исследователи, размышляющие о фланёре и фланерстве, подчеркивают, что
понять это явление можно лишь в контексте функционального значения
публичного пространства города. Лин Лофланд, характеризуя город как место,
отмечала, что сама городская жизнь «стала возможной благодаря
упорядочиванию городского населения по внешнему виду и расположению в
пространстве таким образом, что люди в городе могут узнать об окружающих
многое, просто глядя друг на друга» [Цит. по: 70]. А. Желнина в свою очередь
отмечает, что «большинство исследователей рассматривают публичное
пространство как некую «игровую площадку», арену для самовыражения,
самоутверждения и демонстрации различий социальных групп и культур,
представители которых живут в данном городе… Все посетители публичных мест
являются одновременно наблюдателями, зрителями определенных ситуаций и
происшествий, и их участниками, актерами. На этом принципе строится
интеракция в публичных местах; чаще всего она носит визуальный характер» [69,
с. 54]. По мнению А. Желниной, открытые городские пространства в анонимной и
информационно перенасыщенной городской среде выполняют коммуникативную
функцию, позволяя людям, говоря словами Д. Джейкобс, «найти общий язык
тротуара». «Фактически эти пространства выполняют роль обучающей,
наблюдательной площадки, на которой люди видят и изучают друг друга,
набираются опыта о том, какие есть социальные группы, образцы поведения и т.
п. Особенно это принципиально для молодых людей, для которых публичные
пространства – одна из площадок социализации» [См.: 70].
Термином «фланёрство» и фиксируется особое поведение людей в
публичном пространстве. «Фланер» - это человек, совершающий беспорядочные
по схемам передвижения променады, моционы и прогулки в городском (или
любом другом) пространстве с целью созерцания и наблюдения за тем, что или
кто привлекает внимание, кажется интересным и занимательным. Деятельность
фланера приобретает оформленный вид в том случае, если он выступает в роли
интерпретатора – человека, чьим глазом воспринимаются улицы, дома, кварталы,
лица людей, детали их одежд, манер и поведения; чьим ухом слышатся шумы и
120
звуки. Голосом и словом фланера-интерпретатора все это начинает звучать и жить
своей особой жизнью на страницах публицистических зарисовок, эссе, книг,
гравюр, картин и реализуется в образе» [173].
Обратим внимание на то, что в этом определении за общим термином
«фланерство» описываются разнообразные виды визуального поведения: от
относительно пассивного созерцания и наблюдения до активной
исследовательской деятельности, продуктом которой становятся вполне
материальные объекты – книги или изобразительные тексты, представляющие
город. Э. Амин и Н. Трифт предложили называть фланера-исследователя
“теоретиком”, приводя в пример фигуру В. Беньямина: «Это одаренный
размышляющий прохожий, намеренно затерявшийся в каждодневной городской
неразберихе и ритмах. Этот прохожий наделен и поэтической чувствительностью,
и поэтической наукой, которую почти невозможно отделить от методологии
исследования города. Беньямин, например, делал гораздо больше, чем просто
впитывал в себя транзитивность Неаполя, Москвы и Марселя. Он не был наивным
и впечатлительным дилетантом. Напротив, он был вооружен трансцендентальной
спекулятивной философией, позволявшей ему отбирать, упорядочивать и
интерпретировать его чувственный опыт города. Это были рефлексивные
блуждания, подразумевавшие особую теорию городской жизни, требовавшую
раскрытия мельчайших процессов, протекавших в город». [2, с. 7].
Иную ипостась фланерства, а именно, игровую, творческую и даже
протестную, выделяет А. Желнина, относя к фланерам писателей, журналистов,
художников: «…фланеры – туристы в родном городе, они превращают рутину и
обыденность в объект наслаждения – эстетического, визуального, а каждого из
прохожих – посторонних, чужаков – в объект неподдельного интереса…
Фланирование – игра, развлечение, искусство, неприметное творчество. В то же
время, фланирование – странный, тихий, но действенный протест против
всеобщей суеты и погони за результатом, которым подчинена сегодняшняя
городская культура. Остановиться, не спешить, смотреть на то, что, как будто, не
121
стоит внимания, серьезно изучать несерьезное могут позволить себе все, но
почему-то удается это не каждому [См.: 71].
Еще один собирательный портрет фланера можно найти в работе
норвежской исследовательницы О. Сётер. В ее представлении фланер отнюдь не
бездельник: он вступает в коммуникацию со знаками истории, исследуя
возможности – различные перспективы и направления – городского пространства.
Фланер тратит большую часть времени в кафе и ресторанах, рассматривая
городской спектакль и новые изобретения, а также восхищаясь новыми зданиями.
Он может быть художником, собирающим материал для своей работы, создавая
свои собственные фантазии и интерпретации городского пространства. Он может
быть исключенным, одиноким бродягой, беглецом, скрывающимся от полиции,
или фигурой, которая привлекает внимание других. Он также может представлять
собой демонстрацию против разделения труда. Это фигура, которая в своей
амбивалентности выражает меланхолию города, которая лежит в
нереализованном желании, связанном с потреблением и зрелищем. Поток товаров
вызывает подобие интоксикации, но он также и отдаляет. Так как большинство не
может себе позволить эти товары, для них единственным средством потребления
является рассматривание. [См.:279, с. 185,186,187].
В описанном фокусировании на рассматривании города как
самодостаточном занятии, обращение к которому становится предметом
популяризации и даже престижа (А. Желнина отмечает, что некоторые
современные молодые люди на страницах своих блогов именуют себя фланерами,
используя это слово в новом, «тусовочном», смысле, потерявшем изрядную долю
философствования и созерцательности, свойственных фланерам, описанным Ш.
Бодлером и В. Беньямином [См.: 71] ), на наш взгляд, и состоит своеобразная
визуальная стратегия конституирования городского поведения как особого вида
социального поведения, приобретается чувственный и психологический опыт
самоопределения горожанина.
Рассматривание города может выполнять идентификационную функцию не
только в отношении фланирующего городского прохожего, но и жителя
122
конкретного городского микрорайона. Этот аспект визуальной практики
горожанина представлен в работе Дж. Джекобс «Смерть и жизнь больших
американских городов». Обсуждая вопрос безопасности на городских улицах, она
выделяет принципиально важную для формирования городского пространства
социальную группу, которую назвала «естественные хозяева улицы». Эти люди
обеспечивают безопасность, как свою собственную, так и незнакомцев, благодаря
тому, что могут просматривать свою улицу [См.:63, с. 8). Джекобс приводит
пример, как однажды она ожидала автобус на одной из улиц в Нижнем Ист-Сайде
Манхеттена. «Потребовалось не больше минуты, и я уже начала наблюдать за
прохожими и игрой детей, как мое внимание привлекла женщина, открывшая
окно квартиры на третьем этаже дома на противоположенной стороне улицы и
начавшая энергично жестикулировать мне. Когда я обратила на нее внимание, она
прокричала мне: «Автобус по субботам здесь не ходит!» Затем жестами и
мимикой она показала мне, куда идти. Эта женщина была одной из многих тысяч
жителей Нью-Йорка, которые при случае заботятся об улицах. Они замечают
неместных. Они следят за всем происходящим. Если им нужно что-то сделать,
например, сказать неместному, что он ждет не там, или вызвать полицию, они
делают это. Конечно, для таких действий обычно необходима определенная
уверенность действующего лица в праве собственности на улицу и в помощи,
которую он при необходимости получит. Но еще важнее, чем действия и
необходимых условий для него, «само наблюдение» (63, с.10).
Хотя описанная визуальная практика, является, скорее, соседской или
коммунальной, а не специфически городской, вместе с тем идентификационное
значение подобного визуального поведения для формирования и проявления
территориальной идентичности, на наш взгляд, безусловно. Показательно, что
описывая визуальное поведение горожанина, сама исследовательница, следуя за
взглядом человека смотрящего, размечает оптимальную, с ее точки зрения,
безопасную среду городского микрорайона. «Основное условие такого
наблюдения наличие большого количества магазинов и других публичных мест,
разбросанных вдоль тротуаров района; особенно важны предприятия и
123
общественные места, которые используются в вечернее и ночное время.
Магазины, бары и рестораны, как основные примеры, различным и сложным
образом способствуют обеспечению безопасности на улицах. Во-первых, они
создают основания для того, чтобы люди – и местные жители, и неместные –
пользовались улицами, на которых расположены такие предприятия. Во-вторых,
они заставляют людей проходить мимо мест, которые сами по себе не имеют
ничего привлекательного для публики, но которые лежат на пути к чему-то еще;
географически такое влияние простирается не очень далеко, поэтому предприятия
должны располагаться в городском районе так часто, чтобы наполнить
пешеходами те отрезки улицы, вдоль которых нет публичных мест. Кроме того,
должно быть много различных предприятий, чтобы у людей были причины
проходить мимо друг друга. В-третьих, хозяева магазинов и другие мелкие
предприниматели обычно бывают горячими сторонниками общественного
спокойствия и порядка; они не любят разбитые окна и разбойные нападения; они
не любят, когда клиенты начинают беспокоиться о безопасности. Они великие
часовые улиц и охранники тротуаров, когда их численность достаточно велика. В-
четвертых, активность, создаваемая посыльными или людьми, идущими за едой
или спиртным, сама по себе привлекательна для других людей [63, с. 9-10].
2.2.3 Любительские фотографии города: «присвоение» городского
пространства
Ранее, в первой главе в параграфе 1.2, были подробно рассмотрены
идентификационные ресурсы фотографирования как вида коммуникативной
практики. В настоящем параграфе нас интересует любительское
фотографирование города, то есть визуальная практика технически
опосредованного рассматривания города как идентификационная стратегия
горожанина. Под любительскими фотографиями обычно понимают фотографии,
сделанные непрофессионалами, то есть теми, для кого фотографирование не
является основным занятием, не приносит доход или символический капитал, для
использования в личных целях [см., напр.: 26]. В любительской фотографии тем
124
самым представлен интересующий нас повседневный визуальный аспект
восприятия фотографирующим наблюдаемой им социальной среды. На наш
взгляд, вполне обоснован вывод диссертационного исследования О. А. Бойцовой
о том, что своеобразный парадокс любительской фотографии состоит в том, что
предназначенная для фиксации фактов биографии конкретного человека и
используемая в этих целях, она на самом деле регистрирует общее и служит для
вписывания индивидуального жизненного пути в норму. Тем самым она
одновременно репрезентирует и создает как групповую, так и индивидуальную
идентичность, когда индивидуальные черты и биографические факты выражаются
в культурно принятых клише [См.: 26, с. 9].
В любительских фотографиях города этот парадокс выявляется вполне
отчетливо. Наиболее выпукло он представлен в туристических фотографиях:
«турист фотографирует прежде всего то, что априори считается достойным
фотографирования – то, что является частью официального и тиражируемого
образа города. С этой точки зрения, турист воспроизводит в своих фотографиях
заданную структуру; тем не менее, в туристических фотографиях всегда
представлены индивидуальные вариации, интересы и маршруты» [72, с. 174].
Массовую практику фотографирования города А. Желнина, используя концепцию
потребления и производства культуры М. де Серто, предлагает охарактеризовать
как средство реапроприации (то есть присвоения) городского пространства,
поскольку, создавая свои фотографии, как жители города, так и туристы,
«выкраивают на контролируемой территории городского образа свое обитаемое
место» и тем самым вовлекаются в процесс конструирования городской
идентичности [См.: 72]. «Траектория прогулки по городу, зафиксированная с
помощью фотоаппарата, может показать те индивидуально значимые и
привлекательные места, которые человек выбирает в городском пространстве;
причем такие траектории фиксируют не только туристы, но и жители города.
Люди могут фиксировать не только официально признанные
достопримечательности, но и те объекты, которые им кажутся необычными или
примечательными: трамваи, клумбы, мусорные урны необычной формы и т. п.
125
Иностранные туристы довольно часто фиксируют помойки, общественные
туалеты и бездомных на улицах – формируя, таким образом, свое видение и свой
образ города» [72, с.178].
В этом наблюдении нам важно отметить не столько остроумие или
оригинальность фотографического изображения города, сколько реализуемое в
нем отношение к территории, которая становится «реапроприированной»,
«своей», индивидуально-значимой, что и обеспечивает решение стратегической
задачи самоидентификации горожанина.
2.2.4 «Чувство места»: наблюдаемое и демонстрируемое поведение «своих» и
«чужих»
Завершая обсуждение темы идентификационного потенциала используемых
горожанами визуальных практик, обратимся к поставленному в начале параграфа
вопросу о функциональной зависимости между описанными визуальными
практиками, а именно ментальными (когнитивными) картами города,
непосредственным (фланирование) и технически-опосредованным (любительские
фото) рассматривании города, и самоощущением и отнесением горожанина себя к
конкретному городу как «своему» или «чужому». Иначе говоря, переживание
своей принадлежности или непринадлежности к конкретному городскому
сообществу раскрывается в визуальных практиках, используемых наблюдателем,
которые, в свою очередь, становятся средством идентификации наблюдателем
себя как «горожанина» или как человека «негородского», или «не этого города»,
«своего» или «чужого».
Различие моделей поведения в городском пространстве между коренными
городскими жителями и теми, кто стал горожанами или переехал в данный
конкретный город недавно, а также туристами описано во многих
урбанистических исследованиях. Говоря о визуальной составляющей в этих
моделях, можно утверждать, что поведенческие отличия касаются прежде всего:
а) содержательной наполненности образа города (какие городские объекты
включаются или, напротив, исключаются из когнитивных карт городских
126
наблюдателей); б) схем пространственного поведения, преобразования и
обживания городской территории.
Существенное влияние на визуальное поведение лиц, оказавшихся в новом
для них городе, на их видение города и пространственное поведение в нем,
оказывает сила эмоциональных переживаний, связанных с новым местом,
непривычностью его организации. «Город, в котором человек оказывается
ненадолго, от города повседневной жизни отличает свежесть чувств и
переживаний. Для человека, попавшего в другой город, само появление там
оказывается «актуальным событием», оно вырывает его из привычной обстановки
и обеспечивает непосредственность впечатлений. Человек обращает внимание на
такие аспекты городской реальности, мимо которых, не замечая их, проходит
постоянный житель» [См.: 54].
Эмоциональный фактор отмечает и А. Бикбов, анализируя телесные практики
пространственного поведения городского «новичка»: «По прибытии в другой
город, вернее, при размещении в иначе упорядоченном пространстве, возникает
множество поводов для удивления, восторга или шока. <…> Нужно заново
учиться покупать хлеб, улыбаясь при этом продавцам, перестраивать схемы
общения в разговоре с персоналом книжных магазинов и кафе, узнавать маршрут
у прохожих, которые вовсе не разделяют чувства непривычного и объясняют
расположение объектов, взятых нами из книг и чужих рассказов, как нечто само
собой разумеющееся. Для них это было и остается их городом, обжитым и
привычным пространством, даже если в действительности многое в нем меняется.
<…> Некоторое время спустя место обитания формирует вполне адекватные, по
крайней мере, приемлемые схемы и в теле вновь прибывшего, и тот утрачивает
точный и точечный язык прежнего опыта, все более полно разделяя
«естественный» взгляд на город как на это. Но сами первые опыты, а точнее,
эффекты перехода – нарушения и нормализации обыденного восприятия –
которые сопровождают обживание другого города, позволяют
проблематизировать привычный порядок и, тем самым, вскрыть невидимые
127
(вернее, актуализирующиеся лишь в этот момент) различия между двумя
пространствами» [19].
В приведенном рассуждении наряду с эмоциональным выявлен влияющий на
визуальное восприятие города когнитивный фактор, а именно привычность,
«понятность», узнаваемость «своего» города. Поскольку пребывание в «своем»
городе не является событием, в нем не замечается многое из того, на что сразу
обращают внимание в незнакомом или малознакомом городе. В то же время в
«своем» городе человек имеет любимые маршруты передвижения, любимые
места, с которыми связаны, как правило, значимые события его жизни.
Выявляя особенности визуального поведения туриста, необходимо
учитывать, что оно обусловлено прежде всего такими принципиальными
характеристиками этой социальной практики, как ограниченность туристов
временными рамками пребывания в городе, возвратной траекторией,
предполагающей обязательное возвращение домой, получением удовольствия в
процессе поездки, и – самое главное – ее центрацией вокруг
достопримечательностей. Дж. Урри, выявляя особенности туризма как
социальной практики, ввел в методологию изучения туризма термин-метафору
«туристский пристальный взгляд» (tourist gaze), в фокусе которого оказываются
объекты, отличные от повседневной жизни (пейзаж, ландшафт), и в то же время
объекты туристского внимания включают в себя различные формы социальной
стереотипизации. Этот взгляд становится линзой, через которую турист
проживает места, культуры и идентичности как отличные от его собственных.
Однако, если реальность туристического места не соответствует современному
набору «предвзятых мнений», то возникает кризис, и турист оказывается
разочарованным [См.: 190; 286]. Выявленными особенностями определяется
различие установок восприятия города у туристов и местных жителей. «У туриста
достопримечательность структурирует восприятие, закрывая собой негативный
окружающий ее фон. Для местных жителей главным становится ощущение
удобства и комфорта функционального плана, и поэтому они фиксируют то, что
мешает этому комфорту осуществиться. Рассказ туриста включает особенности
128
достопримечательности, связанные с индивидуальными телесными ощущениями,
тело как бы встраивается в контекст достопримечательности, тем самым,
повышая эмоциональную составляющую рассказа. В случае с местным жителем
эти фоновые характеристики высвобождают энергию отрицательных эмоций и
раздражения, и тело усиливает этот отрицательный полюс» [137, с. 14].
Управление пристальным взглядом (вниманием) туриста предполагает
использование особых приемов. «Отличительные признаки места конструируются
в рамках пяти семиотических модусов рассматривания: модус различия,
связанный с установлением и поддержанием разделения между обыденными,
повседневными и экстраординарными туристическими практиками; модус
уникальности, предполагающий выделение уникальных свойств объекта; модус
символической ценности, проявляющийся в возможности увидеть специфические
знаки, которые указывают, что объект привлекателен не сам по себе, а как символ
какого-то отличия; модус обнаружения дает возможность увидеть неизвестные
особенности в том, что прежде считалось известным; модус нового контекста,
позволяющий увидеть обычные аспекты социальной жизни, возникающие при
попадании в необычные контексты. В этом случае визуальный фон придает
экстраординарность действиям, которые в других ситуациях выглядят
привычными и повседневными» [137, с. 13].
Таким образом, можно утверждать, что важнейшими характеристиками
образа города для «постороннего» становятся, с одной стороны, соответствие
этого образа стереотипным ожиданиям, своего рода виртуальная узнаваемость, с
другой стороны, фиксация того, что отличает «этот» город от «своего», его
странность, непохожесть, обострение категоризации либо в сторону
идеализированной привлекательности места, либо, напротив, его
непривлекательности. В конструировании образа города его жителем преобладает
индивидуализация места, не столько целостное восприятие города, сколько его
фрагментация.
Интересный эмпирический материал, подтверждающий взаимовлияние
визуальных практик и формирования чувства городской идентичности, получен
129
украинскими исследователями в рамках реализованного фото-проекта
«Невидимый город» [См.: 77]. Проанализировав более 300 фотографий,
сделанных харьковчанами, авторы получили документальные проявления
творческого обживания города простыми жителями, того, как городское общество
вписывается в городское пространство и производит его «по-своему». В
частности, проанализировав фотографии, отнесенными авторами проекта к
категории «Места встреч», они описывают, как жители города демонстрируют
свою принадлежность конкретной городской территории, используя визуальные
средства организации городского пространства: «Существуют ли расхожие схемы
преобразования городской среды на места встреч? Наш ответ - да! Во-первых,
очевидно общее стремление эстетизировать место: покрасить, рассадить цветы,
просто убрать подъезд, двор. Во-вторых, довольно часто к таким местам сносят
старые или не модные вещи. Поэтому становятся такие места своеобразными
транзитными пунктами на пути к свалке. В-третьих, много публичных мест
возникают в результате трактовки их как пространства без определенного
владельца, которые даже могут формально принадлежать всем жителям дома или
какой-то фабрике, в реальном времени является бесхозными. Места встреч можно
представить как инструмент в игре с образами определенных фрагментов города»
[77].
Таким образом, продуктами рассматривания города становятся создаваемые
наблюдателями визуальные образы, когнитивные (ментальные) схемы города,
эмоциональные переживания, телесные схемы пространственного поведения в
городской среде. С точки зрения процесса городской идентификации посредством
визуальной практики рассматривания, речь можно вести прежде всего о
формировании пространственной идентичности, чувстве места, чувстве города, то
есть о принадлежности или непринадлежности конкретному месту, обжитости
или необжитости этого места, частном или публичном, видимом или
незамечаемом, более обобщенно – о своем или не своем, чужом месте.
Социологическая проблематизация воздействия пространственной идентичности
на содержание визуального поведения и визуальные роли позволяет сопоставить
130
(и противопоставить) различные модели визуального поведения. С одной
стороны, турист, фланер конструируют город-впечатление, нацелены на то, чтобы
увидеть неизвестное или интригующее, занятное, вызывающее новые
переживания, с другой – постоянный житель, воспринимающий город как место
понятное, пространственное поведение которого ориентировано на то, чтобы,
контролируя социальные процессы и события, происходящие на «его»
территории, конструировать, подтверждать ее стабильность, рутинность и тем
самым привлекательность.
2.3. Визуальные версии современного Санкт-Петербурга как стратегии
групповой самоидентификации
В данном параграфе рассматриваются визуальные версии Санкт-Петербурга,
предлагаемые и реализуемые различными социальными группами. На наш взгляд,
отбор и смысловые доминанты визуальной продукции, посвященной Санкт-
Петербургу, оказываются для групп, ее создающих и/или контролирующих,
важным средством социального самоопределения и самоутверждения.
Эмпирические данные, включенные в диссертационное исследование, были
получены нами в результате анализа:
30 плакатов наружной рекламы и лайтбоксов в петербургском метро с видами
города;
19 туристических карт Санкт-Петербурга (в том числе включённых в
путеводители);
304 открыток с видами Санкт-Петербурга, изданных в период с 2002 по 2012
год;
4 экспертных интервью с бильд-редакторами таких петербургских изданий,
как «КоммерсантЪ», «Невское время», «The St.Petersburg Times», «ИТАР-ТАСС».
фотоальбомов и фотографий, размещенных на страницах восьми наиболее
многочисленных групп социальной сети «В контакте», которые объединены темой
«Санкт-Петербург» («Мой Питер», «Питер-столица мира», «Это Питер, детка
131
(Типичный Питер)», «Санкт-Петербург», «Город, которого больше нет», «Весь
Питер», «Другая сторона Петербурга», «Дворы Петербурга»);
149 комментариев, опубликованных в чате «Странное чувство (места города,
которые вызывают странные чувства)»;
визуальных материалов, представленных на фотовыставке «Город глазами
людей», которая состоялась в 2010 году в Санкт-Петербурге в культурном
пространстве «Лофт проект ЭТАЖИ».
Следуя предложенному в Главе 1.3 аналитическому различению уровня
содержания и уровня контекста при изучении визуальной деятельности с
соответствующим каждому уровню наиболее оптимальным набором методов
получения визуальных данных, методический инструментарий диссертации
включал:
контент-анализ изображений Санкт-Петербурга на открытках, рекламе,
фотографиях;
идеографический анализ визуальных репрезентаций Санкт-Петербурга на
открытках, рекламе, фотографиях, картах;
качественный дискурсивный анализ подписей, размещенных под
фотографиями и открытками; текстов экспертных интервью; комментариев и
высказываний респондентов на интернет-форумах с целью выявления
предпочитаемых стратегий групповой самоидентификации;
анализ нормативных документов правительства Санкт-Петербурга с целью
реконструкции видения администрацией стратегического развития города.
Социальные субъекты, реализующие в своей деятельности визуальные
(ре)презентации города, различаются нами по следующим основаниям: 1)
проживание либо временное пребывание в Петербурге и 2) обладание властным
ресурсом или его отсутствие. По первому основанию можно выделить такие
группы, как: постоянные жители, временные жители, отечественные и
иностранные туристы. По второму основанию можно выделить такие группы, как:
администрация города, бизнес-группы, медиа-группы, неформальные объединения
горожан.
132
Методологической базой анализа визуальной деятельности выделенных
социальных групп, как уже говорилось, является прежде всего
феноменологическая традиция в социологии в ее социально-конструкционистской
версии, то есть выявление способов коммуникативного
воздействия/взаимодействия между субъектами визуальной коммуникации, в
результате чего производится/реализуется их групповая самоидентичность.
В главе 1.2 уже обсуждалось идентификационное содержание визуальных
продуктов, а именно, что предметы, интерьеры, все виды фотографического
поведения могут быть рассмотрены с точки зрения репрезентации как личностных
особенностей их владельцев и создателей, так и их групповой принадлежности.
При интерпретации контекста визуальных репрезентаций города будет
использована известная классификация стилей самопрезентации, предложенная А.
Шютцем, а именно ассертивный (assertive), агрессивный (offensive), защитный
(protective) и оправдывающийся (defensive). Основаниями данной классификации
являются две переменные: 1) мотивы самопрезентации (континуум «стремление
получить социальное одобрение» – «стремление избежать значимых потерь в
социальном одобрении») и 2) активность или пассивность самопрезентационного
поведения. Ассертивная самопрезентация предполагает активные, но не
агрессивные попытки сформировать благоприятное впечатление о себе, люди
представляют черты, желательные для них в данной ситуации. Она реализуется
посредством стратегии самовыдвижения, образцового поведения, идентификации
со специфической группой, демонстрации силы и власти. Причем последняя
направлена не на формирование страха, а должна убедить целевую аудиторию в
том, что субъект самопрезентации способен выполнить обещания и осуществить
требования. Агрессивная самопрезентация характеризуется большим уровнем
активности и стремлением получить социальное одобрение. Для этого стиля
характерны стратегии принижения оппонента, ирония и критика в его адрес,
прерывание и смена темы дискуссии. Защитная самопрезентация предполагает
пассивное стремление избегать негативного впечатления. Она реализуется с
использованием минимального самораскрытия, избегания публичного внимания,
133
осторожного самоописания, минимизации социальных интеракций,
дружелюбного, но пассивного взаимодействия. Наконец, оправдывающаяся
самопрезентация используется в тех ситуациях, когда действия субъекта или
какого-либо события могут сформировать нежелательный, неблагоприятный для
него образ. В этом случае задачей субъекта самопрезентации становится
стремление избежать значимых потерь в социальном одобрении. В этом стиле
используются стратегии отрицания («ничего не произошло», «ничего страшного
не случилось»), извинения, оправдания, демонстрация раскаяния, обещания, что
подобные действия не повторятся [Цит. по: 59, с.26-27]. Таким образом, для
решения стоящих перед ним задач социальный субъект выстраивает свое
поведение, используя различные стили самопрезентации.
Рассмотрим визуальные стратегии групповой самоидентификации
выделенных нами социальных групп горожан.
2.3.1 «Парадный Петербург»: стратегии визуальной самоидентификации
городской администрации
Анализ контекста
Правительство Санкт-Петербурга и районные администрации города
располагают такими важными властными ресурсами, как:
разработка и реализация проектов и целевых программ развития культуры
[См.: 139];
экспертиза международных и региональных проектов в сфере культуры [См.:
139];
составление перечня социально значимых объектов, включенных в систему
городской ориентирующей информации [См.: 153];
продвижение имиджа Санкт-Петербурга как центра культуры и искусства
мирового значения [См.:139];
изготовление и представление печатной продукции с символикой города на
официальных мероприятиях, межрегиональных и международных встречах и
134
выставках проводимых исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга [См.:138];
разработка «паспорта Петербурга» [См.:141].
Паспорт Санкт-Петербурга, размещенный на официальном сайте Комитета
по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга (http://www.kvs.spb.ru/),
содержит информацию о географическом местоположении города, занимаемой
площади, общей численности населения, культуре, науке (краткое описание
научного потенциала Санкт-Петербурга), образовании, здравоохранении (в том
числе о международном сотрудничестве в сфере здравоохранения), спорте
(описание спортивной инфраструктуры Петербурга), трудовом потенциале,
рыночной, инновационной, транспортной инфраструктуре, транспортно-
логистическом и промышленном комплексах, кластерах в экономике,
внешнеэкономической деятельности и инвестициях. Стратегическим потенциалом
в паспорте Петербурга признается историко-культурное наследие города.
Подчеркивается, что культура вносит весомый вклад в экономическое
возрождение города, создавая рабочие места, привлекая инвестиции, развивая
новые отрасли, такие как культурный туризм и творческие индустрии.
Отмечается, что Санкт-Петербург – культурный центр мирового значения, в
котором расположены 8464 объекта культурного наследия, (памятника истории и
культуры), в том числе 4213 объектов культурного наследия федерального
значения, что составляет почти 10 % от всех памятников, охраняемых
государством на территории Российской Федерации. Благодаря Эрмитажу,
Мариинскому театру, Российской национальной библиотеке, Русскому музею,
Петропавловской крепости, Малому драматическому театру, Исаакиевскому
собору Санкт-Петербург входит в десятку городов мира, наиболее
привлекательных для посещения туристами. Исторический центр Санкт-
Петербурга включен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия.
Развивая бренд «Культурная столица», власти города формируют
инфраструктуру города-музея, включающую широкую сеть культурно-досуговых
учреждений, парков культуры и отдыха, подготовку познавательных мероприятий
135
[См.: 129]. Цель «Программы развития сферы культуры в Санкт-Петербурге
«Культурная столица» на 2012-2014 годы» – создание условий для динамичного,
инновационного развития сферы культуры в Санкт-Петербурге, укрепление и
развитие бренда «Санкт-Петербург – культурная столица». В процессе реализации
программы планируется рост числа музеев, музеев-заповедников, театров,
культурно-досуговых учреждений и фестивалей, общедоступных библиотек,
специализированных книжных выставок, ярмарок, творческих вечеров и встреч
писателей с читателями, культурно-познавательных мероприятий для детей и
интерактивных площадок, созданных для детской и подростковой аудитории
(кинотеатров, культурно-досуговых учреждений и т. п.); парков культуры и
отдыха, повышение посещаемости зоопарка, увеличение числа людей,
занимающихся в учреждениях культуры.
Отличительная особенность данной группы связана прежде всего с
возможностью производить массовую визуальную продукцию о городе,
тиражировать тысячи печатных образов Петербурга в имиджевых фото,
презентационных материалах, городских картах и путеводителях, наружной
социальной рекламе, календарях и открытках, содержание которых подлежит
согласованию в соответствующих комитетах городской и районной
администраций.
Анализ содержания визуальной продукции
Идеографический и контент-анализ изображений Санкт-Петербурга,
тиражируемых под контролем администрации города, позволяет сделать вывод,
что для самоидентификации данной группы наиболее значимым образом города
является «парадный», «имперский» Петербург. На одном из комплектов открыток
1993 года в небольшом предисловии на обложке были описаны символы, образы
и характеристики, которые, на наш взгляд, принципиальны для понимания
предпочитаемых визуальных репрезентаций города на Неве, реализуемых данной
группой: «Петербург – сокровищница искусства, город-музей, сохранивший
прекрасные творения гениальных зодчих. Величие полноводной Невы,
торжественность её гранитных набережных, простор площадей и перспективы
136
проспектов, гладь каналов и узор оград, изящество дворцов и размах грандиозных
по замыслу архитектурных ансамблей, напряжённый ритм современного города –
создают незабываемый облик одного из красивейших городов мира».
Основные стратегии визуальной репрезентации города, используемые данной
группой, можно обозначить как стратегии его «монументализации» и
«рутинизации».
Монументализация как особый прием конструирования образа реализуется
подчеркиванием значимости объекта в жизни человека и общества, придания ему
величественного, серьезного основательного характера. На полюсе шкалы оценок
монументальность противоположна камерности, интимности, развлекательности.
В архитектуре и искусстве средствами монументализации являются крупный,
значительный масштаб, массивность, простота форм, симметрия, статичность,
величественные пропорции, ясная, спокойная композиция. Именно поэтому
монументализация ассоциируется с величием, властью и силой, идет речь о
власти трона или таланта, силе оружия или духа [См. 124].
Анализ контролируемой административными группами изобразительной
продукции о городе показывает, что данный эффект достигается прежде всего
отбором объектов изображения и определенными художественными средствами
их подачи. Так, из 32 архитектурных объектов, изображенных на наружной
социальной рекламе и рекламных плакатах в метро, в основном повторяются
памятники архитектуры и монументальные скульптуры, включенные в паспорт
Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор, Александровская колонна, Дворцовая
площадь, Адмиралтейство, Медный всадник, Зимний дворец и Казанский собор
(см. Приложение ? …). Практически отсутствуют виды парков, малых
архитектурных и скульптурных форм, то есть мест и объектов, соразмерных
человеку. При этом используемый ракурс, а именно снизу вверх, призван придать
и без того высоким архитектурным сооружениям еще большую величественность
и масштабность. Фоном большинства фотографий выступает ясное или
слабооблачное летнее небо. Городской пейзаж Петербурга не изобилует зелеными
насаждениями, тем не менее, кроны деревьев, газоны и цветники охотно
137
включаются в рамку изображения. Примечательно и то, что изображаемые
объекты все без исключения созданы в имперский период истории страны, на
плакатах мы не находим объектов, созданных в Петербурге в ХХ и ХХI вв.
Если одним из главных героев и символом бренда «Петербург – город трех
революций» был В. И. Ленин, то символической фигурой бренда «Петербург –
культурная столица России» на современных визуальных поверхностях
становится А. С. Пушкин, за которым тем самым закрепляется статус «главного»
русского классика как «петербургского поэта». Этим, на наш взгляд, объясняется
значительное число рекламных плакатов в метро с профилем А. С. Пушкина. Это
коллажи с петербургскими сюжетами, фрагментами состаренной бумаги и
строками из поэмы «Медный всадник», хрестоматийными для каждого
петербургского школьника.
Стратегия монументализации реализуется и при визуальной репрезентации
Петербурга на открытках, опубликованных государственными издательствами
(см. Приложение ? ). Объектами изображения предстают всё те же исторические
достопримечательности и символические фигуры, связанные прежде всего с
прославлением государства: Александровская колонна увековечивает победу
русской армии над Наполеоном, ростральные колонны – морские победы России,
памятник Суворову – полководца, не потерпевшего ни одного поражения,
памятники Петру I и Екатерине II – великих российских императоров, и даже
скульптурная группа П. Клодта «Укротители коней» олицетворяет не столько
победу человека над природой, сколько державное величие (не случайно работа
Клодта вызывала такое восхищение королевских особ Европы в свое время).
Показательный пример конструирования идеологически заданного образа можно
обнаружить на открытках 1970-х-1990-х гг. с изображением памятников В. И.
Ленину и мест, связанных с его деятельностью (например, памятника «Шалаш» в
Разливе): если обычно на открытках отсутствуют или очень редко встречаются
фигуры людей, то на открытках с памятными ленинскими местами изображено
множество людей как указание на колоссальный интерес к этому месту.
138
Предложенное Э. Гидденсом понятие «рутинизация» в значении привычных,
воспринимаемых как данное, большинства повседневных социальных действий,
как преобладание привычных стилей и форм поведения, управляющее
ощущением онтологической безопасности, равно как и управляемое им [См.: 46,
с.501], на наш взгляд, может быть плодотворным для обозначения еще одной
стратегии визуальных репрезентаций Санкт-Петербурга, реализуемых
административными группами. Использование одних и тех же городских
объектов для визуальных репрезентаций, привыкание потребителей к ним – в
этом смысле их «рутинизация» - именно для власти оказывается эффективным
ресурсом ее онтологической безопасности, сохранения контроля за
символическими объектами. В этом контексте тиражирование стереотипных
изображений мостов, набережных рек и каналов, фонарей, панорамы
исторического центра города с высоты птичьего полета воспроизводит не «город
людей», но «город-музей», который нужно рассматривать по определенным
предложенным правилам и в определенных границах.
Наиболее отчетливо этот прием проявляется в туристических картах, атласах,
книгах для пеших походов, электронных версиях путеводителей, навигационных
системах и пр. массовых информационно-имиджевых источниках подключения
потребителей к городу, которые также транслируют образ города как памятника
архитектуры, исторической ценности, формируя в качестве цели путешествия –
посещение культурных объектов, рассматривание памятников архитектуры,
фотографирования, приобретения сувениров.
Обсуждая ранее (см. 2.1) идеологический и властный ресурс картографии
города, мы подчеркивали, что картографы, создавая карты, производят власть: то,
что отбирается, упускается, упрощается, классифицируется, символизируется,
располагается «в центре» или на периферии, прямо связано с субъективными
целями создателя карты, как правило, с интересами политических элит.
Включая в карты и путеводители ключевые (как уже не раз говорилось, это
объекты, вошедшие в паспорт Петербурга), с точки зрения их составителей,
городские объекты, отмечая их особым образом, административные группы
139
реализуют такой важнейший для групповой самоидентификации ресурс, как
конструирование имиджа Петербурга. Набор имиджевых объектов вполне
предсказуем, привычен и обязателен. Контент-анализ туристических карт
показывает, что в него входят: Петропавловская крепость, Зимний дворец,
Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Собор «Спас на Крови» и Михайловский
дворец (Государственный Русский Музей) (как правило, эти визитные карточки
города выделены из прочих объектов и представлены в виде иконических
значков). На каждой второй карте можно найти изображения Казанского собора,
Ростральных колонн, Александровской колонны, Биржи, Летнего сада. На
некоторых картах иконическими значками отмечены крейсер «Аврора», Медный
всадник, Академия Художеств, Кунсткамера, Большой Гостиный Двор и
Никольский собор. Образ Петербурга как многоконфессионального города
конструируется включением в карты обозначений различных религиозных
объектов: часовен, церквей, храмов. На рассмотренных нами картах Санкт-
Петербурга отмечены 4 православных монастыря, 10 православных соборов, 26
православных церквей, 1 григорианский храм, 2 католических, 6 протестантских,
2 иудейских, 1 мусульманский, 1 буддийский (см. Приложение ?…).
Картографическое пространство, предлагаемое отечественным и
иностранным туристам, не совпадает. Если для отечественных пользователей в
большинстве случаев картографы охватывают пространство (по диагонали) от
дороги на Каменку до станции метро «Рыбацкое», то в картах для иностранцев
представлен, как правило, так называемый исторический центр Петербурга – от
станции метро «Спортивная» до Лиговского проспекта (по диагонали).
Карты, предназначенные для отечественных туристов, предоставляют больше
информации прикладного характера (вероятно, допускается, что отечественный
турист может путешествовать не с экскурсионной группой, а самостоятельно):
указывается, где располагаются ближайший салон связи, аптека, сколько времени
займёт поездка в метро. В таких картах можно найти более подробное описание
достопримечательностей. Например, приводится жанровая классификация
театров (музыкальные, драматические и детские); музеи подразделяются на
140
художественные, исторические, военно-исторические, естественно-научные,
технические, литературные, выставочные залы – в отличие от перечисления
наиболее популярных музеев общим списком в картах, предназначенных для
иностранных туристов. На картах для отечественных туристов чаще
используются знаки-индексы (например, обозначение морских и речных вокзалов
значком «якорь», ресторанов и кафе значком «вилка и ножик», театров – знаком
«балерина на сцене», концертных залов – значком «арфа», православных церквей
и соборов значком «крест в куполе», католических – значком «католический
крест», лютеранских – «лютеранский крест», мечетей значком «зелёный
полумесяц и черная пятиконечная звезда», синагог – «шестиконечной Звездой
Давида», буддийского храма – «силуэтом Будды в круге»). В то же время
знаками-иконами (а иногда и фотографиями) обозначены Мариинский театр,
Летний дворец Петра I, Музей Арктики и Антарктики, Государственный
Мемориальный Музей А. В. Суворова (см. Приложение ?…).
Карты для иностранцев оформлены несколько иначе. В большинстве случаев
это – не схемы, а «рисованное», панорамное изображение города, на котором для
всех объектов, включенных в карту, используются знаки-иконы. Интересно, что
особое внимание на таких картах уделяется обозначению зелёных оазисов:
изображаются все газоны, «прорисовываются» даже деревья. Не трудно
предположить, что таким образом учитываются культурные установки
иностранных гостей.
Еще одной особенностью карт для иностранцев является обозначение на них
местоположения гостиниц, элитных ресторанов и сувенирных магазинов (так,
сувенирная ярмарка «Souvenirs Fair» обычно обозначена знаком «матрёшка» –
характерным символом России в представлении иностранцев). Причем отмечены
только респектабельные гостиницы (например, «Астория», Гранд-отель «Европа»,
«Невский палас»). Отмечаются такие «характерные» и «распространенные» в
Санкт-Петербурге средства передвижения, как трамвай, прогулочный катер,
«Метеор», карета с кучером (sic!). В эти карты включены также украшения
знаменитых мостов: Аничкова, Банковского, Ломоносова.
141
Таким образом, в описанном наборе городских достопримечательностей, к
которым, по мнению администрации города, следует привлечь внимание
отечественных и иностранных туристов, на наш взгляд, отчетливо проявляется
стратегия «рутинизации», то есть воспроизводство визуализированных
стереотипных представлений и клише о «туристическом взгляде» на город
вообще и «Парадный Петербург», в частности.
2.3.2 «Город контрастов»: стратегии визуальной самоидентификации медиа-
групп
Анализ контекста
К медиа-группам обычно относят группы компаний, работающих в медиа-
среде (издательские компании, СМИ, рекламные и информационные агентства), а
также профессиональных журналистов – сотрудников различных
(государственных и негосударственных) средств массовой информации. В своем
исследовании к этой группе мы отнесли профессиональных фотографов,
сотрудничающих с различными петербургскими печатными СМИ, а также бильд-
редакторов таких петербургских изданий, как «КоммерсантЪ», «Невское время»,
«The St.Petersburg Times», «ИТАР-ТАСС», принимающих решение о включении
тех или иных визуальных репрезентаций города в свое издание.
Размышляя о профессиональной идентичности журналиста, А. М. Сосновская
отмечает, что «если журналист не будет бороться за место на полосе, предлагая
все новые и новые материалы, то его никто не будет ждать и тянуть, как бывало в
советское время. Но если штатному сотруднику все же дают задания, то
фрилансеру надо быть «на голову выше», то есть предлагать такой эксклюзивный,
интересный материал, который потеснит рутинные задания» [181, с.101]. Более
того, «журналисту, у которого нет хороших источников, нередко приходится
самому организовывать для себя факт или информационный повод, делать так,
чтобы он был эксклюзивным. Эта практика присуща в основном журналистам,
пишущим на социальные, городские и культурные темы» [Там же, с. 132]. Такая
необходимость и готовность к поиску оригинального эксклюзивного материала,
умение представить самые обычные факты проблемно, неординарно еще в
142
большей степени относится к фотожурналистам. Профессиональная мотивация
подобного рода, а также рассмотренные ранее в параграфе 1.2.3 такие
характерные для этой группы идентификационные механизмы, как дискурсивные
практики власти и высокого искусства, позволяют объяснить предпочитаемые
этой группой визуальные репрезентации города.
Анализ содержания визуальной продукции
Дискурс-анализ высказываний, полученных в ходе интервью с
представителями медиа группы, позволяет сделать вывод, что для
самоидентификации данной группы наиболее значимым оказывается
возможность увидеть и продемонстрировать в образе города его
противоречивость, смысловую раздробленность, дисгармоничность, иначе говоря,
показать его как «город контрастов». Важнейшие стратегии визуальной
репрезентации города, используемые данной группой, можно обозначить как
стратегии его «эстетизации» и «квазиреалистичности».
В понимании эстетизации мы следуем сформулированному в ряде
исследований толкованию этого принципа как особого стиля отношения к
действительности, в котором на первый план выходит определенный тип
переживаний, а именно эстетическое переживание, повышенная аффективность
восприятия и связь эстетического восприятия с вниманием к телесности, которая
составляет основу чувственного восприятия [127, с. 20], причем открытая
демонстрация эмоционального отношения, сфокусированность переживания
обычно сопряжены с театрализованностью социального поведения [См.: 211].
Подчеркнуто эмоциональное отношение к изображаемому пронизывает все
высказывания респондентов из этой группы. В медиа-дискурсе конструируются
образы «Петербурга», «Петрограда», «Ленинграда». Это деление производится
как по территориальному, так и по архитектурному признакам. Наиболее
интересным для наших респондентов представляется «Петербург» (исторический
центр), наибольшее неприятие вызывает «Ленинград» (новая застройка), он
признаётся безвкусным, «ужасающим» и «страшным». «Никто не любит снимать
новую застройку, она скучна и неинтересна, она банальна и уныла» [См.:
143
Приложение 4]. «Обычно всё ограничивается городом Петербургом, дальше идёт
Петроград, чуть дальше ещё – Ленинград…в Ленинграде уже никто не снимает».
«Я здесь родился…лично мой город не изменится никогда…он всегда со
мной…но мой город не имеет никакого отношения к моей работе…в Ленинград я
не езжу – мне там страшно…для меня чудовищность этой геометрии
непостижима. Меня это однообразие настолько сдавливает….Там Ленин живёт.
Там другие люди, другие ценности». Один из фотографов так представляет образ
Петербурга: «линейный, романтический Петербург а-ля Париж, где красота
показана не за счет декора, а общей композиции, дворцов, рек, фонтанов. Это
Париж, город любви. Провинциалы видят «парижские» моменты в Петербурге,
это город романтики, любовного настроения – «лодочка плывет по реке» … это
согласуется с русской натурой. Их не трогает дом из малахита, подсвечники из
злата, орнамент из бриллиантов – для них это абстракция, она потребляют среду:
садики, оградки, дворы, мосты».
Даже если на кадрах, предлагаемых фотожурналистами, изображены
привычные городские объекты с использованием так называемого «адреса»,
«ландмарка», который делает город узнаваемым, будь это Исаакиевский Собор,
Эрмитаж, Петропавловская Крепость, Летний cад, Миллионная улица или
Невский проспект, тем не менее их отличает нетривиальность сюжета,
небанальность, высококачественное исполнение. Петербург предстаёт на этих
фотографиях красивым городом с потрясающей архитектурой, изящными
оградами и утончёнными фонарями, городом на воде – Северной Венецией.
Авторы снимков наслаждаются своим видением города. «Мы снимаем какие-то
природные состояния…наводнения, или же туманы, какие-то необычные
ракурсы…с необычной точки зрения», - рассказывает фотограф газеты
«St.Petersburg Times». Но и то, что нарушает гармонию и архитектурную
целостность Петербурга, изображается и описывается не менее эмоционально,
тем самым эстетизируется. В интервью неоднократно встречаются слова
«ужасный» и «печальный»: «новая архитектура у нас ужасная», «горестные,
печальные кадры», «город изуродован новыми постройками, мансардами».
144
Наряду с эстетизацией не менее значимой для самоидентификации медиа-
группы, на наш взгляд, является стратегия, которую мы обозначили как
«квазиреалистичность». Введение в название стратегии характеристики «квази»,
то есть значения, подчеркивающего мнимость, подобие, но не аутентичность,
эффект «как если бы», представляется необходимым именно для различения так
называемой объективной социальной реальности и реальности визуальной. Как
подробно рассматривалось в Главе 1.1, любая визуальная репрезентация
представляет собой конструирование объекта, это реальность, задаваемая
взглядом фотографа, ограниченная рамками кадра, в котором визуальную
выпуклость приобретают те, а не иные объекты и т. д., то есть это – визуальная
реальность. По существу об этом говорят фотожурналисты, описывая процедуры
поиска объектов для снимка: «Нужно найти что-то интересное… например, город
в зелёных пластиковых упаковках (во время реставрации), памятник Дворнику и
подобные … Новая Голландия (раньше туда было не попасть)». Из фотокадров
«для души» бильд-редактор газеты «КоммерсантЪ» предлагает «что-нибудь
абсолютно безадресное, но чтобы там люди были, и было видно, что это
питерские люди. Без всяких там Петропавловских Крепостей и других
исторических объектов…» [см. Приложение 4].Практически полностью за кадром
остаются работа/учеба, домашние обязанности, быт, семьи горожан, можно
только догадываться как выглядят их будни.
Парадоксальный характер этой стратегии связан с тем, что принципиальная
зависимость визуальной репрезентации от создающего ее субъекта (в нашем
случае от фотожурналиста и издателя) сопровождается важнейшим значением для
фотожурналистов восприятия себя как свидетелей, «беспристрастных
наблюдателей» происходящих в городе изменений. Эта установка усиливается
исходящим от редакторов изданий требованием правдивости изображаемого
объекта. Поэтому репортажные фотографы не могут пользоваться программой
Photoshop, кадр должен максимально полно отражать описываемый в статье
материал. Отсюда такое внимание к точности, подробности, деталям снимаемого
городского объекта, что, в свою очередь, становится знаком профессионализма
145
(говоря иначе, утверждает власть эксперта). Приведем характерные высказывания
о фотоизображениях Петербурга, размещаемых в «Коммерсанте»: «Чаще всего
встречаются наиболее скандальные. То есть объекты, которые либо сносят, либо о
них будут писать, либо пишут, либо они строятся… достаточно скандальные
последние истории, как с Охта-Центром, так и с Новой Голландией. Тут всё, что
мы можем сделать по этой теме, это максимально представить нашим бильд-
редакторам фото-информацию по поводу этих объектов, в том числе по поводу
этих объектов в разное время года: то есть это начало, развитие, завершающая
стадия…такая вот доступность, она должна быть, даже некоторая
разжёванность». Объекты, изображаемые на фотографии в СМИ, также меняются:
«в первую очередь, конечно, панорама…весь центр застроен строительными
кранами…ведь это уже другой город…меняются фасады, что-то строится».
Таким образом, стратегии эстетизации и квазиреалистичности, дополняя друг
друга, позволяют профессиональным фотожурналистам создавать изображения
города, которые способны эмоционально поразить зрителей. Причем это в равной
мере касается как изображений «города-ансамбля», гармоничного и прекрасного
исторического центра, так и страшных дворов-колодцев или нелепых,
разрушающих художественное впечатление высотных построек в центре.
2.3.3 «Узнаваемый Петербург»: стратегии визуальной самоидентификации
бизнес-групп
Анализ контекста
К бизнес-группам мы относим коммерческие организации, которые
производят путеводители, карты и открытки с видами Петербурга, а также
компании, создающие имиджевую продукцию с использованием визуальных
репрезентаций города. Это компании, размещающие рекламные постеры в
метрополитене, полиграфические студии и агентства по наружной рекламе, а
также другие организации (например, ФК «Зенит»), активно использующие
городское пространство для распространения своей символики «на фоне» образа
Петербурга. В области туризма бизнес-группы, как и административные
146
субъекты, конструируют маршруты для отечественных и иностранных туристов,
предоставляя им особым образом составленные карты и буклеты.
Названные коммерческие организации все чаще стремятся заявить о себе как
о части городской среды Петербурга. Так, анализ информации, размещенной на
сайтах компаний «News Outdoor Group», «Jones Lang LaSalle» (услуги в области
коммерческой недвижимости), ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,
приводит к выводу о том, что для данной группы наиболее значимой оказывается
стратегия «идентификации с городом». В частности, News Outdoor заявляет: «Мы
– часть городской среды», «являясь экспертами в области визуальных
коммуникаций, мы направляем все наши усилия на создание гармоничной
городской визуальной информационной среды, в которой человек будет
чувствовать себя комфортно». На рекламных щитах используются изображения
городских объектов с символикой ФК «Зенит». «Зенит» для петербуржцев –
намного больше, чем футбольная команда. Это такой же символ великого города,
как Медный всадник, Петропавловка, Мариинский театр», – говорится на сайте
[45].
Продуктом такой стратегии становится визуальная репрезентация города как
«узнаваемого», «своего», «родного».
Анализ содержания визуальной продукции
На первый взгляд, содержание визуальной продукции о городе, выпускаемой
бизнес-группами, кажется сходным с визуальными репрезентациями Петербурга
административными группами. Действительно, для своих рекламных проектов
компании используют хрестоматийные образы города – акваторию Невы,
Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Исаакиевский собор
– и слоган «Мы любим свой город». На открытках, выпускаемых частными
издательствами, также воспроизводится привычный набор «фирменных» мест
Петербурга: Казанский и Исаакиевский соборы, Храм Спаса на крови, Медный
всадник, Дворцовая площадь, Эрмитаж, реки и каналы Петербурга, белые ночи и
разведённые мосты, вид на стрелку Васильевского острова, Кунсткамера и т. д.,
как устоявшийся социокультурный текст о городе. Однако принципиальное
147
различие между данными группами связано с контролем за разными видами
социального пространства, а именно политическим пространством в случае с
административными группами и экономическим пространством в случае с
бизнес-группами. В результате имеет место различие стратегий групповой
самоидентификации и соответственно различие смыслового содержания
визуальных репрезентаций города. Если административные группы
идентифицируют себя с «Парадным Петербургом», то для бизнес-групп,
ориентированных на рыночный спрос, существенное значение имеет не столько
конкретная символика образа, сколько привлекательность того или иного образа
города для соответствующей целевой аудитории, что обеспечивает возможность
его эффективной реализации/продажи. Вот почему в «избитые» городские мотивы
и стереотипный набор городских достопримечательностей вкладывается смысл
«узнаваемости», а значит «привлекательности», «понятности», «готовности к
потреблению». Этим объясняется, скажем, большее тематическое разнообразие
видов города на открытках. Например, в последние годы большим спросом стали
пользоваться изображения соборов и церквей города, в частности Никольского и
Смольного соборов, не представленных на открытках 70-90-х годов прошлого
века. Популярное сегодня изображение Спаса-на-Крови до 2000-го года также
практически не встречалось. Тем самым бизнес живо откликается на официально
поддерживаемую религиозность горожан. В то же время, в отличие от
фоторепортажей в СМИ, компании, производящие открытки, значительно реже
публикуют нестандартные изображения Петербурга, такие как виды крыш
Петроградской стороны, набережные и мосты, сфотографированные сквозь
кружево чугунных оград, или известные архитектурные сооружения в
строительных лесах. В этом, на наш взгляд, проявляется осторожность бизнеса,
опасающегося потребительской непривлекательности неожиданного,
непривычного, странного. Аналогично, содержание туристических карт,
издаваемых государственными органами и бизнес-структурами, отличается
важными деталями: например, карты для иностранных туристов, издаваемые
сетью элитных магазинов сувениров, насыщены рекламой, а число отелей,
148
включенных в информационный список (причём приводятся наиболее
престижные гостиницы с указанием числа «звёзд»), почти равно числу
перечисленных музеев и театров вместе взятых. Издатели тиражируют на
страницах путеводителей для иностранных туристов образ «роскошного
Петербурга» с излишествами в убранстве, позолоте, который не похож ни на что
в Европе. Эрмитаж, Петергоф призваны быть «другой планетой», Версаль
никогда не сравнится с ними по роскоши. «То, о чем в принципе любой европеец
мечтает в детских фантазиях, но не может себе позволить – золотые дворцы,
малахитовые комнаты. Они очень любят фотографироваться на тронах, со златом
и драгоценными камнями – их это привлекает» … Иностранцы у нас покупают
исключительно помпезность во всех ее проявлениях».
2.3.4 «Мой Петербург»: стратегии визуальной самоидентификации рядовых
горожан
Анализ контекста
Рассмотренный в нашей работе визуальный текст о городе, написанный
горожанами, – это сотни фотографий из фотоальбомов, выложенных в социальной
сети «В контакте» под названиями «Мой Питер», «Мой уголок города» и т. п., а
также представленных на выставке непрофессиональных фотографов «Город
глазами людей»; это подписи под фотографиями и высказывания о Санкт-
Петербурге в чате «Странное чувство места (места города, которые вызывают
странное чувство)».
Как мы уже отмечали раньше, в своих фотографиях города рядовые горожане
и туристы реализуют отношение к территории как к индивидуально-значимой,
«освоенной», при том что для фиксации в снимке выбранного ими городского
объекта фотографы-любители обычно используют общепринятые клише (фон,
ракурс, композиция кадра и пр.). Вот почему в результате проведенного нами
анализа практик рассматривания и фотографирования города рядовыми
горожанами мы определяем создаваемый ими образ города, в котором наиболее
полно проявляется их групповая самоидентификация, как «мой Петербург».
Разумеется, разнообразие социальных групп, составляющих городское
149
сообщество, порождает «многоликий» город. Вместе с тем, в отличие от
рассмотренных нами ранее групп, функционирующих в сфере власти, медиа,
бизнеса, для которых репрезентации города – средство решения политических,
идеологических или экономических задач, и потому их восприятие города – это
восприятие дистанцированное, взгляд «планировщика», визуальные
репрезентации города рядовыми горожанами выражают их личную
вовлеченность, причастность к той или иной городской территории, тому или
иному городскому объекту, отсюда столь сильно выраженная персональная
идентификация с определенными городскими районами, территориями,
объектами.
Анализ содержания визуальных репрезентаций
В создании и отборе визуальных репрезентаций города любители-фотографы
следуют не столько принципам документальности, исторической и ситуативной
точности, сколько принципам «романтизации» и «метонимического переноса» (то
есть обозначения целого по его части).
Мы понимаем принцип романтизации в значении, которое придавал ему
Новалис: «…обыденному я придаю высокий смысл, повседневное и прозаическое
облекаю в таинственную оболочку, известному и понятному придаю
занимательность неясного. Это и есть романтизация» [Цит. по 155, с.133]. Как
отмечают исследователи, художественное мировосприятие романтика отличается
контрастностью, интересом к крайностям: вечное - преходящее, возвышенное -
низменное, желаемое - действительное; события, из которых складывается
романтический сюжет, как правило, яркие и необычные; стремление романтиков
отказаться от классицистического правдоподобия, противопоставить ему
абсолютную свободу автора, в том числе и в построении сюжета, приводит к
тому, что у читателя/зрителя остается чувство незавершенности,
фрагментарности, как бы призывающее к самостоятельному восполнению «белых
пятен» [См.: 193]. Наиболее адекватное выражение, согласно Новалису,
романтизация действительности получает в таких литературных формах, как
сказка и миф.
150
На наш взгляд, именно потому, что любительские фотографии города, как
правило, связаны с нарушением повседневной рутины в жизни рядовых горожан
и гостей города, в них фиксируются биографические события, присутствуют
одновременно и авторская проекция, и символическое обобщение, и
недоговоренность, то есть то, что неотъемлемо от конструкции сказки или мифа.
Многие исследователи обращали внимание на то, что жители мегаполиса
идентифицируют себя с петербургским мифом. Концепт «петербургский миф»
относится ко всей совокупности представлений об этом городе, существующих в
культуре, в том числе и к обыденным представлениям жителей самого
Петербурга. К. Жуков следующим образом объясняет содержание данного
понятия: «Представая в каждую из эпох своего существования в том или ином
варианте, петербургский миф являлся своеобразным выражением общественной
рефлексии. Мифологический образ города был по сути слепком самовосприятия
петербургского общества… К исходу ХХ века петербургский миф предстает как
целая россыпь различных вариантов «философии города», выработанных той или
иной исторической эпохой» [См.: 75]. Являя собой наслоение множества пластов
представлений о городе, петербургский миф часто оказывается способен
предложить противоположные суждения об одном и том же аспекте образа
Петербурга: город оказывается и дьявольским, и божественным; и блистательным
и казенным; и пролетарским, и интеллигентным; и имперской столицей, и
центром демократии; и противоестественным, и воплощающим высшую
гармонию; он – и «культурная», и «криминальная столица России» [Там же].
Анализ альбомов с фотографиями города и подписей к ним, выложенных в
многочисленных группах «В контакте» выявляют поиск самоидентификации их
авторов посредством обозначения своей принадлежности к «петербургскому
мифу». Это город – красивый, хороший, сказочный, «мой Петербург». Среди
групп «В контакте», связанных с городом, доминируют те, что объединены темой
истории и архитектуры города: «Любимый Санкт-Петербург», «Мой Санкт-
Петербург», «Я люблю тебя, Санкт-Петербург!», «Санкт-Петербург»,
«Петербургский андеграунд», «Наш Питер», «Петербург – столица мира» и др.
151
Вторая категория – это группы, объединенные темой сохранения исторического
облика города: «Нет газоскребу!», «Против строительства башни Газпром-Сити»,
«Сохраним исторический облик Петербурга!», «Защитим наше историческое
наследие!!!», «Мы против катка на Дворцовой площади», «Живой город».
Символично, что группа с названием «Живой город», которая «объединяет
людей, любящих Санкт-Петербург и неравнодушных к его судьбе», своей целью
ставит не развитие публичных городских пространств или решение общих
практических городских проблем, но «сохранение уникального архитектурного
облика города». Иначе говоря, принадлежность к «сказочно красивому»
Петербургу становится основным объединяющим мотивом для данной группы
горожан. Эстетика города и его конструктивная целостность становятся
предметами «общего владения», примером чему служит мобилизация горожан
против строительства «Газпром-сити», когда именно в ситуации угрозы
визуальному облику Петербурга граждане проявили свое право на город.
Вместе с тем, осознанно или нет, горожане наслаждаются анонимностью,
которую предлагает им Петербург, возможностью фланерства и
безответственности, что демонстрируют выложенные фотокадры города с
необычным ракурсом. Эти кадры возвращают нас к понятию «репрезентационные
пространства», предложенному А. Лефевром: это пространство, непосредственно
проживаемое через связанные с ним образы и символы, а значит, это
пространство «жителей» и «пользователей», но также и некоторых художников и
возможно также некоторых писателей и философов, которые описывают и не
стремятся сделать больше, чем описать. Это доминирующее – и, следовательно,
пассивно переживаемое – пространство, которое воображение ищет, чтобы
изменить и присвоить. Оно накладывается на физическое пространство, делая
символическим использование его объектов [См.: 263, р. 38-39].
В ходе нашего исследования мы предложили участникам групп «В контакте»
выбрать 10 фотографий города, которые ассоциировались бы у них с
Петербургом. Наряду с «традиционными символами», такими как Медный
всадник, Исаакиевский собор, Дворцовый мост, Собор «Спас на Крови»,
152
Дворцовая площадь, скульптура Аничкова моста, двор - «колодец», вид на
Невский проспект и «Дом книги», был выбран фотокадр праздника «Алые
паруса» как символ современной публичной жизни города.
Принцип романтизации реальности, как уже говорилось, предполагает
контрастность, тягу к крайностям. Визуальные репрезентации города,
предлагаемые такими группами, как «Экскурсии по крышам», «Дворы
Петербурга», «Прогулки по кладбищу» и др., обнаруживают эту особенность
романтического мировоззрения, представляя «Другой» Петербург, «ужасы»
Петербурга, кадры печальные, призывающие что-то изменить. В отличие от
архитектурно безупречного перед нами образ пугающего, холодного, отдающего
болотным смрадом, вечно погруженного то ли в туман, то ли полусумрак
Петербурга Достоевского. Это город, в котором, порой, рушатся мечты и
происходят совсем не радостные события. Символичен размещенный в одной из
названных групп чёрно-белый рисунок тушью, на котором запечатлена
Петропавловская крепость с фигурой Икара, падающего с небес. Эту символику
мистического и загадочного Петербурга нетрудно расшифровать: шпиль собора
Святых Петра и Павла (символ развития, стремления ввысь, к Богу) искривлён
(выбор ложного пути, серьёзные проблемы ментального характера, потеря
верного направления?), небо (ещё один символ стремления и близости к Богу)
полностью затянуто тучами, всё изображение выполнено в серых тонах.
Участники группы «Город, которого больше нет» заявляют, что цель их
объединения - «бесцельные страдания о прошлом, которого не вернуть». К
примеру, в альбоме «В поисках утраченного...» представлены исторические
памятники и здания, которые были уничтожены, в альбом «Петербургу быть
пусту. Новый Петербург» включены проекты будущих и уже построенных
сооружений, которые не отвечают архитектурному облику северной столицы.
Если самоидентификация участников групп, романтизирующих «гибнущий
Петербург», может быть обозначена как маргиналы, бессильные что-либо
изменить в городе, те, кому ничего в нем не принадлежит, то самоидентификация
участников группы «Город безруких атлантов» прямо противоположна: они
153
фотографируют «разваливающиеся» городские здания и, тем самым, как заявлено
в миссии группы, «дергают» комитет по охране памятников. Данная группа
предлагает экспрессивные лозунги, побуждающие людей вступать в нее и
непременно действовать. Здесь описывается, кто входит в группу, с кем она
«воюет», кого хочет обязательно видеть в своих рядах: «мы - информационные
бомбисты, словесные снайперы, эпистолярная артиллерия и фотодесант!»
Интересный материал для понимания особенностей конструирования образа
города в процессе его территориального обживания дают комментарии,
размещаемые горожанами в специализированных тематических чатах. Ранее,
анализируя перспективу обыденного восприятия города, мы отмечали, что
идентификация с той или иной территориальной общностью неотделима от того,
как социальная группа или индивид осваивают эту территорию, что люди думают
и как ощущают место и пространство, как формируется их ощущение
привязанности к дому, району, городу. В связи с этим обсуждался
идентификационный потенциал (наряду с любительскими фотографиями) таких
визуальных практик, как создание ментальных (или когнитивных) карт города и
его рассматривание.
На основании контент-анализа 149 высказываний посетителей чата
«Странное чувство (места города, которые вызывают странные чувства)[См.: 183]
нами была составлена «эмоциональная карта Петербурга» (см. Приложение ? ),
на которой обозначены места и районы, вызывающие негативную или
положительную реакцию респондентов. Категориями контент-анализа были
определены: а) городские зоны, воспринимаемые позитивно, негативно и
нейтрально; б) модели поведения, реализуемые в конкретном городском
пространстве (прогулка с детьми, с гостями, просто любимое место и др.). В
результате появилась возможность наглядно представить полноту/неполноту
восприятия города горожанами, городские объекты, ставшие символическими
знаками, и объекты, оказавшиеся исключенными из видения горожанами, и пр.
Составляя карту, мы руководствовались следующими принципами: 1) выбор
предпочитаемых городских зон гуляния/фланирования/рассматривания,
154
конструирование ментальных карт наряду с любительскими фотографиями города
представляют собой ключевые визуальные средства формирования
территориальной идентичности; 2) обязательным условием территориальной
идентификации рядового горожанина является явно выраженное эмоциональное
отношение к данному месту. Технологически эмоциональная карта составлялась
выделением на географической карте Санкт-Петербурга территорий (улиц,
площадей, станций метро, зон отдыха и т. п.), получивших наибольшее число
позитивных и негативных высказываний посетителей чата.
Среди эмоциональных высказываний, опубликованных в чате, доминируют
положительные: «люблю», «обожаю», «нравится», вместе с тем 30% оценочных
суждений связаны с негативными эмоциональными переживаниями,
содержащими оценки «страшно», «ужасно», «жутко», «мрачно», «не люблю»,
«ненавижу», «не нравится». Основными моделями поведения в случае, если место
вызывает негативную реакцию, респонденты называли избегание. Например:
«Лиговка – бррр, дрожь по телу, даже к подруге не захожу в парадную», «не по
себе на Сенной, стараюсь избегать это место», «уехала, ни за что не хотела бы
вернуться», «иногда даже боишься выходить из дома». Модели поведения в
местах, которые участники диалога оценивают положительно, описывались так:
«свидания хорошо назначать», «люблю бродить по мелким прилегающим к
Невскому улочкам», «езжу туда восстанавливаться».
Кировский район – лидер по числу эмоциональных оценок. Он получил 9
негативных («грязно, серо, фуры несутся») и 4 позитивных («сейчас – загляденье
и все улучшается») характеристики. Станции метро Нарвская, Кировский завод,
Автово, Дачный/Ульянка оцениваются и положительно, и отрицательно.
Когнитивная карта этого района включает путь от «Триумфальной арки»
(Нарвские ворота) (здесь неприятны подворотни и маленькие улочки,
прилегающие к станции метро, а именно Бумажная, Тракторная и т. п.) по
проспекту Стачек до Ленинского проспекта (ЗАГС «Подкова»).
В Адмиралтейском районе «Техноложка», Сенная, Балтийская («Балты»),
Обводный канал вызывают неприятные эмоции: «темное и депрессивное место»,
155
«жуть, серо, неуютно», «грязно, темно». Когнитивная карта включает в себя
Обводный канал, переулок Гривцова, Варшавский экспресс, Митрофаньевское
шоссе, завод «Красный треугольник».
Центральный район вызывает положительные эмоции, хотя чаще
неприязненно отзываются о Лиговском и Суворовском проспектах.
Когнитивными ориентирами служат Инженерный замок и Невский проспект,
Казанский собор (лидер по позитивным оценкам), Михайловский сад,
прилегающие к Невскому улицы (Галерная, Рубинштейна), Спас-на-Крови,
Марсово поле, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, набережные
Фонтанки, Мойки.
Невский район в целом получил 19 негативных оценок и ни одной
позитивной. Особо знаком минус отмечены районы станций метро Елизаровская,
Ломоносовская, Пролетарская, Рыбацкое, Обухово, «Большевики», ул. Дыбенко,
а также «Ржевка», «Щемиловка» (Невский район от Пролетарской до
Ломоносовской). Здесь «неуютно, серо, тоска, дыра, мрачность», «на
Елизаровской пахнет мылом». Самостоятельный ориентир Невского района –
«Крупа» (ДК Крупской).
Васильевский остров и «Петроградка» упоминаются вместе, здесь, по
мнению авторов чата, «дома-колодцы с темными проходными дворами».
Когнитивная карта включает: Большой проспект В. О. в районе Покровской
больницы (негативно), Стрелка В. О. (позитивно), ул. Бармалеева около садика,
набережная реки Смоленки, дома на ножках, бывший ЦФТ, крейсер Аврора.
Фрунзенский район: район станций метро Фрунзенская (отрицательно),
Купчино («Чукчино») (поровну позитивных и отрицательных оценок): «неуютное
место, депрессивное и люди другие»; «Димитрова 20/2 – приходите и посмотрите,
что мой папа там выковал».
Калининский район: «Гражданка», Девяткино – однозначно воспринимаются
негативно. Финляндский вокзал, район Крестов, ул. Жукова, ул. Хлопина, пл.
Ленина, Пискаревка также оцениваются как негативные места. Выборгский
156
район: здесь отрицательное отношение к станции метро пр. Просвещения, а также
3-ему Суздальскому озеру.
Московский район не получил эмоциональных оценок. Когнитивными
ориентирами здесь служат: Чесменская церковь, «торжественные сталинки»,
Московский проспект, Парк Победы.
Наконец, Приморский район оценивается как «район пустой, без атмосферы
Петербурга». Речь идет о Комендантском проспекте, Старой деревне.
Положительное отношение к станции метро «Черная речка», ул. Савушкина в
районе залива, Парку 300-летия Санкт-Петербурга.
Показательно, что при характеристике эмоционально воспринимаемых мест
совершенно отчетливо обнаруживается стратегия романтизации образа города,
усиленная его мистификацией и мифологизацией. Такой характер носят
следующие утверждения: «те, кто женятся в ЗАГСе «Подкова», обязательно
разводятся», «на ул. Броневая волки воют, это улица мертвых», «на Васильевском
есть такой двор, где можно загадать любое желание, и оно обязательно сбудется»,
«Инженерный замок, Обводный канал – общеизвестные загадочные места», а «в
новых районах не растут деревья».
При откровенной мистификации города, на наш взгляд, информация,
содержащаяся в рассмотренном нами источнике, имеет прагматическое значение:
используя ее, можно целенаправленно создавать проекты благоустройства
городских территорий, прежде всего тех, которые воспринимаются жителями как
«опасные», «угнетающие», «неуютные», и развивать в качестве публичных
пространств «позитивно окрашенные» места.
Примером обращения рядовых горожан к иной стратегии
самоидентификации с использованием визуальных репрезентаций города –
стратегии, которую мы назвали «метонимическим переносом» – является
фотовыставка «Город глазами людей», организованная усилиями культурного
центра «Лофт Проект ЭТАЖИ» и журнала «Time Out Петербург» в октябре 2010
года. Людям разных профессий и социального положения было предложено
прожить один день с фотокамерой и зафиксировать город, который их окружает.
157
Причем для каждого участника это был дебют в качестве петербургского
фоторепортера. Авторами работ стали 12 человек, в том числе режиссер
анимации, художник-галлерист, футболист, прима-балерина, диджей, дизайнер,
флорист, граффитист, кровельщик, механик Дворцового моста, капитан
пассажирского парома. В результате зрителям был представлен не цельный образ
города, а ракурсы и места, значимые для людей разных профессий, практики
освоения ими жизненного пространства и выделяемые ими детали городской
среды. В этом, строго говоря, и состоял замысел организаторов – сделать
откровением то, что для кого-то является обыденным.
Интересующее нас идентификационное значение проекта заключалось в том,
что авторам была предоставлена возможность свободного визуального рассказа,
который позволил бы понять значение города в жизни этих людей. Под каждым
«фотоальбомом» был помещен краткий комментарий его автора о том, что он
снимал, какой снимок, на его взгляд, удался ему больше всего. Чаще всего
комментарии начинались словами: «это был обычный день в моей жизни», далее
упоминались места, которые автор посещал в течение дня, его друзья и
отношения с людьми. Принцип «метонимического переноса» был реализован как
раз в отборе сюжетов, в которых город был представлен через изображение
отдельных объектов или ситуаций в соответствии с профессиональной или
социальной самореализацией авторов. Так, галлерист акцентировал внимание
зрителя на двери («такая старая – их редко можно увидеть»), футболист
фотографировал стадион («снял свою рабочую обстановку, сфотографировал
нескольких фанатов»), балерина – «серое небо, репетиции, спектакль, яркие
эмоции, цветы, дорогу домой», диджей запечатлел «друзей, команду, студию,
офис», флорист – «букеты для жен и любовниц, роскошные цветочные корзины
для боссов», механик Дворцового моста снимал «балки и шестеренки», а капитан
пассажирского парома «Принцесса Мария» – «две радуги, море и пароход».
Иначе говоря, город визуально представлен как «участник» повседневной
деятельности человека. Соответственно виды городского ландшафта чаще
присутствуют на фотографиях тех участников проекта, чья деятельность прямо
158
связана с открытым городским пространством – кровельщика, граффитиста,
механика Дворцового моста, гуляющей домохозяйки. В свою очередь дизайнер и
художник обращаются с городом как с арт-объектом, экспериментируя с
необычным освещением и архитектурными деталями. Такое метонимическое
опредмечивание города определяет и количество фотофиксаций: так, у
футболиста фотографий немного, они «перелистываются» медленно. Дизайнер, в
свою очередь, фотографировал все, от процесса чистки зубов, до городского
пейзажа из окна автомобиля, стоящего в пробке.
В свою очередь, романтизация города обнаруживается в том, что Петербург
представлен удобным городом: мы видим опрятные, явно не протекающие
отремонтированные крыши; ровный, гладкий асфальт на всех фотокадрах – от
Дворцового моста до дворовых территорий, как в центре, так и в новых городских
районах. Набережная Крестовского острова на фотографии, сделанной
футболистом, красиво вымощена, по-европейски аккуратна. На улицах не видно
мусора, разве что опавшие листья. Всюду порядок, организованное движение,
свежая разметка на дорогах. Снимки, решенные как взгляд на парковку из окна
автомобиля (сделанные режиссером и футболистом), показывают организованные
места для стоянки машин, в кадре явно видны свободные места. Отметим уютные
дворы. Даже у граффитистов в кадре за советской кирпичной постройкой с
типичными железными лестницами виден новый дом нетиповой застройки, а к
черным железным воротам, послужившим поверхностью для граффити, ведет
аккуратно вымощенный плиткой тротуар. На кадрах много зелени и деревьев,
большинство снимков изображают город в солнечную погоду. Романтический
облик города усиливает фото кораблика, проплывающего под Дворцовым мостом,
символизирующего отдых и благополучие. И хотя встречается несколько
фотоснимков с изображением разрушающегося дома (видимо, памятника
архитектуры), запущенного барельефа-льва, здания Сената и Синода,
окруженного забором и подъемными кранами, но эти объекты даже вызывают
интерес своим живописным разрушением. Картину «идеального места для
жизни» дополняют ночные кадры тихого спокойного города, пустынные
159
освещенные улицы, Дворцовый мост, дворик в котором на скамеечке отдыхают
граффитисты. Спокойствие и чувство защищенности излучает снимок из серии
балерины, на котором изображен залив: девушка одна на пустынном берегу
чувствует себя свободно и комфортно. Правда, фотография режиссера
Константина Бронзита, сделанная на выезде из двора его дома, может вызывать
некоторое сомнение в том, так ли безопасен этот город: мы видим закрытые
железные ворота, шлагбаум, будку с охранником. Но при внимательном
рассматривании фотографии, возникает ощущение, что это изображение – не
указание на опасность, но скорее, о том, как можно защититься.
И всё же устойчивое впечатление, возникающее от этой фотовыставки,
связано с тем, что перед нами не специфическое петербургское городское
пространство. Представленные на выставке фотографии в принципе могли быть
изображениями любого привлекательного, удобного для жизни города. Это не
столько взгляд горожан как людей, живущих в этом конкретном городе, сколько
индивидуальный опыт проживания конкретными людьми «своего места».
Возможно, с этим обстоятельством связан слабый общественный резонанс
выставки. По результатам опроса, подавляющее большинство посетителей
выставки не запомнили, как был представлен на фото город, но запомнили «ноги
балерины», «снимки дизайнера Леонида Алексеева, иллюстрирующие его рабочие
моменты», диджея Феди Бумера в его офисе с японским сувениром-кошкой
Манеки Неко. Иначе говоря, посетители побывали не в городе, а в жизни
участников проекта, тем самым подтвердив специфику самоидентификации
рядовых горожан посредством конструирования «своего города».
Выводы по главе 2
Визуальная социология города, обращаясь к анализу различных способов и
форм визуализации городского пространства, позволяет проблематизировать
социальные функции и социальное значение пространственных и оформляющих
городское пространство наблюдаемых продуктов человеческой деятельности.
Визуальные реконструкции города реализуются как в теоретизировании о городе
как о пространстве, организованном особым образом, так и в разнообразных
160
практиках визуализации городской среды. К числу важнейших форм визуальной
репрезентации городской среды следует отнести архитектуру; фотографии, кино и
видеоматериалы; городские карты; символические знаки, регулирующие
поведение в городском пространстве и т. п.
Репрезентации и рассматривание города представляют собой социокультурно
заданные виды человеческой деятельности, являясь важнейшими
идентификационными практиками, посредством которых различные группы
горожан (вос)производят свою идентичность.
Визуальные репрезентации города выявляют позицию наблюдателя,
отстраненного, дистанцированного, находящегося над или вне городского
пространства. Такая перспектива наблюдения открывает возможность
взаимодействия с городом как с объектом управления, исследования,
архитектурного эксперимента, художественного истолкования и иных форм
«манипуляций».
Продуктами рассматривания города становятся создаваемые наблюдателями
визуальные образы, когнитивные (ментальные) схемы города, эмоциональные
переживания, телесные схемы пространственного поведения в городской среде.
Посредством визуальной практики рассматривания формируется
пространственная идентичность, чувство места, чувство города, то есть ощущение
и представление о принадлежности или непринадлежности конкретному месту.
Пространственная идентичность определяет различные модели визуального
поведения. Турист, фланер конструируют город-впечатление, нацелены на то,
чтобы увидеть неизвестное или интригующее, занятное, вызывающее новые
переживания. Постоянный житель воспринимает город как место понятное, его
пространственное поведение ориентировано на то, чтобы, контролируя
социальные процессы и события, происходящие на «его» территории,
конструировать, подтверждать ее стабильность, рутинность и тем самым
привлекательность. В конструировании образа города его жителем преобладает
индивидуализация места, не столько целостное восприятие города, сколько
фрагментация.
161
Отбор и смысловые доминанты визуальной продукции, посвященной Санкт-
Петербургу, становятся для групп, ее создающих и/или контролирующих, важным
средством социального самоопределения и самоутверждения. Выделенные в
работе социальные группы по таким основаниям, как (1) проживание или
временное пребывание в Петербурге и (2) обладание властным ресурсом или его
отсутствие, используют различные стратегии визуальной репрезентации города.
Для городской власти основной стратегией является «монументализация» как
способ конструирования образа «парадного Петербурга». Для
самоидентификации медиа-групп наиболее значимым оказывается возможность
увидеть и продемонстрировать в образе города его противоречивость, смысловую
раздробленность, дисгармоничность, иначе говоря, показать его как «город
контрастов», что достигается посредством стратегий «эстетизации» и
«квазиреалистичности». Для бизнес-групп наиболее значимой оказывается
стратегия «идентификации с городом». Продуктом такой стратегии становится
визуальная репрезентация города как «узнаваемого», «своего». Образ города,
создаваемый рядовыми горожанам в процессе его рассматривания и
фотографирования, может быть определен как «мой Петербург», что достигается
с использованием стратегий «романтизации» и «метонимического переноса».
Визуальные репрезентации города рядовыми горожанами выражают их личную
вовлеченность, причастность к той или иной городской территории, тому или
иному городскому объекту, отсюда столь сильно выраженная персональная
идентификация с определенными городскими районами, территориями,
объектами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное диссертационное исследование визуальных стратегий
социальной идентификации в современном российском городе (на примере Санкт-
Петербурга) позволяет сделать следующие выводы.
Визуальная социология может быть выделена в качестве самостоятельной
отрасли социологического знания, со своим особым предметом, понятийным
162
рядом, нацеленным на описание и объяснение социальных функций, процесса и
процедур наблюдения, видения, рассматривания, изображения, визуальной
репрезентации социальных объектов. Ресурсы визуальной социологии открывают
новые возможности для проблемного осмысления социальных процессов и
явлений, уже казалось бы истолкованных средствами не визуальных
социологических направлений.
Понятийный ряд визуальной социологии включает такие понятия, как
визуальная реальность, визуальная деятельность, визуальные дискурсивные и
коммуникативные практики. Визуальная реальность – это социальный мир,
который рассматривается, фотографируется, рисуется или какими-то иными
средствами визуально представлен, в отличие от мира, который описывается
словами или статистикой. Визуальная реальность (вос)производится благодаря
активности субъектов визуальной деятельности. Визуальная деятельность это
активность, связанная с формированием, представлением, передачей визуального
образа. Для понимания разнообразия функционирования визуальной продукции в
социальной среде важно различать репрезентативную и презентативную
составляющие визуальной деятельности: репрезентативный аспект относится к
тому, как люди создают и интерпретируют создаваемые образы; презентативный –
обращен к эмоциональной стороне визуальной деятельности, выявляя то, как люди
реагируют на изображения, их чувства и переживания. Понятие «визуальные
дискурсивные практики» позволяет выделить и описать специфические виды
визуальных действий, представить их как поступки, акты личностной активности,
продемонстрировать как в процессе визуальной деятельности конструируются
конкретные социальные роли субъектов визуальной коммуникации. Основанием
видовой классификации визуальных практик выступают различные виды
изобразительной деятельности, такие как фотографирование, рисование,
картографирование, создание и демонстрация видеоматериалов, все виды дизайна
как проектно-художественной деятельности, связанной с разработкой предметной
среды человека и т. д. Создаваемые визуальные материалы могут быть
исследованы социологами и как репрезентации социального знания, и как
163
контексты культурного производства, социального взаимодействия и
индивидуального опыта, задающие вполне определенные сценарии ролевого
поведения.
Методический инструментарий визуальной социологии нацелен на то, чтобы
получить социологически значимую информацию относительно изображенной
реальности, создателей изобразительных текстов, а также приемов саморефлексии
о своей аналитической деятельности самих визуальных социологов. Методы
визуальной социологии можно разделить на две относительно самостоятельных
группы: 1) методы анализа содержания (контента) визуального текста (такие как
иконологический анализ; контент- и сопоставительный анализ), позволяющие
посредством описания основных параметров и формы организации
изобразительного текста прояснить, как в его структуре реализуются социальные и
культурные смыслы; 2) методы анализа контекста визуальных данных (прежде
всего опросные методы, особенно интервью; дискурсивный анализ,
партисипаторные методы, то есть включение представителей изучаемой
социальной группы в процесс исследования и активное их сотрудничество с
исследователем), позволяющие посредством анализа высказываний по поводу и в
связи с визуальным текстом получить информацию о его производстве и
потреблении. Выделенные категории методов позволяют обнаружить
значительное разнообразие идентификационного содержания визуальной
деятельности и ее продуктов.
Визуальные практики (фотографирование, рисование, картографирование,
наблюдение, разглядывание и т. д.) являются важным средством
самоидентификации социальных субъектов прежде всего потому,
конструирование визуальных образов следует рассматривать как своеобразное
высказывание субъектов о себе, своей принадлежности к определенному
социальному сообществу. Наиболее очевидным идентификационное содержание
визуальных образов выступает в фотографии. Идентификационным ресурсом
обладают все виды фотографического поведения: само фотографирование,
позирование фотографу, рассматривание фотографий. Профессиональные
164
фотографы и фанаты-любители используют дискурс власти и высокого искусства
в качестве основного ресурса своей социальной (профессиональной)
идентификации. Если идентификационные практики профессиональных
фотографов направлены в первую очередь на конструирование их уникальности
(групповой и личностной), «посвященности» в знание, недоступное другим
(«непосвященным»), то процесс самоидентификации тех, кого снимают, имеет
другой вектор, а именно стремление продемонстрировать соответствие групповой
и культурной норме, в этом смысле «быть похожими на других». Для тех, кто
рассматривает фотографии, условием актуализации процесса социальной
идентификации является эмоциональная вовлеченность зрителя в содержание
снимка. Пока рассматривающий остается в роли «социального исследователя», то
есть должен узнать и понять, что изображено, механизмы самоидентификации
задействованы незначительно. Но как только рассматривание начинает вызывать
достаточно сильные эмоции, можно утверждать, что изображение коснулось
личностно важных переживаний, центром которых обычно является
самоопределение человека в отношении значимых для него людей и групп,
соответствие (или несоответствие) системе ценностей человека того, что
изображено. Важнейшей особенностью идентификационной составляющей
процесса рассматривания является то, что можно назвать «игрой с
самоидентичностью»: возникающая в процессе рассматривания себя на
фотографии своеобразная дистанция по отношению к самому себе открывает для
рассматривающего возможность манипулирования своими фотографическими
образами (ретушируя фото, удаляя из фотографий изображения людей,
вызывающих неприятные эмоции и пр.).
Визуальная социология города, обращаясь к анализу различных способов и
форм визуализации городского пространства, проблематизирует социальные
функции и социальное значение пространственных и оформляющих городское
пространство наблюдаемых продуктов человеческой деятельности. Визуальное
освоение города реализуется как в фиксации образа города в различных
изображениях/текстах, так и в эмоциональных переживаниях и поведенческой
165
активности горожан, возникающих в их повседневном опыте пребывания в
городской среде, ее рассматривании и использовании. Репрезентации и
рассматривание города представляют собой социокультурно заданные виды
человеческой деятельности, являясь важнейшими идентификационными
практиками, посредством которых различные группы горожан (вос)производят
свою идентичность. Визуальные репрезентации города выявляют позицию
наблюдателя, отстраненного, дистанцированного, находящегося над или вне
городского пространства. Такая перспектива наблюдения открывает возможность
взаимодействия с городом как с объектом управления, исследования,
архитектурного эксперимента, художественного истолкования и иных форм
«манипуляций». Продуктами рассматривания города становятся создаваемые
наблюдателями визуальные образы, когнитивные (ментальные) схемы города,
эмоциональные переживания, телесные схемы пространственного поведения в
городской среде. Посредством визуальной практики рассматривания формируется
пространственная идентичность, чувство места, чувство города, то есть ощущение
и представление о принадлежности или непринадлежности конкретному месту.
Пространственная идентичность определяет различные модели визуального
поведения. Турист, фланер конструируют город-впечатление, нацелены на то,
чтобы увидеть неизвестное или интригующее, занятное, вызывающее новые
переживания. Постоянный житель воспринимает город как место понятное, его
пространственное поведение ориентировано на то, чтобы, контролируя
социальные процессы и события, происходящие на «его» территории,
конструировать, подтверждать ее стабильность, рутинность и тем самым
привлекательность. В конструировании образа города его жителем преобладает
индивидуализация места, не столько целостное восприятие города, сколько
фрагментация.
Отбор и смысловые доминанты визуальной продукции, посвященной Санкт-
Петербургу, становятся для групп, ее создающих и/или контролирующих, важным
средством социального самоопределения и самоутверждения. Визуальные версии
города представляют собой относительно самостоятельную визуальную
166
реальность с присущими именно ей формами социальной организации,
особенностями функционирования, моделями социального поведения, способами
социальной идентификации, что позволяет проблематизировать
профессиональную и непрофессиональную деятельность, направленную на
создание разнообразных визуальных репрезентаций городской среды.
Выделенные в работе социальные группы по таким основаниям, как (1)
проживание или временное пребывание в Петербурге и (2) обладание властным
ресурсом или его отсутствие, используют различные стратегии визуальной
репрезентации города. Для городской власти основной стратегией является
«монументализация» как способ конструирования образа «парадного Петербурга».
Для самоидентификации медиа-групп наиболее значимым оказывается
возможность увидеть и продемонстрировать в образе города его
противоречивость, смысловую раздробленность, дисгармоничность, иначе говоря,
показать его как «город контрастов», что достигается посредством стратегий
«эстетизации» и «квазиреалистичности». Для бизнес-групп наиболее значимой
оказывается стратегия «идентификации с городом». Продуктом такой стратегии
становится визуальная репрезентация города как «узнаваемого», «своего». Образ
города, создаваемый рядовыми горожанам в процессе его рассматривания и
фотографирования, может быть определен как «мой Петербург», что достигается с
использованием стратегий «романтизации» и «метонимического переноса».
Визуальные репрезентации города рядовыми горожанами выражают их личную
вовлеченность, причастность к той или иной городской территории, тому или
иному городскому объекту, отсюда столь сильно выраженная персональная
идентификация с определенными городскими районами, территориями,
объектами.
Выявленные в работе визуальные стратегии групповой самоидентификации
различных групп городского сообщества Санкт-Петербурга могут быть
использованы как административными структурами города, так и общественными
организациями при разработке программ развития городского самоуправления,
формирования имиджа города, создания комфортной городской среды.
167
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абдрехимова А. Петербургские ди-джей бары как объект социологического
анализа // Журнал социологии и социальной антропологии. 2007. № 10. С.
115-121.
2. Амин Э, Трифт Н. Внятность повседневного города // Логос. 2002. №3-4. С.
209-233. URL: // http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/14.pdf. С.1-25 (дата
обращения 07.06.2013).
3. Андреева Г. М. Презентации идентичности в контексте взаимодействия //
Психологические исследования. 2012. Том 5. № 26. URL: //
http://psystudy.ru/index.php/num/2012v5n26/772-andreeva26.html (дата
обращения 22.11.2013).
4. Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Л.: Лениздат, 1991. 335 с.
5. Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. М.: Прогресс, 1984. 194 с.
6. Балаян А. Рецензия на книгу М. Фуко «Надзирать и Наказывать. Рождение
тюрьмы» («Surveiller et punir». Paris, 1975) URL: // http://centurion-
center.narod.ru/fuco.html (дата обращения 07.06.2013).
7. Баньковская С. П. Эрнст Берджесс // Современная американская социология.
М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 20-32. URL: http://www.urban-club.ru/?p=80 (дата
обращения 07.06.2013).
8. Барт Р. Фотографическое сообщение// Барт Р. Система моды: статьи по
семиотике культуры. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. С. 378-392.
9. Барт Р. Camera lucida: Комментарий к фотографии. М.: «Ad Marginem», 1997.
223 c.
10. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Изд-во им.
Сабашниковых, 2001. 336 с.
168
11. Барт Р. Семиология и градостроительство// Современная архитектура. 1971.
№1. C. 23-37.
12. Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. 240 c.
13. Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Изд-во
«Весь Мир», 2004. 188 с.
14. Беньямин В. Париж — столица XIX века // Историко-философский
ежегодник. 1990. C. 235-247.
15. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической
воспроизводимости //Беньямин В. Избранные эссе. М.: Медиум, 1996. С.15-
65.
16. Беньямин В. Центральный парк // Иностранная литература. 1997. №12. C.169-
174.
17. Бергер Б., Бергер П., Коллинз Р. Личностно-ориентированная социология. М.:
Академический проект, 2004. 608 c.
18. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по
социологии знания. М.: Медиум, 1995. 323 c.
19. Бикбов А. Москва/Париж: пространственные структуры и телесные схемы
//Логос. 2002. №3-4. С. 3-24.
20. Блекледж О. Телевизионный город - город без референтности //
Неприкосновенный запас. 2010. №2(70). URL:
http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/bl19-pr.html (дата обращения 07.05.2013).
21. Богданова Н. М. Анализ социально-философских оснований исследования
визуального в истории социологии // Вестник СамГУ, 2011. № 4 (85). С. 28-
34.
22. Богданова Н. М. Партисипаторная стратегия работы с визуальными данными
// Социологические методы в современной исследовательской практике.
Сборник статей памяти А. О. Крыштановского. НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН.
М.: НИУ ВШЭ, 2011.С. 132-135.
23. Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 2001. 561 с.
169
24. Бодрийар Ж. Город и ненависть //Философско-литературный журнал. 1997.
№9. С. 36-42.
25. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Культурная
революция, Республика, 2006. 269 с.
26. Бойцова О. Ю. Любительская фотография в городской культуре России
конца ХХ в. (визуально-антропологический анализ) // Автореф. дис…канд.
истор. наук. СПб., 2010. 26 с.
27. Брекнер Р. Изображенное тело. Методика анализа фотографии // Интер. 2007.
№ 4. C.13-32.
28. Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Институт
экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. 562 c.
29. Бурдье П. Физическое и социальное пространства: проникновение и
присвоение // Бурдье П. Социология политики. M.: Socio-Logos, 1993. C.36-
82.
30. Вагин В. В. Городская социология. М.: Московский общественный научный
фонд, 2000. 165 с.
31. Вебер М. История хозяйства. Город. М.: «Канон-пресс-Ц», «Кучково поле»,
2001. 576 c.
32. Веселкова Н. В. Ментальные карты города: вопросы методологии и практика
использования // Cоциология: 4М. 2010. № 31. С. 5-29.
33. Визуальная антропология //Антропологический форум. 2007. №7. С. 6-108
//http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/007/07_01_forum_k.pdf. (дата
обращения 07.05.2013).
34. Визуальная антропология: городские карты памяти / Под ред. П. Романова, Е.
Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. 312 c.
35. Визуальная антропология: настройка оптики /Под ред. Е. Ярской-Смирновой,
П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. 296 c.
36. Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность: Сб.
науч. ст. /Под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова, В. Л. Круткина.
Саратов: Научная книга, 2007. 471 c.
170
37. Визуальные аспекты культуры – 2006: Сб. науч. статей / Под ред. В. Л.
Круткина, Т. А. Власовой. Ижевск: Удмуртский государственный
университет, 2006. 347 c.
38. Вильковский М. Б. Социология архитектуры. М.: Фонд «Русский авангард»,
2010. 592 с.
39. Вирт Л. Урбанизм, как образ жизни // Социологические прогулки. URL:
http://www.urban-club.ru/?p=99 (дата обращения 23.11.2010).
40. Волков В. В. О концепции практик(и) в социальных науках //
Социологические исследования. 1997. № 6. С. 9–23.
41. Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик. СПб.: Изд-во Европейского
ун-та в Санкт-Петербурге, 2008. 298 с.
42. Воронкова Л. «Социологические выставки»: визуальные презентации в
социальных науках //Визуальная антропология: настройка оптики / Под
редакцией Е. Ярской-Смирновой, П. Романова (Библиотека Журнала
исследований социальной политики). М.: ООО «Вариант»,ЦСПГИ, 2009.
С.149-172.
43. Высоковский А. А. Программа курса «Теория пространственной организации
города и формирование городской среды» // URL:
http://www.hse.ru/edu/courses/57810700.html (дата обращения 23.06.2013).
44. Гавришина О. Империя света: Фотография как визуальная практика эпохи
«современности». М.: Новое литературное обозрение, 2011. 192 с.
45. Газпром трансгаз Петербург. Официальный сайт. URL:
http://www.lentransgas.ru/socially/sport/ (дата обращения: 29.11.2011).
46. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории стрктурации. М.:
Академический Проект, 2003. 528 с.
47. Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории
культуры // URL: http://sociologist.nm.ru/articles/geertz_01.htm (дата
обращения: 18.09.2010).
48. Глазычев В. Л. Изменения в культуре города: проблемы и парадоксы
//Культура города: проблемы развития. М.: НИИ культуры, 1988. С. 134-138.
171
49. Глазычев В. Л. Поэтика городской среды. М.: Наука, 1986. 180 с.
50. Глазычев В. Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды.
М.: Наука, 1984. 190 с.
51. Голд Дж. Психология и география: основы поведенческой географии. М.:
Прогресс, 1990. 304 с.
52. Голофаст В. Ветер перемен в социологии // Журнал социологии и социальной
антропологии. 2000. Т. III. № 4. С.122-139.
53. Гоманюк Н. А. Отражение социокультурных изменений в визуальной
саморепрезентации // URL: www.thelastpageof.com/docs/text2.doc (дата
обращения 18.12.2010).
54. Горнова Г. В. Переживание города// Электронный научный журнал «Вестник
Омского государственного педагогического университета». Выпуск 2006. //
http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-8.pdf
55. Горных, А. Усманова А. Эстетика интернета и визуальное потребление: к
вопросу о сущности и специфике Рунета. // Публичное и личное в русском
интернете: сб. ст. / под ред.: Н. А. Конрадовой, Э. Шмидт, К. Тойбинер. М. :
Новое лит. обозрение, 2009. С.261-284.
56. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-
пресс-Ц, 2000. 304 с.
57. Григорьева Е., Ярская-Смирнова Е. Визуальные исследования: летняя школа
и конференция в Саратове // Журнал социологии и социальной антропологии.
2006. Т. 9. № 3. С.117-127.
58. Гудков Л. К проблеме негативной идентификации // Гудков Л. Негативная
идентичность. Статьи 1997-2002 годов. М.: Новое литературное обозрение,
«ВЦИОМ-А», 2004. С.262-299.
59. Даукша Л. М. Эффективные стратегии и тактики самопрезентации личности
в процессе социального взаимодействия // Психологические проблемы
личности и социального взаимодействия: сб. науч. ст. / Под ред. Е. В.
Костюченко. Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2012. С. 21-30.
172
60. Дахин А. В. Город как место памятования // Гуманитарная география.
Альманах № 4. М.: Институт культурного наследия им. Д. С. Лихачёва. М.
2006. С. 164-179.
61. Дебор Г. Общество спектакля. М.: Логос, 1999. 286 с.
62. Дейк ван Т. А. К определению дискурса // URL:
http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm (дата обращения
18.12.2010).
63. Джекобс Дж. Назначение тротуаров: безопасность // Логос. 2008. №3. С. 3-23.
64. Дридзе Т. М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в
семиосоциопсихологии // Общественные науки и современность. 1996. № 3.
С. 145-152.
65. Дридзе Т. На пороге экоантропоцентрической социологии // URL:
http://ecsocman.hse.ru/data/990/150/1217/010_Dridze.pdf (дата обращения:
11.05.2011).
66. Дубин Б. В. Визуальное в современной культуре. К программе
социологического анализа // Интеллектуальные группы и символические
формы: Очерки социологии современной культуры. М.: Новое издательство,
2004. С. 31-37.
67. Дубинский А. Прогулка // Дневник кино. 27.20.2003 URL:
www.dnevkino.ru/allfilms/progulka.html (дата обращения 12.10.2010).
68. Жарковский Дж. Фотография - новый вид искусства //
http://www.schoolphotography.ru/library/03/newisk.htm (дата обращения:
18.05.2013).
69. Желнина А. Малая Садовая улица в Санкт-Петербурге: опыт становления
публичного пространства // Communitas. 2006. №1. C. 53-71.
70. Желнина А. Публичное пространство в социологии города // Портал
“Социологические прогулки”. //URL: http://www.urban-club.ru/?p=89 (дата
обращения 20.06.2013).
173
71. Желнина А. Фланер /Сайт «Социологические прогулки». Город ногами
социолога. Июнь 12th, 2008 // URL: http://www.urban-club.ru/?p=12 (дата
обращения 20.06.2013).
72. Желнина А. А. Визуализация городской культуры и любительская
фотография // Визуальные аспекты культуры – 2006: Сб. науч. ст./ Под ред.
В. Л. Круткина, Т. А. Власовой. ГОУВПО «Удмуртский государственный
университет» Ижевск, 2006. С. 173-180.
73. Желнина А. Трансформация пространств потребления в современном
российском городе на примере Санкт-Петербурга // Автореф. дис… канд. соц.
наук. СПб, 2011. 25 с.
74. Жигарева А. А. Визуализация социального пространства современного
общества (социально-философский анализ) // Автореф. дис…канд. филос.
наук. М., 2011. 23 с.
75. Жуков К. О пользе и вреде петербургской мифологии // Петербургский час
пик. 1999. № 21 (2-8.06.1999). С.7.
76. Завалишин А. Ю., Рязанцев И. П. Территориальное поведение. Опыт
теоретико-методологического анализа // Социологические исследования.
2005. №10. С. 83-92.
77. Заец Дм. Невидимый Харьков // Партизанинг. Сайт об уличном искусстве,
городе и человеческих взаимодействиях // URL: http://partizaning.org/?p=5521
(дата обращения: 18.07.2013).
78. Запорожец О. Н. Визуальная социология: контуры подхода // INTER. 2007.
№4. С. 15-28.
79. Запорожец О., Лавринец Е. Хореография беспокойства в транзитных местах:
к вопросу о новом понимании визуальности // Визуальная антропология:
городские карты памяти. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 81-96.
80. Захарова Н. Ю. Визуальная социология: фотография как объект
социологического анализа // Журнал социологии и социальной антропологии.
2008. Т. XI. №1 (42). С.147-161.
174
81. Зенкова А. Ю. Визуальные исследования как интегральная область
социально-гуманитарного знания // Научный ежегодник Института
философии и права УрО РАН. Екатеринбург, 2005. Вып. 5. С. 184193.
82. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь //Логос. 2002. №3-4. С.23-34.
83. Зиммель Г. Избранное. М.: Юрист, 1996. Т 1. 671 с.
84. Зонтаг С. В платоновской «пещере»: Фрагменты из книги «OnPhotography» //
Визуальные аспекты культуры: Сб. науч. ст. Ижевск, 2005. С.58-92.
85. Зонтаг С. Взгляд на фотографию // Мир фотографии. Сост.: В. Стигнеев и А.
Липков. Москва: Планета, 1989. С. 56-61.
86. Зонтаг С. Мысль как страсть: Избранные эссе 1960-70-х годов. М.: Русское
феноменологическое общество, 1997. 208 с.
87. Идентичность: социально-психологические и социально-философские
аспекты: коллективная монография / Под науч. ред. К.В. Патырбаева. Пермь:
Изд-во Перм. гос. нац. иссл. ун-та, 2012. 250 с.
88. Ильин В. И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.:
Интерсоцис, 2006. 256 с.
89. Ионин Л.Г. Социология Георга Зиммеля // История буржуазной социологии
XIX начало XX века / Под ред. И.С. Кона. М.: Наука, 1979. С. 180-203.
90. Казаринова Н. В. Межличностная коммуникация: социально-
конструкционистский анализ. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. 147 с.
91. Калачева О.В. Общие и общественные вещи современного города //
Неприкосновенный запас. 2007. №5(55). С.7-19.
92. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.:
ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.
93. Климова С. Ломка социальных идентичностей, или «Мы» и «Они» вчера и
сегодня // Отечественные записки. 2002. №3. С. 106-122.
94. Козырева Л. К. Проблемы, методы и перспективы семиотического
моделирования городского пространства // Материалы международной
заочной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
филологии. Искусствоведения и культурологии» (Россия, Новосибирск, 12
175
сент. 2011 г.) // http://sibac.info/2011-07-08-03-27-51/205-2011-07-01-11-09-48
(дата обращения: 13.06.2013).
95. Колодий В.В. Визуальность как феномен и её влияние на социальное
познание и социальные практики // Автореф. дис… канд. филос. наук. Томск,
2011. 27 с.
96. Коржов Г. Территориальные идентичности: концептуальные интерпретации в
современной зарубежной социологической мысли // Социология: теория,
методы, маркетинг. 2010. № 1. С.107-124.
97. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.:
Художественный журнал, 2003. 256 с.
98. Круткин В. Л. Визуальные системы как медиа и пространство
фотографического опыта// Вестник Удмуртского университета. 2007. №3. С.
28-41.
99. Круткин В. Л. Фоторепортаж как источник социологической информации //
СОЦИС. 2012. №3 С. 65-76 // URL:
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2012_3/Krutkin.pdf (дата обращения:
13.06.2013).
100. Круткин В. Л. Фотография в социологическом исследовании: деревенская
свадьба на форуме в интернете // Вестник Удмуртского университета. Сер.
Философия. Психология. Педагогика. 2010. Вып. 2. С. 88-96.
101. Круткин В. Л. Пьер Бурдье: фотография как средство и индекс социальной
интеграции // Вестник Удмуртского университета. 2006. №3. С.40-55.
102. Круткин В. Л. Фотографический опыт и его субъекты // Визуальная
антропология: новые взгляды на социальную реальность. Сб. науч. ст./ Под
ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова, В. Круткина. Саратов: Научная
книга, 2007.С. 43-61.
103. Круткин В. Л. Кит Мокси: о визуальных исследованиях и иконическом
повороте // Вестник Удмуртского университета. Сер. Философия.
Социология. Психология. Педагогика. 2011. Вып. 2. С. 30-36.
104. Кукушкина Е.И. История социологии. М.: Высшая школа, 2009. 488 с.
176
105. Кули Ч. Социальная самость // Американская социологическая мысль:
тексты. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 172–179.
106. Культурная география. Научно-аналитический обзор источников по теме /
Под рук. д-ра филос. наук, проф. М. С. Уварова. С-Петерб. гос. ун-т.
Философский факультет. 2011. URL:
http://philosophy.spbu.ru/userfiles/science/reviews/Uvarov%20M.S.%20Kul'turnay
a%20geografiya.%20Nauchnyi%20analiticheskii%20obzor..pdf (дата обращения:
13.06.2013).
107. Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию Я // Ж.Лакан. Семинары.
Т. 1 М., 1998. С.253-289.
108. Лангер С. Философия в новом ключе: Исследование символики разума,
ритуала и искусства: Пер. с англ. С.П. Евтушенко /Общ. ред. и послесл. В.П.
Шестакова. М.: Республика, 2000. 287 с.
109. Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М.: Изд. Прогресс, 1977. 303 с.
110. Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л., Шампань П. Начала практической
социологии /Пер. с фр. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.:
Алетейя, 2001. 410 с.
111. Лефевр А. Социальное пространство // Неприкосновенный запас. 2010. №2
(70). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/le1.html (дата обращения:
23.05.2011).
112. Линч К. Образ города. М.: Стройиздат, 1982. 328 c.
113. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 280 с.
114. Людтке А. Как работать с историческими фотографиями. Интерпретация
изображений // URL: http://www.urokiistorii.ru/learning/method/2010/25/kak-
rabotat-s-foto (дата обращения: 13.06.2013).
115. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М.:
Академический проект, 2005. 496 с.
116. Мамфорд Л. Миф машины. М.: Логос-пресс, 2002. 408 с.
117. Маркова Ю. В. Социальная реальность социологического дискурса //
Социологические исследования. 2007. №1. С. 42-47.
177
118. Мельшиор-Бонне С. История зеркала: Культура повседневности. М.: Новое
лит. обозрение, 2005. 315 c.
119. Мерло-Понти М. Око и дух. М.: Искусство, 1992. 285 c.
120. Мещеркина-Рождественская Е. Визуальный поворот: анализ и интерпретация
изображений // Интер. 2007. № 4. C. 51-67.
121. Микляева А. В. Социальная идентичность личности: содержание, структура,
механизмы формирования. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008.
/URL: http://www.humanpsy.ru/miklyaeva /soc_ident_02 (дата обращения:
11.11.2010).
122. Милграм С. Городская жизнь как психологический опыт// Эксперимент в
социальной психологии. СПб., М., Харьков, Минск: Питер, 2001. 415 c.
123. Мокроусова А.К. Образы города как ресурс анализа социального
пространства // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Том
XV. №3 (62). С. 173-181.
124. Монументализация среды // О дизайне. Словарь дизайна // URL:
http://algenubi.ru/monumentalization (дата обращения: 28.11.2013).
125. Назимова В.Ш., Рыженко В.Г. Музеи в культурном пространстве
Сибирского города // Культурологические исследования. URL:
http://www.ic.omskreg.ru/cultsib/mus/naz_rij.htm (дата обращения: 09.01.2010).
126. Некрасова Н. А., Некрасова У. С. Самопрезентация: Сущность и основные
характеристики // Успехи современного естествознания. 2007. № 11.
127. Никонова С. Б. Эстетизация как парадигма современности. Философско-
эстетический анализ трансформационных процессов в современной культуре
// Автореферат дисс… д-ра филос. наук. Санкт-Петербург, Санкт-
Петербургский университет, 2013. 43 с.
128. Ним Е. Г. Социологический анализ медиареальности: пространственный
подход // Современные исследования социальных проблем. 2011. №4. / URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskiy-analiz-mediarealnosti-
prostranstvennyy-podhod (дата обращения: 01.07.2013).
178
129. О Программе развития сферы культуры в Санкт-Петербурге "Культурная
столица" на 2012-2014 годы (с изменениями на 25 сентября 2013 года) //
URL: http://docs.cntd.ru/document/537912883 (дата обращения: 21.11.2013).
130. О средствах массовой информации: федер. закон Рос. Федерации от 27
декабря 1991 г. № 2124-1// Российская газета. 2007. №3865. С.8.
131. Оберемко О. А., Пасько А. Н. Классификация конструктов социальной
идентичности // Социология: 4М. 2004. №18. С.17-44.Ошибка! Недопустимый
объект гиперссылки.Ольшанский Д. В. Психология масс. СПб.: Питер, 2002.
368 с.
134. Орлова Г. А. «Карты для слепых»: политика и политизация зрения в
сталинскую эпоху // Визуальная антропология: режимы видимости при
социализме / Под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова. М.: ООО
«Вариант», ЦСПГИ, 2009. С. 57-104.
135. Орлова Э. А. Городская среда как культурно-эстетическое явление// Вопросы
культурологии. 2006. N 2 (февраль). С. 94-98.
136. Орлова Э. А. Концепция идентичности/идентификации в социально-научном
знании // Вопросы социальной теории. 2010. Т. IV. С. 87-111.
137. Отнюкова М. С.. Социальное конструирование достопримечательностей в
туризме // Автореферат дисс…канд социолог. наук. Саратов: Саратов. гос.
техн. ун-т. 2005. 19 с.
138. Официальный сайт Комитета по внешним связям Правительства Санкт-
Петербурга // URL: http://www.kvs.spb.ru/ (дата обращения: 15.09.2013).
139. Официальный сайт Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга //
URL: http://www.spbculture.ru/ru/activities.html (дата обращения: 15.09.2013).
140. Парк Р. Город как социальная лаборатория // Социологическое обозрение.
2002. Т. 2. № 3. C. 3-12.
141. Паспорт Петербурга // URL:
http://www.kvs.spb.ru/userfiles/media/Passport%20SPb%202012%20rus-5.pdf
(дата обращения: 15.11.2013).
179
142. Панофский Э. Иконография и иконология: введение в изучение искусства
Ренессанса // Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства.
СПб.: Акад. проект, 1999. С. 43-57.
143. Петербургский метрополитен // Официальный сайт. URL:
http://www.metro.spb.ru/1.html (дата обращения: 15.09.2013).
144. Петровская Е. В. Антифотография. М.: Три квадрата, 2003. 112 c.
145. Петровская Е. В. Визуальность: к постановке проблемы // Русская
антропологическая школа: Труды. Вып.3. М.:РГГУ, 2005. С.118-243.
146. Петровская Е. Непроявленное. Очерки по философии фотографии. М.: Ad
Marginem, 2002. 208 c.
147. Печурина А. «Там русский дух…»: вещи в доме как способ визуализации
идентичности мигрантов в Великобритании // Визуальная антропология:
настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.:
Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 212-228.
148. Пиргов С.В. Конспект лекций по курсу «Социология города». Томск, 2003.
149. Пирс Ч. Логические основания теории знаков. СПб.: Алетейя, 2000. 352 c.
150. Покровский Н. Е. Настоящая ненастоящая реальность // Визуальный анализ
виртуальной реальности: сб. статей. 2008. С. 4-18.
151. Поллок Г. Созерцая историю искусства: видение, позиция и власть //
Введение в гендерные исследования. СПб.: Алетейя, 2001. С.718-737.
152. Понукалина О.В. Социальная экология городского пространства // Города
региона: культурно-символическое наследие как гуманитарный ресурс
будущего: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Саратов: Изд-во Сарат.
ун-та, 2003. С. 59-63.
153. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.10.2005 n 1543 «О
создании в Санкт-Петербурге системы городской ориентирующей
информации / URL: http://www.zonazakona.ru/law/zakon_spb/3027/ (дата
обращения 17.11.2013).
154. Пространство развития и метафизики Саратова: Сборник научных статей.
Саратов, 2001. 388 с.
180
155. Прощина Е. Г. О романтической концепции мифа (Новалис и Ф. Ф.
Шлегель)// Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. Сер.
Филология. 2001. № 1. С. 131135.
156. Развитие позитивной идентичности. Многообразие и дети младшего возраста
/ Под ред. Л. Брукер, М. Вудхеда. The Open University, Walton Hall, Milton
Keynes, 2012. 55 с. // URL: http://bernardvanleer.org/files/ECiF3_Russian.pdf/
(дата обращения: 05.05.2013).
157. Рикер П. Повествовательная идентичность // Рикер П. Герменевтика. Этика.
Политика: Московские лекции и интервью. М., 1995. С. 19-37.
158. Рождественская Е. Ю., Семенова В. В. Письмо редакторов // Интер. 2007. №
4. С.3-9.
159. Рождественская Е. Ю. Перспективы визуальной социологии //
Социологический журнал. 2008. № 4. С. 70-83.
160. Рождественская Е. Ю. Нарративная идентичность в автобиографическом
интервью // Cоциология: 4М. 2010. № 30. С.5-26.
161. Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. М.:, 2004. 272 с.
162. Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Методология исследований и
критического анализа в сфере социальной политики и социальной работы
//Социология: 4М. 2005. №21. С.51-77.
163. Ромашко С. Монумент-сувенир-улика: временная ось мегаполиса // Логос.
2002. №3 (34). С.97-108.
164. Сарна А. Я. Образ и медиум: основные принципы и методы анализа
визуальных текстов СМИ //Теория и методы исследований социальной
коммуникации: сб. науч. тр. Вып. 2 / Под ред. О.В. Терещенко. Минск: БГУ,
2009. С. 119-132. / URL:http://elib.bsu.by/handle/123456789/11336 (дата
обращения 22.05.2013).
165. Сарна А. Производство повседневности. Политика репрезентации событий в
масс-медиа// Палiтычная сфера. 2006. № 6. С. 91-101.
166. Сассен С. Когда города значат больше, чем государства// Новое время. 2003.
№43. С.19-28.
181
167. Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую
социологию. М.: Добросвет, 1998. 338 с.
168. Семенова В. В. Картирование городского пространства: основные подходы к
визуальному анализу // Визуальная антропология: городские карты памяти /
Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ,
2009. С.67-81.
169. Семина М. В. Ганжа А. О. Визуальная социология и развитие
социологического воображения // Журнал социологии и социальной
антропологии. 2008. Том XI. №2 (43). С.153-168.
170. Сергеева О. В. Исследовательское поле визуальной социологии // Журнал
социологии и социальной антропологии/ 2008. Том XI. №1 (42). С. 136-146.
171. Серто де М. По городу пешком // Социологическое обозрение. 2008. № 2. С.
24-38.
172. Симбирцева Н. А. Интерпретация текста городского пространства: к вопросу
о субъекте // Человек в мире культуре. 2012. №: 3. С.: 28-32.
173. Симбирцева Н. А. Фланер как интерпретатор текста культуры // Современные
проблемы науки и образования. 2012. № 5 // URL: www.science-
education.ru/105-6959 (дата обращения: 17.06.2013).
174. Синдаловский Н. А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. СПб.: Норинт, 1995.
223 с.
175. Смелзер Н. Социология / Под ред. В.А. Ядова. М.: Феникс, 1994. 688 с.
176. Сойа Э. Как писать о городе с точки зрения пространства?// Логос. 2008. №3
(66). С. 130-140.
177. Соколов В. Говорит и показывает город // Журнал «Открытый музей». 2001.
№3. URL: www.museum.ru/museum/aom/edition/2001-3/main.htm (дата
обращения: 18.09.2010).
178. Соколов М. Трансформации значений городского пространства:
Интеракционистский подход к исследованию // Тезисы доклада на семинаре в
ЦНСИ 27 августа 2002 г. URL: http://www.indepsocres.spb.ru/socolov1.html
(дата обращения: 03.09.2010).
182
179. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Мысль, 1992. 116 с.
180. Сосна Н. Несобственность фотографии. // URL:
http://www.russ.ru/layout/set/print/culture/teksty/nesobstvennost_fotografii (дата
обращения 15.12.2011).
181. Сосновская А.М. Журналист: личность и профессионал (психология
идентичности). СПб.: Роза мира, 2005. 206 с.
182. Социальная идентификация личности (под ред. В.Ядова). М.: Институт
социологии РАН, 1993. 315 c.
183. Странное чувство (места города, которые вызывают странные чувства) //
URL: http://pipiter.ru/blogs/sankt-peterburg/strannoe-chuvstvo-mesta-goroda-
kotorie-vizivaut-strannie-chuvstva-8.html (дата обращения 15.11.2013).
184. Структурализм // URL: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f8d1f64a-
39cb-e5af-5d0a-0276936ef13b/1008588A.htm (дата обращения 15.06.2013).
185. Тимофеева Т. Н. Когнитивные карты города Кяхта // Культурная и
гуманитарная география. 2013. Т. 2. №1. С. 53-64.
186. Тоффлер Э. Шок будущего. М.: Издательство ACT, 2002. 557 с.
187. Трубина Е. Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. М.: Новое
литературное обозрение, 2010. 215 c.
188. Трубина Е. Г. Видимое и невидимое в повседневности городов // Визуальная
антропология: городские карты памяти / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-
Смирновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. С. 17-44.
189. Турома С. Семиотика городского пространства Ю. М. Лотмана: опыт
переосмысления // Новое литературное обозрение. 2009. № 4 (98). С.66-76. //
URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2009/98/tu8.html (дата обращения
15.06.2013).
190. Урри Дж. Взгляд туриста и глобализация// Массовая культура: современные
западные исследования. М.: Фонд научных исследований «Прагматика
культуры». 2005. С. 136-150.
183
191. Усманова А. Повторение и различие, или «Еще раз про любовь» в советском
и постсоветском кинематографе // Новое литературное обозрение. 2004. №69.
C.25-38.
192. Ушкин С. Г. Визуальные образы пользователей социальной сети «В
контакте» // Мониторинг общественного мнения. 2012. №5(111). С.159-169.
193. Федоров А. В. Романтизм //Введение в литературоведение: Учебник для
вузов. М.: Оникс, 2007 // URL:
http://www.a4format.ru/pdf_files_slovari/4b9e4c4c.pdf (дата обращения
15.10.2013).
194. Федорова Н.А. Проблема самопрезентации в современной социальной
психологии: использование понятийного аппарата теории деятельности//
URL:
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_3_a/fe
dorova_n.html# (дата обращения 24.12.2011).
195. Фень Е. Г. Основные категории феноменологической философии
пространства в современных исследованиях города// Автореф. дис… канд.
филос. наук. М.: НИУ «Высшая школа экономики», 2012. 22с.
196. Филин В.А. Агрессия городской среды: визуальный анализ
//Градоустройство: от социальной диагностики к конструктивному диалогу
заинтересованных сторон. М.: Издательство «Институт психологии РАН»,
1998. 240 c.
197. Филиппов А. Ф. Прикладная социология пространства // Социологическое
обозрение. 2009. Т.8. №3. С. 3-15.
198. Филиппов А. Ф. Элементарная социология пространства // Социологический
журнал. 1995. № 1. С.45-69.
199. Филлипс Л. Дж., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков:
Гуманитарный Центр, 2004. 336 с.
200. Фуко M. Надзирать и наказывать. M.: Ad Marginem, 1999. 315 c.
201. Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998. 310 с.
184
202. Хайдеггер М. Исток художественного творения. М.: Академический проект,
2008. 438 c.
203. Христофорова О.Б. Полевые методы в визуальной антропологии // URL:
http://www.ruthenia.ru/folklore/hristoforova3.htm (дата обращения: 18.12.2011).
204. Черняева Н. А. Культурная география и проблематика “Местаˮ (Обзор новой
литературы) // Известия Уральского государственного университета. Сер.
Гуманитарные науки. 2005. Вып. 9. Раздел «Рецензии» // URL:
http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0035(01_09-
2005)&xsln=showArticle.xslt&id=a26&doc=../content.jsp (дата обращения
02.05.2013).
205. Шматко Н. А., Качанов Ю. Л. Территориальная идентичность как предмет
социологического исследования // Социологические исследования. 1998. №4.
С.94-98.
206. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования:
учебник. М.: Логос, 2007. 168 c.
207. Штомпка П. Введение в визуальную социологию. Теоретические дискурсы и
дискуссии. M.: ВШЭ, 2006. 210 c.
208. Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. М.: Росспэн, 2004. 1056с.
209. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.:
Петрополис, 1998. 432 с.
210. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996. 168 с.
211. Эстетизация повседневности: дефиниции, тенденции, перспективы. Круглый
стол (к 20-летию выхода в свет «Общества переживания» Герхарда Шульце)
с участием преподавателей отделения культурологии факультета философии
НИУ ВШЭ и приглашенных исследователей 13 июня 2012 г. // Русский
журнал // URL: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Kruglyj-stol-Estetizaciya-
povsednevnosti-definicii-tendencii-perspektivy (дата обращения 30.11.2013).
212. Юстина Н. И. Влияние визуальной коммуникации на идентификацию в
современном российском обществе. Автореф. дис… канд. социолог. наук.
Новочеркасск, 2012.19 с.
185
213. Ядов В. А. Социальные и социально-психологические механизмы
формирования социальной идентичности личности // Мир России. 1995. №3-
4, С. 158-181.
214. Alexander С. The Oregon Experiment. Oxford: Oxford univ.press, 1976.
215. Allen J. Worlds within cities // In D.Massey, J.Allen and S.Pile. City Worlds.
London: Routledge, 1999.
216. Alvarado M., Buscombe E. and Collins R. Representation and Photography: A
Screen Education Reader. London: Palgrave, 2001.
217. Ball, M. S., & Smith, G. W. H. Analyzing visual data. London: Sage, 1992.
218. Banks M. Visual research methods // URL:
http://www.soc.survey.ac.uk/nigel_gilbert.htm (дата обращения: 07.05.2011)
219. Banks, M. Visual anthropology: Image, object and interpretation // In J. Prosser
Imagebased research: A sourcebook for qualitative researchers. Brisol, PA: Falmer,
1998. P. 9-23.
220. Becker H. Photography and sociology // Studies in the Anthropology of Visual
Communication. 1974. № 1. P. 3-26. //URL: http://lucy.kent.ac.uk/becker.html
(дата обращения 07.05.2013)
221. Berman M. All that issolid melts into air: experience of modernity. London: Verso,
1994.
222. Bibby G. Looking for Dilmun. N. Y., 1969.
223. Bolino, M. C., & Turnley, W. H. Measuring impression management in
organizations: A scale development based on the Jones and Pittman Taxonomy //
Organizational Research Methods. 1999. № 2. P. 187-206.
224. Bourdieu P. Fotography: A middle-brow Art. London: Sage Publications, 2000.
225. Brighenti A. Visibility. A category for social sciences // Current Sociology. 2007.
№55(3). P. 323-342.
226. Buck-Morss S. Dream world of mass culture: Walter Benjamin’s theory of
modernity and the dialectics of seeing // In D. B. Levin, Modernity and the
hegemony of vision Berkeley. University of California Press, 1993. P. 309-338.
227. Burgin V. Thinking Photography. Basingstoke: Macmillan, 1982.
186
228. Casino V, Hanna S. Representations and identities in tourism map spaces //
Progress in Human Geography. 2000. №24, 1. P. 23-46.
229. Caygill H. Walter Benjamin: The Colour of Experience. London: Routledge, 1998.
230. Certeau de M. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California,
1992.
231. Chaplin E. Sociology and Visual Representation. London: Routlege, 1994.
232. Collier J. Visual Antropology: Photography as a Research Method. New York:
Holt, Reinhart and Winston, 1967.
233. Collier J., Jr. & Collier, M. Visual anthropology: Photography as a research
method. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1986.
234. Crang M. Picturing practices: research through the tourist gaze // Progress in
Human Geography. 1997. №21. P. 359-373.
235. Gallaher C. Identity politics and the religious right: hiding hate in the landscape //
Antipode. 1997. №29. P. 256–77.
236. Gardiner M. Critiques of Everyday Life. London: Routledge, 2000.
237. Garrigues Е. L’Еcriture photographique, essai de sociologie visuelle. Paris, 2000.
238. Galassi, P. Before photography: painting and the invention of photography. New
York: Museum of Modern Art, 1981.
239. Gieryn T.F. A space for place in sociology // Annual Review of Sociology. 2000.
Vol.26. Pp. 463-496.
240. Goffman E. Relations in Public: Microstudies of the Public Order. N.Y.: Basic
books, 2010.
241. Gordon, B. The souvenir: messenger of the extraordinary // Journal of Popular
Culture. 1986. №20. P. 135-146.
242. Gottmann J. Megalopolis. USA: M. I. T. press, 1962.
243. Greenblat С. Программа курса визуальной социологии (Rutgers University) //
http://dwp.bigplanet.com/alivewithalzheimers/html1/ (дата обращения:
11.12.2010).
244. Dijck J. Digital photography: communication, identity, memory //Visual
Communication. February 2008. vol. 7. No. 1. P. 57-76.
187
245. Dijck J. Mediated Memories in the Digital Age. Standford: University Press, 2007.
256 p.
246. Exploring Society Photographically / Red. Howard Becker. Evanston:
Northwestern Press. 1981.
247. Hall S. Encoding and Decoding in the Television Discourse. Univ. B’ham., Centre
for Contemporary Cultural Studies, 1973.
248. Harvey D. The Urban Experience. Oxford: Blackwell, 1989 / Перевод В.В.
Вагина. URL: http://www.urban-club.ru/?p=105 (дата обращения: 12.11.2011).
249. Harley J.B. Maps, knowledge, and power // The iconography of landscape: Essays
on symbolic representation, design and use of past environments. Ed. by Cosgrove,
D. and Daniels, S. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 277–312.
250. Harley J.B. Deconstructing the Map // Cartographica. 1989. V. 26. N. 2. Р. 1-20.
URL:
http://quod.lib.umich.edu/p/passages/4761530.0003.008?rgn=main;view=fulltext
(дата обращения: 12.06.2013).
251. Harper D. Visual Sociology. 3rd Ed. N.-Y., Routledge, 2012. 298 p.
252. Have P. Teaching students observational methods: visual studies and visual
analysis// Visual Studies. 2003. Vol. 18, No.1. P. 15-38.
253. Hermer J., Hunt A. Official Graffiti of the everyday // Law and Society Review.
1996. vol. 30. No. 3. P. 455-480.
254. Hernan V. On Dutch windows // Qualitative sociology. 1989. №12 (2). P.65-79.
255. Hill M.R. Exploring visual sociology and the sociology of visual arts. Monticelli:
Vance Bibliographies, 1984.
256. Hirsch J. Family photographs: content, meaning, effect. Oxford: Oxford University
Press, 1981.
257. Images of Information. Still Photography in the Social Sciences/Red. Jon Wagner.
Beverly Hills: Sage, 1979.
258. Jackobs J. Death and Life of Great American Cities. N. Y., 1961.
259. Jones E.E., Pittman T.S. Toward a general theory of strategic self-presentation //
Psychological perspectives of the self. Hillsdale, NJ:Erlbaum, 1982. P. 231-263.
188
260. Johnson N. Mapping monuments: the shaping of public space and cultural
identities // SAGE Publications (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi).
2002.Vol 1(3). P. 293–298.
261. Keith M. Walter Benjamin, urban studies, and the narratives of city life // In G.
Bridge & S. Watson (Eds.), A companion to the city. Malden, MA: Blackwell,
2003. P. 410-429.
262. Laclau E. and Mouffe C. Hegemony and socialist strategy: towards a radical
democratic politics. London and New York: Verso, 1985.
263. Lefebre H. The production of space / Transl.by D. Nicholson-Smith. Oxford:
Blackwell Publishing, 1991. 464 р.
264. Lefebre H. The Right to the City // The Blackwell City Reader/Gary Bridge,
Sophie Watson (Ed.). Oxford: Blackwell. 2002. P.367-374.
265. Lefebvre H. Writings on Cities. Oxford: Blackwell, 1996.
266. Lynch К. What time is this Place? //M. I. T. press, 1975.
267. MacCannell, D. The tourist: a new theory of the leisure class (2nd ed.). New York:
Schocken Books. 1989.
268. Margolis E. Sociologies of the Image: Methodologies for Using Historical Picture
// URL:
http://www.visualsociology.org/proceedings_2006/Margolis_Sociologies_Image.p
pt (дата обращения: 09.01.2010).
269. Mumford L. Sidewalk Critic. New York: Princeton Architectural Press, 1998.
270. Natter W. and Jones J.P. Identity, space, and other uncertainties // In Benko, G.
and Stohmayer, U., editors, Space and social theory: interpreting modernity, and
postmodernity. Oxford and Cambridge, MA: Blackwell, 1997. P. 143–61.
271. Pile S. Real Cities. Modernity, Space and the Phantasmagorias of City Life. Sage
Publications, 2005.
272. Pink S. Doing Visual Ethnography. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001.
273. Rocca F. L’utilisation de l’image dans les sciences sociales // URL:
http://www.ceaqsorbonne.org (дата обращения: 03.02.2010).
189
274. Rocca F., Bou Hachem A. L’image en sociologie. Le dеveloppement de la
sociologie visuelle // URL:
http://www.ceaqsorbonne.org/node.php?id=1121&elementid=812 (дата
обращения: 16.03.2010).
275. Rose G. Feminism and geography: the limits of geographical knowledge.
Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1993.
276. Rose G. Visual Methodologies: An Introduction to the interpretation of Visual
Materials. Second edition. London: Sage, 2007. 287 р.
277. Russ Outdoor. Официальный сайт компании // URL:
http://www.newsoutdoor.ru/index.php?id=10 (дата обращения: 06.11.2010).
278. Seigworth G. Banality for cultural studies// Cultural Studies. 2000. №14 (2). P.
227-68.
279. Sæter O. The Body and the Eye: Perspectives, Technologies, and Practices of
Urbanism// Space and Culture. May 2011. №14 (2). P. 183-196.
280. Shields R. Places on the margins: alternative geographies of modernity. London:
Routledge, 1991.
281. Smith M. Visual Culture Studies. London: Sage publications, 2008.
282. Sontag S. On Photography. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1978.
283. Stanczak G. Visual Representation//American behavioral scientist. 2004. Vol. 47.
No. 12. URL: http://abs.sagepub.com/content/47/12/1471 (дата обращения:
19.11.2011).
284. Tajfel H. Social identity & intergroup relations. Cambridge, Paris, 1982.
285. Toynbee A. An Ekistical Study of the Hellenic City-state. Athens, 1971.
286. Urry J. The Tourist Gaze. Sec. Ed.. London: Sage publications, 2002. 183 p.
287. Verso, Butler J. Performative acts and gender constitution: an essay in
phenomenology and feminist theory // Theatre Journal. 1988. №40. P.519–31.
288. Visual sociology // Oxford Dictionary of Sociology. 3-ed Ed. Oxford University
Press, 2009. Current online version 2012. // URL:
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199533008.001.0001/acr
190
ef-9780199533008-e-2466?rskey=4vWmxp&result=1536&q= (дата обращения
07.05.2013).
289. Whyte W.H. City. Rediscovering the Center. New York: Douleday, 1988.
290. Williams R. Culture. London, England: Fontana, 1981.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПАСПОРТ Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург расположен у восточной оконечности Финского залива Балтийского
моря. Географические координаты центра города – 59°57' северной широты и 30°19' восточной
долготы. Санкт-Петербург, находящийся в центре пересечения морских, речных путей и
наземных магистралей, является европейскими воротами России, ее стратегическим центром,
наиболее приближенным к странам Европейского Сообщества. Внутренние воды занимают
около 10% территории города.
Площадь (с административно подчиненными территориями) – 1439 км².
Население – 4 млн. 951 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2012 года по данным
Петростата). Санкт-Петербург – второй (после Москвы) по величине город Российской
Федерации и четвертый (после Москвы, Парижа и Лондона) – в Европе.
Санкт-Петербург – административный центр Северо-Западного федерального округа,
который обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, высокоразвитой
промышленностью, густой транспортной сетью, и через морские порты Балтики и Северного
Ледовитого океана обеспечивает связи Российской Федерации с внешним миром.
В городе находятся:
· Конституционный суд РФ;
· территориальные органы федеральных министерств и ведомств;
· представительства 23 субъектов РФ и 3 городов РФ;
· 58 консульских учреждений зарубежных стран;
· представительства международных организаций: Межпарламентская Ассамблея СНГ,
Информационное бюро Совета министров Северных стран, представительства
международных фондов и союзов, организаций ООН;
отделения международных культурных институтов: Немецкий культурный центр им.
Гете,
Французский институт, Институт Финляндии, Голландский институт, Датский институт
культуры, Израильский культурный центр, Итальянский институт культуры.
· Польский дом и Дом Финляндии, представительства региона Стокгольма и Хельсинки; ·
представительства торгово-промышленных палат и бизнес-центров зарубежных стран.
Культура
Санкт-Петербург обладает значительным историко-культурным наследием, что
обеспечивает социальную стабильность и гармонизацию межнациональных и
191
межконфессиональных отношений, способствует раскрытию творческого потенциала,
духовному развитию личности и общества в целом.
Культура вносит весомый вклад в экономическое возрождение города, создавая рабочие
места, привлекая инвестиции, развивая новые отрасли – культурный туризм и творческие
индустрии.
Санкт-Петербург – культурный центр мирового значения, в котором расположены 8464
объекта культурного наследия, (памятника истории и культуры), в том числе 4213 объектов
культурного наследия федерального значения, что составляет почти 10 % всех памятников,
охраняемых государством на территории Российской Федерации. В городе работает мощная
сеть учреждений культуры: музеев, театров, библиотек, выставочных и концертных залов.
Именно благодаря Эрмитажу, Мариинскому театру, Российской национальной
библиотеке, Русскому музею, Петропавловской крепости, Малому драматическому театру,
Исаакиевскому собору Санкт-Петербург входит в десятку городов мира, наиболее
привлекательных для посещения. Исторический центр Санкт-Петербурга включен ЮНЕСКО в
Список всемирного наследия.
Культура – стратегический потенциал развития Санкт-Петербурга как интегрированного в
российскую и мировую экономику многофункционального города европейских стандартов.
Памятники культуры
Санкт-Петербург – крупнейший центр мировой и российской культуры, в котором
сосредоточено уникальное культурно-историческое наследие:
· Объекты культурного наследия, охраняемые государством – 8464 из них 4213 объектов
федерального значения; более 80% памятников XVIII-XIX веков – подлинники; СПб занимает
восьмое место в списке самых популярных и привлекательных городов мира (по сведениям
ЮНЕСКО); Санкт-Петербург как территория включен 36 комплексными объектами,
объединяющими около 4 000 выдающихся памятников архитектуры, истории и культуры, в
список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
В Санкт-Петербурге работают следующие учреждения культуры:
Музеи – 182
· Музеи и музеи-заповедники местного ведения: 41 (с филиалами);
· Музеи федерального подчинения: 24 (с филиалами);
· Ведомственные музеи: 31;
· Прочие: 86.
Библиотеки - 1103
· Библиотеки федерального подчинения – 2;
· Библиотека Академии наук России - 1
· Библиотеки местного ведения - 196;
· Библиотеки учреждений и организаций - 904
Театры – 82
· Театры местного ведения – 24;
· Театры федерального подчинения – 5;
· Театры областного подчинения, работающие в городе – 3;
· Негосударственные театры – 50.
Концертные организации - 17
· Концертные организации местного ведения – 15;
· Концертные организации федерального подчинения - 2
Культурно-досуговые учреждения - 52
· Культурно-досуговые учреждения местного ведения - 26;
· Культурно-досуговые учреждения иных ведомств – 26
Учебные заведения - 71
· Средние профессиональные учебные заведения местного ведения – 7;
· Музыкальные и художественные школы, школы искусств местного ведения – 63;
· Музыкальная школа федерального подчинения - 1
192
Парки - 5
· Парки культуры и отдыха городской сети – 4;
· Зоопарк - 1
Кинотеатры: 46
· Кинотеатры городской сети – 8, в том числе детских – 6;
· Негосударственная сеть – 38
Наука
Санкт-Петербург - один из крупнейших научно-образовательных центров России, в
котором сосредоточено более 10% научного потенциала страны: более 350 научных
организаций, в том числе более 70 организаций Российской академии наук и других
государственных академий, более 250 государственных организаций, занимающихся научными
исследованиями и разработками, 10 государственных научных центров. Кадровый потенциал
науки и образования Санкт-Петербурга составляет более 165 тысяч сотрудников научных
организаций и высших учебных заведений, в том числе более 9 тысяч докторов наук и более 26
тысяч кандидатов наук.
Система высшего и среднего профессионального образования включает 51
государственный гражданский вуз, 43 негосударственных вуза, 75 государственных и 5
негосударственных учреждений среднего профессионального образования (включая
структурные подразделения высших учебных заведений, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования). Общая численность студентов всех
форм обучения составляет 493,1 тыс. человек.
Преподавательский состав вузов насчитывает 30 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч
докторов наук и более 15 тысяч кандидатов наук. Преподавательский состав системы среднего
профессионального образования (СПО) насчитывает 5 тысяч человек.
Краткое описание научного потенциала Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург - центр академической, отраслевой и вузовской науки, способный
генерировать научно-технические достижения как по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики, так и по приоритетным направлениям развития науки,
технологии и техники. Научный потенциал города отличают следующие характерные черты:
• наличие уникальных научных школ, высококвалифицированного научного, инженерно-
технического и вспомогательного персонала, способного удерживать лидерство в развитии
научных направлений и технологий и равноправно участвовать в реализации престижных
международных проектов; • возможность сочетания перспективных направлений работ
общесистемного, фундаментального назначения и целевой направленности исследований и
разработок с ориентацией на конкретный результат; • возможность поддержания высокой
динамичности производства, проявляющейся в постоянном обновлении её элементов (объектов
исследований, разработок и производства, технологий, схемных и конструктивных решений,
информационных потоков и т.д.). В городе работают более 80 тысяч специалистов,
выполняющих научные исследования и разработки, из них докторов наук - 2,9 тыс. чел.,
кандидатов наук - 8,9 тыс. чел., докторантов и аспирантов - 16 тыс.чел.
193
Перечень основных научных организаций Санкт-Петербурга приведен в Приложении 1.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2005 № 449 «О присвоении
статуса наукограда Российской Федерации г. Петергофу» утверждены направления научной,
научно-технической и инновационной деятельности, экспериментальных разработок,
испытаний и подготовки кадров, являющиеся приоритетными для г. Петергофа как наукограда
Российской Федерации и соответствующие приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники Российской Федерации.
Информация о развитии структуры наукограда Российской Федерации г. Петергофа
приведена в Приложении 2.
Краткие сведения о высших учебных заведениях и учреждениях среднего
профессионального образования Санкт-Петербурга
• 45 государственных гражданских высших учебных заведения;
• 6 филиалов государственных гражданских высших учебных заведений;
• 43 негосударственных высших учебных заведения;
• 45 государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования;
• 30 государственных гражданских высших учебных заведений, осуществляющих
подготовку по программам среднего профессионального образования;
• 5 негосударственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования.
В государственных и негосударственных гражданских высших учебных заведениях по
программам высшего профессионального образования обучаются 400,9 тысяч студентов.
Преподавательский состав гражданских вузов Санкт-Петербурга составляет 29,5 тысяч человек.
Численность студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования, составляет 61,6 тысяч человек. Преподавательский состав образовательных
учреждений среднего профессионального образования составляет 5,1 тысяч человек.
В настоящее время в системе высшего и среднего профессионального образования
работает 5 тысяч докторов наук и 16 тысяч кандидатов наук. Перечень государственных
высших учебных заведений, расположенных на территории Санкт-Петербурга, представлен в
приложении 3.
Перечень филиалов государственных высших учебных заведений в Санкт-Петербурге
представлен в приложении 4.
Образование
Система образования Санкт-Петербурга – это масштабный и разносторонний
территориально-отраслевой комплекс, включающий в себя 1909 образовательных учреждений
(по состоянию на 01.01.2012 года).
Система образования Санкт-Петербурга представляет собой развитую сеть учреждений
дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования, начального и
среднего профессионального, дополнительного образования детей и взрослых и
характеризуется высоким уровнем вариативности образовательных услуг и их территориальной
доступности в условиях крупного города.
Государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга,
подведомственные Комитету по образованию (по состоянию на 01.01.2012) Дошкольные
образовательные учреждения – 1054.
Общеобразовательные учреждения – 690:
· общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов –
135;
· гимназии – 72;
· лицеи – 45;
· общеобразовательные (вечерние) -21;
· коррекционные школы - 40;
· школы-интернаты - 8;
194
· специальные школы-интернаты - 17;
· спец. школы - 2.
Учреждения дополнительного образования детей - 58.
Детские дома - 18.
Учреждения начального профессионального образования - 36.
Учреждения среднего профессионального образования - 12.
Академия постдипломного педагогического образования - 1.
Прочие - 40, в том числе:
• информационно-методические центры - 18,
• информационные центры - 1,
• психолого-педагогические и медико-социальные центры - 19,
• нетиповые образовательные учреждения - 2.
Итого - 1909.
В общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга обучается 368390 детей.
В дошкольных образовательных учреждениях 187791 воспитанник.
В образовательных учреждениях Санкт-Петербурга работает 73425 педагогов.
Здравоохранение
Развитие сферы здравоохранения
Состояние здоровья населения является одним из важнейших показателей благополучия
города. В 2004-2010 годы Санкт-Петербург осуществил реализацию Концепции системы
здравоохранения Санкт-Петербурга на 2004-2010 годы, а с 2005 года работает в рамках
приоритетного проекта «Здоровье». При реализации Концепций и национального проекта
«Здоровье» учитываются демографические и миграционные процессы в соответствии с
Генеральным планом развития Санкт-Петербурга до 2015 года.
Санкт-Петербург участвует в программе модернизации здравоохранения на 2011-2012
годы. Модернизация системы здравоохранения Санкт-Петербурга проводится в целях
повышения эффективности её функционирования и направлена на обеспечение доступности и
качества медицинской помощи, а также на сохранение и укрепление здоровья населения на
основе формирования здорового образа жизни.
Центры здоровья
В рамках реализации нового направления приоритетного национального проекта
«Здоровье» по формированию здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга
продолжена работа 22 центров здоровья для взрослых и 7 центров для детей. В 2011 году в
центры здоровья обратилось более 69 тысяч жителей Санкт-Петербурга, в том числе более 10
тысяч детей.
Центры здоровья созданы с целью повышения уровня медицинских знаний,
информированности и практических навыков жителей города, их приверженности к
профилактике заболеваний, соблюдению рекомендаций врача для повышения качества жизни,
сохранения и восстановления трудоспособности и активного долголетия.
Демографическая ситуация
После начала прироста численности населения Санкт-Петербурга в 2008 году и с момента
вступления России в период демографического кризиса в 2011 году численность населения
города увеличилась на 69,5 тыс. человек.
По предварительным данным Петростата на 1 января 2012 года количество населения
Санкт-Петербурга составило 4 млн. 951,6 тыс. человек. Рост численности населения в 2011
году произошел за счёт миграционного прироста, который по сравнению с 2010 годом
увеличился на 59 %. По данным Петростата в 2011 году в Санкт-Петербурге родилось 57 045
человек, показатель рождаемости составляет 11,9% на тыс. населения. В 2011 году число
умерших в городе составило 61 665 человека, показатель смертности – 12,7 % на тыс.
населения, в стране -13,5%. На протяжении последних лет наблюдается рост ожидаемой
продолжительности жизни – мужчин с 60 лет в 2000 году до 65,9 в 2010 году, женщин – с 73 до
76,1 лет.
195
Целевые программы Правительства Санкт-Петербурга
В целях успешного решения комплексных проблем, связанных с охраной здоровья
жителей города, в Санкт-Петербурге реализуются медико-социальные программы. В рамках
Плана мероприятий по развитию онкологической службы Санкт-Петербурга по
профилактике, раннему выявлению и лечению онкологической патологии на 2008-2011
годы приобретена медицинская техника, оборудование и расходные медицинские материалы
для медицинских учреждений, оказывающих помощь онкологическим больным. Проведен
текущий ремонт и приобретено оборудование для хосписов. В рамках реализации целевой
программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге» на 2009-2012 годы»
проводилось обучение врачей и проведен ремонт лечебных учреждений и районных
наркологических кабинетов. В целях совершенствования оказания неотложной медицинской
помощи наркологическим больным для стационарного отделения неотложной наркологической
помощи СПб ГУЗ «Городская наркологическая больница»» закуплено оборудование.
Проводились Дни открытых дверей в наркологических реабилитационных центрах,
осуществляется печать и распространение информационных материалов.
В 2011 году продолжена реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга «О
плане мероприятий по диагностике, лечению и профилактике сахарного диабета и его
осложнений на 2009-2011 годы» и «О плане неотложных мероприятий по социальной
профилактике туберкулеза и обеспечению экологической безопасности функционирования
противотуберкулезных учреждений Санкт-Петербурга на 2008 – 2011 годы», проводилась
реализация системы мер по развитию психиатрической службы и мерах по предупреждению
отрицательных социальных последствий психических заболеваний и поведенческих
расстройств в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы. Cовершенствуется экстренная медицинская
помощь больным с острым инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового
кровообращения.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2011 № 240 утверждена
Программа модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы. В рамках
реализации Программы с целью улучшения качества и обеспечения доступности медицинской
помощи населению Санкт-Петербурга, выделены следующие приоритетные задачи:
1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.
2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.
3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи.
В программу вошло 243 государственных, 36 федеральных учреждений и частных
предприятий, 34 учреждения специализированного типа (дома ребенка, санатории, станции
скорой помощи).
В рамках этой Программы выделялось финансирование на модернизацию учреждений
детского здравоохранения. В рамках модернизации детской амбулаторно-поликлинической
службы с целью повышение доступности и качества медицинской помощи, исходя из
демографической структуры населения, проведено оснащение современным оборудованием
кабинетов офтальмологов и ЛОР-врачей, создание межрайонных урологических центров,
обновление парка аппаратов ультразвуковой диагностики, дооснащение централизованных
лабораторий.
Одной из составляющих Приоритетного национального проекта «Здоровье» и Программы
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи является предоставление жителям
Санкт-Петербурга и Ленобласти высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств
федерального и городского бюджета.
Наряду с реализацией ПНП «Здоровье» в сфере профилактики ВИЧ-инфекции в Санкт-
Петербурге утверждена и в 2010 году начата реализация долгосрочной целевой программы
«Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции) в Санкт-Петербурге на 2010-2012 годы». В городе увеличился охват диспансерным
196
наблюдением больных ВИЧ-инфекцией с 73% в 2009 до 87 % в 2011г., от числа подлежащих
(включая УФСИН).
В 2011 году осуществлялась дополнительная диспансеризация работающих граждан.План
дополнительной диспансеризации составил 65 000 человек. В 2011 году осмотрено 64 867
(99,8 %) работающих граждан.
Международное сотрудничество в сфере здравоохранения
В 2011 году основными направлениями международного сотрудничества в области
здравоохранения являлись:
- Сотрудничество с международными межправительственными организациями;
- Внедрение в практику здравоохранения инновационных технологий;
- Программы в сфере здорового образа жизни, профилактики табакокурения;
- Противодействие распространению СПИД, туберкулеза и других инфекционных
заболеваний.
- Улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями;
- Развитие рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге.
Среди наиболее значимых программ в прошедшем году можно назвать серию
мероприятий, посвященных вступлению Санкт-Петербурга в движение «Здоровые города», а
также конференцию «Медицина завтрашнего дня», где по итогам выступлений российских и
зарубежных коллег было принято обращение к Президенту России Дмитрию Анатольевичу
Медведеву и Председателю Правительства РФ Владимиру Владимировичу Путину о
необходимости создания инновационных медицинских центров на территории Северо-
Западного региона России.
В 2011 г. международное сотрудничество Санкт-Петербурга проводилось по 52
программам с международными организациями и 11 странами, среди которых основными
партнерами являются Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, США, Финляндия, Франция,
Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.
Ведется активная работа по программам сотрудничества с соотечественниками за
рубежом, и программам помощи жителям блокадного Ленинграда.
Спорт
Спортивная инфраструктура Санкт-Петербурга
Спортивные сооружения:
• 13 - стадионов с трибунами на 1500 мест и более
Плоскостные спортивные сооружения - 2302
Спортивные залы - 1649
Дворцы спорта -10, из них:
• 6 дворцов с искусственным льдом
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом - 17
Манежи - 22 из них:
• 7 легкоатлетических
• 5 футбольных
Велотреки - 1
Бассейны (чаши для плавания):
• 8 - 50-метровых
• 110 - 25 -метровых
Лыжные базы - 18
Сооружения для стрелковых видов спорта - 63:
• 57 тиров
• 4 стрельбища
• 2 стенда
Гребные базы и каналы - 11
Приспособленные, нестандартные спортивные сооружения – 1692
ВСЕГО: 5 969 единицы.
197
Из общего числа работников отрасли 13 989 человек, 10 073 человека имеют высшее
профессиональное образование, 478 специалистов имеют ученую степень. Возрастной
контингент специалистов: До 30 лет - 4 272 человека 31-60 лет - 8 095 человек Старше 60 лет - 1
622 человека.
В Санкт-Петербурге РЕАЛИЗОВАНЫ:
• Программа развития физической культуры и спорта на 2004-2006 годы;
• Программа развития физической культуры и спорта на 2007-2009 годы;
198
• План мероприятий по развитию футбола;
• План мероприятий по развитию тенниса.
В Санкт-Петербурге в процессе РЕАЛИЗАЦИИ:
• Долгосрочная целевая Программа развития физической культуры и спорта на 2010-2014
годы;
• Адресная программа «Мой первый школьный стадион»;
• Отраслевая схема развития и размещения объектов физической культуры и спорта на
территории Санкт-Петербурга на период до 2015 года с перспективой до 2025 года.
За 2004-2011 годы:
• Отремонтированы и оснащены спортивным инвентарем и оборудованием спортивные
залы в 398 общеобразовательных школах города.
• Отремонтирована и обновлена материальная база 60 детско-юношеских спортивных
школ
• Открыты 116 школьных спортивных клубов на базе общеобразовательных школ города
В Санкт-Петербурге вновь построено и реконструировано 596 спортивных объекта.
Спортивная слава Санкт-Петербурга
Одной из приоритетных задач спортивной отрасли Санкт-Петербурга является подготовка
спортивных сборных команд и участие петербургских спортсменов во всероссийских и
международных соревнованиях, финальных соревнованиях зимней и летней Спартакиады
молодежи Российской Федерации, подготовка к участию в XXX летних Олимпийских играх и
Паралимпийских играх 2012 года и в г.Лондоне, XXII Олимпийским зимним играм и XI
Паралимпийским зимним играм 2014 года в г.Сочи.
На Генеральной Ассамблее международной ассоциации «Спортаккорд», состоявшейся 8
апреля 2011 г. в г.Лондоне (Великобритания), Санкт-Петербург получил право на проведение в
2013 году Всемирных Игр боевых искусств, осенью 2013 года в Санкт-Петербурге
планируется проведение этапа Эстафеты Олимпийского огня зимних Олимпийских и
Паралимпийских игр в г.Сочи.
В 2011 году в составы сборных команд Российской Федерации по летним и зимним
олимпийским видам спорта входят более 700 спортсменов. В настоящее время 114 спортсменов
Санкт-Петербурга ведут подготовку к летним Олимпийским играм 2012 года в г.Лондоне В
2011 году на официальных международных и всероссийских соревнованиях петербургскими
спортсменами завоевано 1246 медалей различного достоинства.
Санкт-Петербург – спортивный центр мирового уровня.
Ежегодно в Санкт-Петербурге проводится свыше 100 международных и всероссийских
соревнований. Среди них: международный теннисный турнир St.Petersburg Open,
международный марафон «Дорога жизни», международный юношеский турнир по футболу на
приз первого вице-президента FIFA Валентина Гранаткина, Кубок мира по современным
танцам «Русские 088 р198 звезды», международный Фестиваль детского дзюдо,
международный лыжный марафон на 50 км «Хепоярви», международный марафон «Эрго-Белые
Ночи», этап Кубка мира по фехтованию-Гран-при «Рапира Санкт- Петербурга», Олимпиада
боевых искусств «Восток-Запад», международный турнир по плаванию «Веселый дельфин»,
Кубок России по тяжелой атлетике, международные соревнования по плаванию «Кубок
олимпийского чемпиона Владимира Сальникова», Кубок мира по акробатическому рок-н-
роллу, чемпионат России по рукопашному бою, международные соревнования по спортивной
гимнастике «Кубок А.Дитятина», международная регата по гребным видам спорта «Золотые
весла Санкт-Петербурга» и др.
Меры социальной поддержки
В 2009 году вступил в силу Закон Санкт-Петербурга «Об основах политики Санкт-
Петербурга в области физической культуры и спорта» (далее - Закон), обеспечивающий право
каждого гражданина на свободный доступ к спортивной инфраструктуре отрасли, в том числе
на бесплатной основе, право на занятия физической культурой и спортом всех категорий
граждан и групп населения и главное, признание физической культуры и спорта -
199
приоритетной и социально-значимой отраслью. В законе предусмотрены дополнительные
меры социальной поддержки спортсменов и тренеров. В частности, увеличено число лиц,
имеющих право на получение ежемесячного денежного содержания. Порядок предоставления
мер социальной поддержки установлен в постановлении и Правительства Санкт-Петербурга «О
порядке предоставления ежемесячного денежного содержания спортсменам, тренерам в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об основах политики Санкт-Петербурга в области
физической культуры и спорта» от 25.05.2010 № 648. Сегодня получателями ежемесячного
денежного содержания являются 690 ветеранов спорта.
Трудовой потенциал
Численность экономически активного населения в 2011 г. – 2690 тыс. человек (оценка
Петростата).
Рыночная инфраструктура
В городе действуют:
· Санкт-Петербургская валютная биржа;
· Товарная биржа «Санкт-Петербург»;
· Фондовая биржа «Санкт-Петербург»;
· Санкт-Петербургская Фьючерсная биржа;
· Нефтяная биржа «Санкт-Петербург».
По оценкам экспертов в городе имеется:
· более 3,5 млн. м
2 офисных площадей, в т.ч. 1,8 млн. м
2 офисных площадей класса А и В (более 240 тыс. м2 было введено в 2009 году);
· 7,1 млн. кв. м складских площадей, в т.ч. 1, 225 тыс. м
2 площадей складской недвижимости класса А и В; 3,8 млн. м 2 торговых площадей.
Инновационная инфраструктура
В городе действуют:
· Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере;
200
· 2 бизнес-инкубатора;
· Некоммерческая организация «Фонд предпосевных инвестиций» (создана
Правительством Санкт-Петербурга в 2010 году в целях формирования в Санкт-Петербурге
института государственной поддержки малых инновационных компаний, находящихся на
начальной стадии реализации инновационных идей и разработок);
· 2 центра коллективного пользования;
· Центр прототипирования.
В городе реализуются проекты создания:
· Технопарка в сфере высоких технологий;
· Наукограда;
· Особой экономической зоны Санкт-Петербурга технико-внедренческого типа.
В.В.Путиным подписано распоряжение об установлении границ морского порта
«Большой порт Санкт-Петербург». В границы территории порта вошли 22 участка, а общая
площадь территории порта составила более 700 гектар.
201
Для соединения морских портовых терминалов с объектами городской улично-дорожной
сети, подключения районов Большого порта Санкт-Петербурга к УДС Санкт-Петербурга КБДХ
осуществлено проектирование работ по строительству и реконструкции дорог, соединяющих
Гутуевский остров с УДС города (Двинская ул., Невельская ул.,Шотландская ул., наб. реки
Екатерингофки).
В 2011 году в Порту полностью прекращена перевалка каменного угля. Эта тенденция
соответствует целям Стратегии развития транспортно-логистического комплекса Санкт-
Петербурга, в соответствии с которой в перспективе на терминалах Порта перевалка
экологически небезопасных грузов должна быть замещена технологичными грузами
(контейнерными, рефрижераторными).
Морской пассажирский терминал В 2011 году введена в эксплуатацию и передана в
собственность Санкт- Петербурга инфраструктура морского порта «Пассажирский порт Санкт-
Петербург». Терминал рассчитан на прием современных морских лайнеров. К его объектам
порта относятся 7 причалов и 4 вокзала. В 2011 году терминал принял 214 круизных и 113
паромных судов и около полумиллиона пассажиров. Всего в 2011 году Санкт-Петербург
посетило около 500 круизных и паромных судов.
С апреля 2010 года организовано регулярное паромное сообщение Санкт-Петербург-
Хельсинки (оператор «StPeter Line», т/х «Princess Anastasia»). С апреля 2011 года начала
действовать новая паромная линия Санкт-Петербург – Стокгольм и Санкт-Петербург – Таллин
(оператор «StPeter Line», т/х «Princess Maria»). Первый рейс парома состоялся 31 марта 2011
года. В 2012 году запланировано начало строительства речного порта в непосредственной
близости от комплекса «пассажирский порт Санкт-Петербурга».
Железнодорожный транспорт
По объему железнодорожных грузоперевозок Санкт-Петербург занимает по России второе
место после Московского железнодорожного узла. Санкт-Петербургский железнодорожный
узел связывает Россию с Финляндией и Эстонией. В нем сходится 10 железнодорожных
направлений. Основу железнодорожного узла составляют 5 железнодорожных вокзалов.
Железная дорогая обладает развитой производственной базой для обеспечения полного цикла
основной и вспомогательной деятельности.
Железнодорожный транспорт представлен в основном монополистом в данной сфере –
«Октябрьской железной дорогой» (филиал ОАО «Российские железные дороги»). В 2011 году
на заседании комиссии по высоким технологиям и инновациям при Правительстве РФ была
утверждена технологическая платформа «Высокоскоростной интеллектуальный
железнодорожный транспорт».
Технологическая платформа представляет коммуникационный инструмент, направленный
на активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых
продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и
разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства,
гражданского общества). 12 декабря 2010 г. открылось движение скоростного электропоезда
«Аллегро», курсирующему по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. В 2011 году также
состоялось открытие железнодорожного пункта пропуска «Санкт-Петербург-Финляндский» на
Финляндском вокзале.
Воздушный транспорт
Аэропорт «Пулково» относится к числу крупнейших аэропортов страны и занимает третье
место в России после аэропортовШереметьево и Домодедово по пассажирообороту. По итогам
2011 года суммарный пассажиропоток аэропорта «Пулково» составил 9,6 млн. человек, что на
14,3 % больше показателя за аналогичный период 2009 года. В 2007 году Правительство Санкт-
Петербурга приняло решение о масштабной модернизации аэропортового комплекса
«Пулково» и создания на его базе межрегионального аэропорта-хаба.
Правительством Санкт-Петербурга совместно с ОАО «Аэропорт «Пулково» проведен
конкурс на право заключения соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации на основе
государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества аэропорта
202
«Пулково». 29 апреля 2010 г. подписано соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации
на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества
аэропорта «Пулково». Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» приняла на себя всю
операционную деятельность аэропорта «Пулково» и будет в течение 30 лет эксплуатировать
аэропорт «Пулково», а также реконструировать имеющиеся на его территории и строить новые
объекты аэропортовой инфраструктуры. В 2011 году началось строительство нового терминала
аэропорта «Пулково», которые должны завершиться к 2013 году. Пропускная способность
аэропорта увеличится до 14 млн. человек.
Концепцией развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта
Санкт-Петербурга до 2020 года, предусмотрено развитие системы легкорельсового транспорта
(далее – ЛРТ), в частности, линии, соединяющей аэропорт «Пулково» с центром Санкт-
Петербурга. В 2010 году из средств бюджета Санкт-Петербурга выделено 200 млн. рублей на
работы по проектированию линии ЛРТ, соединяющей аэропорт «Пулково» с центром Санкт-
Петербурга.
В 2011 году проведены работы по оборудованию 2 посадочных площадок для оказания
экстренной медицинской помощи (на территории 1- ой детской городской больницы и НИИ
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе). Посадочные площадки могут осуществлять работу днем
в простых метеорологических условиях. В 2012 году планируется оснащение площадок
средствами связи, аэронавигационным светосигнальным оборудованием, что
Источник: официальный сайт Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
http://www.kvs.spb.ru/
Приложение 2
Программа развития сферы культуры в Санкт-Петербурге «Культурная столица» на
2012-2014 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2012 г. N 113
О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
"КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА" НА 2012-2014 ГОДЫ
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2012 N 346, от 28.04.2012 N 402,
от 12.05.2012 N 445, от 09.06.2012 N 596)
В целях организации деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга по реализации мероприятий по развитию сферы культуры в Санкт-
Петербурге в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 15.12.2010 N 739-2 "О политике в
сфере культуры в Санкт-Петербурге", статьей 8 Закона Санкт-Петербурга от 24.06.2009 N 335-
66 "О Правительстве Санкт-Петербурга", пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 N 1435 "Об
организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
по подготовке решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности
Санкт-Петербурга и порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной
программы" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Утвердить Программу развития сферы культуры в Санкт-Петербурге "Культурная
203
столица" на 2012-2014 годы (далее - Программа) согласно приложению.
2. Осуществить реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.2 Перечня мероприятий
Программы, в части, касающейся проектирования и строительства объекта капитального
строительства государственной собственности Санкт-Петербурга путем выделения бюджетных
ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в
период 2012-2013 годов.
3. Комитету по культуре осуществлять координацию деятельности исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга, являющихся исполнителями мероприятий
Программы, в части, касающейся реализации мероприятий Программы.
4. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся
исполнителями мероприятий Программы:
4.1. Обеспечить реализацию мероприятий Программы.
4.2. Один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием,
представлять в Комитет по культуре отчеты о выполнении мероприятий Программы.
4.3. В порядке и сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга представлять в
Комитет финансов Санкт-Петербурга, а также в Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли в части, касающейся реализации мероприятия, указанного
в пункте 2.1 Перечня мероприятий Программы, предложения по выделению бюджетных
ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга, необходимых для реализации мероприятий
Программы, финансирование которых будет осуществляться в рамках реализации Программы.
5. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2011 N 731 "О
Концепции развития сферы культуры в Санкт-Петербурге на период 2012-2014 годов"
следующие изменения:
5.1. В абзаце девятом пункта 7.2 приложения к постановлению слова "посредством
включения в долгосрочную целевую программу "Культурная столица" раздела "Культура
Санкт-Петербурга - детям" исключить.
5.2. Дополнить пункт 10.1 приложения к постановлению абзацем следующего содержания:
"11) литературное творчество".
5.3. В абзаце первом раздела 12 приложения к постановлению слова "долгосрочной
целевой" исключить.
5.4. В абзаце четвертом раздела 12 приложения к постановлению слова "ведомственных
целевых программ Санкт-Петербурга" заменить словами "долгосрочных целевых программ
Санкт-Петербурга, ведомственных целевых программ Санкт-Петербурга, программ и планов
мероприятий".
5.5. Абзац пятый раздела 12 приложения к постановлению исключить.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга Кичеджи В.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 07.02.2012 № 113
204
ПРОГРАММА
развития сферы культуры в Санкт-Петербурге «Культурная столица»
на 2012-2014 годы
Паспорт Программы
Наименование Программы – программа развития сферы культуры
в Санкт-Петербурге «Культурная столица»
на 2012-2014 годы (далее – Программа).
Цель Программы – создание условий для динамичного,
инновационного развития сферы культуры
в Санкт-Петербурге, укрепление и развитие
бренда «Санкт-Петербург – культурная столица».
Разработчик Программы Комитет по культуре.
Исполнительные органы
государственной власти
Санкт-Петербурга,
являющиеся
исполнителями
мероприятий Программы
(далее – исполнители
мероприятий Программы)
Комитет по культуре;
Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга;
Комитет по образованию;
Комитет по молодежной политике
и взаимодействию с общественными
организациями;
Комитет по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации;
Комитет по информатизации и связи;
Комитет по градостроительству и архитектуре;
Комитет по строительству;
Комитет по инвестициям и стратегическим
проектам;
Комитет по науке и высшей школе;
администрации районов Санкт-Петербурга;
Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли;
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга;
Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории
и культуры.
Исполнительный орган
государственной власти
Санкт-Петербурга,
осуществляющий
координацию деятельности
исполнителей мероприятий
Программы
Комитет по культуре.
Сроки выполнения
мероприятий Программы
2012-2014 годы.
Направления реализации
Программы обеспечение устойчивости развития
сферы культуры в Санкт-Петербурге,
развитие инфраструктуры сферы культуры
205
в Санкт-Петербурге;
формирование имиджа культуры как основного
конкурентного преимущества Санкт-Петербурга,
закрепление и развитие бренда «Санкт-Петербург –
культурная столица», а также разработка
иных имиджевых брендов Санкт-Петербурга;
сохранение культурно-исторического наследия
Санкт-Петербурга;
развитие комплекса масштабных культурных
событий и мероприятий всероссийского
и мирового уровня;
развитие современного искусства, модернизация
творческой жизни Санкт-Петербурга;
поддержка одаренных детей,
продвижение талантливой молодежи, повышение
образовательной роли культуры
в Санкт-Петербурге;
социализация культуры: повышение уровня
доступности и востребованности культуры
в Санкт-Петербурге;
развитие творческих индустрий,
инноваций в культуре и искусстве;
поддержка негосударственного сектора
петербургской культуры, развитие
государственно-частного партнерства,
а также иных форм взаимодействия государства,
бизнеса и структур гражданского общества по
вопросам поддержки и развития сферы культуры
в Санкт-Петербурге;
повышение общего уровня культуры
петербуржцев, бытовой культуры горожан.
Ожидаемые конечные результаты выполнения мероприятий Программы
Реализация мероприятий Программы позволит к началу 2015 года: увеличить объем и качество услуг государственных учреждений культуры; модернизировать материально-техническую базу государственных учреждений культуры; повысить эффективность и качество комплекса масштабных событий в сфере культуры и искусства; повысить общественный интерес к чтению, способствовать вовлечению горожан в яркие события, организованные на базе интереса к книге, литературе, культурному наследию; активизировать международную гастрольную деятельность театральных и концертных коллективов Санкт-Петербурга; повысить вовлеченность горожан и структур гражданского общества в процесс формирования единого культурного пространства Санкт-Петербурга;
206
увеличить количество мероприятий по продвижению петербургской культуры за рубежом; увеличить долю детей и молодежи, задействованных в сфере культуры, в том числе через содействие приобщению подростков и детей к чтению; повысить эффективность образовательных программ для детей и юношества в сфере культуры; обеспечить устойчивое развитие академической системы музыкального и художественного образования; увеличить число новых экспериментальных творческих площадок – театров, мастерских, кластеров художественных индустрий, студий, клубов и т.д., способствовать развитию объектов городской инфраструктуры, ориентированных на обеспечение и расширение интереса населения к книге и чтению; увеличить долю мероприятий, направленных на социализацию культуры и обеспечение культурными услугами социально незащищенных слоев населения, увеличить выпуск и распространение социально значимой литературы; расширить использование информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры; расширить количество потребителей культурных услуг в Санкт-Петербурге; содействовать созданию и развитию попечительских советов в государственных учреждениях культуры; содействовать формированию фондов развития и целевого капитала негосударственных некоммерческих организаций; увеличить ресурсы сферы культуры в результате развития государственно-частного партнерства и иных форм взаимодействия государства, бизнеса и структур гражданского общества; укрепить единое культурное пространство на территории Санкт-Петербурга; повысить престиж петербургской культуры, а также престиж Санкт-Петербурга как читающего города.
Введение
Санкт-Петербург - один из общепризнанных центров мировой культуры; город, к
названию которого нередко и неслучайно добавляют титул "культурной столицы". Несмотря на
многочисленные достижения Санкт-Петербурга во многих сферах - промышленности,
строительстве, науке, образовании и т.д., город во все времена выделялся именно своей
культурной составляющей, воспринимался в первую очередь как культурный феномен.
207
Бесценное культурное наследие, включающее в себя шедевры выдающихся зодчих, богатейшие
музейные собрания, вековые традиции прославленных мастеров и творческих коллективов
соединены здесь с живой творческой деятельностью наших современников, их мастерством и
новаторством. Сохраняя прошлое, петербургская культура живет настоящим и устремлена в
будущее. Основные контуры ближайшего будущего культуры Санкт-Петербурга определены в
Программе.
Программа разработана во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 15.12.2010 N 739-2 "О
политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге" и Концепции развития сферы культуры в
Санкт-Петербурге на период 2012-2014 годов, утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 07.06.2011 N 731, с учетом задач, стоящих перед Санкт-Петербургом как в
сфере культуры, культурной деятельности, образования в сфере культуры, так и стратегических
задач социально-экономического развития Санкт-Петербурга в качестве крупнейшего
европейского мегаполиса, центра притяжения человеческого капитала.
Программа направлена на создание условий для динамичного, инновационного развития
сферы культуры в Санкт-Петербурге, формирование комфортной среды пребывания в
учреждении культуры для ребенка и его семьи и обеспечение консолидированного участия в
этом процессе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и
организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры в Санкт-Петербурге.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.06.2012 N 596)
Программа учитывает итоги реализации Концепции развития сферы культуры Санкт-
Петербурга на 2006-2009 годы, одобренной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.04.2006 N 350, а также продолжает и развивает достижения Программы поддержки и
развития чтения в Санкт-Петербурге на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.2008 N 876.
1. Характеристика проблем, на решение которых направлена
программа, и обоснование необходимости их решения
программно-целевым методом
В последнее десятилетие в культуре Санкт-Петербурга произошли значительные
положительные, порой даже прорывные изменения. Эти процессы были во многом
простимулированы заметным усилением культурного фактора в политике администрации
Санкт-Петербурга, усиленным вниманием к Санкт-Петербургу федеральных властей,
несомненно повысившейся активностью самой сферы культуры. При этом с учетом степени
происшедших изменений необходимо констатировать, что многие проблемы петербургской
культуры существуют десятилетиями, носят системный характер и не могут быть решены в
короткие сроки. Необходимы качественные изменения в их осмыслении обществом и
властными структурами. Потребность в разработке Программы определена наличием
нерешенных проблем в сфере культуры, стремлением сохранить высокие темпы развития
петербургской культуры, а при возможности и увеличить их, модернизировать принципы и
механизмы функционирования культуры.
1.1. Проблема сохранения культурно-исторического наследия
Санкт-Петербурга как фактора устойчивого развития
Санкт-Петербурга, гаранта сохранения единого
социокультурного пространства Санкт-Петербурга
Недостаточная обеспеченность сохранности предметов Музейного фонда Российской
Федерации, фондов библиотек и архивов, кинофонда и других фондов; ограниченный объем
проводимых ремонтных и реставрационных работ на объектах, занимаемых государственными
учреждениями культуры; отсталость материально-технической базы государственных
учреждений культуры; дефицит площадей и недостаток объектов недвижимости для целей
208
культуры; снижение уровня просветительской работы с населением, направленной на
воспитание любви и уважения к родному городу, на бережное отношение к культурным
ценностям, - все эти факторы препятствуют сохранению культурно-исторического наследия
Санкт-Петербурга, провоцируют утрату традиций, падение спроса на культуру, снижение
общего культурного уровня горожан.
Значительные усилия требуются для приведения в надлежащий вид зданий и помещений,
занимаемых государственными учреждениями культуры. В настоящее время более 100
объектов недвижимости остро нуждаются в ремонтно-реставрационных работах. Для
отдельных государственных учреждений культуры требуются новые площади и новые здания.
1.2. Недостаточность возможностей самореализации творческих
работников среднего и старшего поколения
В Санкт-Петербурге недостаточно развита система поддержки актеров, музыкантов,
певцов и творцов иных профилей. Нет сложившейся специализированной "Биржи труда",
ресурсы творческих союзов недостаточны для оказания поддержки действующим мастерам. По
существу, петербургский творческий работник либо привязан к учреждению культуры, в
котором служит, либо является фрилансером, работая время от времени на договорной основе с
заказчиком. И то и другое положения создают значительные ограничения, не способствуют
интеграции творцов в новые творческие коллективы, не расширяют возможностей
самопродвижения в пространство государственной и мировой культуры. Необходимо создание
новых театральных площадок, выставочных комплексов, концертных залов, культурных
центров, позволяющих деятелям искусства развивать свое дарование, находить свою публику,
новые возможности для самореализации. Необходима разработанная система
профессиональной адаптации работников искусств, потерявших работу, пребывающих в
состоянии творческого кризиса, ищущих нестандартные формы творческого воплощения.
Сбережение и поддержка творцов так же важны, как сохранение материальных ценностей
культуры.
1.3. Недостаточность адресной поддержки молодых творческих
работников, новаторов и художников нового поколения
В последнее время все большее распространение находит тенденция, когда активные не
только в бизнесе, но и в культурном смысле люди уезжают из Санкт-Петербурга и не
планируют возвращаться. Это связано с тем, что выбор, где жить, во многом определяется
возможностями для реализации личностного потенциала и масштабом персонального участия в
культурных и социальных процессах. После окончания образовательных учреждений среднего
профессионального и высшего профессионального образования молодые специалисты часто
оказываются без работы, без средств на реализацию проектов. Проблемы с трудоустройством
вызваны рядом причин: ограниченностью спроса на данные специальности в связи с
неразвитостью инфраструктуры сферы культуры в целом; сложностями в получении субсидий
(грантов) на реализацию проектов для лиц без опыта работы и сложившегося портфолио;
неразвитостью сети некоммерческих организаций, профессионально занимающихся
фандрайзингом, и рядом иных, связанных с указанными процессами причин. В Санкт-
Петербурге пока слабо развита система кластеров, аккумулирующих творческие индустрии.
Очевидна недостаточность комплексных инновационных проектов на стыке современной
музыки, дизайна, моды, IT-технологий и традиционных форм в искусстве.
В Санкт-Петербурге необходимо развивать систему поддержки молодых деятелей
культуры и искусства: артистов, режиссеров, музыкантов, живописцев, архитекторов,
писателей и представителей иных художественных специальностей.
1.4. Падение уровня профессионального художественного
209
образования
Из года в год возрастает численность студентов, прерывающих получение образования в
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального
образования художественного профиля, специализирующихся на подготовке работников сферы
культуры и искусства. Причины падения спроса на творческие специальности, в частности в
сфере библиотечного или музейного дела, в низкой стоимости труда специалистов на рынке
труда, трудности интеграции выпускников в художественное пространство Санкт-Петербурга, в
отсутствии возможностей для реализации творческих идей. Помимо этого необходимо
отметить недостаточный уровень квалификации педагогов, не способных к обучению
специалистов нового поколения.
1.5. Ограниченность культурного предложения для детей
и подростков, дефицит учреждений дополнительного
художественного и музыкального образования детей
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 09.06.2012 N 596)
Развитие современных информационных технологий приводит к изменению форм
проведения досуга подрастающим поколением. Персональный компьютер с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" способен подменить собой в
сознании ребенка услуги, предоставляемые библиотеками, культурно-досуговыми
учреждениями, кинотеатрами, музеями и т.д. Сетевые игры становятся для детей привычным
способом общения с ровесниками, в котором наличествуют и эмоциональные переживания, и
возможность моделирования ситуаций и правил поведения, и примеры формирования
жизненных целей и задач.
Для вовлечения детей и подростков во взаимодействие с традиционными видами
искусства необходимо, чтобы его демонстрационная функция (показ спектакля и кинофильма,
проведение выставок и концертов и т.д.) была дополнена функцией коммуникативной. Во
избежание отторжения ребенком классических форм проведения досуга последние должны
быть актуализированы. То есть неподготовленному зрителю и слушателю должен быть
предложен широкий спектр сопроводительных инновационных образовательных программ,
помогающих ребенку понимать и овладевать символическим языком искусства.
Приобщение к культуре и искусству также должно осуществляться через творческую
самореализацию ребенка. Условия для самореализации, в первую очередь, предоставляют
культурно-досуговые учреждения, однако в Санкт-Петербурге наблюдается как дефицит
организаций такого типа, так и недостаточность их ресурсной базы. Особенно отчетливо такая
ситуация проявляется на периферии Санкт-Петербурга.
Важную роль в процессе организованного взаимодействия подрастающего поколения с
произведениями культуры и искусства играет система дополнительного образования в сфере
культуры, к которой относятся детские музыкальные и художественные школы, школы
искусств. Эта система не имеет себе равных в мире, так как дает ребенку с раннего возраста не
только духовное обогащение, но и профессиональную ориентацию по трехступенчатой системе
образования: школа - училище - высшее учебное заведение.
В Санкт-Петербурге дополнительное художественное и музыкальное образование детей
сопровождено рядом проблем, среди которых кадровый дефицит, несистематическое
применение новых образовательных технологий и методов, неустойчивая связь учреждений
дополнительного художественного и музыкального образования с учреждениями культуры и
искусства.
Недостаточная информированность населения Санкт-Петербурга о предоставляемых для
детской и подростковой аудитории культурных услугах приводит к фактической недоступности
210
даже имеющегося культурного предложения. Отсутствие информации о деятельности
учреждений культуры, направленной на работу с детской аудиторией, сгруппированной по
возрастному, жанровому, территориальному и иным критериям, не позволяет сфере культуры
быть в полной мере включенной в воспитательный и образовательный процессы.
Структурированность культурного предложения для детей и юношества, работа театральных и
музыкальных критиков, музейных специалистов, педагогов и психологов должны помогать
родителям в формировании творчески активной и социально адаптированной личности.
1.6. Недостаточная доступность культурных услуг широким
слоям населения
При стабильном уровне спроса на культурные услуги в Санкт-Петербурге тем не менее
наблюдается падение общей культуры горожан. Особенно отчетливы эти процессы на
периферии Санкт-Петербурга и затрагивают интересы граждан, живущих в отдаленных от
центра Санкт-Петербурга районах. Проблемы, требующие решения: недостаточная
обеспеченность ряда районов Санкт-Петербурга библиотеками, культурно-досуговыми
учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей и концертными залами;
ограниченность культурного предложения для жителей удаленных районов Санкт-Петербурга;
в ряде случаев - отсутствие культуры "шаговой доступности" из-за неразвитости
инфраструктуры; редкость культурно-досуговых мероприятий с участием популярных
исполнителей и звезд, осуществляемых на периферии Санкт-Петербурга; ограниченность
культурного предложения для детей и молодежи; отсутствие предложений системного досуга
для пенсионеров и малообеспеченных слоев населения; недостаточная доступность культурных
услуг и творческой деятельности для лиц с ограниченными физическими возможностями;
недостаточность ориентации на потребности мигрантов, представителей различных
национальных культур.
1.7. Низкий уровень заработной платы сотрудников
государственных учреждений культуры
Несмотря на определенный рост заработной платы сотрудников бюджетной сферы в
целом и сферы культуры в частности, уровень заработной платы в данной области гораздо ниже
зарплат в экономике, юриспруденции, менеджменте и слабо соотносится с реальными
потребностями жителя мегаполиса. Так, по итогам первого полугодия 2011 года отношение
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных
учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в
экономике Санкт-Петербурга, составило 69 процентов. Низкая стоимость на рынке труда
специалистов в области культуры, сотрудников музеев, библиотек, образовательных
учреждений художественно-творческих направлений ведет к кадровому дефициту, оттоку
молодежи, отсутствию конкуренции и, как следствие, к снижению уровня квалификации
сотрудников, к преобладанию удельного веса сотрудников пенсионного возраста, к снижению
качества культурных услуг, оказываемых населению.
1.8. Отсутствие системной государственной поддержки
негосударственного некоммерческого сектора сферы культуры
В условиях несформировавшейся законодательной базы по вопросам регулирования
деятельности негосударственного некоммерческого сектора сферы культуры сотрудники
фондов, общественных организаций, некоммерческих организаций, созданных в иных
организационно-правовых формах, не располагают возможностями для планомерной и
эффективной работы, теряют кадры и часто прекращают свою деятельность. В то же время,
очевидно, что системное участие негосударственного некоммерческого сектора в сфере
211
культуры позволяет решить комплекс проблем, в первую очередь связанных с приростом
человеческого капитала и компенсацией культурных потребностей социально незащищенных
слоев населения.
1.9. Недостаточная развитость информационного
пространства сферы культуры
В петербургском медиапространстве на настоящий момент наблюдается определенный
пробел в сфере, относящейся к освещению вопросов культуры и культурной жизни Санкт-
Петербурга. При обилии явно ангажированных проектов и в печатных изданиях, и в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет практически отсутствует ресурс
информации, поступающей с исключительно информативной целью, то есть объективной,
своевременной и нерекламного характера. Недостаточная информированность населения
Санкт-Петербурга о предоставляемых культурных услугах приводит к фактической
недоступности имеющегося культурного предложения. Объемная среда интернет-
пользователей оказывается выключенной из культурного процесса. Неразвитость единого
культурно-информационного пространства ведет к ослаблению внимания к культурным
событиям, к уменьшению возможной численности потребителей культуры и понижению
конкурентной способности культуры на рынке досуга: масс-медиа и индустрии развлечений.
Наряду с перечисленными существует ряд социально-экономических проблем, которые
также оказывают негативное влияние на развитие и потребление культуры в Санкт-Петербурге.
К числу наиболее острых проблем следует отнести рост числа семей мигрантов, имеющих
детей и требующих культурной адаптации, прирост населения за счет приехавших на работу,
которые в свою очередь нуждаются в культурном просвещении, рост числа детей и подростков
из неблагополучных семей, прерывающих обучение в средней школе и, как следствие,
выпадающих из культурного пространства, последствия градостроительных ошибок,
приведших к уничтожению культурных памятников и очагов культуры, отсутствие
достаточного для воспроизводства культуры финансирования и ряд подобных проблем,
тормозящих развитие сферы культуры.
В связи с широким спектром факторов, оказывающих влияние на формирование
государственной политики в сфере культуры, достижение целевых значений стандартов
проживания в Санкт-Петербурге возможно лишь при комплексном воздействии на все стороны
этого процесса, что диктует необходимость применения программно-целевого метода решения
перечисленных выше проблем в области культуры.
Реализация программно-целевого метода в решении вопросов культуры позволит
обеспечить достаточно высокий уровень межведомственной координации. Сохранение и
укрепление культуры, создание условий для модернизации всей сферы культуры и новаторства,
для повышения уровня художественного образования, для увеличения количества потребителей
культурных услуг возможно только при комплексном взаимодействии различных ведомств,
организаций и самих участников культурного процесса.
Использование программно-целевого метода дает возможность осуществлять меры по
повышению качества жизни горожан, что должно привести к улучшению основных параметров
жизни каждого петербуржца.
2. Характеристика системы учреждений Санкт-Петербурга,
предоставляющих культурные услуги
На территории Санкт-Петербурга осуществляют свою деятельность 201 учреждение в
сфере культуры, финансируемое из бюджета Санкт-Петербурга, в том числе:
27 театров разной направленности, из которых 21 театр находится в ведении Комитета по
культуре;
15 концертных организаций, из которых 14 концертных организаций находятся в ведении
212
Комитета по культуре;
26 музеев (41 - с учетом филиалов), в том числе музеи-заповедники, из которых 17 (31 - с
учетом филиалов) находятся в ведении Комитета по культуре;
21 общедоступная библиотека (193 - с учетом филиалов), из которых 5 библиотек (22 - с
учетом филиалов) находятся в ведении Комитета по культуре;
7 учреждений кинопоказа (12 - с учетом филиалов), из которых 3 (8 - с учетом филиалов)
учреждения находятся в ведении Комитета по культуре;
26 культурно-досуговых учреждений, из которых 1 учреждение находится в ведении
Комитета по культуре и 1 является муниципальным учреждением культуры;
4 парка, из которых 1 - Центральный парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова находится в
ведении Комитета по культуре;
72 государственных образовательных учреждения, в том числе 7 учреждений среднего
профессионального образования, находящихся в ведении Комитета по культуре, 63 учреждения
дополнительного образования детей, из которых 42 находятся в ведении Комитета по культуре,
2 иных образовательных учреждения, находящиеся в ведении Комитета по культуре;
3 иных государственных учреждения в сфере культуры, находящиеся в ведении Комитета
по культуре.
Также в Санкт-Петербурге в форме государственного унитарного предприятия
функционирует "Ленинградский зоологический парк".
Помимо этого культурные услуги в Санкт-Петербурге оказывают учреждения,
находящиеся в ведении Российской Федерации, а также частные организации.
3. Цели и основные направления реализации Программы
Основная цель Программы - создание условий для динамичного, инновационного
развития сферы культуры в Санкт-Петербурге, укрепление и развитие бренда "Санкт-Петербург
- культурная столица".
Программа опирается на цели, задачи и принципы политики в сфере культуры в Санкт-
Петербурге, определенные в статьях 2 - 4 Закона Санкт-Петербурга от 15.12.2010 N 739-2 "О
политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге" и в Концепции развития сферы культуры в
Санкт-Петербурге на период 2012-2014 годов, утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 07.06.2011 N 731 (далее - Концепция).
Направления реализации Программы основаны на приоритетных направлениях развития
сферы культуры в Санкт-Петербурге на 2012-2014 годы, определенных Концепцией, и
обеспечивают решение предусмотренных Концепцией задач в рамках этих направлений, а
именно:
обеспечение устойчивости развития сферы культуры в Санкт-Петербурге, развитие
инфраструктуры сферы культуры в Санкт-Петербурге;
формирование имиджа культуры как основного конкурентного преимущества Санкт-
Петербурга, закрепление и развитие бренда "Санкт-Петербург - культурная столица", а также
разработка иных имиджевых брендов Санкт-Петербурга;
сохранение культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга;
развитие комплекса масштабных культурных событий и мероприятий всероссийского и
мирового уровня;
развитие современного искусства, модернизация творческой жизни Санкт-Петербурга;
улучшение ситуации в учреждениях культуры Санкт-Петербурга путем развития
деятельности, направленной на повышение образовательной роли культуры в Санкт-
Петербурге, поддержку одаренных детей, продвижение талантливой молодежи;
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.06.2012 N 596)
социализация культуры: повышение уровня доступности и востребованности культуры в
Санкт-Петербурге;
развитие творческих индустрий, инноваций в культуре и искусстве;
213
поддержка негосударственного сектора петербургской культуры, развитие
государственно-частного партнерства, а также иных форм взаимодействия государства, бизнеса
и структур гражданского общества по вопросам поддержки и развития сферы культуры в
Санкт-Петербурге;
повышение общего уровня культуры петербуржцев, бытовой культуры горожан.
Все направления развития сферы культуры в Санкт-Петербурге реализуются Комитетом
по культуре и другими исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
в тесном взаимодействии с Общественным советом Санкт-Петербурга, созданным
распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 18.10.2000 N 1114-р, общественными
объединениями, творческими организациями и союзами, Советом по культуре и искусству при
Губернаторе Санкт-Петербурга, созданным постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от
10.02.2011 N 2-пг.
Цели и задачи Программы достигаются за счет реализации мероприятий, которые
сгруппированы в 10 разделов, соответствующих указанным выше направлениям.
4. Сроки реализации мероприятий Программы
Реализация мероприятий Программы рассчитана на три года с 2012 по 2014 год.
5. Порядок осуществления контроля за выполнением Программы
Контроль за выполнением Программы осуществляется Комитетом по культуре два раза в
год на основании отчетов исполнителей мероприятий Программы. Отчеты о выполнении
мероприятий Программы представляются исполнителями мероприятий Программы в Комитет
по культуре один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.
6. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы
Реализация мероприятий Программы позволит к началу 2015 года гарантировать:
обеспечение развития гастрольной и иной выездной деятельности в сфере культуры,
представляющей Санкт-Петербург как культурную столицу России за рубежом и в других
регионах страны, путем организации гастролей не менее 5 творческих коллективов
государственных учреждений культуры ежегодно. Для осуществления данных мероприятий с
2012 года в ведомственную структуру расходов бюджета Санкт-Петербурга вводится отдельная
целевая статья "Субсидии на иные цели на гастрольную деятельность государственных
учреждений культуры". В настоящее время в связи с существующими финансовыми
трудностями государственные театральные и концертные организации не имеют возможности
устраивать полноценные гастрольные поездки, подменяя их участием в разнообразных
фестивалях с показом одного-двух спектаклей, что не позволяет зрителю получить широкое
представление о них;
продолжение и обеспечение работы учреждений культуры по направлениям деятельности,
связанным с формированием и обслуживанием своей аудитории (зрителей, слушателей,
читателей, учащихся и т.д.). Намеченное сохранение достигнутых результатов в традиционных
сферах культуры и искусства в ситуации увеличения альтернативных форм проведения досуга
(мультимедийные технологии, интернет и др.) представлено показателями раздела 7
Программы;
содержание животных на уровне, соответствующем современным требованиям санитарии,
экологии и эргономики, благодаря вводу в эксплуатацию 1-й очереди нового зоопарка,
намеченному на 2013 год. Петербуржцам и гостям Санкт-Петербурга будут представлены
животные 197 видов (без учета беспозвоночных, рептилий, амфибий и рыб) со всех частей
света. Новый зоопарк, обещающий быть лучшим зоопарком в Российской Федерации и одним
из лучших в мире, станет тем знаковым объектом петербургской культуры, который будет
214
привлекать посетителей всех возрастов со всей страны. Одновременное функционирование
старого и нового комплексов зоопарка позволит ежегодно принимать более 2,1 млн чел., то есть
в 3,5 раза больше, чем в настоящее время;
расширение и актуализация ассортимента культурных услуг для детей через создание к
2015 году не менее 10 детских интерактивных культурно-познавательных зон в музеях,
адаптацию существующих музейных экспозиций, организацию к 2015 году не менее трех
детских игровых площадок в кинотеатрах, формирование репертуара (выпуск ежегодно не
менее пяти спектаклей и/или концертов) для детей в театрально-концертных организациях, для
которых работа с детской аудиторией не является основным видом деятельности, развитие
внесценических форм работы с детской и подростковой аудиторией в театрах и концертных
организациях, реализацию не менее трех индивидуальных проектов инновационного характера
в библиотеках ежегодно;
(абзац введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.06.2012 N 596)
повышение качества и доступности для населения Санкт-Петербурга информации о
предоставляемых для детской и подростковой аудитории услугах в сфере культуры.
(абзац введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.06.2012 N 596)
Источник: официальный сайт Комитета по культуре Санкт-Петербурга
http://www.spbculture.ru/ru/programmes.html
Приложение 3
Постановление правительства Санкт-петербурга от 17.10.2005 № 1543 (ред. от 12.07.2006)
"о создании в Санкт-петербурге системы городской ориентирующей информации"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2005 г. N 1543
О СОЗДАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОЙ
ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
(в ред. ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Санкт-Петербурга
от 12.07.2006 N 879)
В целях содействия развитию туристической отрасли Санкт-Петербурга, повышения
туристической привлекательности Санкт-Петербурга Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Утвердить Перечень социально значимых объектов, включенных в систему городской
ориентирующей информации (далее - Перечень), согласно приложению.
2. Провести конкурс по реализации проекта по изготовлению и размещению на инвестиционной
основе информационных стендов и информационных указателей (с информацией на русском,
английском языках и латинице), совмещенных с рекламоносителями, включенных в систему
городской ориентирующей информации (далее - конкурс).
3. Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации:
3.1. Выступить организатором конкурса.
3.2. В 10-дневный срок разработать и утвердить Положение о конкурсе и состав конкурсной
комиссии.
3.3. Опубликовать в официальных изданиях извещение о проведении конкурса.
3.4. Совместно с Комитетом по инвестициям и стратегическим проектам и Комитетом по
градостроительству и архитектуре в месячный срок на основании Перечня разработать
адресную программу размещения информационных стендов и информационных указателей,
совмещенных с рекламоносителями, включенных в систему городской ориентирующей
215
информации (далее - стенды и указатели).
3.5. Исключен. - Постановление Правительства СПб от 12.07.2006 N 879.
4. Предложить санкт-петербургскому государственному унитарному предприятию "Городской
центр размещения рекламы":
4.1. Заключить с победителем конкурса долгосрочные договоры на размещение стендов и
указателей.
4.2. При заключении договора размещения наружной рекламы и информации в Санкт-
Петербурге с победителем конкурса предусмотреть временные понижающие тарифные
коэффициенты в целях компенсации издержек, связанных с изготовлением и размещением
стендов и указателей.
5. Комитету по градостроительству и архитектуре, Комитету по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры, Государственной административно-
технической инспекции, администрациям районов Санкт-Петербурга, а также иным
уполномоченным органам и организациям в установленном порядке в недельный срок со дня
обращения победителя конкурса обеспечить оформление документации, необходимой для
выполнения работ по установке стендов и указателей.
6. Предложить Главному управлению внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской
области и Управлению государственной инспекции по безопасности дорожного движения
Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области в недельный
срок со дня обращения победителя конкурса обеспечивать оформление документации,
необходимой для выполнения работ по установке стендов и указателей.
7. Установить, что при размещении стендов и указателей не распространяются ограничения,
установленные Правилами размещения и эксплуатации объектов наружной рекламы и
информации, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.1996
N 6 "О совершенствовании деятельности по упорядочению размещения наружной рекламы и
информации и проведения массовых мероприятий в коммерческих целях в Санкт-Петербурге"
(далее - Правила), в части, касающейся:
7.1. Расстояний между вновь устанавливаемыми объектами наружной рекламы и информации
(пункты 5.7.2.3, 5.7.2.4 Правил).
7.2. Размещения вновь устанавливаемых объектов наружной рекламы и информации на
магистралях первой и второй категорий архитектурно-исторической значимости (пункт 3.1.9
Правил), а также в непосредственной близости от памятников архитектуры и
градостроительства, в садах и парках в зоне исторической застройки (пункт 1.7 Правил).
8. Признать утратившим силу:
8.1. Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 11.06.2002 N 957-ра "О системе
городской ориентирующей информации".
8.2. Пункт 4 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 27.11.2002 N 2394-ра "О
внесении изменений в постановление Правительства от 10.10.1996 N 6, распоряжение
Администрации Санкт-Петербурга от 11.06.2002 N 957-ра".
9. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Тарасова С.Б.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.10.2005 N 1543
ПЕРЕЧЕНЬ
216
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СИСТЕМУ
ГОРОДСКОЙ ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Музеи и иные достопримечательности Санкт-Петербурга и пригородов
1.1. Ботанический сад
1.2. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
1.3. Военно-медицинский музей
1.4. Всероссийский музей А.С.Пушкина
1.5. Государственный мемориальный музей А.В.Суворова
1.6. Государственный музей политической истории России
1.7. Государственный Русский музей
1.8. Государственный Санкт-Петербургский музей хлеба
1.9. Государственный Эрмитаж
1.10. Дворец Меншикова
1.11. Домик Петра I
1.12. Елагиноостровский дворец-музей русского декоративно-прикладного искусства и
интерьера XVIII-XX веков
1.13. Зоологический музей
1.14. Издательство и типография конца XIX - начала XX веков
1.15. Крейсер "Аврора"
1.16. Ледокол "Красин"
1.17. Ленинградский зоопарк
1.18. Летний дворец Петра I
1.19. Летний сад
1.20. Литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
1.21. Литературно-мемориальный музей М.М.Зощенко
1.22. Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского
1.23. Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда
1.24. Мемориальный музей-квартира А.С.Пушкина
1.25. Мемориальный музей-квартира актерской династии Самойловых
1.26. Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова
1.27. Мемориальный музей-квартира Н.А.Римского-Корсакова
1.28. Мемориальный музей-квартира Ф.И.Шаляпина
1.29. Михайловский (Инженерный) замок
1.30. Монумент героическим защитникам Ленинграда
1.31. Мраморный дворец
1.32. Музей Г.Р.Державина и русской словесности его времени
1.33. Музей-некрополь "Литераторские мостки"
1.34. Музей "700 лет - Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц"
1.35. Музей "Мир воды Санкт-Петербурга"
1.36. Музей антропологии и этнографии им. Петра I (Кунсткамера)
1.37. Музей городской скульптуры
1.38. Некрополь (Благовещенская усыпальница). Выставочный зал
1.39. Музей железнодорожной техники
1.40. Музей Института русской литературы (Пушкинский Дом)
1.41. Музей истории религии
1.42. Музей нонконформистского искусства
1.43. Музей-квартира А.А.Блока
1.44. Музей-квартира А.И.Куинджи
1.45. Музей-квартира художника И.И.Бродского
1.46. Музей-памятник "Исаакиевский собор"
217
1.47. Музей-памятник "Сампсониевский собор"
1.48. Музей-памятник "Спас на Крови"
1.49. Музей прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-
промышленной академии
1.50. Музей Русской водки
1.51. Музей связи им. А.С.Попова
1.52. Музей С.М.Кирова
1.53. Музей фарфора
1.54. Музей циркового искусства
1.55. Научно-исследовательский музей Российской академии художеств
1.56. Особняк Румянцева
1.57. Петропавловская крепость. Музей истории Санкт-Петербурга
1.58. Пискаревское мемориальное кладбище
1.59. Подводная лодка Д-2 "Народоволец"
1.60. Российский государственный музей Арктики и Антарктики
1.61. Российский этнографический музей
1.62. Санкт-Петербургский музей театрального музыкального искусства
1.63. Санкт-Петербургский музей В.В.Набокова
1.64. Строгановский дворец
1.65. Центральный военно-морской музей
1.66. Центральный музей железнодорожного транспорта России
1.67. Центральный музей Октябрьской железной дороги
1.68. Шереметевский дворец-музей музыки (Фонтанный дом)
1.69. Санкт-Петербургский музей игрушки
1.70. Юсуповский дворец
1.71. Государственный музей-заповедник "Гатчина"
1.72. Государственный музей-заповедник "Ораниенбаум"
1.73. Государственный музей-заповедник "Павловск"
1.74. Государственный музей-заповедник "Петергоф"
1.75. Государственный музей-заповедник "Царское Село"
1.76. Екатерининский дворец/Екатерининский парк
1.77. Дворцово-парковый ансамбль пос. Стрельны (Константиновский дворец)
1.78. Дом-музей П.П.Чистякова
1.79. Дорога жизни
1.80. Кронштадтская крепость
1.81. Мемориальный музей-дача А.С.Пушкина
1.82. Мемориальный музей-лицей
1.83. Музей "Царскосельская коллекция"
1.84. Музей-усадьба И.Е.Репина "Пенаты"
2. Памятные места в Санкт-Петербурге
2.1. Дворцовая площадь
2.2. Исаакиевская площадь
2.3. Стрелка Васильевского острова
2.4. Марсово поле
2.5. Место дуэли А.С.Пушкина
3. Вокзалы, аэропорты, станции метро
3.1. Вокзалы
3.1.1. Балтийский железнодорожный вокзал
3.1.2. Московский железнодорожный вокзал
3.1.3. Финляндский железнодорожный вокзал
3.1.4. Витебский железнодорожный вокзал
3.1.5. Ладожский железнодорожный вокзал
218
3.1.6. Автовокзал
3.1.7. Пассажирский порт
3.1.8. Санкт-Петербургский речной порт
3.2. Аэропорты
3.2.1. Аэропорт "Пулково-1"
3.2.2. Аэропорт "Пулково-2"
3.3. Станции метро
Линия 1
3.3.1. "Проспект Ветеранов"
3.3.2. "Ленинский проспект"
3.3.3. "Автово"
3.3.4. "Кировский завод"
3.3.5. "Нарвская"
3.3.6. "Технологический институт"
3.3.7. "Балтийская"
3.3.8. "Пушкинская"
3.3.9. "Владимирская"
3.3.10. "Площадь Восстания"
3.3.11. "Чернышевская"
3.3.12. "Площадь Ленина"
3.3.13. "Выборгская"
3.3.14. "Лесная"
3.3.15. "Площадь Мужества"
3.3.16. "Политехническая"
3.3.17. "Академическая"
3.3.18. "Гражданский проспект"
3.3.19. "Девяткино"
Линия 2
3.3.20. "Купчино"
3.3.21. "Звездная"
3.3.22. "Московская"
3.3.23. "Парк Победы"
3.3.24. "Электросила"
3.3.25. "Московские ворота"
3.3.26. "Фрунзенская"
3.3.27. "Технологический институт - 2"
3.3.28. "Сенная площадь"
3.3.29. "Невский проспект"
3.3.30. "Горьковская"
3.3.31. "Петроградская"
3.3.32. "Черная речка"
3.3.33. "Пионерская"
3.3.34. "Удельная"
3.3.35. "Озерки"
3.3.36. "Проспект Просвещения"
Линия 3
3.3.37. "Рыбацкое"
3.3.38. "Обухово"
3.3.39. "Пролетарская"
3.3.40. "Ломоносовская"
3.3.41. "Елизаровская"
3.3.42. "Площадь Александра Невского - 1"
219
3.3.43. "Маяковская"
3.3.44. "Гостиный Двор"
3.3.45. "Василеостровская"
3.3.46. "Приморская"
Линия 4
3.3.47. "Улица Дыбенко"
3.3.48. "Проспект Большевиков"
3.3.49. "Ладожская"
3.3.50. "Новочеркасская"
3.3.51. "Площадь Александра Невского - 2"
3.3.52. "Лиговский проспект"
3.3.53. "Достоевская"
3.3.54. "Садовая"
3.3.55. "Спортивная"
3.3.56. "Чкаловская"
3.3.57. "Крестовский остров"
3.3.58. "Старая деревня"
3.3.59. "Комендантский проспект"
4. Спортивные объекты Санкт-Петербурга
4.1. Стадион "Петровский"
4.2. Петербургский спортивно-концертный комплекс
4.3. Спортивный комплекс "Юбилейный"
4.4. Ледовый дворец
4.5. Дворец спортивных игр "Зенит"
4.6. Стадион СКА
4.7. Стадион им. С.М.Кирова
Источник: Законодательство Санкт-Петербурга http://www.lawmix.ru/spblaw/30957
Приложение 4
Протоколы интервью
Протокол интервью с Инной Павловой, бильд-редактором газеты «Невское время» Беседа проходит в кабинете Инны, за чаем в непринуждённой обстановке. Инна
сопровождает свои ответы фотографиями фотографов «Невского Времени»
Я: Инна, расскажите, пожалуйста, о своей работе. Вы работаете бильд -редактором?
И: Я вообще работаю арт-директором, т.е. занимаюсь «картинкой».
Я: То есть Вы непосредственно отбираете фотографии для газеты?
И: Да, я занимаюсь дизайном газеты, в том числе и фотографией.
Я: А давно Вы уже работаете в этом направлении?
И: Я занимаюсь этим….где-то около 10 лет. Это издание стартовало в новом проекте уже почти
четыре года назад, в нём я работаю с самого начала.
Я: Расскажите, пожалуйста, об аудитории «Невского Времени».
И: Мы ориентируемся на средний класс, на людей 35-50 лет, то есть не на молодёжь, а больше
на деловой круг читателей. У нас не очень большой тираж, хотя сейчас стартует очередной
рекламный проект. Но «Невское Время» распространяется не только по Петербургу, но и по
Северо-Западу (Москва, Мурманск, Петрозаводск). Достаточно читабельная газета, сейчас
появился новый сайт.
Я: Если говорить о фотографиях Петербурга, на Ваш взгляд, каков главный критерий выбора
фотографий?
И: Здесь многое определяется спецификой нашей газеты. Одна из основных тем - борьба,
старый Петербург, его сохранение и разрушение. Так как это ключевая тема, то таких
220
фотографий достаточно много. Они связаны с постройкой мансард, новых зданий, которые
портят облик Петербурга. У нас очень много хороших, талантливых фотографов, но найти
фотографию, которая была бы ценна сама по себе очень сложно, потому что они все делаются к
репортажам. Если пролистать газету, то Вы найдёте очень много интересных фотографий
хорошего качества, то есть просто «портрет-домика» у нас нет.
Я: Правильно ли я поняла Вас, в Вашем издании Петербург предстаёт скорее как старый город,
как носитель культурного наследия?
И: Ну вот видите, мы сидим здесь, в Доме Набокова…центр города…всё располагает именно к
этому (смеётся). Так что мы тут всё делаем искренне.
Я: Вы достаточно давно работаете в этой сфере, существует ли какой-то кадр, который до сих
пор остался в Вашей памяти?
И: Я отобрала специально для Вас несколько фотографий (показывает на компьютере). В
основном, конечно, проходят такие горестные, печальные кадры, запоминаются всё-таки более
яркие, весёлые вещи с юмором, они у нас идут как фотофакты (см. Приложение, фотографии 1-
3).
Я: А если бы Вы выбирали фотографию на выставку, Вы бы выбрали какой-нибудь из этих
кадров? Что-нибудь весёлое, яркое?
И: Вы знаете…есть огромное количество прекрасных печальных фотографий. Мне достаточно
сложно говорить, потому что через меня проходит огромный поток фотографий, поэтому и
запоминается что-нибудь совсем уж неординарное. Через меня проходят тысячи фотографий
каждый день, и я их помню, конечно, но «цепляют» самые яркие.
Я: Правильно ли я Вас понимаю, Инна, грустных, печальных фотографий больше, раз Вам
запоминаются такие яркие?
И: Понимаете, когда фотографы снимают материалы, идёт такой репортажный момент. В
общем такая удача фотографическая- чтобы снять с каким-то особым настроением- достаточно
редкое явление.
Я: Вы упоминали о борьбе как главной теме издания, то есть в Вашем издании много
фотографий не только именно исторической части города, но и примеров того, как она может
быть изуродована?
И: Да, таких кадров очень много, такие как раз у нас в приоритете, потому что это - основная
тема.
Я: Как Вы считаете, за последнее время появляется что-то новое в изображении Петербурга?
И: В самой фотографии появилось очень много нового, но если говорить именно о фотографиях
Петербурга…пожалуй нет, ничего кардинально нового.
Я: А как лично Вы относитесь к изменению облика города, к строению новых кварталов и
зданий типа Охта-центр?
И: Ну, Вы понимаете, у нас соответствующая специфика газеты….Хотя я отношусь к подобным
изменениями достаточно неоднозначно. В своё время я путешествовала по Европе и уезжала из
Петербурга в каком-то жутком настроении, потому что везде строятся эти ужасные стеклянные
здания. Я ехала через Скандинавию в Италию и с ужасом наблюдала, что то же самое
происходит везде. Конечно, это ужасно, это всех раздражает…но это происходит. Вспомните ту
же историю Эйфелевой Башни. Это, своего рода, данность.
Я: Вы сами какой Петербург больше всего любите? В какое время суток, время года?
И: Моё любимое время - белые ночи, когда можно гулять целые сутки.
Я: А у Вас есть любимое место в городе?
И: Вы знаете, моего любимого места сейчас уже нет…Раньше за Смольным Собором был такой
старинный парк, вообще люблю этот район. Любила Апраксин Двор, когда он был ещё пустой
и там можно было сидеть на крышах, гулять по крышам…сейчас таким его уже никто и не
помнит…Пять Углов – тоже место, которого сейчас уже нет. Маршруты меняются, старые
места исчезают. Хотя по центру всегда приятно прогуляться. Я лично очень ценю, что работаю
в центре. А вообще новая архитектура у нас ужасная, конечно, тем более, что сейчас все имеют
221
возможность ездить за границу, есть с чем сравнить. Печально…Но будем надеяться, что что-то
будет меняться в лучшую сторону. (смеётся)
Я: Обязательно! Спасибо Вам огромное за Ваши ответы и приятную беседу. Всего доброго.
Я: И Вам всего доброго, до свидания.
Протокол интервью с Александром Беленьким, фотографом газеты The St.Petersburg
Times (далее SPB Times) Интервью проходит в офисе SPB TIMES, на рабочем месте Александра и сопровождается
показом фотографий, которые Александр показывает на компьютере
Я: Александр, расскажите, пожалуйста, о Вашей профессиональной деятельности.
А: Я работаю фотографом в газетах с 1988 года, то есть 21 год. Сначала это была маленькая
газета «Ижорец» в Колпино, потом газета «Смена», газета «Коммерсант», совсем немножко
журнал «Огонёк» и параллельно SPB Times,в котором я уже достаточно давно. Это газета на
английском языке, она выходит 2 раза в неделю. И я, как и все те фотографы, которые работают
в газетах, снимаю ВСЁ: события, темы, и город – это только одна из частей работы.
Я: А непосредственно в SPB Times Вы примерно сколько работаете? Давно уже?
А: С 1995 или ….с 96 года.
Я: А Вы не могли бы немного рассказать об аудитории SPB Times?
А: Я..на самом деле, я предполагаю..потому что у нас были какие-то маркетинговые
исследования проведены…наша целевая аудитория меняется. Если, скажем, в
послеперестроечные годы..в середине 90-х, в конце 90-х это были в основном менеджеры
иностранные, которые приехали сюда (здесь тогда была новая экономика, создавались
совместные предприятия, было очень много иностранцев). Они русский язык не знали или
знали очень плохо и какую-то жизнь городскую они могли прочитать только в газете SPB
Times. У нас тогда коллектив был очень большой, мы очень много писали….писали на разные
животрепещущие темы, которые имели пересечение с жизнью иностранцев здесь. Какие-то
таможенные неурядицы, или туристов грабят на Невском, какие-то политические вещи..тогда
здесь всё бурно менялось…работы было много. Сейчас всё как бы устаканилось, с экономикой
всё понятно, с политикой всё понятно, ничто не меняется….и поэтому наша аудитория немного
уменьшилась-это раз. Те менеджеры сменились, многие из них уехали уже, их меньше гораздо
стало, их место заняли русскоговорящие, и наша газета стала не очень уже нужна, потому что
они понимают по-русски. Но вместо них пришла некоторая аудитория студенческая. Насколько
я знаю, нашу газету распространяют в некоторых институтах, потому что редактируют её
именно native спикеры. Так что здесь английский язык грамотный. Любую статью, написанную
русским автором, редактируют потом native спикеры, так что газету используют как некий
пример, образец.
Я: Да, мы сами – лингвисты- любим её почитать. Александр, я Вас хотела спросить по поводу
именно Петербурга. На Ваш взгляд, каков главный критерий отбора фотографий с
изображением города?
А: Я могу говорить и о своей газете и о каких-то других изданиях, потому что иногда я для
финских изданий работаю, иногда для американских. Нету какого-то одного критерия, для
разных целей нужна разная фотография. Город, опять же, разный. Если мы говорим о
туристическом Петербурге, то это, конечно, все наши достопримечательности – это какие-то
ансамбли, это какой-то красивый вид. Но задача любого фотографа- найти что-то необычное,
потому что все ходят по набережным, все их любят, туристы всё это снимают. И хороший
фотограф отличается от любителя тем, что он непросто выходит, поднимает камеру и нажимает
на кнопочку, а тем, что он ищет какую-то свою новую точку, он не снимает с тех туристических
мест, которые уже избиты, он ищет какое-то новое состояние, он идёт снимать тогда, когда
другие не ходят, то есть это снегопад, это дождь и т.д. ну, и мы также. Скажем, недавно я
снимал большой туристический материал про Петропавловскую крепость для финского
издания, и мой друг- финский журналист – писал что такое Петропавловская крепость, когда
она была построена, а он финский журналист, но шведского происхождения, и шведам
222
прекрасно это всё известно, потому что место, где сейчас стоит Петербург, когда-то было
шведским, а вот теперь оно стало русским. Но всё равно шведам всё это интересно, всё то, что
здесь происходит, они знают, что наш город очень красив и очень интересен для туристов. Мы
делали такой материал и..что там было важно? Там было важно показать, как там туристы ходят
на Петропавловской крепости, какой есть маршрут по верху, по бастионам, как изнутри
выглядит Собор Петра и Павла, как мастер, который заводит часы, обслуживает их, о традиции
полуденного выстрела. Вот все какие-то такие картинки я и снимал. Если мы снимаем какие-то
природные состояния, то мы снимаем наводнения, или же туманы, какие-то необычные
ракурсы, когда чистят памятники и залезают наверх, и есть возможность с необычной точки
зрения посмотреть на что-то. Когда-то раньше, когда у нас очень много шариков летало (сейчас
это уже редкость), были очень интересные кадры, которые пролетая над шариком можно было
сделать. У меня есть коллеги, которые снимают город с крыш, и даже серии у них разные есть,
но газета - такая штука, в ней должно быть всё время разное. Если мы снимаем какую-то жизнь
уличную, то сзади должен быть некий адрес, так называемый. Адрес – это ландмарк, это какая-
то значимая, известная в мире точка, по которой вы всегда можете сказать, что это за город.
Всем известная Эйфелева Башня - для Парижа это ландмарк, для каждого города есть свои
точки. У нас это и Петропавловская Крепость, и Колонна Монферана, и Эрмитаж, и
Исаакиевский Собор, в общем в Петербурге таких точек довольно много, и мы стараемся,
чтобы на заднем плане обязательно был адрес того, где это происходит. Снимаем город в
разном состоянии, и должен сказать, что я в этом городе родился, я в этом городе вырос и
прожил всю сознательную жизнь, хотя нет, я ещё прожил часть жизни под Москвой, но это
маленькая часть, это до семи лет. И должен сказать, что, покуда я не выезжал за границу, все
эти разговоры о том, что Петербург – самый красивый город, казались мне некоторым
бахвальством, определённая бравада советского толка. Однако же, когда ты начинаешь
выезжать и смотреть, понимаешь, что это всё – не просто слова, а что всё это так и есть на
самом деле, наш город разительно отличается от всех других городов. Почему москвичи так
любят приезжать сюда и бродить здесь просто по улицам и просто ночью белой гулять по
набережным, выходить на Дворцовую Площадь, смотреть на разводку мостов, этот город
строился знаменитейшими архитекторами Европы. Застройка велась ансамблями, вот есть,
например, ансамбль Площади Искусств, есть ансамбль Стрелки Васильевского Острова,
ансамбль Невского Проспекта и т.д. вообще, Петербург – это город фасадов, потому что таких
фасадов, сделанных в одном стиле и с такими пропорциями..ну…в Москве редко, например,
увидишь вот такое, такую гармонию. И третье, чем город интересен, это то, что он построен по
горизонталям, это не город Киев, который расположен на холмах, и ты можешь его обозревать
и сверху, и снизу. Он такой плоский как бы, расположен в дельте Невы, и все какие-то
доминанты старые построенные являются такими опорными точками, всё же остальное это –
низкий горизонт, закаты, потрясающее небо, не всегда..но иногда..скажем, когда солнце
садится…моменты случаются совершенно потрясающие. И именно цветом своим необычным,
особенно летом, весной, иногда даже зимой, оно очень привлекательно. А сейчас оно красиво,
потому что включили такую очень гармоничную подсветку у разных архитектурных
памятников.
Я: Александр, скажите, Вы ведь работаете в разных изданиях, есть разница в том, на какую
страну Вы ориентируетесь?
А: Вы знаете, для меня разницы нету. Разница есть для страны-заказчика и в том, как она это
воспринимает. Например, несколько лет назад я снимал одного представителя крупной фирмы,
его нужно было снять для каталога, они открывали здесь своё представительство и сбирались
сюда поставлять свои коньяки, и вот они ходили по городу, я снимал его в Летнем Саду и на
Миллионной улице рядом с атлантами, и на спуске к Неве у Петропавловской Крепости –
везде-везде. Так вот, для меня было удивительно, что, посмотрев всю съёмку, он отмёл снимки,
которые были сняты у атлантов. Он сказал: «нет, нет, нет, это не Европа, это не европейский
город, это что-то африканское». Но это уже некоторые стереотипы. В прошлом году я делал для
финского издания съёмку на тему «Русский Новый Год». Поскольку это делалось до Нового
223
Года, и надо было показать разные стороны этого города, а большой город – это всегда город
контрастов. Стамбул – город контрастов, Нью-Йорк – город контрастов и Петербург – тоже
город контрастов. Поэтому если в одном месте загораются красивые ёлки и там всё
замечательно, то по соседству нищие роются в помойках, и неосвещённые арки, и я всё это
тоже снимал, и в частности снимал освещённый парадный Невский Проспект, а по нему, по
самому центру брёл какой-то нищий с ходулями, вокруг него едут дорогие машины. Я снимал и
дворики наши, где гуляют дамы с собачками. Вот какая-то такая была съёмка, и они очень
порадовались, потому что город был совсем разноликим. Вот, к примеру это место (показывает
фото см. приложение, фото 4) я каждый раз фотографирую, когда иду к нашей редакции, и в
разное время оно выглядит совершенно по-разному, ну, потому что другое состояние, я не могу
повторить один в один эту композицию. Бывают в городе и такие состояния, когда не поймёшь
то ли утро, то ли вечер, и вроде и радуга…
Я: Александр, а Вас есть такие фотографии, которые всегда в памяти, какие-то особенные? Или
их огромное количество?
А: Не то чтобы огромное, но достаточно большое количество. У меня есть одна картинка, она
уже многократно везде растиражирована. Это Летний Сад, где идёт снег, и по летнему саду
вдоль аллеи удаляется одинокая фигура с красным зонтиком. Вот это такая старая-старая
карточка, достаточно традиционная, но наша газета когда делает какие-то подарки людям, Они
меня просили отпечатать её в хорошем качестве, в хорошем разрешении.
Я: Лично Вам она чем особенно нравится?
А: Сейчас скажу…(ищет её на компьютере) …ну просто потому, что это такая классическая
зима в Летнем Саду…может быть поэтому. Вот, вот эта (показывает- см. в Приложении, фото
5). Чем она мне особенно нравится…Дело в том, что я ещё немного преподаю фотографию. То
есть приходят люди, и им нужно с азов объяснить и показать некие такие кантовые, но
правильные вещи. Если мы говорим, скажем, о композиции, о тональной перспективе, то это
вот – образец тональной перспективы, потому что здесь есть и тёмные стволы на первом
переднем плане, и серенькие чуть дальше…и в далеке это всё вообще теряется в снежной
перине, если мы говорим о композиции, то здесь есть такой приём контраста - чёрное на белом,
как одинокая фигура, тональная перспектива, как я уже говорил. Как бы классическая..она
нецветная….вернее, она цветная, но, тем не менее, она монохромная. Потому что фотография
не должна быть разноцветной, если этого не требует какая-то задача. А вот репортажная
фотография, то есть город как мы его видим, она такая и есть, она монохромная. Потому что,
скажем, художники великие….они рисовали…у них тоже не было разноцветья….они рисовали
в некой такой тёплой гамме или холодной гамме. И вот эта, допустим, картинка, как белые
ночи. Что такое белые ночи? Многие иностранцы не представляют, что это такое. Они не
представляют, что небо голубое практически всю ночь, если на нём нету облачков, горят огни,
всё силуэтиками такое всё, всё нереальное…хвосты огоньков… Летний Сад, который
ночью…куда просто так не попасть, а, скажем, у меня была такая возможность – и там
немножко поснимать. Я не могу сказать, что я такой прям мастер городского пейзажа, но вот
приходится снимать какие-то ….вот одно время просто ходил и снимал луну ночью…есть такие
картинки, на которых Вы не определите год её создания, где нечему меняться…ну и дождик-
это наша погода и, конечно, люди с зонтиками…есть и какие-то банальности..но всё равно,
всегда стараешься, чтобы даже банальные вещи выглядели как-то по-особому, сделать из них
некий символ..и вот так стараешься..не всегда это от ума, иногда это как-то вот интуитивно. И
даже плохая погода иногда позволяет сделать хороший снимок, потому что вот, например,
очень холодно, но это позволяет снять по-особому…иногда свет заката получается совершенно
нереальным.
Я: Правильно ли я Вас поняла, Вы снимаете какие-то символы, какие-то ландмарки, но в
необычном свете?
А: Да, естественно, так это любой фотограф так….стараешься сделать карточку не только
событие, но и чтобы она как-то оставалась «навек», ну или хотя бы не навек, но оставляла
224
какой-то образ после себя. Знаете, вот Исаакиевский Собор я снимаю уже меньше, потому что
он здесь рядом, и он у нас постоянно – и на обложках, и там, и сям….
Я: Александр, а если бы Вы нужно было выбрать какую-нибудь фотографию на выставку, вы
бы что-нибудь из того, что сейчас показывали выбрали?
А: Нет, ну а что значит выставка? Выставка выставке рознь, понимаете…Зависит от того, какая
тема этой выставки…
Я: Но а если бы эта выставка была посвящена именно Петербургу, его визуальному образу?
А: Ну, я хочу сказать, что есть открыточные карточки, а есть люди, которые снимают не
открыточным образом, а неким другим. У каждого фотографа какой-то свой стиль…Ну, может
быть город вот такой, я тут Аврору поснимал (показывает фото –см. Приложение, фото 6).
Здесь город такой…и люди тоже. Вот эти кадеты из соседнего Нахимовского Училища,
которые на эту пушку уже лезут…Ну они же мальчишки ещё по сути, им просто интересно, им
смешно. Здесь какой-то свет розовый такой закатный, наши лодочки и, действительно, наш
город похож на Венецию. Вот говорят «Северная Венеция», но те, кто не бывал в Венеции, не
понимает, думает, что это так, просто. А в действительности некоторые места очень похожи, не
фактически, а по духу, по какому-то состоянию. Когда ты в Венеции выходишь на большой
канал и смотришь, то такое впечатление, что ты на Неве-реке, только отошёл чуть в бок, и
какое-то тебе открылось незнакомое место, где ты, может быть, просто ещё ни разу не был. Вот
такое же, похожее ощущение…. Если это какая-то архитектура более современная, то хочется
вместить в неё многое, причём, чтобы это был не монтаж, потому что нам, репортёрам, делать
монтаж запрещено, поэтому монтаж..может быть, иногда хочется, но это уже ответственность
каждого. Если говорить о новых районах, то тоже какое-то состояние должно быть…а вот есть
вещи, которым нас учили, но как делать нельзя, например, впечатывать изображение в
картинку, так что она выглядит нереально. Конечно, любой объектив даёт какие-то искажения,
иногда даже с длинным-длинным объективом можно так снять, что это казаться всё будет
нереальным. Иногда делаем рутинную работу и достаточно такую банальную. Вот не так давно
Эрмитаж открывал свой филиал в Голландии, и надо было показать Эрмитаж там и Эрмитаж
здесь. Вот ты приходишь, и надо сделать банальный снимок Эрмитажа – отсюда, отсюда, но ты
хочешь это сделать не так, а чтобы он какой-то красивый был. Ну, и снимаешь, а потом ночью и
смотришь какая разница, и есть ли она, и в чём она, и в какие-то места возвращаешься, и не
хочется снимать такие туристические картинки, потому что они достаточно простые, а хочется
делать какие-то другие, где есть особые состояния. Вы знаете, ещё существует бытовая
городская фотография, на которую мы часто не обращаем внимания. Например, кто снимал в
советское время автоматы для газированной воды за 1 копейку, за 3 копейки, может быть Вы не
знаете.
Я: Ну, разве что по фильмам.
А: Вот..но они стояли везде такие автоматы, и там это было настолько обычное явления, что это
было глупо их снимать…ну или пивные ларьки..так банально…а сейчас их уже нет, и пивных
ларьков уже нет, и последний пивной ларёк был на васильевском Острове, я его снимал, когда
мы делали репортаж, который назывался «Петербург – пивная столица России». Вот такая вот
может быть бытовая фотография. На самом деле все виды классические, они останутся, я
надеюсь, если не понастроят Газпромы и других высоких зданиях. Ну, они уже уходят, на
самом деле, эти виды, но, по большому счёту, никуда они не денутся, а вот бытовые вещи они
исчезают. И вот, скажем, коммунальные квартиры исчезают, и Апрашки не будет, то есть что-
то уходит.
Я: Правильно ли я Вас понимаю, в SPB TIMES бытовой фотографии в принципе нет?
А: Ну, она же не нужна нам для чего-то. Вообще же роль фотографии тоже меняется стечением
времени. Если раньше, скажем, было телевидении Первого Канала (всесоюзный), Второй Канал
– Ленинградский, и Третий Канал ещё был и всё, больше ничего не было. И любая фотография
в газете, это было лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, это была некая информация
людям о том, как происходило событие, отбор осуществлялся более жёстко, жестоко, и
фотографы должны были сделать некий маленький шедевр для того, чтобы фотография была
225
напечатана в газете. А сейчас цифровые камеры у всех абсолютно, все – одна рука в кармане,
второй – щёлк, щёлк, и можно снимать даже телефонной трубкой, может быть будут скоро
фотографирующие утюги, кофеварки, всё что угодно. И поэтому визуальная культура сейчас
уже несколько утрачена, сейчас всю информацию можно найти в интернете, и газета, журнал
как бумажные носители потеряли некую документальность, важность документа, зато вот
гламур - красиво приукрашенные, сделанные в фотошопе картинки, они вот выдаются за некий
«так должно быть», поэтому у нас эти бесконечные дивы с огромной грудью, и мы смотрим и
думаем: «вот, это и есть фотография, значит это по-настоящему». А ничего подобного, нет там
ничего настоящего, там обработка, редактирование, работа фотохудожников – это фотографы,
которые не умеют снимать, зато дорисовывают свои снимки в фотошопе.
Я: Да, этого сейчас действительно очень много в современной культуре.
А: Нет, ну что значит много…много-мало, плохо-хорошо. Я говорю это как факт, которого,
действительно очень много. И это не только в теме городе, скорее это относится к социальной
теме, к теме современных шоу. Так и в фотографиях: если снимают в гламурненьких журналах
определённым образом, то люди считают, что так и надо.
Я: Александр, как Вы считаете, в фотографии Петербурга что-то меняется?
А: Разумеется, меняется. Как фотография как таковая меняется, как искусство фотографии-
меняется с развитием техники. В начале, середине века была одна, теперь совсем другая. С
развитием техники меняется и сама фотография. Сейчас существует цифровая фотография и
гораздо больше возможностей. Раньше художники не могли снимать на большой фотоаппарат,
не поставив его на штатив. Были такие, маленькие камеры Кодеки, которые можно было с
собой носить, но там были низкочувствительные материалы, слабая выдержка, но всё равно
предполагалось, что его поставишь на штативчик, люди замрут, и ты сделаешь снимок. То
сейчас можно делать мгновенные кадры, серии кадров. В репортажной фотографии
колоссальные изменения произошли. Можно снимать скрытой камерой, можно снимать
незаметно, тихо. Может быть, для образа города это не имеет значения, но всё больше снимают
город….Понимаете, очень сложно об этом говорить, потому что у каждого фотографа своя
фотография, ведь фотография, по большому счёту, - это некий язык. Если ты просто щёлкаешь
не думая, то твои снимки не будут представлять для окружающих никакого интереса. Если ты
берёшь камеру и сначала думаешь, то с помощью камеры можно как-то разговаривать, и можно
говорить какие-то вещи – и социальные…..всё-таки в лучшем своём проявлении с помощью
фотографии можно разговаривать, и разговаривать ни одной картинкой, а серией.
Осуществлять каике-то проекты. Поэтому, конечно, это всё меняется, и люди говорят о разных
вещах…
Я: А как Вы думаете, новые объекты какие-то появляются?
А: Новые объекты? Из города?
Я: Да
А: Ну, никто не любит снимать новую застройку, она скучна и неинтересна, она банальна и
уныла, но самом деле, если задаться такой целью, то там же тоже люди живут, и там можно
найти много всего интересного и занимательного. Но каких-то таких особо интересных
фотографий….обычно всё ограничивается городом Петербургом, дальше идёт Петроград, чуть
дальше ещё – Ленинград. Так вот, в Ленинграде уже никто не снимает, а если и снимает, то это,
как правило, какие-то фотографии, связанные с неправильностью объекта. Как вот появилось
здание Биржевого Нового Комплекса, и все кинулись снимать – действительной ли её видно.
Да, её видно. Её видно, ни с Дворцового Моста, ни с Троицкого Моста, а вот с Литейного её
видно…..ну, а чтобы эти новые объекты представляли художественную ценность…ну, может
кто-то и снимает…Вы знаете, у нас есть такой замечательный фотограф, Саша Китаев, и вот,
когда был Саммит, весь город срочно одели в леса, и он стоял весь в этих зелёных пластиковых
упаковках. Мы снимали это понемногу, но, по-моему, только он создал такую серию
фотографий, где Петербург стоит весь запакованный в пластик. Замечательная серия,
замечательная идея, и никто таким город никогда не видел. Не знаю, насколько это можно
назвать новым объектом…Вы знаете, мы иногда снимаем, как что-то разрушается, но сейчас
226
много что восстанавливается и реставрируется, как вот тут Дом со Львами. А так, Вы знаете. У
нас же фотография такая больше утилитарная. Фотография в газете нужна, чтобы привлечь
внимание к материалу, чтобы проиллюстрировать что-то. И не всегда может быть она
самоценна, не всегда обладает какой-то художественной ценностью. Это не искусство, у неё
сугубо утилитарная задача, особенно у газетного жанра. Вот открывается новое здание, нужна
иллюстрация, может быть не какая-то необычная, но крепко сколоченная композиционно: где
этот адрес, рядом с чем этот дом, и необязательно, чтобы там фасад было видно, должна быть
некоторая ситуация, которая рядышком….а так..новые объекты..вот, например, памятник
Дворнику. Ну кому интересна скульптура сама? Это же никому неинтересно. А всегда
интересно что? Люди. Мы сами люди, и нас интересуют другие люди. Задача фотографа,
поймать, когда рядом с памятником начнёт что-то происходить, найти в нём некую жизнь. Если
говорить о пригородах, то там находятся совершенно потрясающие дачи, которые даже не
сравнить с современными дачами. Мы можем снимать краны, крушения, авария; если это
бизнес, то надо показать эту новую бизнес-застройку. И всё равно стараешься, чтобы это было
красиво, даже если тебе самому это не очень всё нравится. Вообще, конечно, фотография – это
необъективная вещь, так что это всё дело точки зрения….Вот, могут быть новые коттеджные
посёлки. Всё это, конечно, не художественные объекты, но..кто там знает, что там будет
интересно через несколько десятков лет…Многих мест уже просто не стало. Зато некоторые
объекты реставрируются, его приводят в порядок, так что здесь прибыло – там убыло…..Вот
мы снимали Новую Голландию – раньше туда вообще невозможно было попасть…..ну не знаю,
вот новые объекты – финская архитектура у нас во Всеволожске, которые строит для своих
работников фирма Nokia. Вот были некоторые памятники, которых уже нет. Вот снимаем что-
то внутри, какие-то новые объекты. Вот строили стадион Ледовый, тогда ещё никто не знал, как
он будет выглядеть. Является ли он шедевром архитектуры? Я не знаю. Вот новые застройки,
они ужасные, конечно…..Нет ни доминанты, ничего. Вот здесь бы и поставили свой Охта-
Центр.
Я: Спасибо Вам огромное, Александр! Вы очень помогли нам в нашем исследовании. Не буду
больше отнимать Ваше драгоценное время, всего доброго.
А: Да не за что. До свидания.
Протокол интервью с Сергеем Семёновым, бильд-редактором газеты «КоммерсантЪ» Интервью проходит на рабочем месте Сергея, он сидит за компьютером и периодически
ищет там что-то.
Я: Сергей, расскажите, пожалуйста, о своей профессиональной деятельности
С: Так. А с чего начать?
С: Вот сейчас Вы работаете в «Коммерсанте». Но Вы ведь, наверняка, не сразу сюда попали?
С: Нет, конечно, не сразу. Кажется, я работаю всего лишь 15 лет последних. До этого, до
«Коммерсанта», я работал на киностудии «Ленфильм» художником-фотографом, до
«Ленфильма» внештатным корреспондентом и штатным в некоторых московских изданиях. Ну
и, собственно говоря, просто фотографом.
Я: Так, а потом попали сюда. И Вы сразу стали бильд-редактором, или вначале работали просто
фотографом?
С: Ну, как бы изначально здесь один человек-фотограф был, когда я сюда пришёл.
Соответственно, этот человек отвечал за выполнение фотосъёмок, потому что тогда у нас не
было здесь своих страниц, питерских. Питерские фотографии появились уже немножко позже.
Но когда появились питерские страницы, то есть пришлось делать не только фотосъёмки, но
ещё и отбор фотографий – тех, что идут в дальнейшем, ну и архивация. Раньше фотографии
шли так: шёл поезд №1, вагон №1, 23:55, проводнику – плёночку, и в Москве её утром
встречали. Вот так. Ну, а потом ужё плёнки стали оставаться здесь – после появления
питерских страниц, и уже всё пошло-поехало. А так всё, что связано с фотографией, это – я. То
есть я как бы и снимаю ещё.
Я: То есть Вы и снимаете, и занимаетесь отбором информации?
227
С: Да, да.
Я: Так я понимаю, всё, что связано с фотографией в «Коммерсанте» - это Ваше?
С: Да, да. Ну, здесь в Питере, конечно.
Я: Расскажите, пожалуйста, непосредственно о «Коммерсанте». На кого Вы ориентируетесь,
какая Ваша целевая аудитория?
С: Фотозрители?
Я: Да
С: Ну, фотозрители….В первую очередь мы ориентируемся не на…ну, я имею в виду
фотослужбу конкретно..в первую очередь мы ориентируемся не на какую-то возрастную
аудиторию, мы ориентируемся на человека… который будет удовлетворён нашим материалом
и иллюстрациями к нему же, то есть человек, который зная наше издание, или не зная, что такое
«Коммерсант», открывая его, он должен после прочтения…будь это журнал, или Дэйли, или
приложения тематические…у него не должно оставаться чувства того, что что-то не доделано,
скорее, наоборот, нам бы хотелось, чтобы он сказал: «Круто «Коммерсант» сделал!». То есть
иллюстрации…они должны соответствовать, скажем так.
Я: То есть такой конкретной целевой аудитории у Вас нет?
С: Ну, в принципе нет. То есть это может быть абсолютно любой человек…у нас несколько
тетрадей: есть и культура, и спорт, экономическая политика, бизнес, поэтому конкретно
разделять нашу аудиторию…вот у нас есть читатели непосредственно Михаила Трофименко,
хотя я думаю, что они и соседнюю страницу прочитают. И, наоборот, будет совершенно не
лишним банкиру почитать о каких-нибудь выставках, чтобы понять, что у нас, собственно,
происходит в стране. Я думаю разделение газеты на несколько тетрадей сделано очень
правильно, очень эргономично и эффективно...Дэйли – это, конечно, ежедневная работа,
ежедневные снимки, но задачи такой – чтобы протолкнуть именно коммерсантовскийсеимок,
если агентство сделало лучше, всё-таки не стоит. Потому что у нас много корреспондентов – и
в Петербурге, и в регионах, и в Москве..там работают ребята и работают хорошо. Но если
агентство сняло лучше, то для нашего зрителя и читателя будет важнее, чтобы стояла хорошая
карточка, пусть, к сожалению, её сняли не мы. Но мы её всё равно поставим.
Я: А какие у Вас критерии отбора фотографий? По соответствию статье?
С: Ну, конечно, в основном.
Я:А если говорить о фотографии Петербурга, то есть если что-нибудь именно с городом
связано, то есть какие-нибудь критерии?
С: Ну, как сказать…если это снимок именно для газеты…как сказать..если снимок выходит на
федеральном уровне, например там, это культура, или общество, или преступность, конечно,
адрес нужен для любой карточки. Какой-то адрес мы, наверное, можем обеспечить. Не по всем
параметрам. Ну вот в преступности это наиболее проблематично, если это не в центре города.
Если же адрес есть, то мы сделаем всё возможное, чтобы он прочитался.
Я: То есть, чтобы он был узнаваем?
С: Да.
Я: Чтобы он был классическим, то есть открыл читатель газету и подумал: вот, я здесь был, или
чтобы в фотографии было что-то необычное?
С: Вот фотография, мне очень нравится. (показывает на компьютере - см. Приложение, фото
11). Она коммерсантовская, но она не из газеты.
Я: А если говорить об объектах Петербурга…я понимаю, что они подбираются в соответствии
со статьёй, но вот вы уже достаточно много лет работаете здесь, есть ли какие-то объекты,
которые чаще всего встречаются?
С: Чаще всего встречаются наиболее скандальные. То есть объекты, которые либо сносят, либо
о них будут писать, либо о них пишут, либо они строятся. То есть так как мы ежедневная
газета, и вообще издательский дом, старается с новостями знакомиться достаточно быстро,
соответственно и читатели должны всё узнавать оперативно и по максимуму. Газета издаётся не
только в Петербурге, но и во многих регионах, у нас есть много читателей, которые никогда и
не были в Питере. Конечно, иллюстрации отсюда идут, например, на федеральную полосу…то
228
есть бильд-редактор отбирает фотографию, наиболее соответствующую его представлению,
после этого согласовывается с главным редактором. То есть согласование проходит три стадии
и доходит 2-4 варианта. По поводу наших объектов..ну, это опять же достаточно скандальные
последние истории, как с Охта-Центром, так и со Второй Сценой Мариинского Театра, так и с
Новой Голландией. Тут всё, что мы можем сделать по этой теме, это максимально предоставить
нашим бильд-редакторам фото-информацию поп оводу этих объектов, в том числе в разное
время года: то есть это начало, развитие, завершающая стадия. Соответственно показать те
перспективы, которые появляются в связи с этим объектом, то есть как это влияет на
историческую застройку и т.д., чтобы человек, который открывает газету, понимал, что на
набережной там то-то и то-то, что там нечто чудовищное и т.д., чтобы читателю не
приходилось гадать где это и как это, то есть такая вот доступность, она должна быть, даже
некоторая разжёванность, без ухода в такую просто фиксацию, то есть я пришёл, нажал и ушёл
с чистой совестью, что теперь эту карточку должны опубликовать. Нет, её могут и не
опубликовать, потому что фотограф достаточно халтурно отнёсся к своим обязанностям. То
есть он потратил пять минут и решил, что этого достаточно, не подумал, не посидел, не
покрутил, света не подождал, ещё чего...тут, собственно, достаточно много факторов, которые
влияют на это. Мёртвая это карточка или, наоборот, она живая, то есть человек работал, у него
есть интуиция, что через секунду – через две – через пять, произойдёт такое-то вот событие, то
есть надо быть вот в этом месте съёмки. Мы снимаем то, что есть. Архивом – старым архивом,
я имею в виду, - мы пользуемся очень редко, стараемся делать фотографии, которые есть на
сегодняшний день. На сегодняшний день этот объект выглядит так, значит, читатель должен
увидеть его именно так, посмотреть, что там изменилось, что не изменилось. То есть мы
снимаем то, что происходит реально.
Я: Правильно ли я Вас поняла, фотография должна не столько иллюстрировать статью, сколько
усиливать впечатление?
С: Ну естественно, конечно. И заголовок, и карточка под заголовком к материалу должна быть
не с потолка взята, а хорошо снята и придумана, чтобы сомнений о её причастности к статье не
возникало.
Я: Сергей, а Вы как считаете, объекты меняются? Появляется что-то новое в изображении
Петербурга?
С: Ну, конечно, меняются. Меняется, в первую очередь, конечно, панорама. То есть весь центр
заставлен строительными кранами. Для меня это, честно говоря, такой шок…Я не знаю даже,
как киношники сейчас кино снимают…если раньше с антеннами они ещё как-то боролись, то
сейчас вид с Университета на сторону Исакия, конечно, удручает.
Я: А как Вы думаете, это как-то влияет на восприятие города?
С: Ну, я здесь родился, поэтому мне трудно говорить. Родился в коммунальной квартире, это
самые лучшие мои впечатления от этого города. Вот лично мой город не изменится никогда.
Проходные дворы закрыли на решётки, так далеко я уже не смогу по ним пройти, но тем не
менее, это ведь уже другой город…мой город - он всегда со мной, я его фотографировал ещё в
детстве….Но мой город не имеет никакого отношения к моей работе. То есть я занимаюсь
сейчас работой, которая, можно сказать, мне нравится…и выходя на улицу, идя по Гончарной, я
встречаю всё тех же самых ископаемых - сидят в подворотнях, но также было и лет 20-30 назад.
Меняются какие-то фасады, что-то строится, но к этим фасадам я тоже не имею никакого
отношения.
Я: А у Вас есть какой-то в памяти кадр – любимый самый, самый яркий?
С: Пока ещё рано об этом говорить, я так думаю. У меня много в памяти таких кадров…а в
общем-то не фотография вдохновляет, а то, что там за стеклом находится. Фотография не
является конечным продуктом, это уже образ жизни….Снял – и уже неинтересно, потому что
посмотрел…а потом не нравится. То есть, может когда время попройдёт, то мне и станет что-то
нравится…но это уже будет окончательной точкой….
Я: Вы говорили, что Вас вдохновляет то, что за стеклом, то есть сам город вообще?
С: Ну, я не уезжаю никуда и здесь живу. Я комфортно себя чувствую здесь
229
Я: То есть Вы просто идёте по любой улице….
С: Нет, не по любой. Не, в Ленинград я не езжу. Мне там страшно. Я там могу потеряться. Мне
там проще взять такси от метро и доехать. Для меня чудовищность этой геометрии
непостижима. Меня это однообразие настолько сдавливает…может, это какая-то болезнь? Надо
спросить у доктора..но я бы там жить не смог.
Я: То есть Ваш город в Петербурге, не выходя за его пределы?
С: Ну, конечно, да. Нееее…там Ленин живёт. Там другие люди, другие ценности. Можно
предположить, что там не очень много дух получает, на так, как в центре. Хотя везде по-
разному…и тут всякое бывает, например, в районе Сенной Площади все эти персонажи.
Возможно, есть какой-то колорит в том, что они там всё ещё ходят. Но это будет всегда, можно
посмотреть старые карточки.
Я: Сергей, у меня к Вам последний вопрос: какую фотографию Вы бы выбрали на выставку?
С: Только об этом городе?
Я: Да. Наверное, сложный вопрос?
С: Да не, не сложный. Чего-нибудь бы выбрал. Ну, мы-то в выставках не участвуем. Потому что
времени нет.
Я: А если бы очень нужно было что-то выбрать?
С: Ну, тут всё от текста зависит, понимаете.
Я: Да, я понимаю, это, вероятно, не очень корректный вопрос.
С: Да...здесь всё зависит от того, чему она посвящена. Ну что-нибудь выбрал бы городское.
Может быть, даже что-нибудь абсолютно безадресное, но чтобы там люди были, и было видно,
что это питерские люди. Без всяких там Петропавловских Крепостей и других исторических
объектов. Вот такую бы вот например выбрал (показывает на компьютере, см. Приложение –
фото 12). Есть, наверное, ещё какие-то другие фотографии…Вообще с фотографиями
сложно…..снял, посмотрел и уже не нравится…Фотографам не нравятся свои съёмки. После
того, как снял, работать уже не с чем. То есть остановил время…и всё. Есть, конечно,
персонажи, которым свои съёмки нравятся…попадаются…я вообще люблю иногда
концептуальные фотографии делать, чтобы не было там никаких действующих лиц, не под
конкретный какой-то материал.
Я: Спасибо Вам огромное, Сергей. Всего доброго.
С: До свидания.
Протокол интервью с Михаилом Разуваевым, фотоагентство «Тренд»
Есть два образа Петербурга – линейный, романтический, который людям приятен тем, что он
есть в истории, стихах и его легко можно выразить в том числе с помощью любительской
фотографии. Этот образ в основном приятен россиянам.
Другой образ – лубочный – то, что притягивает иностранцев. Их абсолютно не интересуют
«небесные линии», их интересует излишество в убранстве, позолота, которые не похожи ни на
что в Европе. То, о чем в принципе любой Европеец мечтает в детских фантазиях, но не может
себе позволить – золотые дворцы, малахитовые комнаты и т.п. Они очень любят
фотографироваться на тронах, со златом и драгоценными камнями – их это привлекает.
Есть целая категория любителей мистического образа Петербурга – так называемого
«Петербурга Достоевского» - в основном это жители мегаполисов – как отечественных, так и
европейских и американских.
Сейчас фактически перестали делать для отечественной публики лубочный, вычурный богатый
Петербург. Роскошь для русских не продают – она в основном для иностранцев. Причем в
издательствах это очевидно математически – по количеству альбомов и картинок. Для
иностранцев печатают царские палаты.
«Меланхолию» издают в равных тиражах для русских и иностранцев. Даже если взять выставки
– то западные фотографы снимают Петербург Достоевского также часто, как русские. Но
230
русские практически не снимают Европейского Петербурга, богатства (я знаю 2-3 фотографов в
стране, которые специализируются и любят снимать убранство интерьеров, «шик»). Но немцы,
французы платят большие деньги за профессиональную съемку спальни какого-либо
чиновника. Основную часть таких фотоизображений составляют профессиональные
потребители: фотографы, которые сотрудничают с издательствами, или сами делают открытки,
фотоальбомы.
Иностранцы совершенно не снимают линейный, романтический Петербург а-ля Париж, где
красота показана не за счет декора, а общей композиции, дворцов, рек, фонтанов. Это Париж,
город любви. Провинциалы видят «парижские» моменты в Петербурге, это город романтики,
любовного настроения – «лодочка плывет по реке» … это согласуется с русской натурой. Их не
трогает дом из малахита, подсвечники из злата, орнамент из бриллиантов – для них это
абстракция, она потребляют среду: садики, оградки, дворы, мосты.
Для иностранцев это другая планета. Фантастические дворцы, которые они никогда не могли
себе позволить. Эрмитаж, Петергоф… Версаль никогда не сравнится с ними по роскоши. = моя
подруга из Индии стоя на парадной лестнице Эрмитажа сказала «теперь я понимаю, за что они
убили царя. Потому что нельзя жить в такой роскоши». С точки зрения Европейского
потребителя это излишество. Например фонарь, который призван освещать, не должен быть
такой большой, иметь столько лепнины. У нас же это – барокко. Иностранцы у нас покупают
исключительно помпезность во всех ее проявлениях.
Если ты профессиональный фотограф, тебя конечно никто не «заряжает», но ты знаешь, для
кого ты снимаешь. Например, репортажные фото для СМИ, ИА всегда должна быть привязка к
доминантам, причем не нужно пространство Петербурга, его ландшафт, а нужен орел, шпиль,
крест большой золотой.
Здесь, на внутреннем рынке, это не нужно. Я знал, что Петербург Достоевского у меня купят
издательства в Москве, том же Петербурге, Нью-Йорке, Берлине. А издательствам, которые
работают на всю Америку или Австралию нужны парадные залы. Они к этому никогда не
привыкнут.
Европейцы могут понять Петербург Достоевского, Американцы практически его «не хавают».
Приложение 5
Таблица частоты встречаемости архитектурных памятников Санкт-Петербурга в
открытках
Период (гг)
1970 - 1980 1980-1990 1990-2000 2000-2012 Всего
открыток
Памятник архитектуры Частота встречаемости (раз)
Петропавловская крепость в
перспективе с Невой
3 6 6 18 33
Дворцовый мост - 1 1 12 14
Дворцовая площадь (общий
план Зимнего дворца и
Александрийской колонны)
- - 4 10 14
Зимний дворец 5 1 4 13 23
Исаакиевский собор
(+Исаакиевская площадь)
5 5 3 12 25
Площадь искусств (Памятник 3 1 2 8 14
231
Пушкину и Русский музей)
Спас на Крови - - - 7 7
Медный всадник 1 3 3 6 13
Никольский собор
(и Крюков канал)
1 - 1 8 10
Сфинкс
(Университетская набережная)
2 - 3 6 11
Казанский собор 1 1 1 6 9
Летний сад 4 4 4 5 17
Здание Военно-морского
музея (Биржа)
- 1 1 4 6
Мост Петра
Великого (Большеохтинский)
- - - 4 4
Смольный собор - - 1 4 5
Стрелка
Васильевского острова
4 6 2 4 16
Адмиралтейство 4 3 6 4 17
Банковский мост (Грифоны) - - 2 4 6
Крейсер «Аврора» 3 1 - 2 6
Марсово поле 1 - - 1 2
Завод "Компрессор"
(Выборгская сторона)
1 - - - 1
Кунсткамера 1 4 3 5 13
Памятник Родина-мать 1 1 1 - 3
Памятники Ленину 2 2 - - 4
Мариинский дворец
(Здание Ленгорсовета)
1 - - - 1
Смольный институт 1 2 1 - 4
Гостиница "Ленинград" - 2 - - 2
Площадь победы 1 - - - 1
Инженерный замок 1 1 2 1 5
Дом книги 1 - - 2 3
Атланты (у Эрмитажа) - 2 2 3 7
Московские ворота - 1 0 2 3
Праздник "Алые паруса" - - - 4 4
Всего открыток: 47 48 53 156 304
232
Приложение 6
Контент-анализ визуального представления Санкт-Петербурга на туристических картах
и путеводителях
Назв
ан
ие
Издатель
Год
Ц
елев
ая
ауд
итор
ия
Г
ран
иц
ы г
ор
од
а
Представл
ение
города
Выделенные объекты
Фото
Кон
так
ты
Ref
eren
ce-b
ook "
Saf
e S
t. P
eter
sburg
- W
elco
me"
Founder: The
Federation of
Security Services
and Firms
(Федерация служб
безопасности и
охранных
предприятий; её
цель - усиление
роли
негосударственных
организаций в
обеспечении
безопасности
личности,
собственности и
предпринимательст
ва), Maps: Support
centre for art and
business, Valdin
Publishing House -
PolyPlan Maps. Есть
приветствие
губернатора города
В.А. Яковлева
Issu
e 5, 2001
ин
ост
ран
ны
е и
русс
ки
е ту
ри
сты
, б
изн
есм
ены
Стр
елка
Вас
ильев
ского
ост
рова
\ ули
ца
Мар
ата
“нарисован
ная” карта,
объекты -
иконки
Наряду с основными
достопримечательностями,
нарисованными в отличие от
обычных зданий, также
выделяются:-
респектабельные гостиницы
("Астория", Грандотель
"Европа", "Невский палас" );
- Ярмарка сувениров
"Souvenirs Fair" - здание
отмечено сверху матрёшкой;
- отмечены по одному
средству передвижения,
"характерным" для СПб:
трамвай, прогулочный катер,
"метеор", карета с кучером; -
Петропавловский собор не
попадает в поле карты (!), на
набережной крепости
изображены лишь
купающиеся люди и
пляжные зонтики; -
Изображено украшение
красивых мостов: Аничкова,
Банковского, Ломоносова;
парки - зелёным
на
об
лож
ке
- С
пас
на
Крови
htt
p:/
/web
cente
r.ru
/~fs
bo
p
233
S
t. P
eter
sburg
The
Off
icia
l C
ity G
uid
e -
"Сан
кт-
Пет
ерб
ург.
Оф
иц
иал
ьны
й
путе
вод
ите
ль п
о г
ород
у".
Учредитель:
Комитет по
внешним связям
Администрации
Санкт-Петербурга,
ТОО "Пронто-
Петербург".
Издатель: ООО
Рекламно-
информационное
агентство
"Ленинград"
(РИАЛ). Карты:
издательство В.В.
Валдина "НОВОЕ
ВРЕМЯ"
№ 1
(8),
1999
ин
ост
ран
ны
е и
русс
ки
е ту
ри
сты
Крес
товск
ий
ост
ров \
П
росп
ект
Об
уховск
ой
об
орон
ы
карта-
схема,
контуры
памятнико
в
архитектур
ы
отмечены
серым
цветом
Названия только латиницей -
сочетание транслитерации и
перевода ("Sampsonievskiy
most", "Moscow Station"), -
знаки-индексы (кладбище
"+"), парки-зелёным
на
об
лож
ке
– С
об
ор с
в. П
етра
и П
авла
ww
w.c
ityguid
e.sp
b.r
u
Сан
кт-
Пет
ерб
ург.
Тран
спортн
ый
путе
вод
ите
ль.
-
2006
Русс
ки
е ж
ите
ли
СП
б
Дорога
на
Кам
енку
\ м
. Р
ыб
ацкое
Карта-
схема,
достоприм
ечательнос
ти не
обозначен
ы.
-обозначены все проспекты,
улицы, переулки ит.д.
- указаны маршруты
общественного транспорта
(автобусов, троллейбусов,
трамваев) с остановками
-вокзалы обозначены знаком-
индексом, указывающим на
поезд;
(-кладбища – знаком-
индексом “+”)
- парки-зелёные
+ схема расположения
рынков, схема метро с
минутами, схема движения
пригородных поездов,
транспортный путеводитель
по Ленинградской области На
об
лож
ке-
Зи
мн
ий
Дворец
с Д
ворц
овой
площ
ади
-
234
“А
тлас
Сан
кт-
Пет
ерб
ур
г” с
каж
ды
м д
ом
ом
мал
ый
Учредители и
издатели: ООО
«АГТ Геоцентр»,
ООО «Все карты»
Вы
пуск
8 –
2008 г
од
Русс
ки
е ж
ите
ли
СП
б, русс
ки
е ту
ри
сты
Шувал
овск
ий
пар
к \
Ры
бац
кое
Карта-
схема
- обозначены все улицы с
номерами домов, все реки,
все парки
- помимо прочего (музеи,
памятники, театры, конц.
залы, выст. залы, цирк,
зоопарк, кинотеатры),
отмечены театральные
кассы, планетарий,
дельфинарий,
Представительства
субъектов федерации,
Посольства, Консульства;
- по-разному обозначены: -
церкви, соборы
православные (крест в
куполе)
-
церкви католические (┼),
-
мечети (зелёный полумесяц
и чёрная звезда)
-
синагоги(жёлтая
шестиконечная звезда)
-
буддийский храм (очертания
Будды в круге)
(они обозначаются знаками-
символами)
- обозначены все гостиницы
(обозначены туалеты,
фонтаны) - ww
w.a
llm
aps.
ru
235
C
ity M
ap S
aint-
Pet
ersb
urg
~ сеть элитных
магазинов
сувениров
~ 2
006-2
007
Ин
ост
ран
ны
е ту
ри
сты
м. С
порти
вн
ая \
м. Л
иго
вск
ий
просп
ект
“нарисован
ная” карта
с
иконически
ми
обозначени
ями всех
зданий,
памятнико
в и т.д.
- отмечено местоположение
сувенирных магазинов
(Babushka, Bazar, Museum,
Heritage, Onegin)
- отмечены рестораны сети
“Тритон”(“Тритон”,
”Тбилисо”, ”Монтана”,
“Миру-Beer”, “Гюльчатай”,
“Дастархан”)
обозначено местоположение
этих объектов на карте, а
также приведены их
эмблемы; в справочной
информации – точный адрес,
телефон, краткое описание;
-приводится информация о
транспорте (справка об
аэропорте, автобусном,
речном и морском вокзалах,
ж\д вокзалах, время разводки
мостов, службы ) -на
об
лож
ке
– И
саак
иев
ски
й с
об
ор и
пам
ятн
ик
Ни
колаю
I
-До
стоп
ри
меч
ател
ьн
ост
и, отм
ечен
ны
е п
оряд
ковы
ми
ном
ерам
и н
а кар
те, со
провож
даю
тся ф
ото
граф
ией
и
крат
кой
ин
форм
аци
ей н
а об
ороте
:
- С
об
ор с
в. П
етра
и П
авла
-Вел
икокн
яж
еская
усы
пал
ьн
иц
а – П
етроп
авловск
ая
креп
ост
ь
-Ботн
ый
дом
ик
-Кр
он
вер
к –
музе
й а
рти
ллер
ии
- М
ечет
ь
-Теа
тр Б
алти
йск
ий
дом
-Кн
язь
-Влад
им
ирск
ий
соб
ор
-Зоо
пар
к
-Би
рж
а
-Рост
рал
ьн
ые
колон
ны
-Ку
нст
кам
ера
-СП
бГ
У –
зд
ани
е 12 к
оллег
ий
-Мен
ши
ковск
ий
дворец
- Р
осс
ий
ская
Акад
еми
я И
скусс
тв
-Еги
пет
ски
е сф
ин
ксы
- С
об
ор А
нд
рея
Пер
возв
анн
ого
- С
енат
и С
ин
од
- М
едн
ый
вса
дн
ик
-Ко
нн
огв
ард
ейск
ий
ман
еж
-Иса
аки
евск
ий
соб
ор
-Пам
ятн
ик Н
иколаю
I
- М
ари
ин
ски
й д
ворец
- А
дм
ирал
тей
ство
-Зи
мн
ий
дворец
-Алек
сан
дровск
ая к
оло
нн
а
-Зд
ани
е Г
енер
альн
ого
шта
ба
-Мр
аморн
ый
дворец
-Огр
ада
Лет
нег
о С
ада
-Стр
ога
новск
ий
дворец
-Цер
ковь С
вято
го П
етра
-Каз
анск
ий
соб
ор
-Бан
ковск
ий
мост
ик
-До
м к
ни
ги
-Сп
ас н
а К
рови
-Русс
ки
й м
узе
й
-Пам
ятн
ик П
уш
ки
ну
-Ду
ма
-Больш
ой
Гост
ин
ый
Двор
-Росс
ий
ская
Нац
ион
альн
ая Б
иб
ли
оте
ка
-Пам
ятн
ик П
етру I
-Ми
хай
ловск
ий
зам
ок
-Пам
ятн
ик Е
кат
ери
не
II
-Алек
сан
дри
йск
ий
теа
тр
-Ул
иц
а зо
дч
его Р
осс
и
-Лом
он
осо
вск
ий
мост
-Ан
ичков д
ворец
-Ан
ичков м
ост
-Дво
рец
Бел
осе
льск
их
-Бел
озе
рск
их
-Шер
емет
ьев
ски
й д
во
рец
-Цер
ковь С
емео
на
Бого
при
им
ца
и А
нн
ы П
ророчи
цы
-Сп
асо
-Прео
бр
ажен
ски
й с
об
ор
-Влад
им
ирск
ий
соб
ор
-Ви
теб
ски
й в
окза
л
-Трои
цки
й с
об
ор
-Ни
кольск
ий
Морск
ой
соб
ор
- М
ари
ин
ски
й т
еатр
-Льви
ны
й м
ост
ик
-Новая
Голл
анд
ия
-Ни
колае
вск
ий
дворец
- в и
нф
орм
аци
он
ном
сп
иск
е п
ереч
исл
енн
ых о
телей
при
мер
но с
тольк
о ж
е, с
колько м
узе
ев и
теа
тров
вм
есте
+ у
каз
ан р
азряд
гост
ин
иц
по з
вёз
дам
ww
w.s
ouven
irbouti
que.
com
Cit
y M
ap S
aint-
Pet
ersb
urg
(м
ален
ькая
) ~ сеть элитных
магазинов
сувениров
2009
Ин
ост
ран
ны
е ту
ри
сты
М. С
порти
вн
ая \
мост
Лом
он
осо
ва
“нарисован
ная” карта
с
иконически
ми
обозначени
ями всех
зданий,
памятнико
в м т.д.
-отмечено местоположение
сувенирных магазинов
(Babushka, Bazar, Museum,
Heritage, Onegin)
-приводится информация о
транспорте (справка об
аэропорте, ж\д вокзалах,
время разводки мостов,
службы )
-Дост
оп
ри
меч
ател
ьн
ост
и,
отм
ечен
ны
е п
оряд
ковы
ми
ном
ерам
и
на
кар
те, со
провож
даю
тся к
рат
кой
ин
форм
аци
ей н
а об
ороте
:
-Крей
сер «
Аврор
а»
-Лет
ни
й С
ад
-Дворец
Мен
ши
кова
-Ми
хай
ловск
ий
зам
ок
-Мрам
орн
ый
дворец
-Нау
чн
о-и
ссл
едоват
ельск
ий
музе
й
Росс
ий
ской
Акад
еми
и И
скусс
тв
-Кун
сткам
ера
-Дом
ик П
етра
I
-Пет
роп
авловск
ая к
реп
ост
ь
-Ад
ми
рал
тей
ство
-Росс
ий
ски
й Э
тногр
афи
чес
ки
й
Музе
й
-Госу
дар
ствен
ны
й Р
усс
ки
й М
узе
й
-Стр
ога
новск
ий
дворец
-Сп
ас н
а К
рови
-Воен
но
-морск
ой
музе
й
-Госу
дар
ствен
ны
й Э
рм
ита
ж
-Мем
ори
альн
ый
музе
й П
уш
ки
на
-Мар
ии
нск
ий
дворец
-Оп
ерн
ый
зал
Кон
серват
ори
и
-Ми
хай
ловск
ий
теа
тр
-Алек
сан
дри
нск
ий
теа
тр
-Иса
аки
евск
ий
соб
ор
-Каз
анск
ий
соб
ор
-Трои
цки
й с
об
ор
-Ни
кольск
ий
соб
ор
-Теа
тр М
узы
кал
ьн
ой
Ком
еди
и
- Б
ольш
ой
зал
Фи
лар
мон
ии
(и
м.
Ши
стак
ови
ча)
Чи
сло п
ереч
исл
енн
ых м
узе
ев и
теат
ров =
чи
слу п
ереч
исл
енн
ых
гост
ин
иц
(с
указ
ани
ем *
)
ww
w.s
ouven
irbouti
que.
com
236
К
арта
Путе
вод
ите
ль С
анкт-
Пет
ерб
ург
ООО “НЕВА-
ПРИНТ”
2007
Росс
ий
ски
е ту
ри
сты
Кам
енка\
Об
ухово
Карта-
схема,
сочетание
знаков-
индексов и
знаков-
икон
Обозначены: соборы, храмы,
церкви; памятники
архитектуры; музеи;
больницы; аптеки;
гостиницы; театры, конц.
залы; кинотеатры;
театральные кассы; салоны
связи; банки, обменные
пункты; станции
метрополитена; книжные
магазины; универмаги,
универсамы; рынки; кафе,
рестораны; ночные клубы,
казино; стадионы; речной
вокзал; пристань;
дельфинарий; кассы
аэрофлота; ж\д вокзалы; ж\д
кассы
-знаками-иконами отмечены:
-Ростральные колонны
-Александровская колонна
-Медный всадник На
об
лож
ке
– Ф
он
тан
ка
Пам
ятн
ики
архи
текту
ры
соп
ровож
даю
тся ф
ото
граф
иям
и:
- Г
лав
ное
Ад
ми
рал
тей
ство
- А
кад
еми
я Х
уд
ож
еств
- А
лек
сан
дровск
ая к
олон
на
- А
ни
чков д
ворец
- Д
ворец
Бел
осе
льск
их
-Бел
озе
рск
их
- Б
ирж
а
- Б
ольш
ой
Гост
ин
ый
Двор
- Г
ор
ны
й и
нст
иту
т
- З
дан
ие
Глав
ного
Шта
ба
- З
дан
ие
Двен
адц
ати
Коллег
ий
- З
им
ни
й Д
ворец
- ули
ца
Зод
чег
о Р
осс
и
- И
саак
иев
ски
й с
об
ор
- К
азан
ски
й с
об
ор
- К
ун
сткам
ера
- Л
етн
ий
сад
- М
едн
ый
вса
дн
ик-
Пам
ятн
ик П
етру I
- Д
ворец
Мен
ши
кова
- М
ихай
ловск
ий
дворец
- М
ихай
ловск
ий
(И
нж
енер
ны
й)
зам
ок
- М
рам
орн
ый
дворец
- П
иск
арёв
ски
й м
емори
ал
- П
етроп
авловск
ая к
реп
ост
ь
- Р
ост
рал
ьн
ые
колон
ны
- С
енат
и С
ин
од
- С
мольн
ый
соб
ор
- С
об
орн
ая м
ечет
ь
- С
трел
ка
Вас
ильев
ского
ост
рова
- Д
ворец
Стр
ога
новы
х
- Х
рам
Воск
рес
ени
я Х
ри
стова
(Сп
ас н
а К
рови
)
- Э
рм
ита
жн
ый
теа
тр
- Ю
суп
овск
ий
дворец
-
Тел
: 369
-24-5
0, 369-2
5-8
5
Сан
кт-
Пет
ерб
ург
Тран
спортн
ый
путе
вод
ите
ль
-
~ 2
007
Жи
тели
СП
б, вод
ите
ли
Кам
енка\
Ры
бац
кое
На
об
рат
ной
сто
рон
е – Л
ен. об
лас
ть -
Вы
борг\
Ки
ри
ши
Карта-
схема,
даже
здания не
обозначен
ы – лишь
практическ
ая
информаци
я
-маршруты автобусов,
троллейбусов, трамваев и
маршрутных такси,
-маршруты пригородных
автобусов и маршрутных
такси,
-схема движения
пригородных
электропоездов,
-расписание пригородных
электропоездов со всех
вокзалов,
-расписание поездов
дальнего следования,
-схема метро с указанием
времени в пути,
-схема расположения рынков
- Карта Ленинградской
области
-Схемы развязок на КАД
-График разводки мостов
-Номера и пункты
назначения междугородних
автобусов На
об
лож
ке
– И
саак
иев
ски
й с
об
ор
Вн
утр
и-
Зи
мн
ий
дворец
(ви
д с
Дворц
овой
площ
ади
)
-
237
G
EO
Сан
кт-
Пет
ерб
ург
(кар
та и
стори
чес
кого
цен
тра
в п
од
арок п
од
пи
счи
кам
и п
етер
бургс
ки
м ч
ита
телям
журн
ала
GE
O)
Составитель: Павел
Харкевич
2005
Росс
ий
ски
е ту
ри
сты
, ж
ите
ли
город
а
Ул
. Б
ольш
ая П
уш
кар
ская
\ у
л. Х
ерсо
нск
ая
Карта,
выполненн
ая на
компьютер
е:
«объёмные
»
изображен
ия (иконки)
всех
зданий,
которые
попадают в
рассматрив
аемое поле
- самая реалистичная из всех
встретившихся
-не только соответствующие
цвета зданий, но и
соответствующие цвета
крыш
- СПб – город, полный
достопримечательностей
-Цифрами обозначены на
карте следующие объекты:
- Центральный музей
Почвоведения
-Зоологический музей
-Музей антропологии и
этнографии им. Петра
Великого
-Центральный Военно-
морской музей
-Исаакиевский собор
-Военно-исторический музей
артиллерии, инженерных
войск и войск связи
-Петропавловская крепость
-Эрмитаж
-Государственный музей
истории С.-Петербурга.
Государственный музей
политической истории
России
-Собор Воскресения
Христова (Спас на Крови)
-Музей-домик Петра I
-Государственный Русский
Музей
-Российский
Этнографический музей
-Инженерный замок, филиал
Русского музея
-Крейсер «Аврора»
-Государственный
мемориальный музей
обороны и блокады
Ленинграда
- Музей циркового искусства
- Мраморный дворец, филиал
Русского музея
-Исторический музей
восковых фигур во дворце
Белосельских-Белозерских
-Строгановский дворец,
филиал Русского музея
-Музей Арктики и
Антарктики
-Государственный
мемориальный музей А.В.
Суворова
На
об
лож
ке
– ф
ото
граф
ия –
пан
орам
а го
род
а, н
ачи
ная
от
Зи
мн
его Д
ворц
а
-
238
С
анкт-
Пет
ерб
ург
Вес
ь т
ран
спорт
Информация
предоставлена
Комитетом по
транспорту
Администрации
СПб
Торговый дом
«Медный всадник»
Вы
пуск
4, н
а 10 а
вгу
ста
2003 г
од
а
Жи
тели
СП
б, росс
ий
ски
е ту
ри
сты
1)(
об
щая
кар
та)
Вы
бор
гски
й р
айон
\ Р
ыб
ацкое
2)
наб
. А
дм
ирал
а Л
азар
ева
\ м
ост
Ал
екса
нд
ра
Нев
ского
Карта-
схема, в
основном
знаки-
индексы,
однако
самые
важные
объекты –
иконы.
Условные обозначения: -
аэропорт
-мосты
-больницы, мед. учреждения
-православные церкви и
соборы
-лютеранские и римско-
католические приходы
-кладбища
-морской, речной вокзалы
-гостиницы
-станции метрополитена
-ж\д вокзалы
-ж\д станции
-реки, каналы
-сады, парки, леса
-жилые кварталы, сельские
населённые пункты,
садоводства
-промышленные районы
-грузовые таможни
-межрайонные отделы
ГИБДД посты ГИБДД
-кинотеатры
-граница СПб
-граница районов СПб
-строящаяся кольцевая
автодорога (КАД) вокруг
СПб (нанесена
схематически)
-маршруты автобусов,
маршрутных такси, трамваев,
троллейбусов; конечные
остановки
-рынки
-храмы различных религий
обозначены
соответствующими знаками-
индексами-символами:
Лютеранские, Католические,
Православные –
соответствующими
крестами; Мечеть
(полумесяцем), Синагога
(звезда) 1)
дом
ин
анты
, об
озн
ачен
ны
е зн
акам
и-и
кон
ами
: П
етроп
авловск
ая к
реп
ост
ь, А
дм
ирал
тей
ство
2)
-Пет
роп
авловск
ая к
реп
ост
ь,
- К
рей
сер А
врор
а
- З
ооп
арк –
зн
аки
-ин
дек
сы:
жи
раф
и з
ебра
-Фи
нлян
дск
ий
вокза
л
- Р
ост
рал
ьн
ые
колон
ны
-Воен
но
-морск
ой
музе
й
-Ад
ми
рал
тей
ство (
с ч
ётки
м к
ораб
ли
ком
)
-Мед
ны
й в
сад
ни
к
-Иса
аки
евск
ий
соб
ор
-Зи
мн
ий
дворец
-Алек
сан
дровск
ая к
оло
нн
а
-Каз
анск
ий
соб
ор
-Бал
тий
ски
й в
окза
л
-Ви
теб
ски
й в
окза
л
-Моск
овск
ий
вокза
л
ww
w.m
vsa
dnik
.ru
тел. 320
-91-3
5, 320-9
1-3
6, 320
-91-3
7
239
«Л
е П
ти Ф
юте
»
Путе
вод
ите
ль С
анкт-
Пет
ерб
ург
Вто
рое
изд
ани
е Издательство ЗАО
«Авангард»
Гл. директор Пьер-
Кристиан Броше;
Мишель Строгов,
Доминик Ознас
Картографические
материалы:
Алексей Ковалев 2002
Росс
ий
ски
е ту
ри
сты
1)
о. Е
лаг
ин
\ п
р. О
буховск
ой
об
орон
ы
2)
в к
он
це
– 4
кар
ты п
о ч
астя
м г
ород
а: с
евер
о-з
апад
, се
вер
о-в
ост
ок, ю
го-з
апад
, ю
го-в
ост
ок
Представле
ние города
наиболее
схематично
е, здания
не
обозначен
ы, главные
объекты
обозначен
ы цифрами.
Вторая
карта –
чёрно-
белая,
условных
обозначени
й нет, лишь
надписи
Главные объекты,
обозначенные цифрами: -
Петропавловская крепость
-Петропавловский собор
-Стрелка Васильевского
острова
-Кунсткамера
-Дворец А.Д. Меншикова
-Эрмитаж
-Музей А.С. Пушкина
- Памятник Петру I
- Адмиралтейство
-Исаакиевский собор
-Гостиница «Астория»
-Музей истории СПб
-Новая Голландия
-Мариинский дворец
-Юсуповский дворец
-Консерватория
-Мариинский театр
-Морской Богоявленский
Никольский собор
-Домик Петра I
-Крейсер «Аврора»
-Мраморный дворец
-Летний дворец Петра I
-Спас на Крови
-Инженерный замок
-Русский музей
-Казанский собор
-Гостиный двор
-Аничков дворец
-Таврицеский дворец
-Суворовский музей
-Смольный собор
-Смольный институт (мэрия)
-Александро-Невская Лавра На
об
лож
ке
– П
етроп
авловск
ая к
реп
ост
ь н
а за
кат
е – в
ид
чер
ез р
азвед
ённ
ые
мост
ы
ww
w.p
etit
fute
.ru
240
С
анкт-
Пет
ерб
ург.
Новая
под
роб
ная
кар
та.
Санкт-
Петербургское
издательство
«Нева-Принт»
2000
Цел
евая
ауд
ито
ри
я о
бозн
ачен
а н
а об
лож
ке:
«д
ля [
росс
ий
ски
х]
тури
стов, ав
толю
би
телей
, ж
ите
лей
гор
од
а,
пред
при
ни
мат
елей
»
1)Ц
ентр
альн
ая ч
асть
:
При
морск
ий
рай
он
\ Н
евск
ий
рай
он
2)
на
об
ороте
– Н
овоор
ловск
ий
лес
оп
арк \
Ры
бац
кое
Обозначен
ия
схематичн
ые:
индексы
(пр.,
автозаправ
ка) и
иконки
(пр., театр
– балерина
на сцене)
Условные обозначения: -
соборы, церкви [один и тот
же знак, но разного размера]
-дворцы
-театры
-музеи
-гостиницы
-рынки
-универмаги
-универсамы
-стадионы
-бассейны
-больницы
-аптеки (круглосуточно)
-бани
-автозаправки
-вокзалы
-станции метро
-закрыто движение
автотранспорта
-одностороннее движение
-поворот запрещён/разрешён
-яхт-клубы – обозначены
яхтой
Особо выделены знаками-
иконами:
-Петропавловский собор
-Зоопарк обозначен львом –
индекс
-Крейсер «Аврора»
-Ростральные колонны
-Медный всадник
-Александрийская колонна
отмечены даже не самые
популярные музеи: пр, музей
хлеба, музей кукол
2) карта очень подробная,
обозначены даже заводы, пр.,
Обуховский завод, Завод
металлоконструкций, и т.д.,
Невская овощебаза. - Тел
. 296
-24-5
0
241
О
ран
жев
ый
ги
д. С
анкт-
Пет
ерб
ург.
Путе
вод
ите
ль
Автор:
Чернобережская
Е.П.
М: Эксмо
(600с.)
2009
Росс
ий
ски
е ту
ри
сты
СК
Ди
нам
о (
Лаз
арев
ски
й м
ост
) \
Площ
адь В
осс
тан
ия
Представле
ние города
схематично
е, знаки-
индексы
Отмечены:
- выходы станций
метро
- пешеходные улицы
- автовокзалы и
автостанции
- ж\д вокзалы
- аэропорты
- больницы, клиники
- спорт. сооружения
- бассейны
- порты, речные
вокзалы, пристани
- администрации
города, районов
- ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ <-
притом, что все
остальные памятники
и монументы
обозначены одним и
тем же синим знаком-
индексом, Вечный
Огонь обозначен
красным знаком-
иконой
- музеи
- театры
- концертные залы
- кинотеатры
- отели, гостиницы,
мотели
- крупные магазины,
- стоянки
- стадионы
- церкви
- костёлы
- мечети
- синагоги
- фонтаны
- направление
движения по улицам Фото
: -
Эрм
ита
ж
-Нев
ски
й п
росп
ект:
Дом
кн
иги
-Сен
атск
ая п
лощ
адь:
Мед
ны
й в
сад
ни
к
-Пет
роп
авловск
ая к
реп
ост
ь
-Сп
ас н
а К
рови
-Иса
аки
евск
ий
со
бор
-Русс
ки
й м
узе
й
-Дом
ик П
етра
I
-Лет
ни
й с
ад
-Мар
сово п
оле
-Каз
анск
ий
соб
ор
-Юсу
повск
ий
дворец
-Крей
сер «
Аврор
а»
-Ад
ми
рал
тей
ство
-Стр
елка
В.О
.
-Кн
иж
ная
лав
ка
См
ирди
на
-Пуш
ки
нск
ий
дом
-Кун
сткам
ера
-Мен
ши
ковск
ий
дворец
-Музе
й А
кад
еми
и Х
уд
ож
еств
-Ан
дрее
вск
ий
соб
ор
-Алек
сан
дри
нск
ий
теа
тр
-Ан
ичков м
ост
-Этн
огр
афи
чес
ки
й м
узе
й
-Шувал
овск
ий
дворец
-Ми
хай
ловск
ий
зам
ок
-Ци
рк Ч
ин
изе
лли
-Шер
емет
евск
ий
дворец
-Юсу
повск
ий
сад
на
об
лож
ке
– М
едн
ый
вса
дн
ик
ww
w.e
ksm
o.r
u
242
О
кн
о в
Пет
ерб
ург.
Атл
ас-п
уте
вод
ите
ль.
С.Петербург. ЗАО
«Карта» ЛТД
Гл. ред. Марина
Ропотова
30 с
ентя
бря 2
002 г
.
Росс
ий
ски
е ту
ри
сты
Кам
енка
\ Р
ыб
ацкое
Представле
ние города
схематично
е,
использую
тся знаки-
индексы,
цветовое
выделение
городских
ориентиров
Выделены: -архитектурные
доминанты
-памятники архитектуры
-городские ориентиры
-соборы, церкви,
-Синагога. Мечеть.
-гостиницы
-музеи, выставки
-театры
-конц. залы
-цирки
-кинотеатры
-клубы, казино
-зоопарк [обозначен белым
медведем], дельфинарий
[обозначен дельфином]
-универмаги, ярмарки
-универсамы
-рестораны
-кафе-бистро
-экскурсионные бюро
место посадки вертолёта
кассы предварительной
продажи билетов
-(туалеты)
-точки обзора
- рекомендуемые остановки
-продолжительность
экскурсии
-станции метро
-порт, пристани Фото
на
об
лож
ке
– И
саак
иев
ски
й с
об
ор и
пам
ятн
ик Н
иколаю
I в
ечер
ом
ww
w.k
arta
-ltd
.ru
243
Ж
ёлты
е ст
ран
иц
ы
Сан
кт-
Пет
ерб
ург
ЗАО «Карта» Лтд.
2007
Росс
ий
ски
е и
ност
ран
ны
е ту
ри
сты
, ж
ите
ли
город
а
Пред
став
лен
пост
ран
ичн
о в
есь г
ород
с п
ри
город
ами
, н
а отд
ельн
ой
– п
ервой
- ст
ран
иц
е п
ред
став
лен
наи
более
под
роб
но ц
ентр
Представле
ние города
схематично
е,
использую
тся знаки-
индексы и
знаки-
иконы (для
наиболее
важных
объектов)
Условно обозначены:
-кварталы жилой застройки
-территории промышленных
предприятий
-сады, парки
-кладбища
-газоны, скверы, пустыри
-сельскохозяйственные
угодья
-транзитные и
магистральные проезды
-одностороннее движение
-улицы, закрытые для
проезда
-Банкоматы Северо-
Западного банка Сбербанка
России (значком сбербанка)
-Архитектурные доминанты
(обозначены знаками-
иконами)
-Памятники архитектуры
-Важнейшие объекты города
-Выдающиеся здания,
ориентиры
-Музеи
-Выставочные залы
-Театры
-Концертные залы
-Консульства
-Церкви, соборы
-Часовни
-Стадионы
-Станции метро
-Гостиницы
В центральной части города -
на первой странице – как
архитектурные доминанты
отмечены знаками-иконами:
[Петропавловская крепость
не попадает]
-Ростральные колонны
-Биржа
-Северный пакгауз
-Новобиржевой Гостиный
двор
-Южный пакгауз
-Кунсткамера
-Главное здание Академии
наук
-Музейный флигель
-Двенадцать коллегий
-Меншиковский дворец
-Первый Кадетский корпус
- Академия Художеств
-Дворец Бобринских
-Ансамбль «Новая
На
об
лож
ке
– П
етроп
авловск
ая к
реп
ост
ь –
ви
д ч
ерез
раз
вед
ённ
ые
мо
сты
тел. 57
1-9
3-5
0
ww
w.k
arta
-ltd
.ru
244
12%
13%
11%
9%9%
7%
7%
32%
Вопрос №10. Символы Петербурга Повторяется
менее 4 раз
Зимний дворец
Петропавловская крепость
Мосты
Дворцовая площадь
Медный всадник
стрелка В.О.
Исаакиевский собор
4
11
2
Вопрос №12. Известно ли Вам символическое значение
объектов?
да
отчасти
нет
7; 41%
3; 18%
3; 18%
4; 23%
Вопросы №№13,14. Часто ли Вы бываете в центре
да-да
да-нет
нет-да
нет-нет
19%
25%
19%
37%
Вопрос №9. Ассоциируете ли Вы себя с Петербургом,
который видите на рекламных плакатах?
да
скорее да
скорее нет
нет
56%
40%
4%
Вопрос №6. Где Вы замечаете рекламу с видами Петербурга
(возможно несколько вариантов)
в метро
на улицах
другое 47%
35%
18%
Вопрос №8. Ассоциируется ли у Вас город с образами, которые Вы видите на
плакатах?
да
не со всеми
нет
Приложение 7
Исследование наружной рекламы. Опрос
В данном Приложении Вы можете найти образец опросного листа, который предлагался
респондентам с помощью средств социальной сети vkontakte.ru, а также скринсейверы ответов
респондентов и их статистическая обработка, представленная в виде диаграмм.
245
Перед Вами анкета, разработанная кафедрой социологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Просим Вас
принять участие в нашем исследовании, посвященном изучению визуального образа Санкт-
Петербурга в наружной рекламе. Эта тема является очень актуальной, так как визуальное
восприятие влияет на настроение людей, живущих, работающих или проводящих досуг в
городском пространстве. Ваше участие в данном исследовании поможет нам выявить
отношение жителей города к образам Петербурга, тиражируемым в наружной рекламе.
Опрос является анонимным. Все результаты исследования будут использованы исключительно
в научных целях.
Большинство из вопросов предполагают ответ «да» или «нет», однако Вы вправе дать
развернутый ответ и комментировать свой выбор. Есть также и вопросы, не предполагающие
вариантов ответа, в данном случае, мы просим Вас высказать свое мнение в свободной форме.
Отвечать на вопросы несложно. Заполнение анкеты займет у Вас не больше 10 мин., но
помните, что ценность исследования зависит от того, насколько искренне, правдиво и
обстоятельно Вы ответите на вопросы.
Укажите Ваш:
1. Пол: _____.
2. Возраст: _____.
3. Род занятий/ область образования: ______________________________.
4. Как Вы считаете, Вы петербуржец или приезжий? _________________
__________________________________________________________________.
Перейдём к вопросам, непосредственно касающимся темы исследования:
5. Замечаете ли Вы рекламу с видами города? _______________________
__________________________________________________________________.
6. Если на вопрос 5 Вы ответили "да", то уточните, где Вы ее видите: на улицах города, в метро,
свой вариант. _________________________________
__________________________________________________________________.
7. Запомнилась ли Вам какая-либо реклама? ________________________
__________________________________________________________________.
8. Ассоциируется ли у Вас Петербург с теми образами, которые Вы видите в рекламе на улице и
в метро? ____________________________________
__________________________________________________________________.
9. Ассоциируете ли Вы себя с тем Петербургом, который видите на рекламных плакатах?
__________________________________________________
__________________________________________________________________.
10. Какие объекты в Петербурге Вы бы назвали его главными символами?
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Узнаете ли Вы эти объекты? _________________________________.
12. Знаете ли Вы о символическом значении этих объектов/ изначальном замысле их
постройки? ______________________________________________
__________________________________________________________________.
246
13. Часто ли Вы бываете в центре города или в его исторических пригородах?
__________________________________________________________.
14. Возникает ли у Вас желание посетить те места, которые Вы видите в рекламе?
__________________________________________________________
_________________________________________________________________.
15. Читали ли Вы текст на подобных плакатах? узнаете ли Вы текст?
______________________________
__________________________________ __________________________________.
Благодарим Вас за участие в опросе.
Скриншоты ответов
247
10%
8%
8%
7%
6%
5%5%
51%
Диаграмма 1. Соотношения объектов, запечатленных на
постерах
встречается менее 4 раз
Исаакиевский собор
Александровская колонна
Дворцовая площадь
Медный всадник
Адмиралтейство
Зимний дворец
Казанский собор
18%
16%
16%15%
8%
7%
4%
3%
3%3% 3%
3%1%
Диаграмма 2. Элементы
изображения
здание культа
скульптура
здание
зелень
колонна
реки и каналы
набережная
площадь
фонарь
фонтан
мост
крепость
корабль
Приложение 8
Контент-анализ визуальных образов на наружной рекламе
В данном Приложении находится полный перечень образов выявленных в процессе контент-
анализа изображений (Таблица 1), а также соотношение единиц, представленное в виде
диаграмм.
Таблица 1. Объекты, запечатленные на постерах.
Исаакиевский собор
Александровская колонна
Дворцовая площадь
Медный всадник
Адмиралтейство
Зимний дворец
Казанский собор
здание Главного штаба
фонтаны Петергофа
стрелка В.О.
Петропавловская крепость
скульптуры «Укрощение коня»
Храм Спаса на крови
Смольный собор
Арка Главного Штаба
памятник Николаю I
Петропавловский собор
ростральная колонна
памятник А.В.Суворову
Чесменская церковь
Крестовой мост в Александровском
парке, Царское Село
Дворцовая набережная
галерея Камерона в Царском Селе
грифон Банковского моста
атланты
скульптура «Царь-плотник»
Летний сад
сфинксы
памятник Екатерине II
Знаменская церковь
Александринский театр
Исаакиевская площадь
249
Приложение 10
Социально-демографическая характеристика участников групп социальной сети
«Вконтакте»
Группа Кол-во
Участ.
Пол Возраст Город
«Живой
город»
2 133 ж.-998
м.-1 004
От15-18: 271 чел.
От18-25: 651 чел.
От 25 и более: 785 чел
СПб:1 533
Москва:109
«Город,
которого
больше нет»
16 185 ж. – 9 733
м. – 5 413
От15-18: 651 чел.
От18-25: 3 445 чел.
От 25 и более:8 699
чел
СПб:12 692
Москва:576
«Город
безруких
атлантов»
145 ж. – 93
м. - 46
От15-18: 9 чел.
От18-25: 33 чел.
От 25 и более: 81 чел
СПб:103
Москва:12
«Петербург-
узнай место»
2 649 ж. – 1 720
м. - 784
От15-18: 90 чел.
От18-25: 437 чел.
От 25 и более: 1 533
чел
СПб:1 2 207
Москва: 57