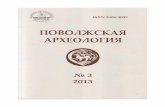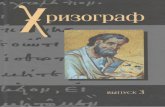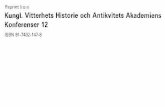Слова венгерского происхождения в белорусском языке: Книжные заимствования эпохи Стефана Батория
QUESTIONS OF ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE LATE SARMATIAN CULTURE IN THE LOWER VOLGA REGION /...
Transcript of QUESTIONS OF ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE LATE SARMATIAN CULTURE IN THE LOWER VOLGA REGION /...
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.»
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
«ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ»
М А Т Е Р И А Л Ы С Е М И Н А Р А
Ц Е Н Т Р А И З У Ч Е Н И Я И С Т О Р И И И К У Л Ь Т У Р Ы
С А Р М А Т О В
В Ы П У С К III
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПОЗДНЕСАРМАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(по археологическим и естественнонаучным данным)
Волгоград 2010
ББК63.442 .7(235 .7)я431
С76
Кураторы семинара: А.С. Скрипкин, заведующий кафедрой
археологии и зарубежной истории
Волгоградского государственного университета;
Л.Т. Яблонский, з аведующий отделом
скифо-сарматской археологии Учреждения РАН
«Институт археологии»
Редакционная коллегия: А. С. Скрипкин (отв. редактор); А.В. Белицкий (отв. секретарь)
В.М. Клепиков; М.Г. Мошкова; Л. Т. Яблонский
Авторский коллектив :
А.О. Алексеев, Т.В. Алексеева, М.А. Балабанова,
С.И. Безуглов, А.В. Борисов, В.А. Демкин, Т.С. Демкина,
А.Н. Журавлев, Н.Н. Каширская, М.В. Кривошеев,
Е.А. Коробкова, И.Э. Любчанский, В.Ю. Малашев,
М.Г. Мошкова, Д.В. Пежемский, Е.В. Перерва, Н.А. Суворова
Т.Э. Хомутова, Л.Т. Яблонский, Л.В. Яворская
© Авторы статей, 2010
© ГОУ ВПО «Волгоградский государствен н ы й
университет», 2010
© Учреждение РАН «Институг археологии»,
© Оформление . Издательство Волгоградского
государственного университета, 2010
ISBN 978-5-9669-0768-6
ВОПРОСЫ П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я И РАЗВИТИЯ
П О З Д Н Е С А Р М А Т С К О Й КУЛЬТУРЫ
В Н И Ж Н Е М ПОВОЛЖЬЕ
М.В. Кривошеев
Впервые черты позднесарматской культуры четко сформу
лировал П.Д. Pay в конце 20-х гг. XX в., выделив «позднеримскую
стадию» в культурном развитии степного населения Нижнего По
волжья и датировав ее I I I-IV вв. нашей эры. Погребения этой
стадии в узких ямах с подбоями и без них характеризовались се
верной ориентировкой погребенных, деформированными черепа
ми (Rau, 1927. S. 61 -65 , 79, 111-112).
К.Ф. Смирнов в 40-х гг. скорректировал начало выделенной
П.Д. Pay стадии «В» и отнес ее к II-IV в. н . э . , назвав «поздне
сарматской стадией» (Смирнов , 1947. С. 75-78 , 82).
Итогом изучения истории и культуры сарматов в довоенное
время стал труд Б.Н. Гракова «Пережитки матриархата у сарма
тов». Он дал развернутую характеристику четырехчленной пери
одизации савромато-сарматской культуры. Последней ступенью
сарматской эпохи Б.Н. Граков считал аланскую, или шиповскую
культуру, датировал II-IV вв. н. э. и выделял основные ее черты:
узкие ямы или подбои в западной стенке, северная ориентировка,
искусственная деформация головы и определенный набор погре
бального инвентаря (Граков, 1947. С. 120-121) .
В 70-е гг. XX в. А.С. Скрипкин разработал дробную периодиза
цию позднесармагских памятников Нижнего Поволжья. Это исследо
вание впервые было посвящено детальной разработке региональной
хронологии конкретно позднесарматской культуры (Скрипкин, 1984).
Опыт многолетних исследований позволяет сегодня очертить
круг признаков, присущих позднесарматской культуре: преобладание
погребений под индивидуальными небольших размеров курганными
- 57 -
М.В. Кри в оше е в
насыпями; широкое распространение узких прямоугольных и подбой
ных ям, ориентированных в меридиональном направлении; ориенти
ровка погребенных головой в северный сектор; высокий процент ис
кусственной деформации черепов у погребенных. Кроме того, для
позднесарматской культуры характерно появление целого ряда но
вых типов вещей, о которых речь пойдет ниже.
Для лучшего представления картины произошедших в Ниж
нем Поволжье в середине II в. н. э. изменений необходимо рас
смотреть некоторые аспекты среднесарматской археологической
культуры, предшествующей позднесарматской.
В среднесарматское время ведущими типами погребальных
ям в Нижнем Поволжье были средние, широкие прямоугольные и
квадратные конструкции (Раннесарматская культура, 1997. С. 182).
В северной части междуречья Волги и Дона (к северу от Волгог
рада) суммарно погребения в квадратных и широких прямоуголь
ных ямах составляют 61,25 %, в южной части - 4 9 , 2 3 %, в Завол
жье - 35,44 % (Среднесарматская культура, 2002. С. 93 , табл. 1).
Исследователи неоднократно отмечали, что широкое распрост
ранение диагонального обряда погребений в квадратных и под-
квадратных ямах является отличительной чертой этого хроноло
гического этапа. В разных частях междуречья диагональные по
гребения составляют от 13,85 % до 18,75 %, в Заволжье 28,21 %
(Скрипкин, 1990. С. 185, табл. 16; Глухов, 2005. С. 89, 134, табл. 6;
Среднесарматская культура, 2002 . С. 94, табл. 1).
Узкие прямоугольные могилы (Раннесарматская культура,
1997. С. 182) в I - 1-й половине II в. в Нижнем Поволжье не слишком
распространены - 9,66 %: в междуречье они известны в 8 % случа
ев, в Заволжье - в 15,81 % (Среднесарматская культура, 2002, табл.
1). Подбойные захоронения в среднесарматский период занимают
одно из ведущих положений среди иных погребальных конструкций
(16,34 %) (Среднесарматская культура, 2002. С. 93, табл. 1). Ямы с
заплечиками в сарматское время не были широко распространены в
Нижнем Поволжье. В среднесарматскую эпоху их количество со
ставляет 3,49 % (Среднесарматская культура, 2002. С. 93, табл. 1).
После середины II в. н. э. картина погребального обряда резко
изменяется (табл. 1). Подбои теперь з анимают ведущее положе-
- 58 -
Позднесарматская культура в Нижнем Поволжье
ние среди других типов ям: 36 % от общего числа ям. При этом в
Заволжье они составляют 48 %, в междуречье - 30,5 %.
В позднесарматское время во 2-й половине II - начале III в.
н . э . широкие прямоугольные ямы составляют 33 % (104 погребе
ния) от общего числа ям. В Заволжье они фиксируются в 12,5 %
курганов, в междуречье Волги и Дона - в 43 %. Необходимо от
метить, что в позднесарматское время квадратные ямы практи
чески исчезают, в подавляющем большинстве случаев это широ
кие прямоугольные ямы, ориентированные длинной осью в мери
диональном направлении. В 41 % широких прямоугольных ям за
фиксировано диагональное положение погребенного (43 погребе
ния) : из них лишь 14 % диагональных погребений находилось в
Заволжье и 86 % - в междуречье.
Во 2-й половине II - 1-й половине III в. н. э. узкие прямоу
гольные ямы занимают третье место по частоте встречаемости
и известны в 24 % случаев от общего числа ям. В Заволжье они
встречаются в 39,5 % случаев, в междуречье - в 16 % курганов.
Катакомбные конструкции, неизвестные в погребальном об
ряде среднесарматской культуры, в позднесарматское время встре
чаются в 4 % (12 погребений) курганов на территории междуречья
Волги и Дона. В Заволжье такие конструкции пока не встречены.
Ямы с заплечиками в позднесарматское время встречают
ся также редко, как и в предыдущее время, только в междуречье
Волги и Дона. Они составляют 3 % от общего числа ям.
Со 2-й половины II в. еще более, по сравнению с предыду
щим периодом, сокращается количество впускных захоронений:
так в междуречье впускные могилы составляют 5,5 %, в Завол
жье 4,6 %. В среднесарматское время, к примеру, этот показа
тель в целом достигал 42,55 % (Среднесарматская культура, 2002.
С. 93 , табл. 1).
Сравнение ориентировок погребенных в среднесарматский и
позднесарматский периоды указывает на серьезные изменения,
произошедшие в погребальном обряде. В среднесарматский пе
риод ведущим было положение головой в южный сектор. Ориен
тировка в северный сектор составляла 1,64 % (Среднесарматс
кая культура, 2002. С. 94, табл. 1).
- 59 -
М.В. Кри в оше е в
В по з дн е с а рм а т с к о е время н а блюда е т с я иная к ар тина
(табл. 2). Северная ориентировка во 2-й половине II - 1-й полови
не III в. н. э. в Нижнем Поволжье составляет 57,6 %, южная -
38 %. Однако распределение ее по районам показывает преобла
дание южной ориентировки в междуречье - 54,2 %, северная со
ставляет 40,7 %. В Заволжье ситуация прямо противоположная :
северная ориентировка составляет 84,2 %, южная - 12,3 %.
В подбоях отмечается значительное преобладание северной
ориентировки над южной : 73 % и 26 % соответственно. При этом
в Заволжье северная ориентировка составляег 89 %, южная -
11 %, в междуречье северная - 59 %, южная - 39 %.
Наблюдаются изменения и в широких прямоугольных ямах
во 2-й половине II - 1-й половине III в. н. э.: северная ориентиров
ка здесь фиксируется в 25 % погребений, южная - в 67,6 %. В За
волжье северная ориентировка в этих ямах значительно преобла
дает над южной - 69 % и 23 % соответственно. В междуречье
ситуация прямо противоположная : 15,5 % погребенных ориенти
рованы в северный сектор, 77,5 % - в южный . Диагональные по
гребения в широких прямоугольных ямах отличаются консерва
тивностью в плане ориентировки: 72 % погребенных в них были
уложены в южный сектор, лишь 16 % - в северный.
В узких прямоугольных ямах северная ориентировка (72 %)
также преобладает над южной (22 % ) . В Заволжье погребенные
ориентированы к северу в 84 % случаев, к югу - в 10 % случаев.
В междуречье северная ориентировка отмечается в 56,5 % мо
гил, южная - в 39 %.
Новым явлением в позднесарматской культуре стало мас
совое распространение обычая искусственной деформации голо
вы (табл. 3). Наиболее часто деформация встречается в подбой
ных могилах (50 % от числа определенных), реже в узких прямо
угольных ямах (25,5 % ) , на третьем месте широкие прямоуголь
ные ямы (21,7 % ) , единичные случаи деформации обнаружены в
ямах с заплечиками (1,5 %) и катакомбах (0,8 % ) .
В Заволжье деформация отмечена в 56 % случаев в подбо
ях, в 42 % случаев - в узких прямоугольных ямах и лишь в 2 % -
в широких прямоугольных ямах. В междуречье деформация в 46 %
- 60 -
Позднесарматская культура в Нижнем Поволжье
случаев отмечена в подбоях, в 15,3 % - в узких прямоугольных
ямах, в 34,7 % - в широких прямоугольных ямах, в 1,4 % - в ката
комбах и в 2,6 % - в ямах с заплечиками.
Интересно отметить , что в ди а г онал ьных погребениях в
подавляющем большинств е случаев д еформация черепов у по
гребенных сочетается с южной ориентировкой (более 89 %) и
л ишь однажды - с восточной (11 % ) . Обра тная з а ви симос т ь
наблюдается в подбойных могилах : в 78 % случаев деформа
ция черепа сочетается с северной ориентировкой и 22 % - с
южной . В подбоях Заволжья сочетаемость д еформации чере
па и северной ориентировки погребенных значительно выше ,
чем в междуречье . В у зких прямоугольных ямах д еформация
черепов у погребенных отмечена только в комплексах с терри
тории междуречья, где в 72 % она сочетается с северной ори
ентировкой и в 24 % - с южной .
Появление в погребальном обряде новых традиций, не свя
занных со среднесарматской культурой, может свидетельствовать
о том, что в середине II в. н. э. в среде кочевников Нижнего По
волжья происходят значительные этнические изменения. Причем
этот процесс носил крупномасштабный характер, поскольку ве
дущие черты позднесарматской культуры синхронно распростра
няются на огромной территории от Приуралья до Северного При
черноморья .
Отмеченные изменения были вызваны, скорее всего, проник
новением в уральские и волго-донские степи новых кочевников с
востока. На примере Нижнего Поволжья это подтверждается тем,
что наиболее интенсивно позднесарматские черты в первую оче
редь распространяются в Заволжье и далее к востоку от Волги.
Здесь гораздо быстрее затухают традиции среднесарматской куль
туры по сравнению с междуречьем Волги и Дона. Так северная
ориентировка погребенных в Заволжье с 1,64 % в среднесарматс-
ких памятниках возрастает до 84 % в позднесарматских 2-й поло
вины II - 1-й половины III в. нашей эры. Количество погребений в
широких прямоугольных ямах уменьшается до 12,5 %, число под
бойных ям в среднесарматское время в этом районе увеличивает
ся с 14,1 % до 48 % во 2-й половине II - 1-й половине III в. нашей
- 61 -
М.В. Кри в оше е в
эры. Таким образом, в Заволжье после середины II в. фиксируется
господство позднесарматской археологической культуры при нали
чии отдельных элементов среднесарматской культуры.
Ситуация в междуречье Волги и Дона во многом была иной,
чем в Заволжье. Продвижение носителей позднесарматской культу
ры с востока и закрепление их на левом берегу Волги во 2-й полови
не II в. н . э . , видимо, привело к оттоку населения среднесарматской
культуры из Заволжья в районы междуречья. Вероятно, высокой кон
центрацией здесь среднесарматских племен можно объяснить тог
факт, что синхронные заволжским памятники междуречья со 2-й по
ловины II в. н. э. обнаруживают длительное сохранение, а по отдель
ным признакам и преобладание среднесарматских традиций. В меж
дуречье в это время ведущим типом являлись широкие прямоуголь
ные ямы, южная ориентировка преобладала над северной. Однако
достаточно высокий процент северной ориентировки и искусствен
ной деформации черепов у погребенных указывают на довольно ин
тенсивное распространение позднесарматских традиций в среде сред-
несарматского населения и в междуречье. Здесь в одном могильни
ке встречаются синхронные погребения, относящиеся к различным
культурным традициям. Так, в могильнике Перегрузное I, кургане
21, в широкой прямоугольной яме по диагонали была погребена жен
щина с деформированным черепом, ориентированная головой к юго-
западу. В кургане 27 в узкой прямоугольной яме была погребена жен
щина, ориентированная головой на север, череп ее также деформи
рован. По сопутствующему инвентарю, среди которого в обоих по
гребениях найдены по две профилированные фибулы 1 серии 2 вари
анта, можно предположить, что оба кургана синхронны и датируют
ся в рамках 2-й половины II в. н. э. (Клепиков, Кривошеее, 2004.
С. 169-185).
Вероятно, районы междуречья, хоть и в меньшей степени,
по сравнению с Заволжьем, но также испытывали влияние поздне
сарматских традиций. Это отразилось в появлении здесь большо
го количества памятников синкретического характера во 2-й по
ловине II в. н. э . , сочетающих в себе черты обеих культур.
Говорить о характере взаимоотношений между пришлым и мес
тным населением в Нижнем Поволжье в рассматриваемое время,
Позднесарматская культура в Нижнем Поволжье
опираясь только на археологический материал, сложно. Мы не распо
лагаем данными о каких-либо военных столкновениях между различ
ными кочевническими группировками. Археологические свидетель
ства позволяют предположить высокую военизацию позднесарматс-
кого населения (Кривошеев, 2007. С. 65-70). Это подтверждается и
данными антропологии. Палеопатологический анализ выявляет очень
высокий по сравнению с предшествующими сарматскими культурами
уровень травматизма, в том числе и связанного с военной деятельно
стью (Балабанова, Перерва, 2007. С. 178-181).
Во 2-й половине II - 1 -й половине III в. н . э . в Нижнем Повол
жье вооружение встречается в 25 % погребений. При рассмотре
нии отдельных районов выясняется, что в Заволжье предметы во
оружения значительно чаще встречаются в подбоях и узких пря
моугольных ямах, то есть в типично позднесарматских конструк
циях. Этот факт может быть связан и с тем, что в этот период
погребений в широких прямоугольных ямах здесь в принципе не
много. В междуречье находки вооружения распределяются прак
тически поровну между подбоями и широкими прямоугольными
ямами. Примечательно и то, что клинковое оружие в позднесар
матских погребальных комплексах представлено мечами и кинжа
лами преимущественно одного типа без металлических наверший
и перекрестий (рис. 3, 20, 21, 23, 24). Причем это относится и к
тем комплексам, которые сохраняют традиции среднесарматской
культуры. Так, в междуречье, в могильнике Абганерово, в трех кур
ганах, содержащих диагональные мужские погребения, датируе
мые 2-й половиной II в. н. э., были обнаружены мечи и кинжалы
без металлического навершия и перекрестия (Рыков, 1931).
Следует констатировать, что со 2-й половины II в. н. э. у
сарматов Нижнего Поволжья происходит смена типов клинково
го оружия. Практически исчезают мечи и кинжалы с кольцевыми
навершиями и прямыми перекрестиями, являвшимися в преды
дущий период ведущим типом оружия (Глухов, 2005. С. 60). На
смену им приходит другой тип, без навершия и перекрестия, изве
стный и ранее в сарматских древностях, но встречаемый крайне
редко. Таким образом, мечи и кинжалы без металлического пе
рекрестия и навершия являются господствующими в памятниках
- 63 -- 62 -
М.В. Кривошеев
сарматского времени со 2-й половины II по IV в. н. э. (Кривоше
ев, 2007. С. 70).
Новый тип вооружения стал не единственным атрибутом,
с опровождающим становление позднесарматской культуры в
Нижнем Поволжье. В погребениях с середины II в. н. э. появля
ются и другие типы вещей, не встречающиеся или редко встре
чающиеся в среднесарматское время.
Одной из наиболее четко датируемых категорий инвентаря в
сарматских погребениях являются фибулы (рис. 1, 1-11). Процент
их встречаемости в погребениях позднесарматского времени рез
ко возрастает по сравнению с предшествующим периодом. Фибу
лы встречаются в 28,4 % погребений 2-й половины II - 1-й полови
ны III в. нашей эры.
Появление первых, единичных признаков позднесарматской
культуры в Нижнем Поволжье совпадает со временем бытова
ния профилированных фибул 1 серии 1 варианта (по А.К. Амброзу,
1966) (рис. 1, 1-3). Одна из таких фибул обнаружена в широкой
прямоугольной яме, где погребенная старческого возраста была
уложена по продольной оси ямы головой в южный сектор (Стари
ца 11/1). Череп был искусственно деформирован. Здесь обнару
жены две профилированные фибулы 1-й серии 1-го варианта - брон
зовая и железная. Среди инвентаря также найдена четырехуголь
ная курильница с отверстием в стенке, оселок длиной более 40 см.
Последние вещи становятся характерными для периода развитой
позднесарматской культуры.
В другом погребении костяк лежал по диагонали широкой
прямоугольной ямы головой к северо-западу (Жутово 2/1). По
мимо профилированной фибулы в яме обнаружена четырехуголь
ная курильница.
А.К. Амброз датировал профилированные фибулы 1-й се
рии 1-го варианта 2-й половиной I — 1-й половиной II в. н . э . и
связывал их производство с боспорскими мастерскими (Амб
роз, 1966. С. 40, табл . 8, 6). А .С . Скрипкин отнес эти фибулы к
I типу своей классификации и датировал их 1-й половиной II в.
н . э . (Скрипкин, 1977. С. 112). В.М. Косяненко предположила по
явление фибул этого варианта во 2-й трети I в. н . э . и согласи-
- 64 -
Позднесарматская культура в Нижнем Поволжье
лась с предшествующими авторами, что стержневая спинка у
профилированных фибул может являться ранним признаком (Ко
сяненко, 2008. С. 85-86 , 88).
Фибулы этого варианта встречаются в сарматских погребе
ниях и на поселениях Нижнего Дона достаточно редко (Скрипкин,
1977. С. 109-110; Глухов, 2005. С. 44 -45 ; Косяненко, 2008. С. 85).
Есть два варианта интерпретации упомянутых комплексов - в од
ном можно рассматривать погребения из Старицы и Жутово как
первые проявления позднесарматских черт в Нижнем Поволжье в
среде господствующей среднесарматской культуры в 1-й половине
II в. В другом - можно говорить о запаздывании конкретных фибул
относительно основного времени своего существования в 1-й поло
вине II в. н . э . , чем и объяснить наличие позднесарматских черт в
этих комплексах середины - 2-й половины II в. нашей эры.
Таким образом, опираясь на наиболее распространенную да
тировку профилированных фибул 1 серии 1 варианта можно отне
сти указанные выше погребения к 1-й половине II в. н. э. Именно
с этим временем следует связать появление первых, отдельных
черт позднесарматской культуры, широко распространившихся в
Нижнем Поволжье после середины II в. н. э.
Другим признаком, относящимся к позднесарматскому об
ряду и обнаруженным в этих погребениях, являются квадратные
курильницы (рис. 3, 18,19). Такой тип курильниц эпизодично встре
чается намного раньше. В раннесарматском погребении в могиль
нике Быково (9, 7) обнаружена четырехугольная курильница с от
верстием в боку. В могильнике Бережновка II (100, 1) в средне-
сарматском погребении найдены две курильницы - одна из них
четырехугольная с отверстием, вторая - цилиндрическая (Сини-
цын, 1960. С. 100, рис. 38, 3). Наибольшее распространение четы
рехугольные курильницы получают во 2-й половине II - 1-й поло
вине III в. н . э . именно в Нижнем Поволжье и на Нижнем Дону.
После середины III в . н . э . они встречаются значительно реже
(Новый 108/1, Барановка 3/1, Центральный VI 9/1).
Интересно наличие в женском погребении из Старицы (11/1)
оселка длиной более 40 см. Размер оселков в позднесарматское вре
мя увеличивается по сравнению со среднесарматскими аналогами,
- 65 -
М.В. Кри в оше е в
которые чаще всего имеют длину около 10-12 см. Позднесарматс-
кие оселки нередко достигают 15-20 см (рис. 3/47-49). Оселки боль
ших размеров, такие, как в старицком кургане, нередко сопровожда
ют яркие воинские комплексы с богатым набором инвентаря и ору
жия в Приуралье (Целинный I 6/1), в Поволжье (Суслянка, Колобов-
ка III 1/1) и особенно на Нижнем Дону (Веселый VI 1/1, Новоалек-
сандровка 20/2, Камышевский 8/1, Центральный VI 16/8).
Массовое распространение элементов погребального обря
да позднесарматской культуры в Нижнем Поволжье можно свя
зать со 2-й половиной II в. нашей эры. Как уже описывалось выше,
такие элементы, как северная ориентировка погребенного, дефор
мация черепа, узкие подбойные могилы, после середины II в. н. э.
господствуют в Заволжье и широко проникают в междуречье
Волги и Дона . В междуречье черты позднесарматского обряда
сосуществуют со среднесарматскими, но последние преоблада
ют до конца II в. н. э. Механизм взаимодействия двух культурных
традиций, сосуществование их на одной территории, захоронения
в одних могильниках разных по обряду погребений на археологи
ческом материале объяснить пока невозможно.
Этот период развития позднесарматской культуры характе
ризуется определенным набором сопутствующего инвентаря .
После середины II в. н. э. массовое распространение получают
бронзовые фибулы. Их число резко возрастает по сравнению со
среднесарматским временем.
Среди находок довольно часто встречаются профилированные
фибулы 1-й серии 2-го варианта с крючком для тетивы (по А.К. Ам-
брозу, 1966) (рис. 1, 4-7). На исследуемой территории нами учтено
26 таких фибул из 20 погребений. Лишь 2 из них - железные (Новый
Рогачик 4/1, Перегрузное 121/1), остальные - бронзовые. На данный
момент в Нижнем Поволжье лишь две профилированные фибулы
обнаружены в Заволжье: в Усатово (F16) (Синицын, 1947. С. 50-55,
рис. 28) и в Иванцовке (D12) (Rau, 1927а. S. 29, add. 22А). Все ос
тальные фибулы найдены в междуречье. В исследуемой выборке
фибула второго варианта лишь однажды встречена с оригинальной
лучковой фибулой с раскованной ножкой в кургане F16 могильника
Усатово (Синицын, 1947. С. 50-55, рис. 28).
- 66 -
Позднесарматская культура в Нижнем Поволжье
Большинство авторов предлагают датировать профилирован
ные причерноморские фибулы в сарматских погребениях в рам
ках II в. н. э. (Амброз, 1966. С. 4 0 - 4 1 , табл. 8, 7-8, 10-11; Скрип-
кин, 1977. С. 111-113; Косяненко, 2008. С. 88; Мошкова, 2004. С. 34).
Однако наиболее вероятным периодом существования таких фи
бул в Нижнем Поволжье представляется середина - 2-я половина
II в. н. э. (Кривошеев, 2005 . С. 144-146)
У большинства профилированных фибул второго варианта спинка
пластинчатая (рис. 1,5, 6, 7). Лишь несколько экземпляров имеют
стержневую спинку. В комплексе с фибулой со стержневой спинкой в
катакомбе из могильника Жутово (38/1) найдена круглая лепная ку
рильница, характерная для среднесарматского времени. В погребе
нии из могильника Джангар (35/1), где фибула также имеет стержне
вую спинку, обнаружен тайник в дне широкой прямоугольной ямы.
Эта традиция более характерна для среднесарматской культуры и
крайне редко встречается в позднесарматское время. В могильнике
Новый Рогачик (4/1,9/1) две железные фибулы со стержневыми спин
ками найдены в диагональных погребениях с южной ориентировкой
костяков. В одном случае череп погребенной был деформирован.
Из вышесказанного видно, что во всех комплексах, где най
дены профилированные фибулы со стержневой спинкой, присутству
ют признаки среднесарматской культуры, что наиболее характер
но для раннего этапа становления позднесарматской культуры в
середине-2-й половине II в. нашей эры. Если придерживаться мне
ния, что второй вариант профилированных фибул развивался в сто
рону уплощения спинки, то вполне очевидно, что ранние экземпля
ры этого варианта изготавливались по технологии и стандартам,
применявшимся и для фибул 1 варианта, у которых спинки всегда
круглые в сечении. Схема развития была оправдана и технологи
чески: далеко разведенные бусины позволяли делать спинку плос
кой на всей длине, что невозможно было на фибулах первого вари
анта вследствие очень короткой спинки. Вероятно, фибулы второго
варианта с округлой спинкой бытовали недолгое время около сере
дины II в. н . э . , уступив место фибулам с пластинчатыми спинками,
что подтверждает выводы А.С. Скрипкина и В.М. Косяненко (Скрип-
кин, 1977. С. 109-113; Косяненко, 2008. С. 87).
- 67 -
М.В. Кр и в оше е в
В большинстве случаев профилированные фибулы 2-го вари
анта найдены в комплексах синкретического характера, сочета
ющих в себе как элементы среднесарматской культуры, т ак и по-
зднесарматские черты. В 13 случаях они обнаружены в широких
прямоугольных ямах, и во всех кроме одной (Усатово F16) погре
бенные были ориентированы в южный сектор, а в 6 ямах уложены
по диагонали. В 10 погребениях с т акими фибулами у погребен
ных отмечена деформация черепов.
Фибулы второго варианта обнаружены лишь в двух подбой
ных могилах и в трех узких прямоугольных ямах (в двух отмече
на северная ориентировка и деформация черепов). Одна фибула
найдена в катакомбе ворухского типа, где погребенный был ори
ентирован к северу (Жутово 38/1).
Вероятно, фибулы второго варианта появляются в междуре
чье около середины II в. нашей эры. Большинство их найдено в
междуречье Волги и Дона в синкретических комплексах, сочета
ющих в себе средне- и позднесарматские традиции. Вероятно,
прекращение массового поступления этих фибул на данную тер
риторию связано с концом II в. н. э. Появление их в комплексах
более позднего времени, возможно, связано с запаздыванием от
дельных конкретных экземпляров.
Другой, наиболее распространенный во 2-й половине II - 1 - й по
ловине III в. н. э. тип лучковых фибул. Во 2-й половине II в. в Нижнем
Поволжье появляются лучковые фибулы 4-го варианта (по А.К. Амб-
розу) (рис. 1, 8-10), вероятно, являвшиеся развитием 3-го варианта
этой схемы. Характер их распределения в памятниках Нижнего По
волжья иной, нежели профилированных. Они примерно в равном коли
честве обнаружены в Заволжье и в междуречье. Комплексы, в кото
рых они обнаружены, соответствуют наибольшим показателям встре
чаемости признаков позднесарматской культуры. Лучковые фибулы
4-го варианта в 3,5 раза чаще встречаются в подбойных погребени
ях, чем в широких прямоугольных ямах. Северная ориентировка в
таких погребениях в 2,8 раза выше, чем южная, деформация черепа
в этих погребениях встречена в 73 % случаев. Лучковые фибулы этого
варианта редко встречаются с другими типами фибул. В единичных
случаях они обнаружены с 3-м вариантом лучковых фибул (Хаар Ну-
- 68 -
Поэднесарматская культура в Нижнем Поволжье
урин Толга 6/1) и с 5-м вариантом этих фибул (Сидоры 11/1), отличаю
щимся фигурной обмоткой спинки (Кривошеее, 2005. С. 145). Находки
4-го варианта фибул в сочетании с предшествующим ему 3-м вариан
том и с самым поздним - 5-м вариантом позволяют датировать этот
тип широко в рамках 2-й половины I I - 1-й половины III в. нашей эры.
Вероятно, появление профилированных фибул 1-й серии 2-го ва
рианта и лучковых фибул 4-го варианта в сарматских погребениях Ниж
него Поволжья происходит около середины II в. н. э. Однако, если для
населения, сохранявшего среднесарматские традиции и обосновав
шегося в основном в междуречье, распространилась мода на про
филированные фибулы, то население Заволжья предпочитало луч
ковые фибулы. В конце II в. н. э. в междуречье профилированные
фибулы 1-й серии 2-го варианта практически исчезают вместе с
традициями среднесарматской культуры. Таким образом, пики ис
пользования профилированных фибул с крючком для тетивы и луч
ковых одночленных фибул приходятся на разное время. Появляясь
около середины II в., профилированные фибулы 2-го варианта полу
чают наибольшее распространение во 2-й половине II в. в между
речье. Пик распространения лучковых фибул 4-го варианта, кото
рые появляются одновременно с профилированными на всей тер
ритории Нижнего Поволжья, приходится на конец II - первую поло
вину III в. нашей эры.
Примечательно, что в нижнедонских памятниках, где призна
ки среднесарматской культуры угасают столь же быстро, как в
Заволжье, во 2-й половине II в. н. э. господствуют позднесарматс
кие традиции. Наиболее популярным здесь с середины II в. стано
вится 4-й вариант лучковых фибул. Чаще всего такие фибулы нахо
дят в подбоях с северной ориентировкой погребенных. Но одна об
наружена в диагональном погребении (Кировский IV 4/1). Профи
лированные фибулы в степных памятниках встречены в единичных
экземплярах в подбоях с северной ориентировкой и деформирован
ными черепами (Кировский I 11/1, Новый 103/1).
На некрополях Кобякова городища и Танаиса до сих пор так
же не известно совместных находок профилированных и лучко
вых фибул (Косяненко, 2008. С. 99; Арсеньева, Безуглов, Толочко,
2 0 0 1 .С . 205-208) . В данном случае можно говорить либо об ином
- 69 -
М.В. Кри в оше е в
месте производства лучковых фибул 2-й половины II в., либо о
неверном определении хронологии степных памятников.
Таким образом, складывается ситуация, что на территории Ниж
него Поволжья и Нижнего Дона синхронно существуют две различ
ные схемы фибул, которые устойчиво сочетаются с разными куль
турными традициями. При этом профилированные фибулы локализу
ются в междуречье Волги и Дона и исчезают вместе с традициями
среднесарматской культуры в конце II - начале III в. нашей эры. Луч
ковые фибулы 4-го варианта также появляются около середины II в.
н. э., существуют на протяжении 2-й половины II - 1 -й половины III в.
н. э. и в середине III в. практически исчезают.
Часто в погребениях позднесарматского времени встреча
ются зеркала. Наиболее распространенным типом зеркал в это
время стали зеркала-подвески с боковым ушком и орнаментиро
ванной обратной стороной, датируемые чаще всего II-III вв. н. э .
(Хазанов, 1963. С. 65 , 67 ; Абрамова, 1971. С. 121-132; Скрипкин,
1984. С. 48) (рис. 1, 13-18). Наиболее ранним типом в этой схеме
стали зеркала с боковым ушком и умбоном в центре, но они прак
тически не встречаются в позднесарматское время (рис. 1, 12).
Известны лишь единичные экземпляры, которые, скорее всего,
запаздывают в конкретных комплексах и датируются позднесар-
матским временем (Терновский 14/1, Племхоз 8/1 (Исследования
курганов, 2006. С. 168, рис. 14, 3), Колония Норка 1/1 (Гущина,
Фирсов, 2000. С. 272, рис. 5, / ) . Появление орнамента на оборот
ной стороне относится к 1-й половине II в. н . э . , и многие авторы
обращали внимание на орнаментальные особенности оформления
обратной стороны зеркал (Скрипкин, 1984. С. 34), но из-за недо
статочного количества материала крайне сложно установить чет
кую изменчивость орнамента во времени. В.М. Косяненко, опи
раясь на исследование зеркал Кобякова городища, удалось выя
вить хронологические различия определенных орнаментальных
схем этих зеркал (Косяненко, 1994. С. 74, 75, 76).
После середины II в. н. э. в волго-донских степях в период
становления позднесарматской культуры форма зеркал с боковым
ушком остается неизменной, но на них появляется орнамент до
того не встречаемый у сарматов - в центре зеркала появляется
Позднесарматская культура в Нижнем Поволжье
квадрат или прямоугольник, нередко вписанный в круг, от которо
го расходятся радиальные лучи (рис. 1, 13, 14, 15). Пик распрос
транения зеркал с т аким орнаментом приходится на вторую поло
вину I I - первую половину III в . Иные орнаментальные мотивы
широко используются на зеркалах-подвесках на всем протяже
нии позднесарматской культуры. Зеркала с боковым ушком пока
зывают высокую взаимовстречаемость с профилированными фибу
лами 1-й серии 2-го варианта, датируемыми 2-й половиной II в., и
лучковыми 4-го варианта, относящимися ко 2-й половине II - 1 -й по
ловине III в. нашей эры.
Интересные наблюдения показал анализ зеркал-подвесок с
боковым ушком из погребений Крыма . Орнаментированные зер
кала-подвески появляются здесь в последней трети - конце I в.
н. э. и продолжают бытовать до середины III в. н. э. (Труфанов,
2007. С. 173-186). В том числе к варианту ранних орнаментов
последней трети I в. н . э . отнесены и зеркала с орнаментом в виде
квадрата, вписанного в круг. Получается, что в степном Крыму
орнаментированные зеркала-подвески появляются значительно
раньше, чем на территории Нижнего Подонья и Нижней Волги.
А.А. Труфанов предположил, что орнаментированные зеркала-
подвески сформировались именно в Северном Причерноморье, а
для отдельных вариантов таким районом может являться Боспор
(Труфанов, 2007. С. 180).
Наряду с зеркалами с боковым ушком в позднесарматских
погребениях находят зеркала-подвески с центральной петелькой
(рис. 1, 19-21). Таких зеркал значительно меньше по сравнению
с зеркалами с боковым ушком. Идея зеркал этого типа могла воз
никнуть в южнорусских степях как подражание импортным ки
тайским зеркалам, хорошо известным в сарматских памятниках
с I в. нашей эры. Появление собственно сарматских зеркал с цен
тральной петелькой в волго-донских степях уверенно можно свя
зать со временем прихода носителей позднесарматской культуры
в середине II в. н. э. (Кривошеее, 2004. С. 241) . Появление таких
зеркал во 2-й половине II в. н. э. доказывают находки их в погре
бениях с ранними типами профилированных (Старица 55/1) и луч
ковых фибул (Нагавский II 12/1, Ленинск 24/1). Интересно отме-
- 70 - - 71 -
М.В. Кривошее в
тить, что в Нижнем Поволжье и на Нижнем Дону на зеркалах,
датируемых 2-й половиной II в. н . э . , отмечается тот же орна
мент в виде квадрата, вписанного в круг вокруг петельки, что и
на синхронных зеркалах с боковым ушком (рис. 1, 19, 20). В бо
лее позднее время, в период массового распространения зеркал с
центральной петелькой во 2-й половине III - IV в. н . э . квадрат
исчезает из орнамента, уступая место иным схемам (Кривоше
ев, 2004. С. 241).
Примечательно, что во II в. н. э. в крымских памятниках зер
кала с центральной петелькой распространения не получили. На
ряду с различиями в развитии орнамента на зеркалах с боковым
ушком в Крыму и в Волго-Донском регионе, это может свиде
тельствовать о разных путях поступлений зеркал в эти регионы в
первые века нашей эры (Труфанов, 2007. С. 179). К примеру, ана
лиз зеркал с Кобякова городища показал, что они произведены
либо на Кавказе, либо в нижнедонских мастерских из кавказской
бронзы (Косяненко, 1994. С. 81).
Наиболее массовым материалом в сарматских погребаль
ных памятниках Нижнего Поволжья является керамическая по
суда (рис. 3,1—17). В 77 % погребений 2-й половины II - 1-й поло
вины III в. н. э. обнаружена керамическая посуда как импортно
го, так и местного производства. В этот период кружальной посу
ды, которая, как правило, являлась импортным товаром, встреча
ется больше в 1,2 раза, нежели лепной. Круговые сосуды пред
ставлены в основном кувшинами и мисками. Лепные сосуды - в
большинстве случаев горшками.
После середины II в. популярными становятся определен
ные типы кувшинов: высокие, часто вытянутых пропорций, с пух
лым горлом, лощеные, с вертикальной ручкой, четко сформован
ным венчиком, происходящие из нижнедонских мастерских (Ко
сяненко, 1989. С. 8-9, рис. 12; Кривошеев, Скрипкин, 2006. Рис. 2).
Наряду с керамикой, произведенной на нижнедонских поселе
ниях, большая часть керамического импорта поступала из мастерс
ких Центрального Предкавказья. Это чернолощеные кувшины раз
личных пропорций с расширяющимся желобчатым горлом, со штиф
товыми зооморфными ручками, отпечатками досок на дне.
- 72 -
Позднесарматская культура в Нижнем Поволжье
Среди мисок господствующей становится форма с загнутым
краем, появившаяся во II в. и очень быстро вытеснившая другие
формы (рис. 3, 16, 17). Среди этих сосудов также превалируют
кавказские экземпляры.
Для гончарных горшков во 2-й половине II в. н. э. характерна
яйцевидная форма с широким горлом и отогнутым наружу венчи
ком. Такие горшки варьируют в размерах, но пропорции их очень
близки во всех вариантах (рис. 3, 1, 3, 4). Мода на такую форму
горшков характерна как для донских, так и кавказских мастерских.
Установить место производства керамики, обнаруженной в
сарматских комплексах теперь позволяют не только морфоло
гические признаки , но и технологические особенности . Группе
исследователей под руководством Ю.К. Гугуева удалось выде
лить признаки , о тличающие группы кавказской и донской кера
мики (Гугуев, Малашев , Рылов, 2 0 0 4 ) . Донской или меотской
группе сосудов присущи тонкие формовочные массы, быстрое
вращение круга, применение навыков вытягивания тулова сосу
да и крепление ручек посредством прилепливания к наружной
поверхности . Кавказской группе свойственны признаки преоб
ладания грубых формовочных масс, медленное вращение круга,
господство навыков скульптурной лепки тулова, крепление ру
чек через отверстия в стенке, а т акже отпечатки доски и рель
ефные клейма на дне сосудов.
Различия состоят не только в технологии изготовления, но и
в материале. Глина и песок, применявшиеся в кавказских мас
терских, состоят из метоморфизированных горных пород, отдель
ные составляющие которых придают черный цвет кавказской ке
рамике. Пески Приазовья прибрежно-морского происхождения, чи
сто кварцевого состава, тонкозернистые , прозрачные (Гугуев,
Малашев, Рылов, 2004).
Причина различий форм кавказской и донской керамики со
стоит в том, что центральнокавказский керамический комплекс
не испытывал влияния со стороны античных форм и технологий
(Гугуев, Гугуев, 1989. С. 72).
Во II в. н . э . , особенно после середины века, происходит рез
кое увеличение импорта кавказской керамики в степь. Связано
- 73 -
М.В. Кр и в оше е в
это было не столько с процессами, происходившими в степном
регионе, сколько с увеличением производственных мощностей на
многочисленных северокавказских городищах, которые испыты
вают подъем в это время (Малашев, 2007. С. 494—495). Позже
этот процесс привел к экспансии центральнокавказского населе
ния на Нижний Дон и крушению Танаиса .
Свидетельством роста торгово-экономической активности кав
казских городищ во II в. являются многочисленные находки северо
кавказской посуды в некрополях и подвалах нижнедонских городищ
(Гугуев, Гугуев, 1989; Гугуев, Малашев, Рылов, 2004).
Лепная керамика этого времени часто повторяет кружаль
ные аналоги, с которых кочевниками и делались реплики из дос
тупных им материалов, как правило, низкого качества (рис. 3, 2).
Как уже упоминалось выше, в середине II в. довольно резко
происходит смена типов клинкового вооружения и основным типом
клинка становятся мечи и кинжалы без металлических наверший и
перекрестий (рис. 3, 20, 21, 24). Однако среди кинжалов выделя
ется группа находок, у которых присутствуют прямые металличес
кие перекрестья из железа или бронзы (рис. 3, 22, 25). Такие кин
жалы обнаружены в погребениях Нижнего Поволжья (Ковыльнов
III 5/1, Аксай II 27/1), Нижнего Дона (Кировский IV 4/1), Приуралья
(Целинный 57/1).
С комплексом клинкового вооружения устойчиво сочетают
ся находки ножей с бронзовыми деталями рукояти, хорошо извес
тные в Поволжье и в Приуралье (рис. 3, 26, 27). До середины II в.
такие находки неизвестны в среднесарматских погребениях. Вы
сокий процент совместных находок т аких ножей с мечами и кин
жалами, их положение в могиле позволяет отнести эти ножи к типу
боевого вооружения. Вероятно, основное время бытования этого
типа вооружения не выходит за рамки 2-й половины II - III в. н. э.
(Кривошеев, 2007. С. 68, рис. 1,14, 15).
Стрелы являются довольно редкой находкой в комплексах
позднесарматского времени и, как правило, представлены еди
ничными находками, лишь обозначающими наличие их в могиле
(рис. 3, 41, 42). Интересно отметить, что обряд положения пучка
стрел в могилу, характерный в среднесарматское время, резко от-
Позднесарматская культура в Нижнем Поволжье
мирает после середины II в. н. э. Среди редких находок стрел
в 5 из учтенных нами комплексов обнаружены костяные наконеч
ники (рис. 3, 43-46). Все эти погребения обнаружены в Завол
жье. В междуречье пока костяных наконечников не обнаружено.
Аналогии таким стрелам можно найти в синхронных памятниках
степного и лесостепного Приуралья (Баталов, Гуцалов, 2000. С. 5 8 -
60, рис. 18,1-17, 40-44; Шиповский могильник, 2007. С. 64-65) ,
что еще раз подтверждает появление в Нижнем Поволжье волны
кочевников с востока.
Довольно четким индикатором 2-й половины II - 1-й полови
ны III в. н. э. оказались железные пружинные ножницы, которые в
массовом количестве распространяются именно в Нижнем Повол
жье. Ножницы часто встречаются в одних комплексах с зеркала
ми, среди которых превалируют зеркала с боковым ушком и орна
ментом. Обнаружено также несколько зеркал с центральной пе
телькой, в орнаменте которых присутствует квадрат, вписанный в
круг. Ножницы показывают высокую корреляцию с профилирован
ными фибулами 1-й серии 2-го варианта и лучковыми 4-го варианта,
что позволяет отнести время бытования пружинных ножниц в Ниж
нем Поволжье ко 2-й половине II - 1-й половине III в. нашей эры.
Неотъемлемой частью костюма кочевников была ременная
гарнитура. В работе В.Ю. Малашева, посвященной изучению этой
категории инвентаря в нижнедонских памятниках, четко показана
изменчивость форм различных типов гарнитуры (Малашев, 2000).
Так в период становления позднесарматской культуры наиболее ча
сто использовались бронзовые детали. Во 2-й половине II в. н . э . на
пряжках с округлой рамкой и коротким прогнутым язычком появля
ются длинные металлические прямоугольные щитки (рис. 3, 37).
В это же время появляются двухчастные наконечники-подвески без
расширения в нижней части, где длина подвески незначительно пре
вышает длину зажима (рис. 3, 32, 33). Для этого времени характер
но отсутствие фасетировки (Малашев, 2000. С. 198-199).
Неотъемлемым атрибутом погребений позднесарматско
го в р ем ени с т а л и 1 4 - г р анные бусы из с е р долика и с т екла
( ри с . 3 , 28, 29). Е .М . Алексеева д а т и р о в а л а т а к и е бусы I I -
IV вв. н. э. (Алексеева, 1982. С. 17-18) . Появление э тих бус в
- 75 -- 74 -
М.В. Кр и в оше е в
Нижнем Поволжье относится ко времени не ранее середины
II в . нашей эры . Об этом свидетельствует их высокая встре
чаемость с лучковыми фибулами 4-го варианта и профилиро
ванными фибулами 1-й серии 2-го варианта . Такие бусы появ
ляются на всей т ерритории Нижне г о Поволжья и встречаются
практически во всех т ип а х ям .
В последние годы, благодаря ряду работ, появилась возмож
ность выделить ряд хроноиндикаторов 1-й половины III в. н. э. из
массива вещей 2-й половины II - 1-й половины III в. нашей эры. Это
время характеризуется новым явлением в стилистическом оформ
лении предметов - появлением фасетировки. Именно в 1-й половине
III в. н. э. начинают встречаться одночастные прямоугольные нако
нечники с треугольным, а также круглым и квадратным оформлени
ем нижней части. Распространение получает модификация двухчас
тных наконечников-подвесок, украшенных фасетировкой, или их раз
новидность в виде одночастных, имитирующих в оформлении двух
частные (Малашев, 2000. С. 199-200).
Появляясь во 2-й половине II в. н. э., продолжают бытовать
пряжки с прямоугольными пряжками и щитками, но лишь в 1-й по
ловине III в. на них появляется фасетировка (рис. 3, 38). Прямоу
гольные щитки на пряжках становятся более корогкими и приобре
тают фасетировку. Однако продолжают встречаться и пряжки с
длинными щитками. На новых типах пряжек с круглыми и оваль
ными рамками появляется такой признак, как спрямленность в зад
ней части рамки. Появляются пряжки с округлыми щитками, в том
числе с фасетированными или имитирующими фасетировку загну
тыми краями. Также с начала III в. н. э. наблюдается распростра
нение слабо выраженного утолщения в передней части рамки, ко
торое позже приобрело массовое явление (рис. 3, 40) (Малашев,
2000. С. 199-200).
Вероятно, к этому времени относится распространение пря-
жек-сюльгам. Пока нам неизвестно находок пряжек-сюльгам в
Заволжье. Все известные экземпляры обнаружены в междуречье.
В трех случаях они встречены совместно с лучковыми одночлен
ными фибулами 4-го варианта. Принимая то, что в междуречье
массовое распространение лучковых фибул 4-го варианта прихо-
- 76 -
Позднесарматская культура в Нижнем Поволжье
дится на конец II - первую половину III в. н . э . , можно говорить и о
появлении пряжек-сюльгам в Нижнем Поволжье не ранее конца
II века. Однако массовое распространение они получают лишь пос
ле середины III в. нашей эры. Такие пряжки появляются еще до
рубежа эр на Северном Кавказе и бытуют там в более поздний
период (Абрамова, 1993. Рис. 27, 8, 9; 58, У; Абрамова, Красильни-
ков, Пятых, 2000. Рис. 20, 6; 23, 3; 31 , 7; 2001 . Рис. 27, 3\ 45, 2;
5 8 , 1 , 2 ) . Вероятно, с районами Северного Кавказа связано проник
новение сюльгам в Нижнее Поволжье и на Нижний Дон. После се
редины III в. н . э . , когда кавказские импорты превалируют на этой
территории, количество находок таких пряжек резко возрастает.
В начале III в. н. э. в степных погребениях появляются на
ходки из серебра, связанные, как правило, с деталями ременной
гарнитуры и конской сбруи. Это вещи еще очень редки и в массе
серебряные изделия стали появляться в степных комплексах после
середины III в. В начале III в. большинство серебряных вещей
встречается в нижнедонских погребениях (Центральный VI 16/8,
Подгорненский IV 17/1, Камышевский 8/1). В Нижнем Поволжье
они не столь многочисленны, но также представлены деталями
ременной гарнитуры и сбруи (Чир I I 4 / 1 , Вербовский I 5/1, Стари
ца 26/2, Котлубань 2/1). Дата начала III в. н . э . , как времени нача
ла распространения серебряных изделий, возникает при анализе
деталей ременной гарнитуры. На большинстве пряжек, щитков,
оконечников ремней из серебра присутствует фасетировка, появив
шаяся в 1-й половине III в. (Малашев , 2000 . С. 199). Следует от
метить совместные находки серебряных деталей гарнитуры с
фасетировкой и одночленных лучковых фибул с фигурной обмот
кой, которые, вероятно, являются финальным вариантом разви
тия этой схемы и датируются концом II - 1-й половиной III в.
(Камышевский 8/1, Центральный VI 16/8).
Итак, охарактеризовав круг наиболее массовых вещей в по
гребениях 2-й половины II - 1-й половины III в. н . э . , можно попы
таться определить хронологию развития погребальных традиций в
Нижнем Поволжье во II - 1-й половине III в. нашей эры.
К наиболее ранним, уверенно датируемым комплексам, в
которых фиксируются отдельные элементы погребального обря-
- 77 -
М.В. Кри в оше е в
да позднесарматской культуры, можно отнести лишь несколько
погребений. В первую очередь хотелось бы отметить погребение
из кургана № 11 могильника Старица (Шилов , 1968. С. 310-322) .
В подквадратной яме была погребена женщина, уложенная по оси
ямы. Среди инвентаря обнаружены две профилированные фибу
лы 1-й серии 1-го варианта, датирующиеся 1 -й половиной - сере
диной II в. нашей эры. Однако уже здесь присутствуют четыре
хугольная курильница, длинный оселок. Примечательно, что че
реп погребенной носил следы искусственной деформации. Воз
раст погребенной при этом старше 60 лет. Хорошо известно, что
искусственная деформация возможна лишь в детстве. Следует
предположить, что детство этой женщины прошло там , где в кон
це I в. уже был распространен обычай деформации, появившийся
в Нижнем Поволжье лишь после середины II века.
В кургане 2 могильника Жутово в широкой прямоугольной яме
обнаружено погребение женщины, уложенной по диагонали ямы и
ориентированной в северный сектор. В погребении обнаружены
четырехугольная курильница и профилированная фибула 1-й серии
1-го варианта, датирующая погребение 1-й половиной - серединой
II в. нашей эры.
Среди инвентаря в обеих могилах обнаружены четырехуголь
ные курильницы, которые широко применялись лишь после середины
II века. Если предположить, что обе погребенные женщины были вклю
чены в среднесарматское общество и попали в Нижнее Поволжье с
территории, где были распространены традиции, позже использовав
шиеся в позднесарматском обряде, то логично выглядят находки че
тырехугольных курильниц в могилах, как отражение домашнего куль
та, исповедовавшегося ими по традиции своих предков.
Эти погребения можно расценивать как первые проявления
позднесарматских традиций в Нижнем Поволжье в 1-й половине
II в., перед массовым распространением позднесарматской куль
туры в этом регионе.
Р а с п р о с т р ан ени е но вых по з дн е с а рма т с ки х т р а д и ц и й в
Нижнем Поволжье приходится на вторую половину II в . нашей
эры. Мы уже обрисовали круг тех вещей, которые помогают
вычленить комплексы 2-й половины II в. из массива памятни-
- 78 -
Позднесарматская культура в Нижнем Поволжье
ков 2-й половины II - 1-й половины III века. Это профилирован
ные 1-й серии 2-го в арианта (рис . 1, 4-7) определенные типы
гончарной и лепной керамики .
Этот этап и можно назвать периодом становления позднесар
матской культуры в Нижнем Поволжье. Появление племен, при
несших с собой новую культуру, было единовременным, но косну
лось сначала территории Заволжья, где наблюдается быстрое ис
чезновение традиций предшествующей среднесарматской культу
ры. Именно факт появления позднесарматских памятников в мас
совом количестве в первую очередь в Заволжье может свидетель
ствовать о миграции носителей позднесарматской культуры с тер
ритории к востоку от Волги. В пользу этой гипотезы могут свиде
тельствовать некоторые вещи, имеющие восточные корни. К ним,
к примеру, относятся длинные мечи без навершия и перекрестия с
каменной отделкой (портупейные скобы, каменные навершия, пе
рекрестия), встречающиеся в основном на Нижнем Дону и имею
щие среднеазиатские прототипы последних веков до нашей эры и
первых веков нашей эры (Безуглов, 2000. С. 178-180).
В Нижнем Поволжье и восточнее концентрируются находки но
жей с бронзовыми деталями рукоятей (рис. 3, 26, 27). Но известны
они и в среднеазиатских памятниках (Литвинский, 1978. С. 14, рис. 4, / ) .
В Заволжье в позднесарматских памятниках обнаружены ко
стяные наконечники стрел, аналогии которым можно найти в па
мятниках Приуралья (Богалов, Гуцалов, 2000. С. 58-60, рис. 18, 1-
17; 40-44; Шиповский могильник, 2007. С. 64-65) .
Связь со Среднеазиатским регионом просматривается так
же в могильных конструкциях. В Средней Азии были исследова
ны подбойно-катакомбные конструкции II в. до н. э. - I в. н. э.,
очень схожие с узкими прямоугольными могилами и подбоями с
узкими входами позднесарматского периода Урало-Донского ре
гиона (Обельченко, 1964. С. 213, 232; 1965. С. 185-200; Мандель
штам, 1966; 1975; Литвинский , 1972). Ряд черт погребального об
ряда в некоторых могильниках Средней Азии позднее получили
распространение в позднесарматское время: погребения под ин
дивидуальными насыпями, северная ориентировка погребенных,
- 79 -
М.В. Кри в оше е в
четырехгранные курильницы, совместные находки костей барана
с ножичками (Обельченко, 1961. С. 125-127, 159, рис. 17).
Появление нового объединения кочевников в Нижнем По
волжье, вероятно, явилось предпосылкой к передвижению части
среднесарматского населения из Заволжья в междуречье. Этим
объясняется длительное сохранение среднесарматских традиций
в междуречье, выразившееся в наличии большого числа памят
ников синкретического облика во 2-й половине II в. н. э. Эти по
гребения могут сочетать в себе традиции среднесарматской куль
туры, такие как широкие прямоугольные ямы, диагональное по
ложение костяков с позднесарматскими признаками - ориенти
ровка в северный сектор, наличие искусственной деформации
черепов. При этом существуют синхронные погребения, зачас
тую в этих же могильниках, которые соответствуют «канонам»
позднесарматских погребальных традиций . Набор и типы вещей
в этих погребениях могут совпадать . Примечательно, что крайне
редко во всех типах погребений, в том числе и в комплексах сме
шанного характера, встречаются обрядовые вещи, такие как ку
рильницы, зеркала, минералы и другие, характерные для средне
сарматской культуры. В диагональных погребениях встречаются
четырехугольные курильницы (Жутово 2/1, Калиновский 40/1).
Такой яркий признак предшествующих сарматских культур, как
положение в могилу передней ноги овцы с лопаткой резко сменя
ется: в позднесарматское время стали класть з аднюю ногу бара
на с тазом. В это же время происходит также резкая смена ме
чей и кинжалов с кольцевыми навершиями оружием без металли
ческих перекрестия и навершия. Ни в одном из учтенных нами
погребений не обнаружено алебастровых сосудиков, довольно
часто встречаемых в среднесарматских комплексах (Глухов, 2005 .
С. 67-68) . Обряд положения в могилу колчанных наборов в сред-
несарматское время (Глухов, 2005. С. 28) резко сходит на нет пос
ле середины II в. н . э . , и единичные находки стрел лишь обознача
ют их нахождение в могиле.
С появлением позднесарматской культуры в Нижнем Повол
жье происходит отказ от многих обрядовых норм, характерных
для среднесарматского времени. Пережитки традиций среднесар-
Позднесарматская культура в Нижнем Поволжье
матской культуры наблюдаются л ишь в погребальном обряде:
господстве южной ориентировки, сохранении традиции диагональ
ных погребений. Но эти традиции продолжают существовать в
междуречье до конца II в. нашей эры. Во 2-й половине II в. н. э.
междуречье Волги и Дона оказывается своего рода анклавом ко
чевников, применяющих среднесарматские традиции в погребаль
ном обряде. В Заволжье и на Нижнем Дону эти признаки исчеза
ют вскоре после появления позднесарматских племен (Кривоше
ев, Скрипкин, 2006) . Приток нового населения в междуречье
продолжался постоянно, что подтверждается находками погре
бений позднесарматского облика. И, вероятно, процесс диффузии
двух культурных групп происходил при доминанте новых, поздне
сарматских традиций, которые постепенно к концу II в. вытесни
ли среднесарматские обрядовые элементы.
На Нижнем Дону, судя по обилию и богатству позднесар
матских погребений, находился один из центров племенных объе
динений. О появлении новой, активной в военном отношении груп
пировки в этом районе, свидетельствуют разрушения оборонитель
ных сооружений и жилых кварталов Танаиса именно в середине
II в. н. э. (Арсеньева, Науменко, 2001 . С. 59). В танаисской оно
мастике в середине - 2-й половине II в. н. э. отмечается большая
группа иранских имен, ранее здесь не бытовавших . В ряде случа
ев эти имена принадлежат отцам танаисцев , носящих уже гречес
кие имена в надписях 1-й четверти III в. Следовательно, появле
ние новых имен, вероятнее всего, относится ко времени не позже
третьей четверти II в. (Шелов, 1972. С. 234, 238, 239, 249).
С середины II в. н. э. приток нового позднесарматского на
селения в междуречье Волги и Дона и на Нижний Дон проходил
через Заволжье. Не исключено, что после закрепления поздне
сарматской культуры на Нижнем Дону во 2-й половине II в. н. э.
именно этот регион, наряду с Заволжьем, стал эпицентром рас
пространения позднесарматских новаций на территории к западу
от Волги во 2-й половине II - 1-й половине III в. нашей эры. Види
мо, территория, которую контролировала нижнедонская поздне
сарматская группировка , охватывала районы от Курмоярского
Аксая до низовий Дона . Это может подтверждаться находками
- 81 -- 80 -
М.В. Кри в оше е в
здесь таких позднесарматских комплексов, выделяющихся нео
рдинарностью и богатством инвентаря, как Новоалександровка
20/1, Валовый I 9/1, 25/1, 33/1, Нагавский II 11/1, богатых воинс
ких комплексов, которые также можно отнести к погребениям
высшей элиты общества: Центральный VI 16/8, Новоалександ
ровка 20/2, Камышевский I 8/1, Веселый VI 1/1 и др.
Вероятно, взаимоотношения нижнедонской группировки с
другими территориями происходили достаточно мирно, что под
тверждается находками вещей из ремесленных центров Нижнего
Дона далеко за его пределами в погребениях 2-й половины II в., в
том числе и в междуречье. Подобная ситуация была бы невоз
можна без поддержки нижнедонскими кочевниками торгово-эко
номических связей этих мастерских с иными регионами.
В середине II - 1-й половине III в. в степном регионе от При-
уралья до Дона появляются воинские погребения высокого соци
ального статуса. В погребальном обряде этих комплексов высокое
социальное положение отражено лишь в инвентаре, характерном
для воинов-всадников. Несмотря на различные типы могильных
конструкций, среди которых имелись как погребения в подбоях, уз
ких прямоугольных ямах, т ак и диагональные погребения в широ
ких прямоугольных ямах, такие комплексы отличают близость во
инской экипировки. Атрибутом таких погребений является длинный
меч без металлического навершия и перекрестия и конская сбруя
(Безуглов, 1997; Безуглов, 2000. С. 180) (Абганерово 3/1, Жутово 1/
1, Старица 26/2, Подгорненский IV 17/1, Центральный VI 16/8, Че
тыре брата 3/6 и др.). В междуречье Волги и Дона, где среднесар-
матские традиции были дос т а точно сильны во 2-й половине
II в. н. э., появление таких комплексов, возможно, диктовалось силь
ным влиянием нижнедонской группировки на население междуре
чья Волги и Дона, продолжавшего придерживаться среднесармат
ской обрядности. Не исключено, что первоначально это было свя
зано с заимствованием новых традиций элитой старого общества,
наиболее восприимчивой к изменениям.
Исходя из имеющегося материала, можно высказать мне
ние, что в конце II - начале III в. и в междуречье Волги и Дона
среднесарматские традиции в погребальном обряде практически
Позднесарматская культура в Нижнем Поволжье
исчезают под влиянием новых, позднесарматских. При этом доль
ше всего среднесарматские черты существуют в северной части
междуречья. Возможно, такое ощущение связано со слабой раз
работанностью хронологии и отсутствием достаточного количе
ства индикаторов конца II - 1-й половины III века. В это время
исчезают диагональные захоронения (Скрипкин , 1997. С. 73-74) ,
практически не встречаются погребения в ямах с заплечиками и
широких прямоугольных ямах, традиционно считающимися насле
дием среднесарматской эпохи. Теперь на всей территории Ниж
него Поволжья, в том числе в междуречье, ведущим типом ям
становятся подбойные могилы.
В середине III в. в Северо-Кавказском регионе, на Нижнем
Дону и в Нижнем Поволжье происходят серьезные этнополити-
ческие изменения, связанные с активизацией населения Централь
ного Предкавказья и передвижением его в район Нижнего Дона,
после чего начинается новый этап позднесарматской культуры в
южнорусских степях.
Проблема происхождения позднесарматской культуры посто
янно находится в поле зрения исследователей. В вопросе о носите
лях позднесарматской культуры в свое время решался в пользу
среднеазиатских корней (Скрипкин, 1984. С. 96). Учитывался один
из ярких отличительных признаков позднесарматской культуры -
деформация черепов. Истоки этого обряда в позднесарматское
время в Поволжье и в Подонье было принято соотносить со сред
неазиатскими традициями (Бернштам, 1940. С. 29-38; Шилов, 1959.
С. 492-494; Скрипкин, 1984. С. 88-89). Однако последние исследо
вания антропологов не подтверждают это предположение. Спосо
бы деформации, использовавшиеся в Средней Азии, в большинстве
случаев значительно отличаются от способов, применявшихся по-
зднесарматским населением. Межгрупповое сопоставление крани
ологического материала среднеазиатской и позднесарматской се
рии показывают значительное различие (Балабанова, 2001. С. 113).
Вероятно, некоторые группы среднеазиатского населения
участвовали в формировании позднесарматской культуры. Безус
ловно, погребальные традиции в сарматских памятниках имеют
среднеазиатские прототипы. Так могилы с подбоями в западной
- 82 -- 83 -
М.В. Кри в оше е в
стенке и узкие прямоугольные ямы, северная ориентировка и позы
погребенных, обычай деформации черепов в Аруктауском, Кок-
кумском, Тулхарском могильниках в Бишкентской долине (Ман
дельштам, 1966; 1975. С. 5-63), в Ворухском ущелье (Литвинс-
кий, 1972. С. 25-29 , табл. 3, 18-28) находят точные аналогии в
захоронениях Нижнего Поволжья (Скрипкин, 1984. С. 95-96) . Од
нако сейчас понятно, что позднесарматская культура включила в
себя не только среднеазиатский компонент. И пока не вполне ясно,
в каком регионе к востоку от Волги и при участии каких иных
составляющих происходило формирование позднесарматских
традиций, которые охватили степной коридор от Приуралья до Се
верного Причерноморья в середине II в. нашей эры.
- 84 -
Иллюстрации
Позднесарматская культура в Нижнем Поволжье
Список литературы
Абрамова, М.И, 1971. Зеркала горных районов Северного Кавказа
в первые века нашей эры // История и культура Восточной Европы по
археологическим данным. - М.
Абрамова, М.П., 1993. Центральное Предкавказье в сарматское вре
мя (III в. до н. э. - IV в. н. э.) / М.П. Абрамова. - М.
Абрамова. М.П., 2000. Курганы Нижнего Сулака: могильник Львов
ский Первый -2 / М.П. Абрамова, К.И. Красильников, Г.Г Пятых. - М .
Абрамова, М.П., 2001. Курганы Нижнего Сулака: могильник Львов
ский Первый - 4 / М.П. Абрамова, К.И. Красильников, Г.Г. Пятых. - М .
Алексеева, Е.М., 1982. Античные бусы Северного Причерноморья
//САИ.-Вып. П - 1 2 . - М .
Амброз, А. К., 1966. Фибулы юга европейской части СССР II в. до
н. э. - IV в. н. э. // САИ. - Вып. Д1-30.
Арсеньева, Т. М., 2001. Некрополь Танаиса / Т. М. Арсеньева,
С. И. Безуглов, И. В. Толочко. - М.
Арсеньева, Т.М., 2001. Раскопки Танаиса в восточной части городи
ща / Т. М. Арсеньева, С.А. Науменко // Древности Боспора. - Вып. 4. - М .
Балабанова, М.А., 2001. Обычай искусственной деформации го
лов у поздних // НАВ. - Вып. 4.
Балабанова, М.А., 2007. Идентификация типов оружия по боевым
травмам у сарматов / М.А. Балабанова, Е.В. Перерва II Вооружение сар
матов: региональная типология и хронология : докл. к VI Международной
конференции «Проблемы сарматской археологии и истории». - Челябинск.
Безуглов, С.И., 1997. Воинское позднесарматское погребение близ
Азова // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем
Дону в 1994 г.-Вып. 14.-Азов.
Безуглов, С.И., 2000. Позднесарматские мечи (по материалам По-
донья) // Сарматы и их соседи на Дону. - Ростов-н/Д.
Бернштам, А.Н., 1940. Кенкольский могильник // Археологические
экспедиции Государственного Эрмитажа. - Вып. 2. - Л.
Боталов, С.Г., 2000. Гунно-сарматы Урало-Казахстанских степей
/ С.Г. Боталов, С.Ю. Гуцалов. - Челябинск.
Глухое, А.А., 2005. Сарматы междуречья Волги и Дона в I - 1-й по
ловине II в. н. э. / А.А. Глухов. - Волгоград.
Граков, Б.И., 1947. Пережитки матриархата у сарматов // ВДИ. -№ 3.
Гугуев, В.К., 1989. Керамический импорт из Центрального Пред
кавказья в грунтовом некрополе Кобякова городища (по материалам рас-
- 89 -
М.В. Кривошеев
копок 1984-1985 гг.) / В. К. Гугуев, Ю. К. Гугуев// Известия Ростовского
областного музея краеведения. - Ростов-н/Д.
Гугуев, Ю.К., 2004. Керамический импорт из Центрального Пред
кавказья в Танаисе в середине III в. н. э. (по результатам минералого-
петрографических исследований) / Ю.К. Гугуев, В.Ю. Малашев, В.Г. Ры-
лов II 1-я Международная Нижневолжская археологическая конференция,
Волгоград, 4 нояб. 2004 г.: доклад. {Не опубликован).
Гущина, И.И., 2000. Курганы у деревни Машевки, колонии Норка и
станции Лебяжье в Балашовском и Камышинском уездах бывшей Саратов
ской губернии (по материалам раскопок А.А. Спицына в 1895 г.) / И.И. Гу
щина, К.Б. Фирсов // НАВ. - Вып. 3.
Исследования курганов у сел Племхоз и Моисеево, 2006 / В. М. Клепи
ков, А.Н. Дьяченко, В.Г. Блохин, М.В. Кривошеев // Материалы по археоло
гии Волго-Донских степей. - Вып. 3. - Волгоград.
Клепиков, В.М., 2004. Комплексы позднесарматского времени мо
гильника «Перегрузное I» / В. М. Клепиков, М. В. Кривошеев // Материалы
по археологии Волго-Донских степей. - Вып. 2. - Волгоград.
Косяненко, В.М., 1989. Хронология сероглиняной керамики некро
поля Кобякова городища (раскопки 1956-1962 гг.) // Известия Ростовского
областного музея краеведения. - Ростов-н/Д.
Косяненко, В.М., 1994. К вопросу о хронологии и ритуально-маги
ческой роли бронзовых зеркал из некрополя Кобякова городища (по мате
риалам раскопок 1956-1962 гг.) // Историко-археологические исследова
ния в Азове и на Нижнем Дону в 1993 г .-Вып. 13.-Азов.
Косяненко, В.М., 2008. Некрополь Кобякова городища / В.М. Кося
ненко. - Азов.
Кривошеев, М.В., 2004. О хронологии сарматских зеркал с цент
ральной петелькой // Проблемы археологии Нижнего Поволжья : тез. докл.
1 Междунар. Нижневолж. археол. конф. - Волгоград.
Кривошеев, М.В., 2005. Фибулы из сарматских комплексов 2-й поло
вины II - I -й половины III в. н. э. в южной части Волго-Донского междуречья
// Четвертая Кубанская археологическая конференция: тез. и докл. - Краснодар.
Кривошеее, М.В., 2007. Вооружение позднесарматского времени
Нижнего Поволжья // Вооружение сарматов: региональная типология и
хронология : докл. к VI Международной конференции «Проблемы сар
матской археологии и истории». - Челябинск.
Кривошеев, М.В., 2006. Позднесарматская культура междуречья
Волги и Дона. Проблема становления и развития / М .В . Кривошеев,
А.С. Скрипкин // РА. - № 1.
- 90 -
Позднесарматская культура в Нижнем Поволжье
Литвинский, Б.А., 1972. Курганы и курумы Западной Ферганы
/ Б.А. Литвинский. - М.
Литвинский, Б.А., 1978. Орудия труда и утварь из могильников За
падной Ферганы / Б.А. Литвинский. - М.
Малашев, В.Ю., 2000. Периодизация ременных гарнитур поздне
сарматского времени // Сарматы и их соседи на Дону. - Ростов-н/Д.
Малашев, В.Ю., 2007. Культурная ситуация в центральных районах
Северного Кавказа во II-IV вв. н. э. // Три четверти века Д. В. Деопику-
друзья и ученики. - М.
Мандельштам, А.М., 1966. Кочевники на пути в Индию // МИА. -№ 136.
Мандельштам, А.М., 1975. Памятники кочевников Кушанского вре
мени в Северной Бактрии / А.М. Мандельштам. - Л.
Мошкова, М.Г., 2004. Среднесарматские и позднесарматские памят
ники на территории Южного Приуралья // Сарматские культуры Евразии:
проблемы региональной хронологии: докл. к 5-й Международной конфе
ренции «Проблемы сарматской археологии и истории». - Краснодар.
Обельченко, О.В., 1961. Лявандакский могильник //История изучения
материальной культуры Узбекистана. - Вып. 2. - Ташкент.
Обельченко, О.В., 1964. К изучению курганных погребений в Сред
ней Азии // История изучения материальной культуры Узбекистана. -
Вып. 5. - Ташкент.
Обельченко, О.В., 1965. К изучению курганных погребений в Сред
ней Азии // История изучения материальной культуры Узбекистана. -
Вып. 6. - Ташкент.
Шиповский могильник в лесостепном Приуралье, 2007 / В.В. Ов
сянников, Н.С. Савельев, И.М. Акбулатов, В.Н. Васильев. - Уфа.
Рыков, П.С, 1931. Отчет об археологических работах, произведен
ных в Нижнем Поволжье летом 1929 г. // Известия Нижневолжского инсти
тута краеведения им. М. Горького. - Т. IV. - Саратов.
Синицын, И.В., 1947. Археологические раскопки на территории
Нижнего Поволжья / И. В. Синицын. - Саратов.
Синицын, И.В., 1960. Древние памятники в Низовьях Еруслана (по
раскопкам 1954-1955 гг.) // МИА . -№78 .
Скрипкин, А. С, 1977. Фибулы Нижнего Поволжья (по материалам
сарматских погребений) // СА. - № 2.
Скрипкин, А.С, 1984. Нижнее Поволжье в первые века нашей эры
/ А. С. Скрипкин. - Саратов : Изд-во СГУ.
Скрипкин, А.С, 1990. Азиатская Сарматия: Проблемы хронологии
и ее исторический аспект / А. С. Скрипкин. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та.
- 91 -
М.В. Кривошее в
Скрипкин, А.С, 1997. Этюды по истории и культуре сарматов
/ А .С . Скрипкин. - Волгоград.
Смирнов, К.Ф., 1947. Сарматские курганные погребения в степях
Поволжья и Южного Приуралья // Доклады и сообщения исторического
факультета МГУ. - Вып. V. - М.
Раннесарматская культура, 1997. - М. - (Статистическая обработ
ка погребальных памятников Азиатской Сарматии ; вып. II).
Среднесарматская культура, 2002. - М - (Статистическая обра
ботка погребальных памятников Азиатской Сарматии ; вып. III).
Труфанов, А.А.. 2007. Зеркала-подвески первых веков нашей эры из
могильников Крымской Скифии // Древняя Таврика. - Симферополь.
Хазанов, А.М, 1963. Генезис сарматских бронзовых зеркал // СА.-№4.
Шелов, Д.Б., 1972. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей
эры / Д . Б . Шелов. - М.
Шилов, В.П., 1959. Калиновский курганный могильник // МИА.-№ 60.
Шилов, В.П., 1968. Позднесарматское погребение у с. Старица
// Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. - Л.
Rau, Р., 1927. Die hugelgraber romicher Zeit an der unteren Wolga
/ P. Rau. - Pokrowsk.
Rau, P., 1927a. Prahistorische Ausgrabungen aufder Steppenseite des
deutschen Wolgagebiets im Jahre 1926 / P. Rau. - Pokrowsk.
- 93 -