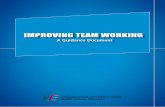Political and legal aspects of Classical Eurasianism. Results of the discussion in HSE in 2012
Transcript of Political and legal aspects of Classical Eurasianism. Results of the discussion in HSE in 2012
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Факультет права
Кафедра теории права и сравнительного правоведения
Политико-правовые аспекты классического евразийства
Материалы круглого стола:
тезисы, стенограмма, обзор дискуссии
Москва 2013
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Факультет права
Кафедра теории права и сравнительного правоведения
Политико-правовые аспекты классического евразийства
Материалы круглого стола:
тезисы, стенограмма, обзор дискуссии
Москва 2013
УДК 67.1 ББК 34.01
Научный редактор и составитель Б.В. Назмутдинов
Редакторы:
И.Е. Османкина,Г.С. Тюляев
Обложка Ю.С. Мышляева
Политико-правовые аспекты классического евразийства. Материалы круглого стола: тезисы, стенограмма, обзор дискуссии. М., 2013. – 97 с. ISBN 978-5-93139-120-5 В сборнике собраны материалы круглого стола, проведенного 22 ноября 2012 г. в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Книга рекомендуется к чтению исследователям классического евразийства, специалистам в области изучения правовых и политических учений, а также всем интересующимся историей идей.
© Коллектив авторов, 2013 © Научный исследовательский университет
ISBN 978-5-93139-120-5 «Высшая школа экономики», 2013
УДК 67.1 ББК 34.01
Научный редактор и составитель Б.В. Назмутдинов
Редакторы:
И.Е. Османкина,Г.С. Тюляев
Обложка Ю.С. Мышляева
Политико-правовые аспекты классического евразийства. Материалы круглого стола: тезисы, стенограмма, обзор дискуссии. М., 2013. – 97 с. ISBN 978-5-93139-120-5 В сборнике собраны материалы круглого стола, проведенного 22 ноября 2012 г. в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Книга рекомендуется к чтению исследователям классического евразийства, специалистам в области изучения правовых и политических учений, а также всем интересующимся историей идей.
© Коллектив авторов, 2013 © Научный исследовательский университет
ISBN 978-5-93139-120-5 «Высшая школа экономики», 2013
Оглавление
Предисловие .......................................................................................... 4
Участники дискуссии, тезисы выступлений ...................................... 5
Стенограмма ........................................................................................ 20
Осмысляя «Евразию»: краткий обзор дискуссии ............................. 92
Оглавление
Предисловие .......................................................................................... 4
Участники дискуссии, тезисы выступлений ...................................... 5
Стенограмма ........................................................................................ 20
Осмысляя «Евразию»: краткий обзор дискуссии ............................. 92
Предисловие Дорогой читатель! Перед Вами материалы круглого стола «Политико-правовые аспекты
классического евразийства»: список докладчиков, тезисы их выступлений, стенограмма и краткий обзор дискуссии. Возможно, они будут полезны Вам, хотя здесь нет ни ярких отсылок к современности, ни анализа концепции Евразийского экономического союза, ни обсуждения «правого марша» неоевразийцев. Перед Вами скорее академическое издание, предназначенное во многом для специалистов, занимающихся данной проблематикой. Но и в нем есть указания на те моменты, которые при внимательном чтении покажутся важными и сегодня. Вы, вероятно, заметите их.
О евразийстве написано множество книг – разных, хороших, плохих. Именно поэтому, рассуждая о евразийстве, важно определиться с понятиями. «Классическим» в сборнике именуется «евразийство» как таковое – течение мысли, возникшее в 1920-х гг. в среде русской эмиграции; временем исчезновения евразийского движения традиционно считают рубеж 1930-1940 гг. Все остальные изводы течения, в том числе в 1990-2000-х гг., именуют «неоевразийством». Анализа этих изводов в данном издании нет, для этого нужно проделать большую работу, и она гораздо сложнее, ведь наша дистанция от этих течений все еще невелика.
Организаторы дискуссии постарались пригласить к обсуждению наиболее компетентных специалистов по классическому евразийству в современной России. К сожалению, не все из них смогли выступить на круглом столе, но каждый из тех, кто пришел и участвовал в обсуждении, постарался максимально полно представить свою точку зрения – надеемся, Вы заметите это. Как и то, что палитра подходов к предмету исследования очень разнообразна – от привычного инструментария истории идей до историко-экономического и юридического анализа евразийской идеологии.
Хотелось бы поблагодарить факультет права Национального исследовательского университета «Высшая школы экономики» (НИУ ВШЭ), кафедру теории права и сравнительного правоведения НИУ ВШЭ за содействие в организации круглого стола. Важную роль в подготовке и проведении обсуждения сыграл кружок изучения правовых и политических учений НИУ ВШЭ. Благодарим за помощь студентов факультета права и прикладной политологии: Георгия Тюляева, Ирину Османкину, Николая Драгана, Наталью Литвинову, Никиту Глазкова, Александру Григорьеву, Антона Шаблинского, Василия Азаревича, за оформление обложки – Юлию Мышляеву.
Булат НАЗМУТДИНОВ, сентябрь 2013 г.
Предисловие Дорогой читатель! Перед Вами материалы круглого стола «Политико-правовые аспекты
классического евразийства»: список докладчиков, тезисы их выступлений, стенограмма и краткий обзор дискуссии. Возможно, они будут полезны Вам, хотя здесь нет ни ярких отсылок к современности, ни анализа концепции Евразийского экономического союза, ни обсуждения «правого марша» неоевразийцев. Перед Вами скорее академическое издание, предназначенное во многом для специалистов, занимающихся данной проблематикой. Но и в нем есть указания на те моменты, которые при внимательном чтении покажутся важными и сегодня. Вы, вероятно, заметите их.
О евразийстве написано множество книг – разных, хороших, плохих. Именно поэтому, рассуждая о евразийстве, важно определиться с понятиями. «Классическим» в сборнике именуется «евразийство» как таковое – течение мысли, возникшее в 1920-х гг. в среде русской эмиграции; временем исчезновения евразийского движения традиционно считают рубеж 1930-1940 гг. Все остальные изводы течения, в том числе в 1990-2000-х гг., именуют «неоевразийством». Анализа этих изводов в данном издании нет, для этого нужно проделать большую работу, и она гораздо сложнее, ведь наша дистанция от этих течений все еще невелика.
Организаторы дискуссии постарались пригласить к обсуждению наиболее компетентных специалистов по классическому евразийству в современной России. К сожалению, не все из них смогли выступить на круглом столе, но каждый из тех, кто пришел и участвовал в обсуждении, постарался максимально полно представить свою точку зрения – надеемся, Вы заметите это. Как и то, что палитра подходов к предмету исследования очень разнообразна – от привычного инструментария истории идей до историко-экономического и юридического анализа евразийской идеологии.
Хотелось бы поблагодарить факультет права Национального исследовательского университета «Высшая школы экономики» (НИУ ВШЭ), кафедру теории права и сравнительного правоведения НИУ ВШЭ за содействие в организации круглого стола. Важную роль в подготовке и проведении обсуждения сыграл кружок изучения правовых и политических учений НИУ ВШЭ. Благодарим за помощь студентов факультета права и прикладной политологии: Георгия Тюляева, Ирину Османкину, Николая Драгана, Наталью Литвинову, Никиту Глазкова, Александру Григорьеву, Антона Шаблинского, Василия Азаревича, за оформление обложки – Юлию Мышляеву.
Булат НАЗМУТДИНОВ, сентябрь 2013 г.
5
Участники дискуссии
КАРПЕЦ Владимир Игоревич – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения НИУ ВШЭ; доклад: «Евразийство и проблема монархии»;
БАЙССВЕНГЕР Мартин – PhD, преподаватель кафедры региональных исследований МГУ им М.В. Ломоносова; доклад: «Создавая “Евразию”: к политическому смыслу статьи П.Н. Савицкого “Что делать?”»;
ГАЧЕВА Анастасия Георгиевна – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН; доклад: «Идеократия и эйдократия: учение евразийцев о государстве в свете отечественной историософской традиции»;
ГЛОВЕЛИ Георгий Джемалович – доктор экономических наук, профессор кафедры экономической методологии и истории НИУ ВШЭ; доклад: «Доктрина евразийства в контексте дискуссий о производительных силах России»;
ВАХИТОВ Рустем Ринатович – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социологии БашГУ, доклад: «Евразийская критика этнонационализма»;
СТЕПАНОВ Борис Евгеньевич – кандидат культурологии, ведущий сотрудник ИГИТИ им. А.В. Полетаева НИУ ВШЭ; доклад: «Дискуссия о Церкви, личности и государстве в контексте интеллектуальной истории евразийства»;
НАЗМУТДИНОВ Булат Венерович – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры теории права и сравнительного правоведения НИУ ВШЭ; доклад: «Существовала ли в действительности «евразийская» школа права?»;
КАРЦОВ Алексей Сергеевич – доктор юридических наук, советник отдела анализа конституционной практики Конституционного Суда Российской Федерации; доклад: «Евразийство и консерватизм: некоторые параллели (правовой аспект)»;
ДМИТРИЕВ Александр Николаевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории идей и методологии исторической науки НИУ ВШЭ; доклад: «Евразийство и сменовеховство».
Модератор: НАЗМУТДИНОВ Булат Венерович.
5
Участники дискуссии
КАРПЕЦ Владимир Игоревич – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения НИУ ВШЭ; доклад: «Евразийство и проблема монархии»;
БАЙССВЕНГЕР Мартин – PhD, преподаватель кафедры региональных исследований МГУ им М.В. Ломоносова; доклад: «Создавая “Евразию”: к политическому смыслу статьи П.Н. Савицкого “Что делать?”»;
ГАЧЕВА Анастасия Георгиевна – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН; доклад: «Идеократия и эйдократия: учение евразийцев о государстве в свете отечественной историософской традиции»;
ГЛОВЕЛИ Георгий Джемалович – доктор экономических наук, профессор кафедры экономической методологии и истории НИУ ВШЭ; доклад: «Доктрина евразийства в контексте дискуссий о производительных силах России»;
ВАХИТОВ Рустем Ринатович – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социологии БашГУ, доклад: «Евразийская критика этнонационализма»;
СТЕПАНОВ Борис Евгеньевич – кандидат культурологии, ведущий сотрудник ИГИТИ им. А.В. Полетаева НИУ ВШЭ; доклад: «Дискуссия о Церкви, личности и государстве в контексте интеллектуальной истории евразийства»;
НАЗМУТДИНОВ Булат Венерович – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры теории права и сравнительного правоведения НИУ ВШЭ; доклад: «Существовала ли в действительности «евразийская» школа права?»;
КАРЦОВ Алексей Сергеевич – доктор юридических наук, советник отдела анализа конституционной практики Конституционного Суда Российской Федерации; доклад: «Евразийство и консерватизм: некоторые параллели (правовой аспект)»;
ДМИТРИЕВ Александр Николаевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории идей и методологии исторической науки НИУ ВШЭ; доклад: «Евразийство и сменовеховство».
Модератор: НАЗМУТДИНОВ Булат Венерович.
6
Тезисы выступлений
Б.В. НазмутдиновСуществовала ли в действительности
«евразийская» школа права?
1. Правовую школу характеризует институциональное и идейное единство. Причем идейная общность в подходах к исследованию права имеет большее значение. Могут существовать различия в суждениях по отдельным правовым вопросам, возможны расхождения в методологии. Однако общими должны быть видение права, суждения об основных правовых категориях и понятиях («правовом субъекте», «правомочии» и др.), ключевых принципах права. Исходя из общности этих признаков, выделяют школу «правового реализма» в США, «школу свободного права» во Франции, историческую школу права в Германии. Из тех же параметров будем исходить и мы при ответе на вопрос «Составляли ли евразийцы единую правовую школу?».
2. Институциональная общность данного направления скреплялась относительным единством евразийского движения, основанного в 1921 году. Проблематику права рассматривали следующие представители евразийства: Н.Н. Алексеев, Л.П. Карсавин, В.Н. Ильин, Н.А. Дунаев и Г.В. Вернадский. Юристами по образованию были Я.Д. Садовский и К.А. Чхеидзе, однако в своих статьях они гораздо реже обращались к юридической проблематике, анализируя скорее (гео)политические, нежели правовые проблемы. Юрист М.В. Шахматов посвятил правовым вопросам две статьи, опубликованные евразийских изданиях в 1923 и 1925 гг.; также стоит отметить его работу о домонгольских политико-правовых идеалах Древней Руси (1927). Однако Шахматова все же нельзя отнести к евразийцам – он не упоминал о понятии Евразии, практически не использовал «евразийскую» терминологию, лидеры евразийства не признавали его в качестве участника движения.
3. Одной из институциональных основ возникновения «евразийской школы» мог бы стать (но не стал по ряду причин) Русский юридический факультет г. Праги. Студентами и преподавателями Факультета были Н.Н. Алексеев, Г.В. Вернадский, П.Н. Савицкий, Н.А. Дунаев, К.А. Чхеидзе, Я.Д. Садовский, то есть большинство писавших на правовую тематику «евразийцев». Однако подлинно «евразийского» преподавания и обучения здесь быть не
6
Тезисы выступлений
Б.В. НазмутдиновСуществовала ли в действительности
«евразийская» школа права?
1. Правовую школу характеризует институциональное и идейное единство. Причем идейная общность в подходах к исследованию права имеет большее значение. Могут существовать различия в суждениях по отдельным правовым вопросам, возможны расхождения в методологии. Однако общими должны быть видение права, суждения об основных правовых категориях и понятиях («правовом субъекте», «правомочии» и др.), ключевых принципах права. Исходя из общности этих признаков, выделяют школу «правового реализма» в США, «школу свободного права» во Франции, историческую школу права в Германии. Из тех же параметров будем исходить и мы при ответе на вопрос «Составляли ли евразийцы единую правовую школу?».
2. Институциональная общность данного направления скреплялась относительным единством евразийского движения, основанного в 1921 году. Проблематику права рассматривали следующие представители евразийства: Н.Н. Алексеев, Л.П. Карсавин, В.Н. Ильин, Н.А. Дунаев и Г.В. Вернадский. Юристами по образованию были Я.Д. Садовский и К.А. Чхеидзе, однако в своих статьях они гораздо реже обращались к юридической проблематике, анализируя скорее (гео)политические, нежели правовые проблемы. Юрист М.В. Шахматов посвятил правовым вопросам две статьи, опубликованные евразийских изданиях в 1923 и 1925 гг.; также стоит отметить его работу о домонгольских политико-правовых идеалах Древней Руси (1927). Однако Шахматова все же нельзя отнести к евразийцам – он не упоминал о понятии Евразии, практически не использовал «евразийскую» терминологию, лидеры евразийства не признавали его в качестве участника движения.
3. Одной из институциональных основ возникновения «евразийской школы» мог бы стать (но не стал по ряду причин) Русский юридический факультет г. Праги. Студентами и преподавателями Факультета были Н.Н. Алексеев, Г.В. Вернадский, П.Н. Савицкий, Н.А. Дунаев, К.А. Чхеидзе, Я.Д. Садовский, то есть большинство писавших на правовую тематику «евразийцев». Однако подлинно «евразийского» преподавания и обучения здесь быть не
7
могло. Прежде всего, – из-за того, что Факультет изначально не создавался как некое «евразийское» заведение, многие преподаватели вполне откровенно заявляли о своих «антиевразийских» позициях, например, А.А. Кизеветтер, преподававший русскую историю, Г.Д. Гурвич, занимавшийся международным правом, П.Б. Струве, интересовавшийся политической экономией и статистикой. Названные авторы известны как одни из самых решительных критиков евразийства. Кроме того, многие русские эмигранты рассчитывали вернуться на родину, поэтому некоторые юридические дисциплины были посвящены уже не действовавшему в то время праву императорской России (хотя анализ советского права также присутствовал – см. вышедший в Праге двухтомник «Право Советской России», 1925). Стремление опереться на прежнее, чуждое евразийству право не способствовало выработке какого-либо общего «евразийского» правопонимания, скорее подталкивало к эклектичности и столкновению смыслов.
4. Евразийцы придерживались в целом различных взглядов на природу права. Н.Н. Алексеев был близок феноменологическим воззрениям на право (А. Райнаху и др.), используя и переосмысляя при этом воззрения П.И. Новгородцева и Л.И. Петражицкого. Ключевым правовым субъектом Алексеев считал не многонародную личность Евразии, а индивидуального субъекта, что отдаляло его взгляды от правовой и политической философии других евразийцев.
Л.П. Карсавин в своих воззрениях был ближе скорее теории, считавшей право нравственным минимумом: сказывалось влияние концепции «всеединства» вообще и В.С. Соловьева в частности. Философ В.Н. Ильин в весьма специфическом ключе попытался объединить правовые воззрения Канта (право в отличие от морали – внешний регулятор) и И.Т. Посошкова. В этом контексте Ильиным было предложено понятие «правды» – единого начала морали и нравственности. В этом стремлении Ильин отчасти был солидарен с М.В. Шахматовым, писавшем о соотношении «права» и «правды». Воззрения Ильина и тем более Шахматова с очень большой долей допущения можно назвать «естественно-правовыми», но лишь если мы говорим о «классическом» естественном праве, не разрывавшем божественное и естественное право.
5. Институционально «евразийцы» ассоциировали себя с одним направлением, однако идейно-правовой общности между ними не наблюдалось. Нельзя говорить даже о «правовом движении» евразийцев. Евразийское движение было связано единством терминологии, общностью смыслов, особенных по своему
7
могло. Прежде всего, – из-за того, что Факультет изначально не создавался как некое «евразийское» заведение, многие преподаватели вполне откровенно заявляли о своих «антиевразийских» позициях, например, А.А. Кизеветтер, преподававший русскую историю, Г.Д. Гурвич, занимавшийся международным правом, П.Б. Струве, интересовавшийся политической экономией и статистикой. Названные авторы известны как одни из самых решительных критиков евразийства. Кроме того, многие русские эмигранты рассчитывали вернуться на родину, поэтому некоторые юридические дисциплины были посвящены уже не действовавшему в то время праву императорской России (хотя анализ советского права также присутствовал – см. вышедший в Праге двухтомник «Право Советской России», 1925). Стремление опереться на прежнее, чуждое евразийству право не способствовало выработке какого-либо общего «евразийского» правопонимания, скорее подталкивало к эклектичности и столкновению смыслов.
4. Евразийцы придерживались в целом различных взглядов на природу права. Н.Н. Алексеев был близок феноменологическим воззрениям на право (А. Райнаху и др.), используя и переосмысляя при этом воззрения П.И. Новгородцева и Л.И. Петражицкого. Ключевым правовым субъектом Алексеев считал не многонародную личность Евразии, а индивидуального субъекта, что отдаляло его взгляды от правовой и политической философии других евразийцев.
Л.П. Карсавин в своих воззрениях был ближе скорее теории, считавшей право нравственным минимумом: сказывалось влияние концепции «всеединства» вообще и В.С. Соловьева в частности. Философ В.Н. Ильин в весьма специфическом ключе попытался объединить правовые воззрения Канта (право в отличие от морали – внешний регулятор) и И.Т. Посошкова. В этом контексте Ильиным было предложено понятие «правды» – единого начала морали и нравственности. В этом стремлении Ильин отчасти был солидарен с М.В. Шахматовым, писавшем о соотношении «права» и «правды». Воззрения Ильина и тем более Шахматова с очень большой долей допущения можно назвать «естественно-правовыми», но лишь если мы говорим о «классическом» естественном праве, не разрывавшем божественное и естественное право.
5. Институционально «евразийцы» ассоциировали себя с одним направлением, однако идейно-правовой общности между ними не наблюдалось. Нельзя говорить даже о «правовом движении» евразийцев. Евразийское движение было связано единством терминологии, общностью смыслов, особенных по своему
8
содержанию, тогда как правовые труды евразийцев подобным уникальным единством не обладали.
В.И. Карпец Евразийство и проблема монархии
1. Евразийство – прежде всего геополитическая доктрина. Она носит научный характер и не имеет прямого отношения к вопросам государственного устройства. В то же время евразийство не может быть безразлично к этим вопросам в связи с тем, что те или иные геополитические конфигурации связаны с благоприятными в данных условиях государственными формами или же неблагоприятными.
2. Ключевым понятием евразийства является понятие «месторазвития», которое включает в себя географические и климатические условия, исторические и религиозные традиции, военно-стратегическое положение, культуру, этнические характеристики и т.д. в совокупности. Для тех или иных месторазвитий существует более или менее жизнеспособные государственные типы и формы.
3. Классики евразийства (Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий) не отрицали русскую монархическую традицию, но критически относились к ее «петербургскому периоду», считая его «эпохой романо-германского пленения», и полагали невозможным возвращение монархии в том виде, в каком она сложилась на момент февраля 1917 г. В среде Русского Зарубежья имели место разногласия между монархистами и евразийцами, тяготевшими к более левой части политического спектра. В то же время авторитетное в эмиграции движение «младороссов» (руководитель А.Л. Казем-бек) выступало за соединение монархического принципа с евразийской идеологией.
4. В известной работе Н.Н. Алексеева «Христианство и идея монархии» высказаны довольно жесткие оценки монархической традиции, однако критика монархии ведется в ней не собственно с евразийских, а, скорее, с христианско-демократических позиций и не имеет к евразийству прямого отношения. В то же время многие политико-правовые идеи Алексеева (прежде всего учение о «правообязанности») реализуемы скорее в условиях монархического, нежели республиканского государства.
5. Классики евразийства, являясь приверженцами имперской власти над «большим пространством», тем не менее, предпочитали монархии теократическое или идеократическое устройство
8
содержанию, тогда как правовые труды евразийцев подобным уникальным единством не обладали.
В.И. Карпец Евразийство и проблема монархии
1. Евразийство – прежде всего геополитическая доктрина. Она носит научный характер и не имеет прямого отношения к вопросам государственного устройства. В то же время евразийство не может быть безразлично к этим вопросам в связи с тем, что те или иные геополитические конфигурации связаны с благоприятными в данных условиях государственными формами или же неблагоприятными.
2. Ключевым понятием евразийства является понятие «месторазвития», которое включает в себя географические и климатические условия, исторические и религиозные традиции, военно-стратегическое положение, культуру, этнические характеристики и т.д. в совокупности. Для тех или иных месторазвитий существует более или менее жизнеспособные государственные типы и формы.
3. Классики евразийства (Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий) не отрицали русскую монархическую традицию, но критически относились к ее «петербургскому периоду», считая его «эпохой романо-германского пленения», и полагали невозможным возвращение монархии в том виде, в каком она сложилась на момент февраля 1917 г. В среде Русского Зарубежья имели место разногласия между монархистами и евразийцами, тяготевшими к более левой части политического спектра. В то же время авторитетное в эмиграции движение «младороссов» (руководитель А.Л. Казем-бек) выступало за соединение монархического принципа с евразийской идеологией.
4. В известной работе Н.Н. Алексеева «Христианство и идея монархии» высказаны довольно жесткие оценки монархической традиции, однако критика монархии ведется в ней не собственно с евразийских, а, скорее, с христианско-демократических позиций и не имеет к евразийству прямого отношения. В то же время многие политико-правовые идеи Алексеева (прежде всего учение о «правообязанности») реализуемы скорее в условиях монархического, нежели республиканского государства.
5. Классики евразийства, являясь приверженцами имперской власти над «большим пространством», тем не менее, предпочитали монархии теократическое или идеократическое устройство
9
государства. В этом проявились платонические и неоплатонические корни их политического мышления. Отсюда же и идея «партии-ордена», будто бы способной в принципе «замещать» монархическую вертикаль власти. Идеи партократии характерны для всех нелиберальных идеологий ХХ века, однако у евразийцев они не были окрашены в тоталитарные тона. При этом «левые евразийцы» рассчитывали на эволюцию ВКП(б) от марксизма к евразийству, чему имелись определенные признаки в 1930-е и особенно 1940-е гг. Это сближало евразийство с национал-большевизмом Н.В. Устрялова и др.
6. В то же время безусловно одно: если бы при определенных условиях в России была так или иначе восстановлена монархия, евразийцы ее бы поддержали и стремились к распространению своей идеологии и подходов среди нового правящего слоя.
7. Современное «неоевразийство», возникшее в начале1990-х гг., стоит примерно на тех же позициях. При этом среди его приверженцев были представители самых разных политических направлений – от покойного Великого Князя Владимира Кирилловича до руководства КПРФ. При этом следует выделить теоретиков и практиков неоевразийства, таких как А.Г. Дугин, стоящих в вопросе о будущем государственном устройстве России на позициях «непредрешения» и указывающих лишь на основные векторы его развития. В настоящее время в связи с провозглашенной В.В. Путиным целью создания Евразийского Союза евразийская идеология постепенно становится если не господствующей, то, во всяком случае, ведущей в России. Это связано с объективными условиями положения и развития России, с особенностями «месторазвития». Собственно, вопрос сегодня стоит именно так: или евразийство, или распад страны на несколько республик, в том числе русских. Россия является и будет евразийской страной вне зависимости от того, монархия она или республика.
8. Следует также иметь в виду реальное совпадение евразийцев и монархистов (в том числе и «классиков» монархизма – таких как Л.А.Тихомиров или И.Л. Солоневич), по значительному ряду вопросов теории и практики – например, в вопросах «единства прав и обязанностей», в вопросе о надпартийной и надсоциальной природе Верховной власти в сочетании с социальным государством и социальным представительством, о местном самоуправлении, по национальному вопросу и т.д. Между этими идеологиями возможно сближение. При этом всегда следует помнить, что вопрос о монархии или республике – вопрос государственного строя, а о евразийстве – государственной территории. С учетом основных положений
9
государства. В этом проявились платонические и неоплатонические корни их политического мышления. Отсюда же и идея «партии-ордена», будто бы способной в принципе «замещать» монархическую вертикаль власти. Идеи партократии характерны для всех нелиберальных идеологий ХХ века, однако у евразийцев они не были окрашены в тоталитарные тона. При этом «левые евразийцы» рассчитывали на эволюцию ВКП(б) от марксизма к евразийству, чему имелись определенные признаки в 1930-е и особенно 1940-е гг. Это сближало евразийство с национал-большевизмом Н.В. Устрялова и др.
6. В то же время безусловно одно: если бы при определенных условиях в России была так или иначе восстановлена монархия, евразийцы ее бы поддержали и стремились к распространению своей идеологии и подходов среди нового правящего слоя.
7. Современное «неоевразийство», возникшее в начале1990-х гг., стоит примерно на тех же позициях. При этом среди его приверженцев были представители самых разных политических направлений – от покойного Великого Князя Владимира Кирилловича до руководства КПРФ. При этом следует выделить теоретиков и практиков неоевразийства, таких как А.Г. Дугин, стоящих в вопросе о будущем государственном устройстве России на позициях «непредрешения» и указывающих лишь на основные векторы его развития. В настоящее время в связи с провозглашенной В.В. Путиным целью создания Евразийского Союза евразийская идеология постепенно становится если не господствующей, то, во всяком случае, ведущей в России. Это связано с объективными условиями положения и развития России, с особенностями «месторазвития». Собственно, вопрос сегодня стоит именно так: или евразийство, или распад страны на несколько республик, в том числе русских. Россия является и будет евразийской страной вне зависимости от того, монархия она или республика.
8. Следует также иметь в виду реальное совпадение евразийцев и монархистов (в том числе и «классиков» монархизма – таких как Л.А.Тихомиров или И.Л. Солоневич), по значительному ряду вопросов теории и практики – например, в вопросах «единства прав и обязанностей», в вопросе о надпартийной и надсоциальной природе Верховной власти в сочетании с социальным государством и социальным представительством, о местном самоуправлении, по национальному вопросу и т.д. Между этими идеологиями возможно сближение. При этом всегда следует помнить, что вопрос о монархии или республике – вопрос государственного строя, а о евразийстве – государственной территории. С учетом основных положений
10
«Политики» Аристотеля и трактата «О духе законов» Ш.-Л. Монтескье о связи государства и права с географическими параметрами («большое пространство» всегда в том или ином виде тяготеет к монархии) можно говорить о взаимной совместимости этих направлений политической мысли.
М. Байссвенгер
Создавая «Евразию»:К политическому смыслу статьи П.Н. Савицкого
«Что делать?» 1. Главным отличием евразийства от других идейных течений
русской эмиграции было то, что оно сочетало идеи и действие. 2. Начиная с 1923 года сотрудничество с «Трестом», при
содействии которого евразийцы рассчитывали свергнуть большевистскую власть, вызвало необходимость составить идейно-политическую программу движения.
3. Статья П.Н. Савицкого «Что делать?» (1926) является ключевым документом, формулирующим способы применения евразийских идей к советской действительности с целью трансформации Советского Союза в «Евразию». Данный текст представляет собой попытку соединить политические концепции В.И. Ленина и Н.Г. Чернышевского, с одной стороны, и Вл. Соловьева, с другой: через «Национальную организацию», напоминающую большевистскую партию, создать «Православное царство».
4. Идеи Савицкого – попытка синтеза различных евразийских представлений о государстве («личность» оно или нет?), а также конкретизация евразийских идей в прагматическом и в символическом плане.
5. Статья Савицкого в определенном смысле является вершиной его «утопического» стремления соединить идеи и действительность; уже во второй половине 1920-х гг. центр тяжести евразийства переместился с «утопической» политики в «науку».
6. Идеи Савицкого встретили сопротивление со стороны других евразийцев, которые выдвинули как тактические (Н.С. Трубецкой), так и идейные (П.П. Сувчинский) возражения.
7. Тем не менее, в статье были сформулированы важные евразийские концепции, такие как «правящий отбор» и «демотия», которые прочно вошли в «научную» евразийскую политическую теорию во второй половине 1920-х и в 1930-е гг. Статья является
10
«Политики» Аристотеля и трактата «О духе законов» Ш.-Л. Монтескье о связи государства и права с географическими параметрами («большое пространство» всегда в том или ином виде тяготеет к монархии) можно говорить о взаимной совместимости этих направлений политической мысли.
М. Байссвенгер
Создавая «Евразию»:К политическому смыслу статьи П.Н. Савицкого
«Что делать?» 1. Главным отличием евразийства от других идейных течений
русской эмиграции было то, что оно сочетало идеи и действие. 2. Начиная с 1923 года сотрудничество с «Трестом», при
содействии которого евразийцы рассчитывали свергнуть большевистскую власть, вызвало необходимость составить идейно-политическую программу движения.
3. Статья П.Н. Савицкого «Что делать?» (1926) является ключевым документом, формулирующим способы применения евразийских идей к советской действительности с целью трансформации Советского Союза в «Евразию». Данный текст представляет собой попытку соединить политические концепции В.И. Ленина и Н.Г. Чернышевского, с одной стороны, и Вл. Соловьева, с другой: через «Национальную организацию», напоминающую большевистскую партию, создать «Православное царство».
4. Идеи Савицкого – попытка синтеза различных евразийских представлений о государстве («личность» оно или нет?), а также конкретизация евразийских идей в прагматическом и в символическом плане.
5. Статья Савицкого в определенном смысле является вершиной его «утопического» стремления соединить идеи и действительность; уже во второй половине 1920-х гг. центр тяжести евразийства переместился с «утопической» политики в «науку».
6. Идеи Савицкого встретили сопротивление со стороны других евразийцев, которые выдвинули как тактические (Н.С. Трубецкой), так и идейные (П.П. Сувчинский) возражения.
7. Тем не менее, в статье были сформулированы важные евразийские концепции, такие как «правящий отбор» и «демотия», которые прочно вошли в «научную» евразийскую политическую теорию во второй половине 1920-х и в 1930-е гг. Статья является
11
ярким примером разработки евразийских идей о государстве «не специалистами»-евразийцами (об этом также писали, например, Трубецкой и Карсавин). Со второй половины 1920-х гг. этим уже стали преимущественно заниматься евразийцы-правоведы (например, Н.Н. Алексеев и его ученик Н.А. Дунаев).
Г.Д. Гловели Доктрина евразийства в контексте дискуссий
о производительных силах России
1. Евразийство, привлекшее научные светила российской эмиграции в разных областях гуманитарной мысли, позиционировало себя как российская геополитическая школа, обоснование геополитического подхода в русской историографии. Концепция «России как особого географического мира», «евразийского месторазвития» П.Н. Савицкого, углубленная в исторических трудах Г.В. Вернадского (включая «Опыт истории Евразии»), была ответом на концепции «Осевого региона» и Heartland'а Х. Маккиндера, с которым судьба столкнула Савицкого в штабе белогвардейского правительства в Крыму.
2. Савицкий начинал свою научную деятельность как экономико-географ (окончил основанный С.Ю. Витте Петербургский политехнический институт по специальности «экономическая география», которую преподавал В.Э. Ден, тогда единственный профессор в России по данной специальности) и в первых статьях обратился к доктрине «национальной системы политической экономии» Ф. Листа (приверженцами которой были С.Ю. Витте и Д.И. Менделеев).
3. Вступив в полемику о размещении национальных производительных сил России с именитым политэкономом М.И. Туган-Барановским, Савицкий сформулировал дилемму коренного ядра российских областей: культура мирового значения устремлена на север и запад, к Европе и морю, – природные ресурсы крупномасштабного промышленного значения сосредоточены в культурно отсталых, если не пустынных, южных и восточных регионах.
4. Ретроспективно прослеживая истоки концепции «евразийского месторазвития», Г.В. Вернадский указывал на вклад: Д.И. Менделеева; своего отца, председателя Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) В.И.
11
ярким примером разработки евразийских идей о государстве «не специалистами»-евразийцами (об этом также писали, например, Трубецкой и Карсавин). Со второй половины 1920-х гг. этим уже стали преимущественно заниматься евразийцы-правоведы (например, Н.Н. Алексеев и его ученик Н.А. Дунаев).
Г.Д. Гловели Доктрина евразийства в контексте дискуссий
о производительных силах России
1. Евразийство, привлекшее научные светила российской эмиграции в разных областях гуманитарной мысли, позиционировало себя как российская геополитическая школа, обоснование геополитического подхода в русской историографии. Концепция «России как особого географического мира», «евразийского месторазвития» П.Н. Савицкого, углубленная в исторических трудах Г.В. Вернадского (включая «Опыт истории Евразии»), была ответом на концепции «Осевого региона» и Heartland'а Х. Маккиндера, с которым судьба столкнула Савицкого в штабе белогвардейского правительства в Крыму.
2. Савицкий начинал свою научную деятельность как экономико-географ (окончил основанный С.Ю. Витте Петербургский политехнический институт по специальности «экономическая география», которую преподавал В.Э. Ден, тогда единственный профессор в России по данной специальности) и в первых статьях обратился к доктрине «национальной системы политической экономии» Ф. Листа (приверженцами которой были С.Ю. Витте и Д.И. Менделеев).
3. Вступив в полемику о размещении национальных производительных сил России с именитым политэкономом М.И. Туган-Барановским, Савицкий сформулировал дилемму коренного ядра российских областей: культура мирового значения устремлена на север и запад, к Европе и морю, – природные ресурсы крупномасштабного промышленного значения сосредоточены в культурно отсталых, если не пустынных, южных и восточных регионах.
4. Ретроспективно прослеживая истоки концепции «евразийского месторазвития», Г.В. Вернадский указывал на вклад: Д.И. Менделеева; своего отца, председателя Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) В.И.
12
Вернадского, указавшего на концентрацию наибольшего минерального богатства на Алтае и в Забайкалье (1915); директора МВТУ В.И. Гриневецкого, автора крупномасштабного плана реконструкции народного хозяйства России посредством сдвига производительных сил на восток, ближе к источникам промышленного сырья (1919).
5. Савицкий в трактате «Месторазвитие русской промышленности» (1932) и Вернадский в «Опыте истории Евразии» (1934) оценили создание советской урало-алтайской каменноугольно-металлургической базы как превращение русской промышленности в «подлинно евразийскую». Причем для Савицкого установление «экономической геологией» наибольшей, сравнительно со всеми другими регионами России-СССР, «полноты естественно-промышленного одарения» в алтайско-енисейско-байкальской ресурсоносной полосе было подтверждением близости «российских исторических заданий» к «геополитической плоти монгольской державы».
6. Применение геополитического подхода к экономической истории России-Евразии привело Савицкого к постановке вопроса о «неевропейскости» континентальных природных условий российского сельского хозяйства (ограничения из-за сухости климата для возможностей многопольного интенсивного земледелия, основанного на посевах корнеплодов и кормовых трав) и континентальной «обездоленности» российской торговли (повышенные издержки сухопутного транспорта сравнительно с водным, особенно морским). Эти формулировки полностью соответствовали выводам российских экономистов по итогам дискуссий конца XIX – начала XX вв. о причинах недоразвитости производительных сил России по сравнению с Западом. Стадиальное отставание России в земледелии проявлялось в «неизбывном» экстенсивном трехполье на фоне перехода Запада к интенсивному многополью и плодосмену (проанализировано экономистами-аграрниками, в том числе аграрно-эволюционной школой Челинцева – Огановского), а также в слабости топливно-металлургической базы ввиду рассредоточенности месторождений угля и железа (отмечено Витте как аргумент в пользу особой важности железнодорожного строительства).
7. Савицкий ввел категорию «вековая технико-экономическая конъюнктура» для анализа влияния структурных сдвигов в мировой экономике на державное положение России. Московское царство, не располагая металлорудными запасами, не могло развить достойной
12
Вернадского, указавшего на концентрацию наибольшего минерального богатства на Алтае и в Забайкалье (1915); директора МВТУ В.И. Гриневецкого, автора крупномасштабного плана реконструкции народного хозяйства России посредством сдвига производительных сил на восток, ближе к источникам промышленного сырья (1919).
5. Савицкий в трактате «Месторазвитие русской промышленности» (1932) и Вернадский в «Опыте истории Евразии» (1934) оценили создание советской урало-алтайской каменноугольно-металлургической базы как превращение русской промышленности в «подлинно евразийскую». Причем для Савицкого установление «экономической геологией» наибольшей, сравнительно со всеми другими регионами России-СССР, «полноты естественно-промышленного одарения» в алтайско-енисейско-байкальской ресурсоносной полосе было подтверждением близости «российских исторических заданий» к «геополитической плоти монгольской державы».
6. Применение геополитического подхода к экономической истории России-Евразии привело Савицкого к постановке вопроса о «неевропейскости» континентальных природных условий российского сельского хозяйства (ограничения из-за сухости климата для возможностей многопольного интенсивного земледелия, основанного на посевах корнеплодов и кормовых трав) и континентальной «обездоленности» российской торговли (повышенные издержки сухопутного транспорта сравнительно с водным, особенно морским). Эти формулировки полностью соответствовали выводам российских экономистов по итогам дискуссий конца XIX – начала XX вв. о причинах недоразвитости производительных сил России по сравнению с Западом. Стадиальное отставание России в земледелии проявлялось в «неизбывном» экстенсивном трехполье на фоне перехода Запада к интенсивному многополью и плодосмену (проанализировано экономистами-аграрниками, в том числе аграрно-эволюционной школой Челинцева – Огановского), а также в слабости топливно-металлургической базы ввиду рассредоточенности месторождений угля и железа (отмечено Витте как аргумент в пользу особой важности железнодорожного строительства).
7. Савицкий ввел категорию «вековая технико-экономическая конъюнктура» для анализа влияния структурных сдвигов в мировой экономике на державное положение России. Московское царство, не располагая металлорудными запасами, не могло развить достойной
13
промышленности. Открытие полноты рудных ресурсов за краем европейской части России – на Урале – обеспечило Петербургской империи вхождение в число великих военных европейских держав. Уральская металлургия завоевала мировое первенство благодаря тому, что Россия была богаче тогдашней Европы универсальным энергопромышленным фактором эпохи – древесным топливом. Англия, столкнувшаяся с недостатком лесов и, следовательно, топлива, была вынуждена ввозить железо из России, которая в середине XVIII в. высоко стояла в области техники и масштаба промышленных предприятий (отмечено Е.В. Тарле в полемичной статье «Была ли екатерининская Россия экономически отсталой страной?).
8. Промышленный переворот с изобретением паровой машины и способа выплавки ковкого железа на коксе обеспечил прорыв в экономическом росте Англии и других западных государств (Бельгия, Германия, США), располагавших богатством каменноугольных и близлежащих железорудных ресурсов. Промышленная традиция России ответить на этот вызов вековой технико-экономической конъюнктуры не смогла – ни Москва, ни Урал не имели запасов ископаемого горючего. Мировое значение уральской металлургии пало. Россия из мирового лидера в производстве и экспорте железа в XVIII в. скатилась в яму промышленной отсталости в XIX в., из которой начала выбираться лишь благодаря освоению окраинных районов, располагавших запасами близко лежащих каменноугольных и железорудных ресурсов (Юг Российской империи – Донбасс-Криворожье) и нефти (Бакинский район).
9. Вклад евразийства в концепцию национальных производительных сил России:
– постановка проблемы «вызов (со стороны вековой технико-экономической конъюнктуры) – ответ»;
– формулировка дилеммы: экономическая примитивизация при изолированности – угроза стать задворками мирового хозяйства при вхождении в свободный «океанический обмен»;
– акцент на «принципе континентальных соседств» и необходимости «соразмерности» государственного и частного начал;
– верное определение вектора смены основных энергоносителей (древесное топливо – каменный уголь – нефть).
10. Недостатки концепции евразийства: – непроработанность концепции государственно-частной
системы хозяйства (общие или декларативные рассуждения);
13
промышленности. Открытие полноты рудных ресурсов за краем европейской части России – на Урале – обеспечило Петербургской империи вхождение в число великих военных европейских держав. Уральская металлургия завоевала мировое первенство благодаря тому, что Россия была богаче тогдашней Европы универсальным энергопромышленным фактором эпохи – древесным топливом. Англия, столкнувшаяся с недостатком лесов и, следовательно, топлива, была вынуждена ввозить железо из России, которая в середине XVIII в. высоко стояла в области техники и масштаба промышленных предприятий (отмечено Е.В. Тарле в полемичной статье «Была ли екатерининская Россия экономически отсталой страной?).
8. Промышленный переворот с изобретением паровой машины и способа выплавки ковкого железа на коксе обеспечил прорыв в экономическом росте Англии и других западных государств (Бельгия, Германия, США), располагавших богатством каменноугольных и близлежащих железорудных ресурсов. Промышленная традиция России ответить на этот вызов вековой технико-экономической конъюнктуры не смогла – ни Москва, ни Урал не имели запасов ископаемого горючего. Мировое значение уральской металлургии пало. Россия из мирового лидера в производстве и экспорте железа в XVIII в. скатилась в яму промышленной отсталости в XIX в., из которой начала выбираться лишь благодаря освоению окраинных районов, располагавших запасами близко лежащих каменноугольных и железорудных ресурсов (Юг Российской империи – Донбасс-Криворожье) и нефти (Бакинский район).
9. Вклад евразийства в концепцию национальных производительных сил России:
– постановка проблемы «вызов (со стороны вековой технико-экономической конъюнктуры) – ответ»;
– формулировка дилеммы: экономическая примитивизация при изолированности – угроза стать задворками мирового хозяйства при вхождении в свободный «океанический обмен»;
– акцент на «принципе континентальных соседств» и необходимости «соразмерности» государственного и частного начал;
– верное определение вектора смены основных энергоносителей (древесное топливо – каменный уголь – нефть).
10. Недостатки концепции евразийства: – непроработанность концепции государственно-частной
системы хозяйства (общие или декларативные рассуждения);
14
– элементы географического детерминизма, делающие выводы уязвимыми перед лицом последующих изменений в экономической геологии (опровергнуто представление ученых первой половины ХХ в. о «зияющем отсутствии минеральных ресурсов в Западной Сибири»);
– зауженное определение универсального промышленного фактора эпохи (минеральные ресурсы, обеспечивающие энергоносители и конструкционные материалы для изготовления основных средств производства);
– преувеличение возможностей «идеократии».
Р.Р. ВахитовЕвразийская критика этнонационализма
1. Национализм – идеология, утверждающая, что полноценное развитие нации невозможно без создания своего государства. В концепции этнонационализма под нацией понимается сообщество, связанное не только общими историей, языком и культурными ценностями, но и общностью происхождения.
2. Евразийцы 1920-1930 гг. выступали против этнонационализма (который они называли «узкий частнонародный национализм») и противопоставляли ему «общеевразийский национализм», в котором нация понималась как многонародное сообщество, основанное не на общности происхождения, а на сходстве культур и общности территории.
3. Основа понимания евразийской нации – метод «онтологического структурализма» (П. Серио), позволяющий увязать географические, климатические, этнографические, языковые и т.д. «миры» и провести границы между многонародными нациями и «месторазвитиями».
4. Евразийская критика этнонационализма связана со структуральной критикой «научных обоснований национализма» – теории языковой семьи, теории эволюции Дарвина и европоцентристской теории истории, причем всем трем теориям в евразийстве были представлены альтернативы: теория языковых союзов, теория номогенеза и теория истории Евразии.
5. Евразийская теория «многонародной нации» – альтернатива не только этническому, но и гражданскому национализму. Ее отличие от гражданского национализма в том, что она не предполагает, будто национальную идентичность индивиды выбирают свободно, в ходе
14
– элементы географического детерминизма, делающие выводы уязвимыми перед лицом последующих изменений в экономической геологии (опровергнуто представление ученых первой половины ХХ в. о «зияющем отсутствии минеральных ресурсов в Западной Сибири»);
– зауженное определение универсального промышленного фактора эпохи (минеральные ресурсы, обеспечивающие энергоносители и конструкционные материалы для изготовления основных средств производства);
– преувеличение возможностей «идеократии».
Р.Р. ВахитовЕвразийская критика этнонационализма
1. Национализм – идеология, утверждающая, что полноценное развитие нации невозможно без создания своего государства. В концепции этнонационализма под нацией понимается сообщество, связанное не только общими историей, языком и культурными ценностями, но и общностью происхождения.
2. Евразийцы 1920-1930 гг. выступали против этнонационализма (который они называли «узкий частнонародный национализм») и противопоставляли ему «общеевразийский национализм», в котором нация понималась как многонародное сообщество, основанное не на общности происхождения, а на сходстве культур и общности территории.
3. Основа понимания евразийской нации – метод «онтологического структурализма» (П. Серио), позволяющий увязать географические, климатические, этнографические, языковые и т.д. «миры» и провести границы между многонародными нациями и «месторазвитиями».
4. Евразийская критика этнонационализма связана со структуральной критикой «научных обоснований национализма» – теории языковой семьи, теории эволюции Дарвина и европоцентристской теории истории, причем всем трем теориям в евразийстве были представлены альтернативы: теория языковых союзов, теория номогенеза и теория истории Евразии.
5. Евразийская теория «многонародной нации» – альтернатива не только этническому, но и гражданскому национализму. Ее отличие от гражданского национализма в том, что она не предполагает, будто национальную идентичность индивиды выбирают свободно, в ходе
15
«ежедневного плебисцита». Согласно евразийству «евразийская идентичность» предопределена структурой, скрытой в культуре и пространстве и организующей их.
Б.Е. Степанов
Дискуссия о Церкви, личности и государствев контексте интеллектуальной истории евразийства
Интеллектуальная история евразийского движения
представляется мне важнейшим направлением, развертывание которого может создать почву для дальнейшего развития исследований евразийства. Итоги более чем 20-летнего периода активной реабилитации этого учения выражены в довольно большом на сегодняшний день количестве опытов систематической характеристики учения – нейтральных, апологетических или критических по своему пафосу, связанных со стремлением показать идеологическую актуальность размышлений евразийцев или, наоборот, ограничить деятельность некоторых участников движения сугубо культурными или научными рамками. Интеллектуальная история позволяет сформировать более объективный взгляд на соотношение науки, культуры и политики в интеллектуальном творчестве евразийцев, осмыслить процессуальность формирования евразийского учения, учесть все многообразие контекстов творчества евразийцев – от «большой» истории идей до локальной политической конъюнктуры, и, наконец, поставить вопрос о тех импульсах, которые сегодня побуждают актуализировать тот или иной пласт евразийского наследия.
Одним из важных направлений развития такого рода исследовательской программы можно считать изучение споров, разворачивавшихся внутри движения. В докладе будут намечены возможности осмысления дискуссии вокруг статьи Л.П. Карсавина «О Церкви, личности и государстве», имевшей место в 1925-1927 гг. и оказавшей влияние как на идеологические манифесты евразийцев, так и на их авторские труды. Материалы дискуссии позволяют увязать процесс идеологического творчества с организационной эволюцией движения, дают ключи к пониманию политической конъюнктуры, обуславливавшей деятельность евразийцев в середине 1920 гг. Таким образом, евразийское учение предлагается рассматривать не только как результат единодушного самоопределения, но и как форму идейного компромисса, достигнутого участниками на данном этапе
15
«ежедневного плебисцита». Согласно евразийству «евразийская идентичность» предопределена структурой, скрытой в культуре и пространстве и организующей их.
Б.Е. Степанов
Дискуссия о Церкви, личности и государствев контексте интеллектуальной истории евразийства
Интеллектуальная история евразийского движения
представляется мне важнейшим направлением, развертывание которого может создать почву для дальнейшего развития исследований евразийства. Итоги более чем 20-летнего периода активной реабилитации этого учения выражены в довольно большом на сегодняшний день количестве опытов систематической характеристики учения – нейтральных, апологетических или критических по своему пафосу, связанных со стремлением показать идеологическую актуальность размышлений евразийцев или, наоборот, ограничить деятельность некоторых участников движения сугубо культурными или научными рамками. Интеллектуальная история позволяет сформировать более объективный взгляд на соотношение науки, культуры и политики в интеллектуальном творчестве евразийцев, осмыслить процессуальность формирования евразийского учения, учесть все многообразие контекстов творчества евразийцев – от «большой» истории идей до локальной политической конъюнктуры, и, наконец, поставить вопрос о тех импульсах, которые сегодня побуждают актуализировать тот или иной пласт евразийского наследия.
Одним из важных направлений развития такого рода исследовательской программы можно считать изучение споров, разворачивавшихся внутри движения. В докладе будут намечены возможности осмысления дискуссии вокруг статьи Л.П. Карсавина «О Церкви, личности и государстве», имевшей место в 1925-1927 гг. и оказавшей влияние как на идеологические манифесты евразийцев, так и на их авторские труды. Материалы дискуссии позволяют увязать процесс идеологического творчества с организационной эволюцией движения, дают ключи к пониманию политической конъюнктуры, обуславливавшей деятельность евразийцев в середине 1920 гг. Таким образом, евразийское учение предлагается рассматривать не только как результат единодушного самоопределения, но и как форму идейного компромисса, достигнутого участниками на данном этапе
16
движения. Связь данной дискуссии с полемикой Н.С. Трубецкого и П.С. Арапова о нации и государстве обнаруживает процесс переоценки значения «нации» как одной из наиболее значимых на первом этапе развития евразийской идеологии категорий.
Проблематика религиозности, вокруг которой разворачивается описываемая дискуссия, является одной из важнейших составляющих имперских идеологий в целом. Таким образом, материалы дискуссии дают нам новую перспективу характеристики евразийской идеологии как имперской (наиболее подробное описание евразийства сквозь призму имперской проблематики см. в работах М. Ларюэль, 2004, и С. Глебова, 2010). В порядке предварительной и упрощенной характеристики можно указать на две конфликтующих стратегии обращения к религии: в одних случаях, оно служит абсолютизации культуры и легитимации государства, а в других – введению этического и экзистенциального измерения в рефлексию о политике, государстве и войне. В исторической перспективе подобное обсуждение проблематики интересно с точки зрения выбора и интерпретации исторических примеров, привлекаемых участниками дискуссии.
А.С. Карцов Русский консерватизм и евразийство:
некоторые параллели (правовой аспект)
1. Национализм, будучи одним из ключевых компонентов идеологии русского консерватизма, вместе с тем проявлял себя в разных вариациях. Так, существовал этатистски ориентированный политический национализм, ценивший русский субстрат прежде всего в качестве начала, сплачивающего разноплеменное и многоконфессиональное сообщество в мощное государство. Но также существовал и культур-национализм. Для него главной ценностью являлись не столько политические институты, не государство, руководимое имперской нацией, сколько «русскость» в качестве духовного феномена. В определении конкретного наполнения культурного базиса национального самосознания культур-националисты не были однородны. Если для одних первоначалом выступало православие (классические славянофилы и некоторые группы их последователей на рубеже XIX-XX вв.), для других – принадлежность к славянству как этнокультурной общности (т.н.
16
движения. Связь данной дискуссии с полемикой Н.С. Трубецкого и П.С. Арапова о нации и государстве обнаруживает процесс переоценки значения «нации» как одной из наиболее значимых на первом этапе развития евразийской идеологии категорий.
Проблематика религиозности, вокруг которой разворачивается описываемая дискуссия, является одной из важнейших составляющих имперских идеологий в целом. Таким образом, материалы дискуссии дают нам новую перспективу характеристики евразийской идеологии как имперской (наиболее подробное описание евразийства сквозь призму имперской проблематики см. в работах М. Ларюэль, 2004, и С. Глебова, 2010). В порядке предварительной и упрощенной характеристики можно указать на две конфликтующих стратегии обращения к религии: в одних случаях, оно служит абсолютизации культуры и легитимации государства, а в других – введению этического и экзистенциального измерения в рефлексию о политике, государстве и войне. В исторической перспективе подобное обсуждение проблематики интересно с точки зрения выбора и интерпретации исторических примеров, привлекаемых участниками дискуссии.
А.С. Карцов Русский консерватизм и евразийство:
некоторые параллели (правовой аспект)
1. Национализм, будучи одним из ключевых компонентов идеологии русского консерватизма, вместе с тем проявлял себя в разных вариациях. Так, существовал этатистски ориентированный политический национализм, ценивший русский субстрат прежде всего в качестве начала, сплачивающего разноплеменное и многоконфессиональное сообщество в мощное государство. Но также существовал и культур-национализм. Для него главной ценностью являлись не столько политические институты, не государство, руководимое имперской нацией, сколько «русскость» в качестве духовного феномена. В определении конкретного наполнения культурного базиса национального самосознания культур-националисты не были однородны. Если для одних первоначалом выступало православие (классические славянофилы и некоторые группы их последователей на рубеже XIX-XX вв.), для других – принадлежность к славянству как этнокультурной общности (т.н.
17
панслависты), то третьи выдвигали на первый план ориентальные начала, сближающие русскую ментальность с азиатской в противоположность картине мира, культивируемой западным мировоззрением.
2. Соответствующие интенции культур-национализма проявляли себя и в правовой идеологии русского консерватизма. Консерваторы, тяготевшие к данному направлению культур-национализма, которое условно можно обозначить «праевразийским», акцентировали неприемлемость для сознания, основанного на неевропейском культурном типе, фундаментальных устоев западной цивилизации, включая принципы частноправового оборота (принцип свободы договора и т.д.). В том числе, по их убеждению, правосознание русского человека стоит гораздо ближе к правосознанию восточных народов, чем к правосознанию, свойственному народам Запада.
3. Зло теории права, возобладавшей в современности, многие консерваторы усматривали в «посеянном кантианцами нравственном дальтонизме», в превращении индивидуальных моральных представлений, высвобожденных от религиозной сердцевины, в безусловный аксиологический камертон для области юридически должного. Этому подходу, являющемуся плотью от плоти европейской культуры, консервативные «праевразийцы» противополагали примеры, почерпнутые из других культурных практик и представлявшие, с их точки зрения, гармоничное единение религиозного, морального и юридического. В их работах такие рассуждения нередко озвучивались от лица стороннего наблюдателя-азиата. В частности, сквозь призму восприятия «ученого китайца» анализировался разрыв между юридическим и моральным, неумолимо усиливающийся в условиях переживающего модернизацию общества. Антитезой этих процессов выставлялся порядок вещей, бытующий в традиционных обществах Востока, избавленных от нравственного релятивизма, иссушающего позитивное право и отравляющего правосознание.
4. Наряду с противопоставлением славянской и романо-германской правовых семей, появляются и иные разделительные линии, воспринимаемые в качестве критериальных для национальной правовой идентичности. Предвестием появившегося спустя полвека евразийства можно считать пристальный интерес профессора Ф.И. Леонтовича к монгольскому праву, а также идеи профессора А.Ф. Кистяковского о глубоком и во многом благотворном воздействии на русское право монголо-тюркского элемента.
17
панслависты), то третьи выдвигали на первый план ориентальные начала, сближающие русскую ментальность с азиатской в противоположность картине мира, культивируемой западным мировоззрением.
2. Соответствующие интенции культур-национализма проявляли себя и в правовой идеологии русского консерватизма. Консерваторы, тяготевшие к данному направлению культур-национализма, которое условно можно обозначить «праевразийским», акцентировали неприемлемость для сознания, основанного на неевропейском культурном типе, фундаментальных устоев западной цивилизации, включая принципы частноправового оборота (принцип свободы договора и т.д.). В том числе, по их убеждению, правосознание русского человека стоит гораздо ближе к правосознанию восточных народов, чем к правосознанию, свойственному народам Запада.
3. Зло теории права, возобладавшей в современности, многие консерваторы усматривали в «посеянном кантианцами нравственном дальтонизме», в превращении индивидуальных моральных представлений, высвобожденных от религиозной сердцевины, в безусловный аксиологический камертон для области юридически должного. Этому подходу, являющемуся плотью от плоти европейской культуры, консервативные «праевразийцы» противополагали примеры, почерпнутые из других культурных практик и представлявшие, с их точки зрения, гармоничное единение религиозного, морального и юридического. В их работах такие рассуждения нередко озвучивались от лица стороннего наблюдателя-азиата. В частности, сквозь призму восприятия «ученого китайца» анализировался разрыв между юридическим и моральным, неумолимо усиливающийся в условиях переживающего модернизацию общества. Антитезой этих процессов выставлялся порядок вещей, бытующий в традиционных обществах Востока, избавленных от нравственного релятивизма, иссушающего позитивное право и отравляющего правосознание.
4. Наряду с противопоставлением славянской и романо-германской правовых семей, появляются и иные разделительные линии, воспринимаемые в качестве критериальных для национальной правовой идентичности. Предвестием появившегося спустя полвека евразийства можно считать пристальный интерес профессора Ф.И. Леонтовича к монгольскому праву, а также идеи профессора А.Ф. Кистяковского о глубоком и во многом благотворном воздействии на русское право монголо-тюркского элемента.
18
5. Отказывая суду присяжных в универсальной пригодности, приписывавшейся этой форме судоустройства либеральными юристами, консерваторы предлагали не забывать про ограничения, налагаемые уровнем правовой культуры. Так, по их мнению, введение суда присяжных на азиатской периферии империи – на Кавказе и в Туркестане – было сугубо преждевременно. И политические националисты (побуждаемые имперскими мотивами), и культур-националисты (побуждаемые представлениями о многомерности, а не однолинейности правового развития) утверждали, что с учетом особенностей национальной психологии суд присяжных в этих краях служит лишь прикрытием для преступников, а не орудием их кары. Так, например, при обсуждении возможного введения Уставов у «калмыков Астраханской губернии и во внутренних киргизских ордах» среди причин, по которым в инородческих областях не должно быть многоинстанционности, а административная власть не может быть полностью отделена от судебной, консерваторы называли и коренные расхождения в правовой культуре, отделяющие Восток от Запада.
6. В качестве новой генерации русских правых, появившейся в условиях послереволюционного рассеяния, евразийцы во многом восприняли стержневую тему правовой идеологии дореволюционного русского консерватизма – критику юридического идеализма, преувеличения роли правовых инструментов в регулировании общественных процессов.
А.Н. ДмитриевЕвразийство и сменовеховство
В отличие от бума исследований евразийства в 1990-2000 гг. сменовеховство (несмотря на содержательные публикации Х. Хардеман, М. Колерова, А. Квакина, Е. Динерштейна, Т. Крауса и др.) остается скорее в тени исследовательского интереса. Между тем социально-идеологические и политико-правовые аспекты пореволюционного развития оценивались представителями этих групп во многом в сходном ключе – в отличие от либералов или представителей старшего поколения эмиграции. Что их объединяло, помимо общих истоков (идей П.Г. Струве 1910-х гг.), вместе с парадоксальной попыткой позитивной оценки значения социального переворота 1917-1920гг.? Явным дефицитом остаются попытки
18
5. Отказывая суду присяжных в универсальной пригодности, приписывавшейся этой форме судоустройства либеральными юристами, консерваторы предлагали не забывать про ограничения, налагаемые уровнем правовой культуры. Так, по их мнению, введение суда присяжных на азиатской периферии империи – на Кавказе и в Туркестане – было сугубо преждевременно. И политические националисты (побуждаемые имперскими мотивами), и культур-националисты (побуждаемые представлениями о многомерности, а не однолинейности правового развития) утверждали, что с учетом особенностей национальной психологии суд присяжных в этих краях служит лишь прикрытием для преступников, а не орудием их кары. Так, например, при обсуждении возможного введения Уставов у «калмыков Астраханской губернии и во внутренних киргизских ордах» среди причин, по которым в инородческих областях не должно быть многоинстанционности, а административная власть не может быть полностью отделена от судебной, консерваторы называли и коренные расхождения в правовой культуре, отделяющие Восток от Запада.
6. В качестве новой генерации русских правых, появившейся в условиях послереволюционного рассеяния, евразийцы во многом восприняли стержневую тему правовой идеологии дореволюционного русского консерватизма – критику юридического идеализма, преувеличения роли правовых инструментов в регулировании общественных процессов.
А.Н. ДмитриевЕвразийство и сменовеховство
В отличие от бума исследований евразийства в 1990-2000 гг. сменовеховство (несмотря на содержательные публикации Х. Хардеман, М. Колерова, А. Квакина, Е. Динерштейна, Т. Крауса и др.) остается скорее в тени исследовательского интереса. Между тем социально-идеологические и политико-правовые аспекты пореволюционного развития оценивались представителями этих групп во многом в сходном ключе – в отличие от либералов или представителей старшего поколения эмиграции. Что их объединяло, помимо общих истоков (идей П.Г. Струве 1910-х гг.), вместе с парадоксальной попыткой позитивной оценки значения социального переворота 1917-1920гг.? Явным дефицитом остаются попытки
19
анализа и евразийства, и особенно сменовеховства в плане историко-научного содержания этих течений.
1. В докладе будет уделено внимание важным перекличкам взглядов представителей обеих групп (в частности, проанализировано письмо Н.В. Устрялова П.П. Сувчинскому 1926 года и переписка самих евразийцев и сменовеховцев «в своем кругу»). При этом особенно важно подчеркнуть различие «идеократических» установок ранних евразийцев и секулярного «макиавеллизма» сменовеховцев, принципиально несхожие подходы к оценкам религиозного мировоззрения как горизонта политического и социального действия, совершенно разные оценки петровских реформ, петербургского периода российской истории и идей модернизации в целом.
2. Это сравнение касается и более общего и непростого вопроса о значимости наследия этих двух групп в общем развитии европейской и русской мысли прошедшего столетия. Вопрос не в пресловутой «актуальности», как полагали многие в 1990-е гг. (не только из числа адептов А.Г. Дугина) – в этом смысле более привязанная к короткому периоду первой половины 1920-х мысль сменовеховцев может считаться менее экзотичной и более репрезентативной в смысле отражения узла реальных противоречий нэповского развития страны, чем вдохновенная историософия евразийцев. Компаративный аспект изучения двух групп должен быть расширен за счет анализа европейского интеллектуального контекста их деятельности (сочинения Макса Шелера, Карла Манхейма, Карла Шмитта, трудов теоретиков социал-демократии той эпохи) – эта тема тоже остается пока скорее маргинальной для историографии.
3. В связи с более поздними новациями левых евразийцев («кламарской» группы) следует, на наш взгляд, по-новому проанализировать подцензурные публикации в СССР «левых сменовеховцев» (И. Лежнева, В. Тан-Богораза) – например, в том, насколько опыт быстрого заката сменовеховства учитывался в дальнейшей эволюции евразийства, как повлиял на эволюцию и размежевания внутри этого течения.
4. Наконец, в перспективе истории социальных и правовых наук будет отмечен особый «дилетантский» и практический статус ключевых идей сменовеховства и евразийства относительно академического мейнстрима той кризисной эпохи. Необходимо проанализировать связь перемен в научном мировоззрении той эпохи с общими идейными установками двух пореволюционных групп.
19
анализа и евразийства, и особенно сменовеховства в плане историко-научного содержания этих течений.
1. В докладе будет уделено внимание важным перекличкам взглядов представителей обеих групп (в частности, проанализировано письмо Н.В. Устрялова П.П. Сувчинскому 1926 года и переписка самих евразийцев и сменовеховцев «в своем кругу»). При этом особенно важно подчеркнуть различие «идеократических» установок ранних евразийцев и секулярного «макиавеллизма» сменовеховцев, принципиально несхожие подходы к оценкам религиозного мировоззрения как горизонта политического и социального действия, совершенно разные оценки петровских реформ, петербургского периода российской истории и идей модернизации в целом.
2. Это сравнение касается и более общего и непростого вопроса о значимости наследия этих двух групп в общем развитии европейской и русской мысли прошедшего столетия. Вопрос не в пресловутой «актуальности», как полагали многие в 1990-е гг. (не только из числа адептов А.Г. Дугина) – в этом смысле более привязанная к короткому периоду первой половины 1920-х мысль сменовеховцев может считаться менее экзотичной и более репрезентативной в смысле отражения узла реальных противоречий нэповского развития страны, чем вдохновенная историософия евразийцев. Компаративный аспект изучения двух групп должен быть расширен за счет анализа европейского интеллектуального контекста их деятельности (сочинения Макса Шелера, Карла Манхейма, Карла Шмитта, трудов теоретиков социал-демократии той эпохи) – эта тема тоже остается пока скорее маргинальной для историографии.
3. В связи с более поздними новациями левых евразийцев («кламарской» группы) следует, на наш взгляд, по-новому проанализировать подцензурные публикации в СССР «левых сменовеховцев» (И. Лежнева, В. Тан-Богораза) – например, в том, насколько опыт быстрого заката сменовеховства учитывался в дальнейшей эволюции евразийства, как повлиял на эволюцию и размежевания внутри этого течения.
4. Наконец, в перспективе истории социальных и правовых наук будет отмечен особый «дилетантский» и практический статус ключевых идей сменовеховства и евразийства относительно академического мейнстрима той кризисной эпохи. Необходимо проанализировать связь перемен в научном мировоззрении той эпохи с общими идейными установками двух пореволюционных групп.
20
Стенограмма Б.В. Назмутдинов: Добрый день, уважаемые участники
круглого стола «Политико-правовые аспекты классического евразийства»! Я рад вас приветствовать в этой аудитории. Владимир Вернадский (отец евразийца Георгия Вернадского) однажды сказал: «Ученые собираются не по дисциплинам, а по проблемам, которые их волнуют». И евразийство, а именно классическое евразийство, – та проблема, которая объединяет ученых, исследователей самых разных дисциплинарных полей. Сегодня здесь собрались не только юристы, но и философы, историки, экономисты, филологи.
Так, почему мы сегодня собрались здесь? Есть множество поводов и несколько причин. Среди поводов, прежде всего, активные дискуссии по поводу создания Евразийского союза, обозначаемые современным российским руководством. Поводом также является 100-летие со дня рождения Л.Н. Гумилева – того, кто называл себя «последним евразийцем», хотя чаще его относят к неоевразийцам. Однако причина сегодняшнего круглого стола – накопление определенного критического количества статей, материалов, которые нуждаются в осмыслении. И задача, идея сегодняшнего собрания – в том, чтобы люди, ассоциирующие себя с исследованием евразийства, позиционирующие себя исследователями евразийства, смогли задать друг другу вопросы, обменяться мнениями. Сегодня проводится не конференция, но скорее формируется рабочая площадка, на которой докладчики, исследующие отдельные вопросы евразийства, могли бы высказывать свои идеи осведомленному о евразийстве кругу людей. Поэтому задача «стола» – не останавливаться на общекультурологической проблематике евразийства, которая многим достаточно хорошо известна, а открывать и анализировать неизвестные стороны евразийства. Самое интересное в этом случае – находить собственные ошибки, пытаться увидеть какие-то новые горизонты. Думаю, самая замечательная задача сегодня – подсказать исследователю, которого вы услышите, новые, неизведанные точки отсчета. И само обсуждение будет здесь крайне полезно.
Позвольте представить участников нашего сегодняшнего круглого стола: Борис Степанов – кандидат культурологии, доцент кафедры наук о культуре НИУ ВШЭ; Рустем Ринатович Вахитов – кандидат философских наук, представляет кафедру философии и социологии БашГУ; Георгий Гловели – доктор экономических наук, представляет факультет экономики НИУ ВШЭ; Мартин Байссвенгер,
20
Стенограмма Б.В. Назмутдинов: Добрый день, уважаемые участники
круглого стола «Политико-правовые аспекты классического евразийства»! Я рад вас приветствовать в этой аудитории. Владимир Вернадский (отец евразийца Георгия Вернадского) однажды сказал: «Ученые собираются не по дисциплинам, а по проблемам, которые их волнуют». И евразийство, а именно классическое евразийство, – та проблема, которая объединяет ученых, исследователей самых разных дисциплинарных полей. Сегодня здесь собрались не только юристы, но и философы, историки, экономисты, филологи.
Так, почему мы сегодня собрались здесь? Есть множество поводов и несколько причин. Среди поводов, прежде всего, активные дискуссии по поводу создания Евразийского союза, обозначаемые современным российским руководством. Поводом также является 100-летие со дня рождения Л.Н. Гумилева – того, кто называл себя «последним евразийцем», хотя чаще его относят к неоевразийцам. Однако причина сегодняшнего круглого стола – накопление определенного критического количества статей, материалов, которые нуждаются в осмыслении. И задача, идея сегодняшнего собрания – в том, чтобы люди, ассоциирующие себя с исследованием евразийства, позиционирующие себя исследователями евразийства, смогли задать друг другу вопросы, обменяться мнениями. Сегодня проводится не конференция, но скорее формируется рабочая площадка, на которой докладчики, исследующие отдельные вопросы евразийства, могли бы высказывать свои идеи осведомленному о евразийстве кругу людей. Поэтому задача «стола» – не останавливаться на общекультурологической проблематике евразийства, которая многим достаточно хорошо известна, а открывать и анализировать неизвестные стороны евразийства. Самое интересное в этом случае – находить собственные ошибки, пытаться увидеть какие-то новые горизонты. Думаю, самая замечательная задача сегодня – подсказать исследователю, которого вы услышите, новые, неизведанные точки отсчета. И само обсуждение будет здесь крайне полезно.
Позвольте представить участников нашего сегодняшнего круглого стола: Борис Степанов – кандидат культурологии, доцент кафедры наук о культуре НИУ ВШЭ; Рустем Ринатович Вахитов – кандидат философских наук, представляет кафедру философии и социологии БашГУ; Георгий Гловели – доктор экономических наук, представляет факультет экономики НИУ ВШЭ; Мартин Байссвенгер,
21
PhD, занимается П.Н. Савицким, представляет МГУ им. М.В. Ломоносова; Владимир Карпец – доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения НИУ ВШЭ; и я ведущий, модератор Булат Назмутдинов – преподаватель кафедры теории права НИУ ВШЭ. Мы ожидаем в скором времени Александра Дмитриева (коллегу Бориса Степанова по ИГИТИ НИУ ВШЭ) и Анастасию Гачеву, ведущего научного сотрудника ИМЛИ РАН.
Во времени мы сегодня не ограничены, ограничены лишь в физических возможностях – усидчивости, усталости и т.д. Поэтому я призываю вас к активному обсуждению. Игорь Андреевич Исаев, к сожалению, не смог сегодня присутствовать, и первый по счету доклад прочту я.
Тема моего доклада: «Существовала ли в действительности евразийская школа права?». Заявленный в докладе вопрос возник во многом потому, что в отличие от политического евразийства правовое евразийство не получило четкого оформления. Юристы гораздо меньше заинтересованы в изучении евразийства, чем политологи, культурологи или философы. Правовые воззрения евразийцев рассматриваются обычно лишь в связи с их политическими взглядами. Чем обусловлена эта логика, почему нет устойчивого выражения «правовая школа евразийцев» или «евразийская школа права»? Правомерен ли сам вопрос о юридических аспектах евразийства? Очень часто спрашивают: «Что собственно в евразийстве правового? Есть ли тут вообще право?». Налицо некий вопрос, на который нужно ответить. Вопрос в названии доклада сформулирован скорее методологически: «Существовала ли евразийская школа права? Пользуясь методологической посылкой, я постараюсь ответить на вопрос: каковы правовые аспекты классического евразийства?
При ответе на первый вопрос (касательно правовой школы) нужно исходить из некоторых базовых критериев выявления такой школы. Прежде всего, к ним относятся институциональное и идейное единство. Причем первична здесь идейная общность – общность взглядов на природу права, его основания, общие правовая терминология, принципы изучения права, ключевые понятия (договор, правомочие, обязанность). Исходя из этого возникает единство мысли, которое даже важнее, чем институциональное единство – сплоченность участников вокруг единого лидера, осознание себя как целого, отличение от других. Исходя из этих параметров (институционального и идейного), юристы выделяют обычно историческую школа права, школу «свободного права», школу «правовых реалистов». Всем им присущи не только какая-то
21
PhD, занимается П.Н. Савицким, представляет МГУ им. М.В. Ломоносова; Владимир Карпец – доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения НИУ ВШЭ; и я ведущий, модератор Булат Назмутдинов – преподаватель кафедры теории права НИУ ВШЭ. Мы ожидаем в скором времени Александра Дмитриева (коллегу Бориса Степанова по ИГИТИ НИУ ВШЭ) и Анастасию Гачеву, ведущего научного сотрудника ИМЛИ РАН.
Во времени мы сегодня не ограничены, ограничены лишь в физических возможностях – усидчивости, усталости и т.д. Поэтому я призываю вас к активному обсуждению. Игорь Андреевич Исаев, к сожалению, не смог сегодня присутствовать, и первый по счету доклад прочту я.
Тема моего доклада: «Существовала ли в действительности евразийская школа права?». Заявленный в докладе вопрос возник во многом потому, что в отличие от политического евразийства правовое евразийство не получило четкого оформления. Юристы гораздо меньше заинтересованы в изучении евразийства, чем политологи, культурологи или философы. Правовые воззрения евразийцев рассматриваются обычно лишь в связи с их политическими взглядами. Чем обусловлена эта логика, почему нет устойчивого выражения «правовая школа евразийцев» или «евразийская школа права»? Правомерен ли сам вопрос о юридических аспектах евразийства? Очень часто спрашивают: «Что собственно в евразийстве правового? Есть ли тут вообще право?». Налицо некий вопрос, на который нужно ответить. Вопрос в названии доклада сформулирован скорее методологически: «Существовала ли евразийская школа права? Пользуясь методологической посылкой, я постараюсь ответить на вопрос: каковы правовые аспекты классического евразийства?
При ответе на первый вопрос (касательно правовой школы) нужно исходить из некоторых базовых критериев выявления такой школы. Прежде всего, к ним относятся институциональное и идейное единство. Причем первична здесь идейная общность – общность взглядов на природу права, его основания, общие правовая терминология, принципы изучения права, ключевые понятия (договор, правомочие, обязанность). Исходя из этого возникает единство мысли, которое даже важнее, чем институциональное единство – сплоченность участников вокруг единого лидера, осознание себя как целого, отличение от других. Исходя из этих параметров (институционального и идейного), юристы выделяют обычно историческую школа права, школу «свободного права», школу «правовых реалистов». Всем им присущи не только какая-то
22
институциональная сторона. Да, у них был руководитель, у него были ученики, были конкурирующие течения внутри самой школы, было общее поле для обсуждения. Однако идейная общность в этом случае гораздо важнее.
Эти же критерии – идейная и институциональная общность – мы берем за основу при анализе правовых аспектов евразийства. Начнем с институционального момента. Евразийская школа права могла бы основываться на относительном единстве евразийского движения. Кто из евразийцев писал на правовую тематику? Прежде всего, Николай Алексеев – автор, примкнувший к евразийству в 1926 году. Дипломированный юрист, он был причастен дореволюционной юриспруденции, был профессором Московского коммерческого института. Также о праве писал Лев Карсавин – философ, историк преподававший в Санкт-Петербургском университете. Он был «юристом» постольку поскольку: в некоторых философских трудах Карсавина отдельные фрагменты посвящались проблемам философии права. В начале 1920-х гг. к евразийцам примкнул «гражданский» историк Георгий Вернадский, чьи исторические труды также посвящались правовым вопросам. Речь прежде всего идет о работе, посвященной праву имперской России XVIII-XIX вв., и исследовании конца 1930-х гг. о Ясе Чингисхана, очень интересном именно в контексте евразийства. Среди евразийцев также был автор, оставивший яркий след, по сути, одной статьей, – Николай Дунаев, чья работа называлась «Правомочие и его виды» (1931). Классики евразийства Николай Трубецкой и Петр Савицкий о праве почти не писали. Они в определенном значении были идеологами и вопросов права касались нечасто. Наконец, юристами по образованию, но не по роду деятельности были Яков Садовский (в процессе учебы он занимался финансовым правом) и Константин Чхеидзе. Работа Чхеидзе, которую он защитил как дипломную на Русском юридическом факультете г. Праги называлась «Опыт анализа социальных норм». На нашем факультете права, вероятно, вряд ли бы утвердили такую тему, поскольку она все-таки социологическая, но тем не менее Чхеидзе защищал именно эту работу.
Между названными мной авторами была некоторая общность, пусть даже они находились в евразийском движении в разное время. Например, очень интересно, как Чхеидзе пишет Алексееву: он очень трогательно говорит о тех замечательных аналитических вершинах, на которые поднимает Алексеев своих учеников. Это такая лояльность, оммаж учителю – в евразийстве существовала определенная иерархия.
22
институциональная сторона. Да, у них был руководитель, у него были ученики, были конкурирующие течения внутри самой школы, было общее поле для обсуждения. Однако идейная общность в этом случае гораздо важнее.
Эти же критерии – идейная и институциональная общность – мы берем за основу при анализе правовых аспектов евразийства. Начнем с институционального момента. Евразийская школа права могла бы основываться на относительном единстве евразийского движения. Кто из евразийцев писал на правовую тематику? Прежде всего, Николай Алексеев – автор, примкнувший к евразийству в 1926 году. Дипломированный юрист, он был причастен дореволюционной юриспруденции, был профессором Московского коммерческого института. Также о праве писал Лев Карсавин – философ, историк преподававший в Санкт-Петербургском университете. Он был «юристом» постольку поскольку: в некоторых философских трудах Карсавина отдельные фрагменты посвящались проблемам философии права. В начале 1920-х гг. к евразийцам примкнул «гражданский» историк Георгий Вернадский, чьи исторические труды также посвящались правовым вопросам. Речь прежде всего идет о работе, посвященной праву имперской России XVIII-XIX вв., и исследовании конца 1930-х гг. о Ясе Чингисхана, очень интересном именно в контексте евразийства. Среди евразийцев также был автор, оставивший яркий след, по сути, одной статьей, – Николай Дунаев, чья работа называлась «Правомочие и его виды» (1931). Классики евразийства Николай Трубецкой и Петр Савицкий о праве почти не писали. Они в определенном значении были идеологами и вопросов права касались нечасто. Наконец, юристами по образованию, но не по роду деятельности были Яков Садовский (в процессе учебы он занимался финансовым правом) и Константин Чхеидзе. Работа Чхеидзе, которую он защитил как дипломную на Русском юридическом факультете г. Праги называлась «Опыт анализа социальных норм». На нашем факультете права, вероятно, вряд ли бы утвердили такую тему, поскольку она все-таки социологическая, но тем не менее Чхеидзе защищал именно эту работу.
Между названными мной авторами была некоторая общность, пусть даже они находились в евразийском движении в разное время. Например, очень интересно, как Чхеидзе пишет Алексееву: он очень трогательно говорит о тех замечательных аналитических вершинах, на которые поднимает Алексеев своих учеников. Это такая лояльность, оммаж учителю – в евразийстве существовала определенная иерархия.
23
Движение создавало определенный институциональный фундамент для правовой школы.
Другой институцией, которая могла бы стать основой евразийской правовой школы, был Русский юридический факультет г. Праги (РЮФ), основанный в начале 1920-х гг. Деканом его был Павел Новгородцев – известный дореволюционный юрист и пореволюционный общественный деятель. Он приглашал многих подданных бывшей Российской империи преподавать и учиться в Праге. Среди тех, кто там оказался, были Алексеев, Вернадский, Савицкий, Дунаев, Чхеидзе, Садовский. Большинство авторов, писавших о праве в евразийских изданиях, были причастны РЮФу. Не все, конечно, причем евразийцы были связаны с ним в разное время. Так, Георгий Флоровский, защищавший у Новгородцева работу по Герцену, был здесь в начале 1920 гг. Дунаев заканчивал учебу в конце 1920-х – начале 1930-х гг.
К сожалению, или, может быть, к счастью, Факультет не стал институциональной базой евразийской правовой школы. Почему? Во-первых, здесь преподавали непримиримые противники евразийства. Прежде всего, это Александр Кизеветтер – дореволюционный историк, писавший о евразийцах весьма снисходительно: «Н.С. Трубецкой – это ученый, а Г.В. Вернадский совершенно ненаучен, хотя и учил его в Московском университете...». То есть, что называется, «отойдите–подвиньтесь». Георгий Гурвич был один из самых ярких и языкастых противников евразийцев, он их критиковал буквально на всех фронтах, начиная с Савицкого, заканчивая Алексеевым. Единственный, о ком Гурвич отзывался лицеприятно, – Лев Карсавин. Все остальные евразийцы получали от него изрядную порцию критики. Наконец, Петр Струве, но о нем, вероятно, расскажет подробнее Мартин Байссвенгер.
Возникает ключевой вопрос: если хоть какой-то институциональный фон для создания правовой школы существовал, то можно ли говорить об идейной общности евразийцев – именно в вопросах права? Важно подчеркнуть, как обозначилась в евразийстве правовая проблематика, была ли она для него органична. Любопытно, что первым автором, написавшим о праве в евразийских изданиях, был Мстислав Шахматов, которого евразийцы своим не признавали. Если они и не писали о нем откровенные гадости, то выбирали, скажем так, весьма радикальные формулировки. Флоровский сильно ругал, Алексеев писал, что Шахматов неспособен к изучению истории политических идей, Трубецкой не считал его «своим». Шахматов был тем, кого евразийцы называли «спецом», приглашенным ученым,
23
Движение создавало определенный институциональный фундамент для правовой школы.
Другой институцией, которая могла бы стать основой евразийской правовой школы, был Русский юридический факультет г. Праги (РЮФ), основанный в начале 1920-х гг. Деканом его был Павел Новгородцев – известный дореволюционный юрист и пореволюционный общественный деятель. Он приглашал многих подданных бывшей Российской империи преподавать и учиться в Праге. Среди тех, кто там оказался, были Алексеев, Вернадский, Савицкий, Дунаев, Чхеидзе, Садовский. Большинство авторов, писавших о праве в евразийских изданиях, были причастны РЮФу. Не все, конечно, причем евразийцы были связаны с ним в разное время. Так, Георгий Флоровский, защищавший у Новгородцева работу по Герцену, был здесь в начале 1920 гг. Дунаев заканчивал учебу в конце 1920-х – начале 1930-х гг.
К сожалению, или, может быть, к счастью, Факультет не стал институциональной базой евразийской правовой школы. Почему? Во-первых, здесь преподавали непримиримые противники евразийства. Прежде всего, это Александр Кизеветтер – дореволюционный историк, писавший о евразийцах весьма снисходительно: «Н.С. Трубецкой – это ученый, а Г.В. Вернадский совершенно ненаучен, хотя и учил его в Московском университете...». То есть, что называется, «отойдите–подвиньтесь». Георгий Гурвич был один из самых ярких и языкастых противников евразийцев, он их критиковал буквально на всех фронтах, начиная с Савицкого, заканчивая Алексеевым. Единственный, о ком Гурвич отзывался лицеприятно, – Лев Карсавин. Все остальные евразийцы получали от него изрядную порцию критики. Наконец, Петр Струве, но о нем, вероятно, расскажет подробнее Мартин Байссвенгер.
Возникает ключевой вопрос: если хоть какой-то институциональный фон для создания правовой школы существовал, то можно ли говорить об идейной общности евразийцев – именно в вопросах права? Важно подчеркнуть, как обозначилась в евразийстве правовая проблематика, была ли она для него органична. Любопытно, что первым автором, написавшим о праве в евразийских изданиях, был Мстислав Шахматов, которого евразийцы своим не признавали. Если они и не писали о нем откровенные гадости, то выбирали, скажем так, весьма радикальные формулировки. Флоровский сильно ругал, Алексеев писал, что Шахматов неспособен к изучению истории политических идей, Трубецкой не считал его «своим». Шахматов был тем, кого евразийцы называли «спецом», приглашенным ученым,
24
который мог написать что-нибудь в евразийский сборник, но кого в состав движения, в число «своих» они не включали. Проблему права описывал чужак, который евразийству был не полностью органичен. Однако здесь нам важнее понять, о чем писал Шахматов.
Первая статья Шахматова появилась в Третьем Евразийской Временнике в 1923 г. и была посвящена «Подвигу власти». Тема очень актуальная, особенно сейчас, в связи с коррупционными скандалами в Министерстве обороны. О чем идет речь в этой статье? Ключевой вопрос о праве, по Шахматову, состоит не в том, как правильно организовать жизнь людей в определенном институте, какие правовые нормы (непротиворечивые, системные) нужно принимать. Шахматову важнее то, почему эти нормы существуют, зачем они нужны, какая порода людей их будет воплощать в жизнь. В его статье речь идет не о нормах, а о цели, о том, как нормы связаны с целями. Право, по Шахматову, не есть некая самодостаточная реальность, замкнутая на себе, а нечто причастное высшей реальности. «Право» восходит к «правде», приобретает религиозный, православный характер. Если отвечать на вопрос о том, относился ли Шахматов к так называемым школам естественного права – вопрос о правопонимании и правовых школах типичен для юриспруденции, то утверждать это мы можем лишь с оговорками. Право для Шахматова не то, что люди решили между собой, и право – не совокупность каких-то естественных законов природы. «Правда» для Шахматова метафизична. Можно говорить лишь о частичной близости Шахматова направлению т.н. «классического естественного права» – историк политической философии Лео Штраус использовал именно этот термин. Данное направление утверждало связь естественного и божественного права, оно предшествовало светским концепциям естественного права Нового времени, оправдывало право религиозно.
«Подвиг власти» Шахматова находит свое отражение в статье «Государство правды», опубликованной два года спустя, в 1925 г. Словосочетание «государство правды» хорошо известно исследователям евразийства, многие даже обозначают им все типы идеальных государств, предложенные евразийцами. Очень часто, упоминая об идеократии, говорят о «государстве правды», что свидетельствует о влиянии ключевой статьи Шахматова.
В Евразийском Временнике 1925 г. «Государство правды» в буквальном смысле соседствует со статьей В.Н. Ильина «О взаимоотношении права и нравственности». Ильин был философом и вопросами права занимался постольку поскольку. В этой статье он отталкивался от работы Шахматова, что заметно по ее содержанию.
24
который мог написать что-нибудь в евразийский сборник, но кого в состав движения, в число «своих» они не включали. Проблему права описывал чужак, который евразийству был не полностью органичен. Однако здесь нам важнее понять, о чем писал Шахматов.
Первая статья Шахматова появилась в Третьем Евразийской Временнике в 1923 г. и была посвящена «Подвигу власти». Тема очень актуальная, особенно сейчас, в связи с коррупционными скандалами в Министерстве обороны. О чем идет речь в этой статье? Ключевой вопрос о праве, по Шахматову, состоит не в том, как правильно организовать жизнь людей в определенном институте, какие правовые нормы (непротиворечивые, системные) нужно принимать. Шахматову важнее то, почему эти нормы существуют, зачем они нужны, какая порода людей их будет воплощать в жизнь. В его статье речь идет не о нормах, а о цели, о том, как нормы связаны с целями. Право, по Шахматову, не есть некая самодостаточная реальность, замкнутая на себе, а нечто причастное высшей реальности. «Право» восходит к «правде», приобретает религиозный, православный характер. Если отвечать на вопрос о том, относился ли Шахматов к так называемым школам естественного права – вопрос о правопонимании и правовых школах типичен для юриспруденции, то утверждать это мы можем лишь с оговорками. Право для Шахматова не то, что люди решили между собой, и право – не совокупность каких-то естественных законов природы. «Правда» для Шахматова метафизична. Можно говорить лишь о частичной близости Шахматова направлению т.н. «классического естественного права» – историк политической философии Лео Штраус использовал именно этот термин. Данное направление утверждало связь естественного и божественного права, оно предшествовало светским концепциям естественного права Нового времени, оправдывало право религиозно.
«Подвиг власти» Шахматова находит свое отражение в статье «Государство правды», опубликованной два года спустя, в 1925 г. Словосочетание «государство правды» хорошо известно исследователям евразийства, многие даже обозначают им все типы идеальных государств, предложенные евразийцами. Очень часто, упоминая об идеократии, говорят о «государстве правды», что свидетельствует о влиянии ключевой статьи Шахматова.
В Евразийском Временнике 1925 г. «Государство правды» в буквальном смысле соседствует со статьей В.Н. Ильина «О взаимоотношении права и нравственности». Ильин был философом и вопросами права занимался постольку поскольку. В этой статье он отталкивался от работы Шахматова, что заметно по ее содержанию.
25
Более того, в примечании к статье Ильина упоминается, что ее автор и Шахматов разными путями пришли к схожему определению права.
О чем же, собственно, писал Ильин? Его мысли во многом были созвучны идеям Шахматова: «правда» носит религиозный характер, основания нравственности и права – в религии. Как ни странно, Ильин пытался сочетать подобное видение с философией права Канта. Кант утверждал: право – регулятор внешних отношений, оно не вдается в материю произвола, нашей произвольной свободы. Если человек поступает правомерно, право не интересует, почему он это делает, почему правомерно продает свой товар, покупает и пр. Но когда человек нарушает юридическую норму, возникает вопрос: почему он так поступает? В зависимости от ответа может, к примеру, меняться тяжесть наказания. Идею того, что право не может принудительно регулировать мысли людей, Ильин заимствует у Канта, но помещает ее в особенный контекст. «Правда» для Ильина – нечто единое, утверждающее право и нравственность одновременно; право и нравственность – в каком-то смысле параллельные, коррелирующие друг с другом реальности, право интересует лишь внешнее, нравственность и мораль касаются внутреннего. Здесь наблюдается близость Шахматову в частности и православной традиции вообще. Тем не менее близость зарубежным правовым концепциям у Ильина сохраняется, она в большей степени заметна, чем у Шахматова. Можно даже сказать с оговоркой, что он также причастен контексту классического естественного права.
Вектор «правового евразийства» меняется в 1926 г. К движению присоединяется Н.Н. Алексеев, и это уже совершенно иной подход к праву. Можно даже назвать этот подход в каком-то смысле дисциплинарным. Если Шахматов был историком права, Ильин – философом, то Алексеев – юрист, и это заметно по его работам. Здесь важно отталкиваться от ближайшей предъевразийской работы Алексеева «Основы философии права» (1924). В ней излагаются следующие воззрения на право: право – это некоторая правовая структура, праву нельзя дать исчерпывающего определения, право состоит из трех важных начал. Право – это субъект, носитель ценностей, это сами ценности и базовые правовые связи между правомочием и обязанностью. Учение Алексеева не метафизично.
Интересный момент, касающийся отношений Алексеева с другими евразийцами: во-первых, он считал правовым субъектом не коллективную личность, в том числе личность Евразии, а индивидуального правового субъекта. Это сразу отдаляло ученого от воззрений других евразийцев. Алексеев как будто «двоится»: с одной
25
Более того, в примечании к статье Ильина упоминается, что ее автор и Шахматов разными путями пришли к схожему определению права.
О чем же, собственно, писал Ильин? Его мысли во многом были созвучны идеям Шахматова: «правда» носит религиозный характер, основания нравственности и права – в религии. Как ни странно, Ильин пытался сочетать подобное видение с философией права Канта. Кант утверждал: право – регулятор внешних отношений, оно не вдается в материю произвола, нашей произвольной свободы. Если человек поступает правомерно, право не интересует, почему он это делает, почему правомерно продает свой товар, покупает и пр. Но когда человек нарушает юридическую норму, возникает вопрос: почему он так поступает? В зависимости от ответа может, к примеру, меняться тяжесть наказания. Идею того, что право не может принудительно регулировать мысли людей, Ильин заимствует у Канта, но помещает ее в особенный контекст. «Правда» для Ильина – нечто единое, утверждающее право и нравственность одновременно; право и нравственность – в каком-то смысле параллельные, коррелирующие друг с другом реальности, право интересует лишь внешнее, нравственность и мораль касаются внутреннего. Здесь наблюдается близость Шахматову в частности и православной традиции вообще. Тем не менее близость зарубежным правовым концепциям у Ильина сохраняется, она в большей степени заметна, чем у Шахматова. Можно даже сказать с оговоркой, что он также причастен контексту классического естественного права.
Вектор «правового евразийства» меняется в 1926 г. К движению присоединяется Н.Н. Алексеев, и это уже совершенно иной подход к праву. Можно даже назвать этот подход в каком-то смысле дисциплинарным. Если Шахматов был историком права, Ильин – философом, то Алексеев – юрист, и это заметно по его работам. Здесь важно отталкиваться от ближайшей предъевразийской работы Алексеева «Основы философии права» (1924). В ней излагаются следующие воззрения на право: право – это некоторая правовая структура, праву нельзя дать исчерпывающего определения, право состоит из трех важных начал. Право – это субъект, носитель ценностей, это сами ценности и базовые правовые связи между правомочием и обязанностью. Учение Алексеева не метафизично.
Интересный момент, касающийся отношений Алексеева с другими евразийцами: во-первых, он считал правовым субъектом не коллективную личность, в том числе личность Евразии, а индивидуального правового субъекта. Это сразу отдаляло ученого от воззрений других евразийцев. Алексеев как будто «двоится»: с одной
26
стороны, он причастен к православной традиции, с другой – к зарубежной правовой традиции, прежде всего, германской. Это очень хорошо заметно по работам Алексеева. Позволю себе процитировать фрагмент, в котором толкуется понятие «нормативный факт», в русской традиции использовавшееся ранее Львом Петражицким. Итак, Алексеев пишет: «На самом деле, существуют такие факты, которые по внутренней своей необходимости, по присущему им логосу, обязывают к определенным действиям и требуют их. К ним принадлежат прежде всего те фактические, во времени и пространстве совершающиеся события, которые являются порождением человеческой деятельности и именуются актами. Сюда относятся, например, такие акты, как обещание, договор, соглашение, учредительные акты и т.п.<…> Названные факты можно назвать «нормоустановительными» или «нормативными» в чисто объективном смысле этого слова». (Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб, 1998. С. 145).О чем здесь идет речь? Алексеев комбинирует дискурсы: с одной стороны, концепцию Петражицкого, с другой – традицию, которая опиралась на Гуссерля – феноменологическую традицию: Алексеев ссылается на работу феноменолога Адольфа Райнаха «Априорные основания гражданского права». Опираясь на мнение Райнаха, Алексеев утверждает, что есть некоторый факт, фундирующий должное, например, обещание. Само по себе обещание причастно миру фактов, поскольку случается в конкретном времени и пространстве, с другой стороны, оно порождает долженствование, поэтому Алексеев считает обещание нормативным фактом, а затем рассуждает о том, что же может стать нормативными фактами.
Исходя из анализа нормативных фактов, Алексеев строит учение об источниках права. Здесь важно отношение Алексеева к правовому обычаю, поскольку обычай есть то, что в большей степени причастно традиции вообще. Историческая школа права говорила о правовом обычае как об основном источнике права. Алексеев же – и это самое интересное – относится к обычаю несколько свысока, пишет, что обычай существует, прежде всего, в силу психической инерции людей: «Повседневный опыт убеждает нас, что привычка способна «обусловливать» наше поведение, однако обусловленность эта имеет не логический, а чисто автоматический характер. Вытекающие из привычки действия обычно обнаруживают не эйдетическую, а механическую необходимость <…> Главной действующей силой является здесь психическая инерция: в силу нее отвергается новый порядок как автоматически необычный, и в силу
26
стороны, он причастен к православной традиции, с другой – к зарубежной правовой традиции, прежде всего, германской. Это очень хорошо заметно по работам Алексеева. Позволю себе процитировать фрагмент, в котором толкуется понятие «нормативный факт», в русской традиции использовавшееся ранее Львом Петражицким. Итак, Алексеев пишет: «На самом деле, существуют такие факты, которые по внутренней своей необходимости, по присущему им логосу, обязывают к определенным действиям и требуют их. К ним принадлежат прежде всего те фактические, во времени и пространстве совершающиеся события, которые являются порождением человеческой деятельности и именуются актами. Сюда относятся, например, такие акты, как обещание, договор, соглашение, учредительные акты и т.п.<…> Названные факты можно назвать «нормоустановительными» или «нормативными» в чисто объективном смысле этого слова». (Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб, 1998. С. 145).О чем здесь идет речь? Алексеев комбинирует дискурсы: с одной стороны, концепцию Петражицкого, с другой – традицию, которая опиралась на Гуссерля – феноменологическую традицию: Алексеев ссылается на работу феноменолога Адольфа Райнаха «Априорные основания гражданского права». Опираясь на мнение Райнаха, Алексеев утверждает, что есть некоторый факт, фундирующий должное, например, обещание. Само по себе обещание причастно миру фактов, поскольку случается в конкретном времени и пространстве, с другой стороны, оно порождает долженствование, поэтому Алексеев считает обещание нормативным фактом, а затем рассуждает о том, что же может стать нормативными фактами.
Исходя из анализа нормативных фактов, Алексеев строит учение об источниках права. Здесь важно отношение Алексеева к правовому обычаю, поскольку обычай есть то, что в большей степени причастно традиции вообще. Историческая школа права говорила о правовом обычае как об основном источнике права. Алексеев же – и это самое интересное – относится к обычаю несколько свысока, пишет, что обычай существует, прежде всего, в силу психической инерции людей: «Повседневный опыт убеждает нас, что привычка способна «обусловливать» наше поведение, однако обусловленность эта имеет не логический, а чисто автоматический характер. Вытекающие из привычки действия обычно обнаруживают не эйдетическую, а механическую необходимость <…> Главной действующей силой является здесь психическая инерция: в силу нее отвергается новый порядок как автоматически необычный, и в силу
27
нее новые отношения провозглашаются правовыми, как только приобретаются новые привычки» (Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб, 1998. С. 145-146).
Антитрадиционные, прогрессистские мотивы присутствуют у Алексеева, и это, конечно, ставит его немного на другую ступень, чем остальных евразийцев. Но тем не менее автор оговаривается в итоге, что нельзя считать правовой обычай сугубо чем-то случайным, ведь в обычае проявляется некий правовой «этос». То есть обычай – начало, причастное миру бессознательности и автоматики не в полной мере. В этом смысле позицию Алексеева можно считать компромиссной. Автор во многом близок феноменологическим теориям, но, с другой стороны, он опирается на тезисы Новгородцева, его наставника в сфере философии права, и Петражицкого, которому во многом был верен по разным вопросам. Именно поэтому точка зрения Алексеева на право отличается от позиций, представленных Шахматовым и Ильиным. Эта дуалистичность Алексеева проявляется и в базовом термине, который он вводит в оборот евразийцев – «правообязанности». У «правообязанности» в трудах Алексеева есть два значения. Во-первых, «правообязанность» – полномочие государственного органа, одновременно и его право, и его обязанность. К примеру, полномочие по сбору налога или привлечения к ответственности. «Во-вторых», правообязанность – начало нравственно-правовое, когда человек одновременно и обязан, и управомочен. К примеру, земельный собственник юридически управомочен вести хозяйство на своем участке, а, с другой стороны, он морально обязан осуществлять эту заботу. Подход к правообязанности – одно из проявлений дуализма Алексеева. Он не был фанатиком евразийского движения, в отличие от Савицкого, и в этом случае разумно, что он в поздних работах отошел от первичного, канонического понимания евразийства, написав статью о «гарантийном государстве».
Учеником Алексеева в Русском юридическом факультете стал Николай Дунаев. Последний в 1930 г. получил одобрение от Алексеева на то, чтобы его работа «Правомочие и его виды» стала отчетной аттестационной работой. Спустя год, в 1931 г., публикуется первая и последняя правовая публикация Дунаева в евразийском издании – сборнике «Тридцатые годы». О чем говорится в этой статье? Дунаев развивает мысль Алексеева о «правообязанности». Однако «правообязанность» толкуется уже иначе: это уже не просто полномочие государственного органа, которое есть одновременно его право и обязанность. Вместо «правообязанности» Дунаев использует
27
нее новые отношения провозглашаются правовыми, как только приобретаются новые привычки» (Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб, 1998. С. 145-146).
Антитрадиционные, прогрессистские мотивы присутствуют у Алексеева, и это, конечно, ставит его немного на другую ступень, чем остальных евразийцев. Но тем не менее автор оговаривается в итоге, что нельзя считать правовой обычай сугубо чем-то случайным, ведь в обычае проявляется некий правовой «этос». То есть обычай – начало, причастное миру бессознательности и автоматики не в полной мере. В этом смысле позицию Алексеева можно считать компромиссной. Автор во многом близок феноменологическим теориям, но, с другой стороны, он опирается на тезисы Новгородцева, его наставника в сфере философии права, и Петражицкого, которому во многом был верен по разным вопросам. Именно поэтому точка зрения Алексеева на право отличается от позиций, представленных Шахматовым и Ильиным. Эта дуалистичность Алексеева проявляется и в базовом термине, который он вводит в оборот евразийцев – «правообязанности». У «правообязанности» в трудах Алексеева есть два значения. Во-первых, «правообязанность» – полномочие государственного органа, одновременно и его право, и его обязанность. К примеру, полномочие по сбору налога или привлечения к ответственности. «Во-вторых», правообязанность – начало нравственно-правовое, когда человек одновременно и обязан, и управомочен. К примеру, земельный собственник юридически управомочен вести хозяйство на своем участке, а, с другой стороны, он морально обязан осуществлять эту заботу. Подход к правообязанности – одно из проявлений дуализма Алексеева. Он не был фанатиком евразийского движения, в отличие от Савицкого, и в этом случае разумно, что он в поздних работах отошел от первичного, канонического понимания евразийства, написав статью о «гарантийном государстве».
Учеником Алексеева в Русском юридическом факультете стал Николай Дунаев. Последний в 1930 г. получил одобрение от Алексеева на то, чтобы его работа «Правомочие и его виды» стала отчетной аттестационной работой. Спустя год, в 1931 г., публикуется первая и последняя правовая публикация Дунаева в евразийском издании – сборнике «Тридцатые годы». О чем говорится в этой статье? Дунаев развивает мысль Алексеева о «правообязанности». Однако «правообязанность» толкуется уже иначе: это уже не просто полномочие государственного органа, которое есть одновременно его право и обязанность. Вместо «правообязанности» Дунаев использует
28
другое понятие – «служебное право». Как появляется данный термин? Здесь, как ни странно, Дунаев также опирается на Льва Петражицкого. У Петражицкого было деление правомочий на «лично-свободные» и «служебные», к примеру, правомочие собственника по распоряжению своим товаром – оно «лично-свободное», в то время как «служебное право» – правомочие государственного органа или должностного лица, с этим правом всегда сочетается некоторая обязанность. Допустим, принимать законы – само по себе не право и не обязанность в чистом виде, но сочетание права и обязанности, причем сочетание органическое. Тем не менее Дунаев настаивает на термине «служебное право», выделяя момент правомочия как превалирующий.
В вопросе о «правообязанности» Дунаев и Алексеев в какой-то степени следуют Петражицкому. Но возникает вопрос: близок ли Дунаев Алексееву по своему правопониманию, существуют ли их воззрения в рамках одной правовой школы? Нет, поскольку Дунаев, принимая деление правомочий на лично-свободные и служебные, отрицает деление права как нормативной системы по тем же основаниям. Если Петражицкий говорит о делении права на лично-свободное и служебное, отрицая деление права на частное и публичное, то Дунаев, сойдясь с Петражицким в одной классификации, расходится с ним в другой. В отношении классификации субъективных прав он с ним един, но в отношении деления правовой системы – напротив. Дунаев говорит: так, позвольте, правомочия делятся вот так, а право частное и право публичное выделяются по другому принципу, потому что есть право в объективном смысле, а есть право в субъективном смысле. То есть Дунаев осуществляет различение «субъективного права» и «объективного права», свойственное так называемой государственной теории права. Последняя утверждает, что есть право как совокупность объективных норм, а есть субъективное право, которое возникает на основании этих объективных норм. Близость Дунаева государственной теории права в большей степени показывает близость правовому позитивизму, настаивающему на том, что творец права есть прежде всего государство. Соглашаясь с Алексеевым в одном, Дунаев его переосмысляет, следует немного другой правовой традиции. Ведь Алексеев отрицал, что государство создает право. У Алексеева в определении права государство отсутствует. Право – в мышлении человека, государство лишь придает этому праву обязательный характер.
Наконец, в завершение стоит сказать о правопонимании Льва Карсавина. Это достаточно сложная тема, поскольку он уделял
28
другое понятие – «служебное право». Как появляется данный термин? Здесь, как ни странно, Дунаев также опирается на Льва Петражицкого. У Петражицкого было деление правомочий на «лично-свободные» и «служебные», к примеру, правомочие собственника по распоряжению своим товаром – оно «лично-свободное», в то время как «служебное право» – правомочие государственного органа или должностного лица, с этим правом всегда сочетается некоторая обязанность. Допустим, принимать законы – само по себе не право и не обязанность в чистом виде, но сочетание права и обязанности, причем сочетание органическое. Тем не менее Дунаев настаивает на термине «служебное право», выделяя момент правомочия как превалирующий.
В вопросе о «правообязанности» Дунаев и Алексеев в какой-то степени следуют Петражицкому. Но возникает вопрос: близок ли Дунаев Алексееву по своему правопониманию, существуют ли их воззрения в рамках одной правовой школы? Нет, поскольку Дунаев, принимая деление правомочий на лично-свободные и служебные, отрицает деление права как нормативной системы по тем же основаниям. Если Петражицкий говорит о делении права на лично-свободное и служебное, отрицая деление права на частное и публичное, то Дунаев, сойдясь с Петражицким в одной классификации, расходится с ним в другой. В отношении классификации субъективных прав он с ним един, но в отношении деления правовой системы – напротив. Дунаев говорит: так, позвольте, правомочия делятся вот так, а право частное и право публичное выделяются по другому принципу, потому что есть право в объективном смысле, а есть право в субъективном смысле. То есть Дунаев осуществляет различение «субъективного права» и «объективного права», свойственное так называемой государственной теории права. Последняя утверждает, что есть право как совокупность объективных норм, а есть субъективное право, которое возникает на основании этих объективных норм. Близость Дунаева государственной теории права в большей степени показывает близость правовому позитивизму, настаивающему на том, что творец права есть прежде всего государство. Соглашаясь с Алексеевым в одном, Дунаев его переосмысляет, следует немного другой правовой традиции. Ведь Алексеев отрицал, что государство создает право. У Алексеева в определении права государство отсутствует. Право – в мышлении человека, государство лишь придает этому праву обязательный характер.
Наконец, в завершение стоит сказать о правопонимании Льва Карсавина. Это достаточно сложная тема, поскольку он уделял
29
вопросу о праве не так много внимания. Праву посвящены последние страницы статьи «Основы политики» (1927), где Карсавин писал о праве как о нравственном минимуме. Теория права как «нравственного минимума» была распространена в Германии в конце XIX в., ее автором был Георг Еллинек. В России эту светскую теорию переосмыслил в некоем религиозном ключе Вл. Соловьев. В «Оправдании добра» он говорил о праве как о минимуме добра, минимуме нравственности. Но была ли преемственность между Карсавиным и Соловьевым в данном вопросе? Карсавин не ссылается на Соловьева, прямо о нем не говорит. Можно выделить отдельные негативные высказывания, которые позволяет себе Карсавин по поводу Соловьева, в другой своей статье – ответе Бердяеву на статью «Евразийцы» – он называет Соловьева «латинствующим», сторонником теократии, которую Карсавин как строй отвергает. Тем не менее сходства в воззрениях на право у этих авторов заметны. Поскольку право есть минимум, нижний предел нравственности, то ключевыми признаками права становятся охранительность, принудительность, нормативность. Поскольку право есть нижняя граница добра, оно должно блокировать, но не изживать зло.
В своей иерархии права и нравственности Карсавин ближе Шахматову и Ильину, нежели к Алексееву, тем не менее нельзя сказать, что первые трое причастны одной правовой традиции, используют одну и ту же терминологию. Одни – юристы, другие – философы, очень сложно сойтись по вопросам о праве. Мне кажется, из-за этого идейного несродства, терминологических рассогласований во многом и не состоялось то, что можно назвать «евразийской правовой школой». Быть может, даже нельзя говорить о некоем «евразийском правовом движении». Хотя евразийцы и создали уникальную политическую терминологию («демотия», «правящий отбор»), они не выработали общих правовых понятий. Разве что – понятие «правообязанности», но и его использовали далеко не все. Отсутствие единства, четкого направления в правовых исследованиях привели в том числе и к сложности адаптации евразийских идей в современном юридическом контексте. Большое спасибо за внимание, буду рад ответить на вопросы!
Ю.Г. Арзамасов: Булат Венерович, уточните, пожалуйста, в Вашем докладе речь идет о Гурвиче – социологе, эмигрировавшем из России?
Б.В. Назмутдинов: Один из Гурвичей писал о Советской Конституции 1918 года, это был советский ученый, а был другой Гурвич.
29
вопросу о праве не так много внимания. Праву посвящены последние страницы статьи «Основы политики» (1927), где Карсавин писал о праве как о нравственном минимуме. Теория права как «нравственного минимума» была распространена в Германии в конце XIX в., ее автором был Георг Еллинек. В России эту светскую теорию переосмыслил в некоем религиозном ключе Вл. Соловьев. В «Оправдании добра» он говорил о праве как о минимуме добра, минимуме нравственности. Но была ли преемственность между Карсавиным и Соловьевым в данном вопросе? Карсавин не ссылается на Соловьева, прямо о нем не говорит. Можно выделить отдельные негативные высказывания, которые позволяет себе Карсавин по поводу Соловьева, в другой своей статье – ответе Бердяеву на статью «Евразийцы» – он называет Соловьева «латинствующим», сторонником теократии, которую Карсавин как строй отвергает. Тем не менее сходства в воззрениях на право у этих авторов заметны. Поскольку право есть минимум, нижний предел нравственности, то ключевыми признаками права становятся охранительность, принудительность, нормативность. Поскольку право есть нижняя граница добра, оно должно блокировать, но не изживать зло.
В своей иерархии права и нравственности Карсавин ближе Шахматову и Ильину, нежели к Алексееву, тем не менее нельзя сказать, что первые трое причастны одной правовой традиции, используют одну и ту же терминологию. Одни – юристы, другие – философы, очень сложно сойтись по вопросам о праве. Мне кажется, из-за этого идейного несродства, терминологических рассогласований во многом и не состоялось то, что можно назвать «евразийской правовой школой». Быть может, даже нельзя говорить о некоем «евразийском правовом движении». Хотя евразийцы и создали уникальную политическую терминологию («демотия», «правящий отбор»), они не выработали общих правовых понятий. Разве что – понятие «правообязанности», но и его использовали далеко не все. Отсутствие единства, четкого направления в правовых исследованиях привели в том числе и к сложности адаптации евразийских идей в современном юридическом контексте. Большое спасибо за внимание, буду рад ответить на вопросы!
Ю.Г. Арзамасов: Булат Венерович, уточните, пожалуйста, в Вашем докладе речь идет о Гурвиче – социологе, эмигрировавшем из России?
Б.В. Назмутдинов: Один из Гурвичей писал о Советской Конституции 1918 года, это был советский ученый, а был другой Гурвич.
30
Ю.Г. Арзамасов: Социолог-эмигрант? Б.В. Назмутдинов: Да, Жорж Гурвич, теория социального
права. Б.Е. Степанов: Спасибо за интересный доклад, я хотел задать
вопрос по поводу понятии «правообязанности». Вы показали, что внутри евразийского движения оно получило различные интерпретации, а в принципе, каким образом оно вписывается в какую-то более широкую перспективу истории права?
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо за вопрос. Специально уделял этому вопросу внимание. «Правообязанность» изначально существовала как юридический термин, ее противопоставляли «правопритязанию». Изначально речь шла не о «правообязанности» как совокупности правомочия и обязанности, а просто как о правовой обязанности. «Правопритязание» больше похоже на претензию человека, к примеру, на его право на судебную защиту. «Правообязанность» – ваша обязанность совершить какой-либо поступок или же воздержаться от его совершения. В данном значении «правообязанность» использовалась Николаем Коркуновым, в дореволюционной правовой мысли термин трактовался схожим образом. Однако уже в 1919 г. Яков Магазинер в своей работе по государственному праву писал, что государственный орган имеет «правообязанность» действовать от имени целого. И здесь, мне кажется, уже иная трактовка: «правообязанность» действовать от имени целого означает «иметь полномочие» – то есть и право, и обязанность одновременно.
Термин «правообязанность» заимствован Алексеевым из юридического лексикона, но самое интересное – почему именно у Алексеева термин меняет значение? В черновике доклада было предположение, но я не стал его озвучивать. В своих «Основах политики» Карсавин использует словосочетание «и право, и обязанность вместе». Но это относится, прежде всего, к нравственным отношениям: человек что-то может сделать, но, с другой стороны, с нравственной точки зрения он и должен это сделать, к примеру, помочь другому или же воплотить заложенные в нем творческие способности. Подобная мысль – скорее на уровне гипотезы, чем утверждения. Возможно, вопрос об «обязанности и праве» в одноименной статье Алексеева 1928 г. имеет какие-то пересечения со статьей Карсавина 1927 г., с «Основами политики». У Алексеева «правообязанность» как «правовая обязанность» появляется в «Основах философии права», датированных 1924 г., хотя де-факто они опубликованы в 1923 г. Получается так, что в промежутке между 1923
30
Ю.Г. Арзамасов: Социолог-эмигрант? Б.В. Назмутдинов: Да, Жорж Гурвич, теория социального
права. Б.Е. Степанов: Спасибо за интересный доклад, я хотел задать
вопрос по поводу понятии «правообязанности». Вы показали, что внутри евразийского движения оно получило различные интерпретации, а в принципе, каким образом оно вписывается в какую-то более широкую перспективу истории права?
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо за вопрос. Специально уделял этому вопросу внимание. «Правообязанность» изначально существовала как юридический термин, ее противопоставляли «правопритязанию». Изначально речь шла не о «правообязанности» как совокупности правомочия и обязанности, а просто как о правовой обязанности. «Правопритязание» больше похоже на претензию человека, к примеру, на его право на судебную защиту. «Правообязанность» – ваша обязанность совершить какой-либо поступок или же воздержаться от его совершения. В данном значении «правообязанность» использовалась Николаем Коркуновым, в дореволюционной правовой мысли термин трактовался схожим образом. Однако уже в 1919 г. Яков Магазинер в своей работе по государственному праву писал, что государственный орган имеет «правообязанность» действовать от имени целого. И здесь, мне кажется, уже иная трактовка: «правообязанность» действовать от имени целого означает «иметь полномочие» – то есть и право, и обязанность одновременно.
Термин «правообязанность» заимствован Алексеевым из юридического лексикона, но самое интересное – почему именно у Алексеева термин меняет значение? В черновике доклада было предположение, но я не стал его озвучивать. В своих «Основах политики» Карсавин использует словосочетание «и право, и обязанность вместе». Но это относится, прежде всего, к нравственным отношениям: человек что-то может сделать, но, с другой стороны, с нравственной точки зрения он и должен это сделать, к примеру, помочь другому или же воплотить заложенные в нем творческие способности. Подобная мысль – скорее на уровне гипотезы, чем утверждения. Возможно, вопрос об «обязанности и праве» в одноименной статье Алексеева 1928 г. имеет какие-то пересечения со статьей Карсавина 1927 г., с «Основами политики». У Алексеева «правообязанность» как «правовая обязанность» появляется в «Основах философии права», датированных 1924 г., хотя де-факто они опубликованы в 1923 г. Получается так, что в промежутке между 1923
31
и 1928 гг., между двумя значениями термина «правообязанность», я вижу «и право, и обязанность вместе» из «Основ политики» Карсавина 1927 г.
Р.Р. Вахитов: У меня несколько гипотетический вопрос: основной Ваш вывод, что не существует евразийской школы права, – достаточно трагический для евразийцев, поскольку они все же претендовали на создание универсальной идеологии, которая охватывала бы различные сферы жизни. В данном случае мы говорим о неудаче евразийцев. Считаете ли Вы, что евразийское право не возникло в силу каких-то исторических обстоятельств, либо оно в принципе невозможно, не выводимо из какого-то ядра евразийства?
Б.В. Назмутдинов: Отчасти я касался этих вопросов в своем докладе, но я повторю некоторые мысли, некоторые – добавлю. Изначальное евразийство не было правовым или политико-правовым движением, оно было иным по своей направленности. Правовой элемент, который с весьма большими ограничениями вводился в евразийскую идеологию Шахматовым, был в определенном смысле для нее внешним. Конечно, Трубецкой писал Сувчинскому, что подобно исторической науке, где евразийцев представлял Вернадский, неплохо бы иметь представителей и в юриспруденции. Однако Карсавин в 1925-1926 гг. не мог стать создателем политико-правовой доктрины евразийства, нужна была свежая кровь: привлекается Алексеев, которого пригласили Карсавин и Сувчинский. Но здесь возникает вопрос: было ли это привлечением человека, способного создать «евразийскую» школу права? Создателя уникальных воззрений, ставших бы основанием для дальнейшего развития евразийской школы права? Мне кажется, что Алексеев не мог стать таким идеологом, родоначальником такой школы права. Он был слишком сильно укоренен в русскую дореволюционную правовую традицию, во многом был связан контекстом, в котором он вырос, влиянием немецкой юриспруденции, а также относительной ограниченностью мысли, присущей тем, кого евразийцы называли «старыми грымзами» – прежнему поколению общественной мысли, которое евразийцы пытались сменить. Алексеев не обладал той «революционностью правового сознания», что могла бы стать основанием для создания чего-то нового, уникального в праве. Мне кажется, речь шла об идейной невозможности создать евразийскую школу права. Конкретно-историческая же невозможность правовой школы сопровождалась тем фактом, что на Русском юридическом факультете в Праге преподавалось право императорской России. Многие предметы были посвящены формально не действовавшему
31
и 1928 гг., между двумя значениями термина «правообязанность», я вижу «и право, и обязанность вместе» из «Основ политики» Карсавина 1927 г.
Р.Р. Вахитов: У меня несколько гипотетический вопрос: основной Ваш вывод, что не существует евразийской школы права, – достаточно трагический для евразийцев, поскольку они все же претендовали на создание универсальной идеологии, которая охватывала бы различные сферы жизни. В данном случае мы говорим о неудаче евразийцев. Считаете ли Вы, что евразийское право не возникло в силу каких-то исторических обстоятельств, либо оно в принципе невозможно, не выводимо из какого-то ядра евразийства?
Б.В. Назмутдинов: Отчасти я касался этих вопросов в своем докладе, но я повторю некоторые мысли, некоторые – добавлю. Изначальное евразийство не было правовым или политико-правовым движением, оно было иным по своей направленности. Правовой элемент, который с весьма большими ограничениями вводился в евразийскую идеологию Шахматовым, был в определенном смысле для нее внешним. Конечно, Трубецкой писал Сувчинскому, что подобно исторической науке, где евразийцев представлял Вернадский, неплохо бы иметь представителей и в юриспруденции. Однако Карсавин в 1925-1926 гг. не мог стать создателем политико-правовой доктрины евразийства, нужна была свежая кровь: привлекается Алексеев, которого пригласили Карсавин и Сувчинский. Но здесь возникает вопрос: было ли это привлечением человека, способного создать «евразийскую» школу права? Создателя уникальных воззрений, ставших бы основанием для дальнейшего развития евразийской школы права? Мне кажется, что Алексеев не мог стать таким идеологом, родоначальником такой школы права. Он был слишком сильно укоренен в русскую дореволюционную правовую традицию, во многом был связан контекстом, в котором он вырос, влиянием немецкой юриспруденции, а также относительной ограниченностью мысли, присущей тем, кого евразийцы называли «старыми грымзами» – прежнему поколению общественной мысли, которое евразийцы пытались сменить. Алексеев не обладал той «революционностью правового сознания», что могла бы стать основанием для создания чего-то нового, уникального в праве. Мне кажется, речь шла об идейной невозможности создать евразийскую школу права. Конкретно-историческая же невозможность правовой школы сопровождалась тем фактом, что на Русском юридическом факультете в Праге преподавалось право императорской России. Многие предметы были посвящены формально не действовавшему
32
праву: некоторые преподаватели и студенты верили в то, что могут вернуться обратно. Дунаеву, Садовскому и Чхеидзе не преподавали ту юриспруденцию, которая могла бы со временем стать «евразийской». Мне кажется, здесь нужно учитывать два момента – идейный и институциональный.
Р.Р. Вахитов: То есть евразийская юриспруденция в принципе была возможна, просто она не состоялось?
Б.В. Назмутдинов: Она возможна скорее логически, она не состоялась в силу конкретных исторических обстоятельств. Однако нельзя в этом случае мыслить только логически, вне персонального состава участников, живших в определенное время.
В.И. Карпец: В порядке развития темы: конечно, евразийское право возможно. И в свете той евразийской интеграции, которая сейчас происходит, оно не только возможно, оно необходимо. Но проблема заключается в том, что оно – как некая платоновская идея. Евразийское право, безусловно, есть, оно существует, но оно не проявлено пока что до конца. И вот в том, что попытались сделать евразийцы (Алексеев и др.) мы видим зачатие, но не рождение. Когда же может произойти рождение? Когда семя уже попадает туда, куда оно должно попасть, и оно потом начинает развиваться и расти. Условно говоря, в работах классиков мы видим некий эмбрион, а собственно, утроба – это та земля, «месторазвитие», которое сейчас по сути дела только начинает формироваться. Существует различие – как у нас в теории формулируется – между западным путем и восточным путями развития. Западный путь: первична собственность, вторична власть; восточный путь – наоборот. В данном случае мы как раз имеем в виду то право, которое формируется на основе восточного пути. У нас сейчас развивается либертарно-юридическая школа. А что такое евразийское право? Это, как говорится, бери либертарную школу и читай ее наоборот. То есть нужно взять либертарную школу, адекватно ее прочитать, затем прочитать ее наоборот, возможно, это и будет евразийское право.
Б.В. Назмутдинов: Спасибо, Владимир Игоревич!М. Байссвенгер: У меня не столько вопрос, сколько
комментарий. Я бы ответил на вопрос о «евразийской» правовой школы немного по-другому. Я думаю, неслучайно, что Алексеев появился в евразийском движении в 1926 г. Вы, наверное, знаете, что до этого времени он достаточно негативно относился к евразийству. Судя по сообщениям в прессе, он был критиком евразийских выступлений, докладов. Я, к сожалению, не настолько знаком с развитием идей Алексеева, чтобы сказать, зачем ему было нужно это
32
праву: некоторые преподаватели и студенты верили в то, что могут вернуться обратно. Дунаеву, Садовскому и Чхеидзе не преподавали ту юриспруденцию, которая могла бы со временем стать «евразийской». Мне кажется, здесь нужно учитывать два момента – идейный и институциональный.
Р.Р. Вахитов: То есть евразийская юриспруденция в принципе была возможна, просто она не состоялось?
Б.В. Назмутдинов: Она возможна скорее логически, она не состоялась в силу конкретных исторических обстоятельств. Однако нельзя в этом случае мыслить только логически, вне персонального состава участников, живших в определенное время.
В.И. Карпец: В порядке развития темы: конечно, евразийское право возможно. И в свете той евразийской интеграции, которая сейчас происходит, оно не только возможно, оно необходимо. Но проблема заключается в том, что оно – как некая платоновская идея. Евразийское право, безусловно, есть, оно существует, но оно не проявлено пока что до конца. И вот в том, что попытались сделать евразийцы (Алексеев и др.) мы видим зачатие, но не рождение. Когда же может произойти рождение? Когда семя уже попадает туда, куда оно должно попасть, и оно потом начинает развиваться и расти. Условно говоря, в работах классиков мы видим некий эмбрион, а собственно, утроба – это та земля, «месторазвитие», которое сейчас по сути дела только начинает формироваться. Существует различие – как у нас в теории формулируется – между западным путем и восточным путями развития. Западный путь: первична собственность, вторична власть; восточный путь – наоборот. В данном случае мы как раз имеем в виду то право, которое формируется на основе восточного пути. У нас сейчас развивается либертарно-юридическая школа. А что такое евразийское право? Это, как говорится, бери либертарную школу и читай ее наоборот. То есть нужно взять либертарную школу, адекватно ее прочитать, затем прочитать ее наоборот, возможно, это и будет евразийское право.
Б.В. Назмутдинов: Спасибо, Владимир Игоревич!М. Байссвенгер: У меня не столько вопрос, сколько
комментарий. Я бы ответил на вопрос о «евразийской» правовой школы немного по-другому. Я думаю, неслучайно, что Алексеев появился в евразийском движении в 1926 г. Вы, наверное, знаете, что до этого времени он достаточно негативно относился к евразийству. Судя по сообщениям в прессе, он был критиком евразийских выступлений, докладов. Я, к сожалению, не настолько знаком с развитием идей Алексеева, чтобы сказать, зачем ему было нужно это
33
присоединение к евразийству. Но мне в целом понятно, зачем его привлекли евразийцы и почему именно тогда. Это было связано с тем, что начиная с 1923-1924 гг. и уж точно с 1925 г., евразийцы хотели захватить власть в Советском Союзе. Серьезно! И для этого, конечно, им было нужно право. Советское право годится постольку поскольку, не безоговорочно, поэтому евразийцы искали юристов. Шахматов здесь ни при чем, он со своей «правдой» Советский Союз в «Евразию» не превращает. Алексеев – немного другое дело, совпадение здесь не случайно. И мне очень нравится идея, связанная с институциональной базой Русского юридического факультета в Праге. Я думаю, что до сих пор как-то недооценивают значение этого учреждения. Я бы сказал, что большинство молодых евразийцев, не только Чхеидзе и Дунаев, но и многие другие рекрутировались именно там. Мукалов, например. Я думаю, это очень важно.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, Мартин. Слово предоставляется Владимиру Игоревичу Карпцу. Тема доклада:«Евразийство и проблема монархии».
В.И. Карпец: Прежде всего, надо отметить следующее. Все же евразийство – это, в первую очередь, геополитика. Собственно, геополитика является в евразийстве и для евразийства главным. Отсюда и знаменитое, едва ли не важнейшее понятие евразийства – «месторазвитие», которое включает в себя географические и климатические условия, исторические и религиозные традиции, военно-стратегическое положение, культуру, этнические характеристики и так далее в совокупности. Причем евразийское «месторазвитие» соотносимо с идеями «большого пространства» Фридриха Листа, это очень близкие между собой понятия. Здесь надо иметь в виду, что, естественно, для тех или иных «месторазвитий» существуют более жизнеспособные государственные формы и менее жизнеспособные государственные формы. Об этом в свое время писал и Аристотель, затем Монтескье развивал эту идею в «Духе законов». Поэтому евразийство – это, прежде всего, повторю, геополитическая доктрина. Она носит научный, даже в известном смысле, естественно-научный характер. Пожалуй, ни одно из политических учений так не связано с естественными науками, прежде всего, науками о земле, как учение евразийства.
Будучи связанным с географией, геоэкономикой и геополитикой, евразийство не имеет прямого отношения к вопросам государственного устройства, к тому, что мы именуем формой государства в современной теории. И если руководствоваться классикой – Аристотелем, то надо говорить не о форме правления, а о
33
присоединение к евразийству. Но мне в целом понятно, зачем его привлекли евразийцы и почему именно тогда. Это было связано с тем, что начиная с 1923-1924 гг. и уж точно с 1925 г., евразийцы хотели захватить власть в Советском Союзе. Серьезно! И для этого, конечно, им было нужно право. Советское право годится постольку поскольку, не безоговорочно, поэтому евразийцы искали юристов. Шахматов здесь ни при чем, он со своей «правдой» Советский Союз в «Евразию» не превращает. Алексеев – немного другое дело, совпадение здесь не случайно. И мне очень нравится идея, связанная с институциональной базой Русского юридического факультета в Праге. Я думаю, что до сих пор как-то недооценивают значение этого учреждения. Я бы сказал, что большинство молодых евразийцев, не только Чхеидзе и Дунаев, но и многие другие рекрутировались именно там. Мукалов, например. Я думаю, это очень важно.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, Мартин. Слово предоставляется Владимиру Игоревичу Карпцу. Тема доклада:«Евразийство и проблема монархии».
В.И. Карпец: Прежде всего, надо отметить следующее. Все же евразийство – это, в первую очередь, геополитика. Собственно, геополитика является в евразийстве и для евразийства главным. Отсюда и знаменитое, едва ли не важнейшее понятие евразийства – «месторазвитие», которое включает в себя географические и климатические условия, исторические и религиозные традиции, военно-стратегическое положение, культуру, этнические характеристики и так далее в совокупности. Причем евразийское «месторазвитие» соотносимо с идеями «большого пространства» Фридриха Листа, это очень близкие между собой понятия. Здесь надо иметь в виду, что, естественно, для тех или иных «месторазвитий» существуют более жизнеспособные государственные формы и менее жизнеспособные государственные формы. Об этом в свое время писал и Аристотель, затем Монтескье развивал эту идею в «Духе законов». Поэтому евразийство – это, прежде всего, повторю, геополитическая доктрина. Она носит научный, даже в известном смысле, естественно-научный характер. Пожалуй, ни одно из политических учений так не связано с естественными науками, прежде всего, науками о земле, как учение евразийства.
Будучи связанным с географией, геоэкономикой и геополитикой, евразийство не имеет прямого отношения к вопросам государственного устройства, к тому, что мы именуем формой государства в современной теории. И если руководствоваться классикой – Аристотелем, то надо говорить не о форме правления, а о
34
типе правления. Но это уже более серьезный вопрос. Евразийцы, и прежде всего, Трубецкой, когда их спрашивали: мол, вы все-таки монархисты или республиканцы – они всегда пожимали плечами. И это, в общем, действительно, так. Повторяю, евразийство, по крайней мере, как я его понимаю, это в первую очередь, геополитика и главным образом геополитика.
Классики евразийства, такие как Трубецкой и Савицкий, не отрицали русскую монархическую традицию, что это очень важно. Однако они критически относились к ее петербургскому периоду, считая этот период эпохой романо-германского пленения. Именно поэтому они полагали невозможным возвращение монархии в том виде, в каком она сложилась на момент февраля 1917 г. То есть, условно говоря, основные разногласия между евразийцами и крупной серьезной монархической партией внутри эмиграции сводились именно к вопросу о том, возможно ли возвращение монархии в России на момент прекращения ее существования в феврале-марте 1917 г.
Евразийцы считали, что так называемый «петербургский период» был периодом романо-германского плена. Хотя на самом деле, если говорить совсем уж серьезно, то мы можем сказать, что раскол России, русского народа, начался все-таки несколько раньше, чем при Петре I, – в эпоху церковного раскола XVII в. Именно поэтому корни надо искать не в Петре I. Он – следствие, Петр I уже вынужден был делать то, что он делал в той ситуации, в которой он оказался, и делал он это в основном правильно, по крайней мере, в практических вопросах. Все началось немного раньше, хотя славянофилы, как и евразийцы, все-таки видели корни романо-германского пленения в Петре I. Хотя у евразийцев были догадки относительно раскола, они не развились. Эта проблема возникает в большей степени в неоевразийстве, о чем мы еще скажем.
Итак, в среде русского зарубежья возникают разногласия между монархистами (причем как монархистами-непредрешенцами в отношении династии, так и сторонниками великого князя Кирилла Владимировича) и евразийцами. Более того, эти разногласия иногда приобретают достаточно резкий характер. По ряду обстоятельств в этой ситуации евразийцы оказываются в рамках эмиграции скорее внутри левого политического спектра, в отличие от классических старых монархистов. Важно подчеркнуть то, что монархизм в значительной части эмиграции носил достаточно нерефлективный характер, не учитывал целого ряда обстоятельств, приведших к февралю 1917 г., и даже часто был направлен не столько против
34
типе правления. Но это уже более серьезный вопрос. Евразийцы, и прежде всего, Трубецкой, когда их спрашивали: мол, вы все-таки монархисты или республиканцы – они всегда пожимали плечами. И это, в общем, действительно, так. Повторяю, евразийство, по крайней мере, как я его понимаю, это в первую очередь, геополитика и главным образом геополитика.
Классики евразийства, такие как Трубецкой и Савицкий, не отрицали русскую монархическую традицию, что это очень важно. Однако они критически относились к ее петербургскому периоду, считая этот период эпохой романо-германского пленения. Именно поэтому они полагали невозможным возвращение монархии в том виде, в каком она сложилась на момент февраля 1917 г. То есть, условно говоря, основные разногласия между евразийцами и крупной серьезной монархической партией внутри эмиграции сводились именно к вопросу о том, возможно ли возвращение монархии в России на момент прекращения ее существования в феврале-марте 1917 г.
Евразийцы считали, что так называемый «петербургский период» был периодом романо-германского плена. Хотя на самом деле, если говорить совсем уж серьезно, то мы можем сказать, что раскол России, русского народа, начался все-таки несколько раньше, чем при Петре I, – в эпоху церковного раскола XVII в. Именно поэтому корни надо искать не в Петре I. Он – следствие, Петр I уже вынужден был делать то, что он делал в той ситуации, в которой он оказался, и делал он это в основном правильно, по крайней мере, в практических вопросах. Все началось немного раньше, хотя славянофилы, как и евразийцы, все-таки видели корни романо-германского пленения в Петре I. Хотя у евразийцев были догадки относительно раскола, они не развились. Эта проблема возникает в большей степени в неоевразийстве, о чем мы еще скажем.
Итак, в среде русского зарубежья возникают разногласия между монархистами (причем как монархистами-непредрешенцами в отношении династии, так и сторонниками великого князя Кирилла Владимировича) и евразийцами. Более того, эти разногласия иногда приобретают достаточно резкий характер. По ряду обстоятельств в этой ситуации евразийцы оказываются в рамках эмиграции скорее внутри левого политического спектра, в отличие от классических старых монархистов. Важно подчеркнуть то, что монархизм в значительной части эмиграции носил достаточно нерефлективный характер, не учитывал целого ряда обстоятельств, приведших к февралю 1917 г., и даже часто был направлен не столько против
35
февраля, сколько против октября 1917 г., это в сознании смешивалось. Поэтому здесь было очень много расхождений.
Но в то же время, важно отметить следующее. Сами евразийцы формально не имели отношения к возникновению такого движения, как младороссы. Это известное движение, которое возглавлял Александр Львович Казем-Бек, пыталось сыграть в эмиграции роль некого синтеза всего, что возможно. В частности младороссы были, с одной стороны, монархистами, причем монархистами-легитимистами, они поддерживали «кирилловскую» линию, хотя сама по себе эта линия очень спорная, но это опять-таки не тема нашего сегодняшнего разговора. То есть, младороссы, с одной стороны, были монархистами-легитимистами, с другой стороны – безусловными евразийцами, принимали все теоретические и геополитические положения евразийства практически целиком и полностью. С третьей стороны, они гораздо лояльнее относились, как это ни парадоксально, к советской действительности, чем сами евразийцы и тем более чем правые монархисты. Известно, что Казем-Беку принадлежит знаменитая формула «царь и советы», которая в значительной степени является фактически возрождением формулы, существовавшей в Московской Руси, – «царь и земские соборы». Младороссы отождествляли советы с земскими соборами. Для партии тут места никакого не было, это ясно. Партию заменяет монархическую вертикаль, если есть монархическая вертикаль, то партия не нужна. «Царь и советы» – это фактически та же самая социально-представительная монархия, которая сложилась на момент 1613 г. Поэтому младороссы в данном случае напрямую смыкаются с идеями М.В. Шахматова и В.Н. Ильина, потому что «государство правды» Шахматова – это апология Московской Руси, причем, надо сказать, действительно сильная апология. Таким образом, в данном случае можно сказать: евразийская теория трудно совместима с монархией XIX в., но вполне совместима с монархией Московской Руси, только на ином историческом витке.
В пользу того, что якобы евразийцы целиком были настроены против монархии, иногда приводится пример работы Н.Н. Алексеева «Христианство и идея монархии» (1927), в которой высказываются довольно жесткие оценки монархической традиции в целом. О том, что Н.Н. Алексеев не совсем евразиец, в предыдущем докладе уже говорилось, у Н.Н. Алексеева было много разных воззрений. И его «Христианство и идея монархии» написана, по сути дела, не с евразийских позиций, а с позиций классической христианской демократии. Начнем с того, что за основу христианского учения о
35
февраля, сколько против октября 1917 г., это в сознании смешивалось. Поэтому здесь было очень много расхождений.
Но в то же время, важно отметить следующее. Сами евразийцы формально не имели отношения к возникновению такого движения, как младороссы. Это известное движение, которое возглавлял Александр Львович Казем-Бек, пыталось сыграть в эмиграции роль некого синтеза всего, что возможно. В частности младороссы были, с одной стороны, монархистами, причем монархистами-легитимистами, они поддерживали «кирилловскую» линию, хотя сама по себе эта линия очень спорная, но это опять-таки не тема нашего сегодняшнего разговора. То есть, младороссы, с одной стороны, были монархистами-легитимистами, с другой стороны – безусловными евразийцами, принимали все теоретические и геополитические положения евразийства практически целиком и полностью. С третьей стороны, они гораздо лояльнее относились, как это ни парадоксально, к советской действительности, чем сами евразийцы и тем более чем правые монархисты. Известно, что Казем-Беку принадлежит знаменитая формула «царь и советы», которая в значительной степени является фактически возрождением формулы, существовавшей в Московской Руси, – «царь и земские соборы». Младороссы отождествляли советы с земскими соборами. Для партии тут места никакого не было, это ясно. Партию заменяет монархическую вертикаль, если есть монархическая вертикаль, то партия не нужна. «Царь и советы» – это фактически та же самая социально-представительная монархия, которая сложилась на момент 1613 г. Поэтому младороссы в данном случае напрямую смыкаются с идеями М.В. Шахматова и В.Н. Ильина, потому что «государство правды» Шахматова – это апология Московской Руси, причем, надо сказать, действительно сильная апология. Таким образом, в данном случае можно сказать: евразийская теория трудно совместима с монархией XIX в., но вполне совместима с монархией Московской Руси, только на ином историческом витке.
В пользу того, что якобы евразийцы целиком были настроены против монархии, иногда приводится пример работы Н.Н. Алексеева «Христианство и идея монархии» (1927), в которой высказываются довольно жесткие оценки монархической традиции в целом. О том, что Н.Н. Алексеев не совсем евразиец, в предыдущем докладе уже говорилось, у Н.Н. Алексеева было много разных воззрений. И его «Христианство и идея монархии» написана, по сути дела, не с евразийских позиций, а с позиций классической христианской демократии. Начнем с того, что за основу христианского учения о
36
формах государственной власти статья приводит пример библейской Книги Судей, которая, как известно, является основой христианского демократического учения о власти, причем не в католическом, а в протестантском его изложении. В «Христианстве и идее монархии» прямо говорится о том, что идея республики больше соответствует христианству в его католической и протестантской интерпретации. Поэтому в данном случае, эта работа является скорее не евразийской, хотя сам Н.Н. Алексеев в основном принадлежит к евразийской школе. Что же касается самого Н.Н. Алексеева, многие его идеи, в частности идея «правообязанности», более приемлемы в условиях все-таки монархического, нежели республиканского государства. В частности, эта идея, правда, выраженная несколько иначе, содержится в знаменитом труде Л.А. Тихомирова «Монархическая государственность», где, по сути дела, он говорит абсолютно то же самое, что и Н.Н. Алексеев, но только немного другими словами.
Классики евразийства, являясь в целом приверженцами имперской власти над большим пространством, тем не менее предпочитали монархии теократическое или идеократическое устройство государства. В этом проявились, прежде всего, платонические и неоплатонические корни их политического мышления. Дело в том, что из платоновского учения об идеях, действительно, вытекает политическая власть философов, которых очень легко отождествить с определенной политической партией или орденом. То есть платонизм в чистом виде предполагает не монархию, а идеократию, поэтому на платонизм могут опираться самые разные идеократические и политические режимы. На самом деле, если говорить совсем серьезно, то идеи платонизма мы не можем назвать строго традиционными, поскольку в традиционной схеме индоевропейского устройства государства мы встречаем жрецов, воинов и тружеников. Что касается платоновских философов, то они не соотносятся со жрецами, поскольку они только созерцают, но не приносят жертвы. А это очень важно для типологии: там, где приносят жертвы в том или ином виде, включая, разумеется, бескровную жертву, которая приносится в церкви, там мы встречаем традиционное государство. Платоновское государство, в принципе, не традиционное. Отсюда, из того, что жрецы (а жрецами является священство) являются важнейшей составной частью традиционного монархического государства, жречество подменяется орденом. У евразийцев, несмотря на их глубокую укорененность в православии, тем не менее роль священства в государстве фактически подменяется
36
формах государственной власти статья приводит пример библейской Книги Судей, которая, как известно, является основой христианского демократического учения о власти, причем не в католическом, а в протестантском его изложении. В «Христианстве и идее монархии» прямо говорится о том, что идея республики больше соответствует христианству в его католической и протестантской интерпретации. Поэтому в данном случае, эта работа является скорее не евразийской, хотя сам Н.Н. Алексеев в основном принадлежит к евразийской школе. Что же касается самого Н.Н. Алексеева, многие его идеи, в частности идея «правообязанности», более приемлемы в условиях все-таки монархического, нежели республиканского государства. В частности, эта идея, правда, выраженная несколько иначе, содержится в знаменитом труде Л.А. Тихомирова «Монархическая государственность», где, по сути дела, он говорит абсолютно то же самое, что и Н.Н. Алексеев, но только немного другими словами.
Классики евразийства, являясь в целом приверженцами имперской власти над большим пространством, тем не менее предпочитали монархии теократическое или идеократическое устройство государства. В этом проявились, прежде всего, платонические и неоплатонические корни их политического мышления. Дело в том, что из платоновского учения об идеях, действительно, вытекает политическая власть философов, которых очень легко отождествить с определенной политической партией или орденом. То есть платонизм в чистом виде предполагает не монархию, а идеократию, поэтому на платонизм могут опираться самые разные идеократические и политические режимы. На самом деле, если говорить совсем серьезно, то идеи платонизма мы не можем назвать строго традиционными, поскольку в традиционной схеме индоевропейского устройства государства мы встречаем жрецов, воинов и тружеников. Что касается платоновских философов, то они не соотносятся со жрецами, поскольку они только созерцают, но не приносят жертвы. А это очень важно для типологии: там, где приносят жертвы в том или ином виде, включая, разумеется, бескровную жертву, которая приносится в церкви, там мы встречаем традиционное государство. Платоновское государство, в принципе, не традиционное. Отсюда, из того, что жрецы (а жрецами является священство) являются важнейшей составной частью традиционного монархического государства, жречество подменяется орденом. У евразийцев, несмотря на их глубокую укорененность в православии, тем не менее роль священства в государстве фактически подменяется
37
партией. Отсюда идея партии-ордена, которая, в принципе, способна замещать так же и монархическую вертикаль власти.
Надо сказать, что идеи партократии характерны для всех нелиберальных идеологий XX в. Однако у евразийцев, в отличие от других, они не были окрашены в тоталитарные тона. При этом, левые евразийцы рассчитывали на эволюцию ВКП(б) от марксизма к евразийству, чему имелись определенные признаки в 1930-е и особенно в 1940-е гг., это сближало евразийство в большей степени с национал-большевизмом Н.В. Устрялова и целом рядом других подобных течений. Но в то же время безусловно одно: если при определенных условиях в России была бы так или иначе восстановлена монархия, то евразийцы бы ее поддержали, это совершенно очевидно. И стремились бы к распространению своей идеологии и подходов среди нового правящего строя. Это так, если мы говорим о классическом евразийстве.
Современное неоевразийство, которое возникло в начале 1990-х гг. стоит на тех же самых позициях. Собственно, теоретики и практики неоевразийства, такие как А.Г. Дугин, стоят в вопросе о будущем государственном устройстве на позиции непредрешения и только лишь указывают его основные векторы. Надо сказать, что среди приверженцев евразийства в начале 1990-х гг. оказывались представители самых разных политических сил, начиная от покойного великого князя Владимира Кирилловича до руководства КПРФ. И те, и другие, на самом деле, исповедовали евразийскую идеологию. Если бы евразийство сразу же завладело умами правящего класса новой России после 1991 г., то вполне возможно, что очень многих негативных явлений, с которыми мы сталкиваемся сегодня, может быть, удалось бы избежать. С другой стороны, происходит все так, как оно происходит.
В настоящее время в связи с провозглашенной идеей создания Евразийского союза, евразийская идеология становится, если не господствующей, то, во всяком случае, ведущей в России. Это связано с объективными условиями положения и развития нашей страны, и, прежде всего, с особенностями «месторазвития». Классики евразийства, и прежде всего Петр Савицкий, говорили о котловине, которая простирается от Карпат до Тихого океана, от Северных морей до Алтая и Тянь-Шаня. Эту котловину выстраивали как образ чаши. И эта единая чаша требует единого пространства. Причем интересно, что евразийцы очень четко оговаривали одну вещь, они говорили, что в котловину общую не входит Польша, и не входит Афганистан.
37
партией. Отсюда идея партии-ордена, которая, в принципе, способна замещать так же и монархическую вертикаль власти.
Надо сказать, что идеи партократии характерны для всех нелиберальных идеологий XX в. Однако у евразийцев, в отличие от других, они не были окрашены в тоталитарные тона. При этом, левые евразийцы рассчитывали на эволюцию ВКП(б) от марксизма к евразийству, чему имелись определенные признаки в 1930-е и особенно в 1940-е гг., это сближало евразийство в большей степени с национал-большевизмом Н.В. Устрялова и целом рядом других подобных течений. Но в то же время безусловно одно: если при определенных условиях в России была бы так или иначе восстановлена монархия, то евразийцы бы ее поддержали, это совершенно очевидно. И стремились бы к распространению своей идеологии и подходов среди нового правящего строя. Это так, если мы говорим о классическом евразийстве.
Современное неоевразийство, которое возникло в начале 1990-х гг. стоит на тех же самых позициях. Собственно, теоретики и практики неоевразийства, такие как А.Г. Дугин, стоят в вопросе о будущем государственном устройстве на позиции непредрешения и только лишь указывают его основные векторы. Надо сказать, что среди приверженцев евразийства в начале 1990-х гг. оказывались представители самых разных политических сил, начиная от покойного великого князя Владимира Кирилловича до руководства КПРФ. И те, и другие, на самом деле, исповедовали евразийскую идеологию. Если бы евразийство сразу же завладело умами правящего класса новой России после 1991 г., то вполне возможно, что очень многих негативных явлений, с которыми мы сталкиваемся сегодня, может быть, удалось бы избежать. С другой стороны, происходит все так, как оно происходит.
В настоящее время в связи с провозглашенной идеей создания Евразийского союза, евразийская идеология становится, если не господствующей, то, во всяком случае, ведущей в России. Это связано с объективными условиями положения и развития нашей страны, и, прежде всего, с особенностями «месторазвития». Классики евразийства, и прежде всего Петр Савицкий, говорили о котловине, которая простирается от Карпат до Тихого океана, от Северных морей до Алтая и Тянь-Шаня. Эту котловину выстраивали как образ чаши. И эта единая чаша требует единого пространства. Причем интересно, что евразийцы очень четко оговаривали одну вещь, они говорили, что в котловину общую не входит Польша, и не входит Афганистан.
38
Поэтому евразийство, безусловно, связано с объективными условиями «месторазвития».
На самом деле возможно только два пути для России: это либо евразийство, либо распад страны на несколько республик, в том числе и русских. Сейчас некоторые политические силы ставят вопрос именно так. Россия, в конечном счете, будет или евразийской страной, или ее в принципе не будет, причем, вне зависимости от того, монархия Россия или республика.
Также следует иметь в виду реальное совпадение взглядов евразийцев и монархистов, в том числе таких классиков монархической теории, как Л.А. Тихомирова или в известном смысле И.Л. Солоневича, по значительному ряду вопросов теории и практики. Например, в вопросе единства прав и обязанностей (того, что касается «правообязанности»), в вопросе о надпартийной и надсоциальной природе верховной власти в сочетании с социальным государством; социальном представительстве; местном самоуправлении; национальному вопросу и так далее.
Между евразийской идеологией и идеологией монархической, безусловно, возможно сближение. Они на многие темы говорят на одном языке. Но при этом надо все-таки помнить, что вопрос о монархии и республике – это вопрос государственного устройства, а вопрос о евразийстве – это вопрос о государственной территории. Однако с учетом основных положений «Политики» Аристотеля и «Духа законов» Монтескье о связи государства и права с географическими параметрами, и прежде всего о том, что большое пространство всегда так или иначе будет тяготеть к монархии, даже если это республика, то можно говорить о том, что евразийство и русская монархическая традиция взаимно совместимы, даже если говорят о разных вещах и в разных аспектах. Благодарю за внимание!
Б.В. Назмутдинов: Спасибо, Владимир Игоревич! Вопросы, пожалуйста!
М. Байссвенгер: Хотел бы уточнить, Вы говорите, что евразийство – это, прежде всего, геополитическая доктрина. Что Вы понимаете под геополитикой? Что для Вас и самих евразийцев геополитика?
В.И. Карпец: В принципе, геополитика – это наука о соединении власти и географического пространства.
М. Байссвенгер: Я спрашиваю, потому что проблемы, мне кажется, связаны с тем, что евразийцы, в частности П.Н. Савицкий, воспринимали геополитику немного по-своему. Самая распространенная дефиниция геополитики – это, конечно, влияние,
38
Поэтому евразийство, безусловно, связано с объективными условиями «месторазвития».
На самом деле возможно только два пути для России: это либо евразийство, либо распад страны на несколько республик, в том числе и русских. Сейчас некоторые политические силы ставят вопрос именно так. Россия, в конечном счете, будет или евразийской страной, или ее в принципе не будет, причем, вне зависимости от того, монархия Россия или республика.
Также следует иметь в виду реальное совпадение взглядов евразийцев и монархистов, в том числе таких классиков монархической теории, как Л.А. Тихомирова или в известном смысле И.Л. Солоневича, по значительному ряду вопросов теории и практики. Например, в вопросе единства прав и обязанностей (того, что касается «правообязанности»), в вопросе о надпартийной и надсоциальной природе верховной власти в сочетании с социальным государством; социальном представительстве; местном самоуправлении; национальному вопросу и так далее.
Между евразийской идеологией и идеологией монархической, безусловно, возможно сближение. Они на многие темы говорят на одном языке. Но при этом надо все-таки помнить, что вопрос о монархии и республике – это вопрос государственного устройства, а вопрос о евразийстве – это вопрос о государственной территории. Однако с учетом основных положений «Политики» Аристотеля и «Духа законов» Монтескье о связи государства и права с географическими параметрами, и прежде всего о том, что большое пространство всегда так или иначе будет тяготеть к монархии, даже если это республика, то можно говорить о том, что евразийство и русская монархическая традиция взаимно совместимы, даже если говорят о разных вещах и в разных аспектах. Благодарю за внимание!
Б.В. Назмутдинов: Спасибо, Владимир Игоревич! Вопросы, пожалуйста!
М. Байссвенгер: Хотел бы уточнить, Вы говорите, что евразийство – это, прежде всего, геополитическая доктрина. Что Вы понимаете под геополитикой? Что для Вас и самих евразийцев геополитика?
В.И. Карпец: В принципе, геополитика – это наука о соединении власти и географического пространства.
М. Байссвенгер: Я спрашиваю, потому что проблемы, мне кажется, связаны с тем, что евразийцы, в частности П.Н. Савицкий, воспринимали геополитику немного по-своему. Самая распространенная дефиниция геополитики – это, конечно, влияние,
39
которое оказывает география на власть, так называемый «географический детерминизм». Для П.Н. Савицкого это было не так. Для него, я думаю, как и для многих других евразийцев, за исключением, возможно, К.А. Чхеидзе, геополитика – это не примат географии, это совпадение власти и географии. П.Н. Савицкий так четко и не сказал, что важнее. Это, во-первых. Во-вторых, я хотел бы все-таки поспорить. Вы считаете, все евразийцы интересовались географией? А, например, П.П. Сувчинский?
В.И. Карпец: П.П. Сувчинский – вообще преимущественно искусствовед.
М. Байссвенгер: Хорошо, но он же евразиец? В.И. Карпец: Евразиец, но мы берем все-таки главное. М. Байссвенгер: А Сувчинский не главное? В.И. Карпец: Сувчинский – все же специалист в частных
областях. М. Байссвенгер: Он один из основателей евразийства. В.И. Карпец: Мы можем так же говорить о Карсавине или
Флоровском, что они в каком-то смысле тоже основатели евразийства. М. Байссвенгер: Но Сувчинский все-таки с 1921 по 1929 гг.
был евразийцем. И если Вы говорите, что это, прежде всего, геополитическая доктрина, тогда вообще все работы Сувчинского нужно просто отбросить!
В.И. Карпец: Нет, почему же? Мы просто о немного разных вещах говорим. Кстати, я очень ценю Сувчинского, но прежде всего как музыковеда. И раз уж мы говорим о таких подробностях, хотя мы здесь все-таки на юридическом факультете, я могу сказать, что у Сувчинского совершенно замечательные работы о Веберне, о Новой венской школе. Вот если мы встретимся на конференции по Новой венской школе, тогда и поговорим о Сувчинском. Сегодня мы вынуждены здесь себя ограничивать определенной тематикой.
М. Байссвенгер: Я бы хотел предложить другое определение. Я бы сказал, что евразийство – это прежде всего религиозная доктрина. Если что-то и объединяет всех евразийцев, то это, безусловно, православие.
В.И. Карпец: А Эренджен Хара-Даван, ведь он был буддист? А барон Унгерн, который был безусловный евразиец, но был буддист?!
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, проблема поставлена, но, к сожалению, у нас не так много времени. Рустем Ринатович, пожалуйста!
Р.Р. Вахитов: Я хотел бы продолжить с того, о чем говорил Мартин Байссвенгер, мне отчасти близко то, что он сказал. Ваш
39
которое оказывает география на власть, так называемый «географический детерминизм». Для П.Н. Савицкого это было не так. Для него, я думаю, как и для многих других евразийцев, за исключением, возможно, К.А. Чхеидзе, геополитика – это не примат географии, это совпадение власти и географии. П.Н. Савицкий так четко и не сказал, что важнее. Это, во-первых. Во-вторых, я хотел бы все-таки поспорить. Вы считаете, все евразийцы интересовались географией? А, например, П.П. Сувчинский?
В.И. Карпец: П.П. Сувчинский – вообще преимущественно искусствовед.
М. Байссвенгер: Хорошо, но он же евразиец? В.И. Карпец: Евразиец, но мы берем все-таки главное. М. Байссвенгер: А Сувчинский не главное? В.И. Карпец: Сувчинский – все же специалист в частных
областях. М. Байссвенгер: Он один из основателей евразийства. В.И. Карпец: Мы можем так же говорить о Карсавине или
Флоровском, что они в каком-то смысле тоже основатели евразийства. М. Байссвенгер: Но Сувчинский все-таки с 1921 по 1929 гг.
был евразийцем. И если Вы говорите, что это, прежде всего, геополитическая доктрина, тогда вообще все работы Сувчинского нужно просто отбросить!
В.И. Карпец: Нет, почему же? Мы просто о немного разных вещах говорим. Кстати, я очень ценю Сувчинского, но прежде всего как музыковеда. И раз уж мы говорим о таких подробностях, хотя мы здесь все-таки на юридическом факультете, я могу сказать, что у Сувчинского совершенно замечательные работы о Веберне, о Новой венской школе. Вот если мы встретимся на конференции по Новой венской школе, тогда и поговорим о Сувчинском. Сегодня мы вынуждены здесь себя ограничивать определенной тематикой.
М. Байссвенгер: Я бы хотел предложить другое определение. Я бы сказал, что евразийство – это прежде всего религиозная доктрина. Если что-то и объединяет всех евразийцев, то это, безусловно, православие.
В.И. Карпец: А Эренджен Хара-Даван, ведь он был буддист? А барон Унгерн, который был безусловный евразиец, но был буддист?!
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, проблема поставлена, но, к сожалению, у нас не так много времени. Рустем Ринатович, пожалуйста!
Р.Р. Вахитов: Я хотел бы продолжить с того, о чем говорил Мартин Байссвенгер, мне отчасти близко то, что он сказал. Ваш
40
доклад, Владимир Игоревич, очень интересный и оригинальный, но у слушателей, как мне кажется, возникают критические замечания. В силу резкости формулировок Вас можно понять неправильно. Вы, например, говорите о том, что евразийство ближе к естественным наукам, и сразу же возникает вопрос о географическом детерминизме. Может показаться, что Вы считаете, будто евразийцы были его сторонниками. А они как раз всегда от этого всячески открещивались. «Месторазвитие» – это не только географический ареал, это еще и культура.
В.И. Карпец: Рустем Ринатович, я с этого и начал. У меня четко написано: «Географические и климатические условия, исторические и религиозные традиции, военно-стратегическое положение, культура…».
Р.Р. Вахитов: Я и говорю, что может так показаться. Тогда, еще вопрос. Меня несколько задело то, что говорилось о Платоне. Я напомню: Владимир Игоревич говорил, что Платон не вполне «традиционен»…
В.И. Карпец: Речь идет именно о «традиции». Под «традицией» имеется в виду не философская традиция, а «традиция» в том смысле, в котором ее понимал, например, Рене Генон. Философская традиция – это немного другое. Поэтому здесь речь идет о традиции в ее изначальном смысле. Вот в данном случае речь идет о том, что существуют, скажем, три варны…
Р.Р. Вахитов: Но я же еще не задал вопрос. Вы сказали, что философы у Платона созерцали идеи, но не были жрецами. Но ведь, на самом деле, мы не совсем правильно переводим название данного диалога. Платон пишет об идеальном полисе, а не о государстве в современном значении этого слова. В греческом полисе все должностные лица были жрецами. Платоновские философы также должны были являться жрецами.
В.И. Карпец: Дело в том, что жрец, по моему мнению, – человек, совершающий определенные действия.
Р.Р. Вахитов: Все лица в полисе совершали определенные религиозно-культовые действия…
Б.В. Назмутдинов: Владимир Игоревич, Вам еще вопрос! Гость из зала. У вас был очень интересный доклад. Вы сказали,
что евразийцы и даже неоевразийцы, небезызвестный философ А.Г. Дугин, в своих взглядах близки к монархистам.
В.И. Карпец: Я это не сказал. Я сказал несколько иначе. Гость из зала: Но в принципе они не отрицают идею монархии.
При этом Вы сказали, что евразийцам близка не романовская модель 40
доклад, Владимир Игоревич, очень интересный и оригинальный, но у слушателей, как мне кажется, возникают критические замечания. В силу резкости формулировок Вас можно понять неправильно. Вы, например, говорите о том, что евразийство ближе к естественным наукам, и сразу же возникает вопрос о географическом детерминизме. Может показаться, что Вы считаете, будто евразийцы были его сторонниками. А они как раз всегда от этого всячески открещивались. «Месторазвитие» – это не только географический ареал, это еще и культура.
В.И. Карпец: Рустем Ринатович, я с этого и начал. У меня четко написано: «Географические и климатические условия, исторические и религиозные традиции, военно-стратегическое положение, культура…».
Р.Р. Вахитов: Я и говорю, что может так показаться. Тогда, еще вопрос. Меня несколько задело то, что говорилось о Платоне. Я напомню: Владимир Игоревич говорил, что Платон не вполне «традиционен»…
В.И. Карпец: Речь идет именно о «традиции». Под «традицией» имеется в виду не философская традиция, а «традиция» в том смысле, в котором ее понимал, например, Рене Генон. Философская традиция – это немного другое. Поэтому здесь речь идет о традиции в ее изначальном смысле. Вот в данном случае речь идет о том, что существуют, скажем, три варны…
Р.Р. Вахитов: Но я же еще не задал вопрос. Вы сказали, что философы у Платона созерцали идеи, но не были жрецами. Но ведь, на самом деле, мы не совсем правильно переводим название данного диалога. Платон пишет об идеальном полисе, а не о государстве в современном значении этого слова. В греческом полисе все должностные лица были жрецами. Платоновские философы также должны были являться жрецами.
В.И. Карпец: Дело в том, что жрец, по моему мнению, – человек, совершающий определенные действия.
Р.Р. Вахитов: Все лица в полисе совершали определенные религиозно-культовые действия…
Б.В. Назмутдинов: Владимир Игоревич, Вам еще вопрос! Гость из зала. У вас был очень интересный доклад. Вы сказали,
что евразийцы и даже неоевразийцы, небезызвестный философ А.Г. Дугин, в своих взглядах близки к монархистам.
В.И. Карпец: Я это не сказал. Я сказал несколько иначе. Гость из зала: Но в принципе они не отрицают идею монархии.
При этом Вы сказали, что евразийцам близка не романовская модель
41
западной монархии, которая трансформировалась затем в конституционную, а именно допетровская, Московская.
В.И. Карпец: Я бы даже сказал, не допетровская, а дониконовская.
Гость из зала: Да, дораскольная. Возникает вопрос: как в принципе возможно в современной России установление дониконовской абсолютной монархии?
В.И. Карпец: Во-первых, этот вопрос совершенно не имеет отношение к моему докладу. Я могу, конечно, в частном порядке с Вами об этом поговорить, но давайте не будем забывать, что мы здесь находимся в государственном учреждении, и поэтому эти вопросы некорректно здесь обсуждать. Если бы мы сидели в частном учебном заведении, мы бы с Вами спокойно сели и его обсудили, но мы находимся в государственном учебном заведении, поэтому я делаю Вам замечание…
Б.В. Назмутдинов: Владимир Игоревич, давайте без замечаний! У нас же не лекция. Вопрос актуальный, но он выбивается за рамки круглого стола. Александр Александрович, пожалуйста!
А.А. Сафонов: Владимир Игоревич, следуя за Вашим докладом, приходишь к выводу, что на формирование политической концепции евразийства большое влияние оказывала практика Советского государства. В этой связи у меня вопрос. Вы упомянули 1930-1940 гг. Какие аспекты жизни Советского государства могут рассматриваться как позитивные для формирования евразийской концепции? И второй вопрос, который вытекает из этого: у Вас такая дихотомия «царь-советы». Я думаю, что формирование этой концепции также есть результат информации, которая транслировалась из Советского государства в Западную Европу и, соответственно, к евразийцам. В принципе, советы, как мы знаем, возникали на достаточно близкой для крестьянства идее – идее общинной организации, общинном самоуправлении, практике совместного разрешения тех или иных вопросов общественной жизни. И, действительно, эта советская идея в 1917-1918 гг. привела к очень быстрому становлению советской власти. Помните термин «триумфальное шествие советской власти»? И оно реально было таковым. Советы, советская власть устанавливалась на уровне волостей и уездов, гораздо позже – уже на губернском уровне. Впоследствии, как мы знаем, партийная практика привела к перерождению советов. Уже с середины 1925 г. начинается политика по усилению государственного влияния в советских органах. Из них устраняются представители любых иных политических партий, состав
41
западной монархии, которая трансформировалась затем в конституционную, а именно допетровская, Московская.
В.И. Карпец: Я бы даже сказал, не допетровская, а дониконовская.
Гость из зала: Да, дораскольная. Возникает вопрос: как в принципе возможно в современной России установление дониконовской абсолютной монархии?
В.И. Карпец: Во-первых, этот вопрос совершенно не имеет отношение к моему докладу. Я могу, конечно, в частном порядке с Вами об этом поговорить, но давайте не будем забывать, что мы здесь находимся в государственном учреждении, и поэтому эти вопросы некорректно здесь обсуждать. Если бы мы сидели в частном учебном заведении, мы бы с Вами спокойно сели и его обсудили, но мы находимся в государственном учебном заведении, поэтому я делаю Вам замечание…
Б.В. Назмутдинов: Владимир Игоревич, давайте без замечаний! У нас же не лекция. Вопрос актуальный, но он выбивается за рамки круглого стола. Александр Александрович, пожалуйста!
А.А. Сафонов: Владимир Игоревич, следуя за Вашим докладом, приходишь к выводу, что на формирование политической концепции евразийства большое влияние оказывала практика Советского государства. В этой связи у меня вопрос. Вы упомянули 1930-1940 гг. Какие аспекты жизни Советского государства могут рассматриваться как позитивные для формирования евразийской концепции? И второй вопрос, который вытекает из этого: у Вас такая дихотомия «царь-советы». Я думаю, что формирование этой концепции также есть результат информации, которая транслировалась из Советского государства в Западную Европу и, соответственно, к евразийцам. В принципе, советы, как мы знаем, возникали на достаточно близкой для крестьянства идее – идее общинной организации, общинном самоуправлении, практике совместного разрешения тех или иных вопросов общественной жизни. И, действительно, эта советская идея в 1917-1918 гг. привела к очень быстрому становлению советской власти. Помните термин «триумфальное шествие советской власти»? И оно реально было таковым. Советы, советская власть устанавливалась на уровне волостей и уездов, гораздо позже – уже на губернском уровне. Впоследствии, как мы знаем, партийная практика привела к перерождению советов. Уже с середины 1925 г. начинается политика по усилению государственного влияния в советских органах. Из них устраняются представители любых иных политических партий, состав
42
советов становится однотипным по социальному составу, устраняются все категории крестьянства, которые относятся к зажиточным, и так далее. Однако сама идея тем не менее остается. «Царь и советы» – эта идея была сформирована, и евразийцы просто следуют ей? Или это недостаток информации о жизни в Советском Союзе, в том числе в конце 1920-х– начале 1930-х гг., когда община как форма самоуправления была ликвидирована в ходе коллективизации?
В.И. Карпец: Раз уж мы заговорили о евразийцах как о культурном явлении, то я мог бы добавить, что тот же П.Н. Савицкий, который был еще и поэтом, правда, поэтом таким средним, написал целый сборник стихов о первой пятилетке. Как Вы понимаете, тут прямая связь. Тот же П.П. Сувчинский помогал С.С. Прокофьеву сочинять кантату на текст Ф.Энгельса «Диалектика природы». Поэтому, действительно, тут связь была самая прямая даже на таком уровне.
Что же касается серьезного вопроса о советах, то они, действительно, возникали стихийно, и, кстати говоря, когда возник первый Иваново-Вознесенский Совет еще в 1905 г., отношение к этому Императора было совершенно иным, чем отношение к Петербургским и Московским волнениям. Государь очень интересовался опытом этого Совета, интересовался, что это такое, как оно возникает, то есть проявлял конкретный интерес к советам. Поэтому здесь тоже все очень не просто.
Что касается вопроса о партии и советах, могу сказать следующее. Партия была тем, что сейчас называют вертикалью власти, которая стала именно тем, чем она стала, после того как победил ленинский план о разделении на республики. Каким-то образом надо было все это соединять, и соединять это было можно только через партийную вертикаль. Так появилась практика: первый секретарь местный, второй, как правило, присылаемый. По сути дела, партийный аппарат заменил систему генерал-губернаторств, которые были при императорской власти.
Вопрос же самоуправления – немного другая тема. Тот же самый Лев Тихомиров или иной мыслитель-монархист правого толка Сергей Федорович Шарапов, автор статьи «Самодержавие и самоуправление», обосновывали следующую идею: максимум самодержавия и максимум самоуправления. Приводились, между прочим, в пример земские губные преобразования Ивана IV, как некий образец соединения самодержавной централизации и местного самоуправления, когда убрали наместников и волостелей и заменили
42
советов становится однотипным по социальному составу, устраняются все категории крестьянства, которые относятся к зажиточным, и так далее. Однако сама идея тем не менее остается. «Царь и советы» – эта идея была сформирована, и евразийцы просто следуют ей? Или это недостаток информации о жизни в Советском Союзе, в том числе в конце 1920-х– начале 1930-х гг., когда община как форма самоуправления была ликвидирована в ходе коллективизации?
В.И. Карпец: Раз уж мы заговорили о евразийцах как о культурном явлении, то я мог бы добавить, что тот же П.Н. Савицкий, который был еще и поэтом, правда, поэтом таким средним, написал целый сборник стихов о первой пятилетке. Как Вы понимаете, тут прямая связь. Тот же П.П. Сувчинский помогал С.С. Прокофьеву сочинять кантату на текст Ф.Энгельса «Диалектика природы». Поэтому, действительно, тут связь была самая прямая даже на таком уровне.
Что же касается серьезного вопроса о советах, то они, действительно, возникали стихийно, и, кстати говоря, когда возник первый Иваново-Вознесенский Совет еще в 1905 г., отношение к этому Императора было совершенно иным, чем отношение к Петербургским и Московским волнениям. Государь очень интересовался опытом этого Совета, интересовался, что это такое, как оно возникает, то есть проявлял конкретный интерес к советам. Поэтому здесь тоже все очень не просто.
Что касается вопроса о партии и советах, могу сказать следующее. Партия была тем, что сейчас называют вертикалью власти, которая стала именно тем, чем она стала, после того как победил ленинский план о разделении на республики. Каким-то образом надо было все это соединять, и соединять это было можно только через партийную вертикаль. Так появилась практика: первый секретарь местный, второй, как правило, присылаемый. По сути дела, партийный аппарат заменил систему генерал-губернаторств, которые были при императорской власти.
Вопрос же самоуправления – немного другая тема. Тот же самый Лев Тихомиров или иной мыслитель-монархист правого толка Сергей Федорович Шарапов, автор статьи «Самодержавие и самоуправление», обосновывали следующую идею: максимум самодержавия и максимум самоуправления. Приводились, между прочим, в пример земские губные преобразования Ивана IV, как некий образец соединения самодержавной централизации и местного самоуправления, когда убрали наместников и волостелей и заменили
43
их выборными губными и земскими старостами. Фактически, это те же самые советы. Поэтому традиция существования советов идет еще с XVI в.
Б.В. Назмутдинов: Владимир Игоревич, спасибо большое за ответ! Последний вопрос и переходим к Мартину Байссвенгеру.
М. Варюшин: Владимир Игоревич, Николай Трубецкой утверждает, что Россия является наследницей империи Чингисхана. Какие достоинства или, наоборот, недостатки находили евразийцы у монархии Чингисхана?
В.И. Карпец: Вы можете посмотреть книгу Н.С. Трубецкого «Наследие Чингисхана». В части монархии, прежде всего, империя Чингизидов была традиционной наследственной монархией, причем изначально со внеположенной династией, имеющей легендарное происхождение. Сказания монголов о происхождении Чингисхана Вы знаете: архетип полностью совпадает с происхождением всех остальных сакральных династий, то есть некое внеземное происхождение монархии. Поэтому в данном случае наследие Чингисхана – абсолютно монархическое. На эту тему есть замечательная книга евразийца, жившего не в Европе, Всеволода Никаноровича Иванова «Мы: Культурно-исторические основы русской государственности».
М. Байссвенгер: Маленькая реплика. Всеволода Иванова евразийцы своим не признали.
В.И. Карпец: Да, не признавали. Но он тем не менее евразиец. Б.В. Назмутдинов: Владимир Игоревич, большое спасибо!
Переходим к докладу М. Байссвенгера «Создавая «Евразию»:к политическому смыслу статьи П.Н. Савицкого «Что делать?».
М. Байссвенгер: Думаю, очень важно спуститься от Платона и Аристотеля, их абстрактно-философских размышлений, ближе к конкретности, к классическим евразийцам. Я считаю, что нужно обратить внимание и в будущем помнить о том, что нет евразийства как такового, существуют разные «евразийства». Идеи, политические обстоятельства в течение двадцати лет менялись, и очень сложно говорить, что идеи 1921 г., идеи 1929 г. или идеи 1938 г. суть одно и то же евразийство. Это не так, во-первых. Во-вторых, очень важно различать тех, кто печатался у евразийцев. Можно ли считать М.В. Шахматова евразийцем? Да, он публиковался в евразийских изданиях, но делает ли это из него евразийца? С.Л. Франк также там публиковался… Так что сам по себе вопрос сложный, здесь еще очень многое нужно сделать. И, конечно, главное: важно смотреть «за кулисы» тех опубликованных работ, которые сейчас очень широко
43
их выборными губными и земскими старостами. Фактически, это те же самые советы. Поэтому традиция существования советов идет еще с XVI в.
Б.В. Назмутдинов: Владимир Игоревич, спасибо большое за ответ! Последний вопрос и переходим к Мартину Байссвенгеру.
М. Варюшин: Владимир Игоревич, Николай Трубецкой утверждает, что Россия является наследницей империи Чингисхана. Какие достоинства или, наоборот, недостатки находили евразийцы у монархии Чингисхана?
В.И. Карпец: Вы можете посмотреть книгу Н.С. Трубецкого «Наследие Чингисхана». В части монархии, прежде всего, империя Чингизидов была традиционной наследственной монархией, причем изначально со внеположенной династией, имеющей легендарное происхождение. Сказания монголов о происхождении Чингисхана Вы знаете: архетип полностью совпадает с происхождением всех остальных сакральных династий, то есть некое внеземное происхождение монархии. Поэтому в данном случае наследие Чингисхана – абсолютно монархическое. На эту тему есть замечательная книга евразийца, жившего не в Европе, Всеволода Никаноровича Иванова «Мы: Культурно-исторические основы русской государственности».
М. Байссвенгер: Маленькая реплика. Всеволода Иванова евразийцы своим не признали.
В.И. Карпец: Да, не признавали. Но он тем не менее евразиец. Б.В. Назмутдинов: Владимир Игоревич, большое спасибо!
Переходим к докладу М. Байссвенгера «Создавая «Евразию»:к политическому смыслу статьи П.Н. Савицкого «Что делать?».
М. Байссвенгер: Думаю, очень важно спуститься от Платона и Аристотеля, их абстрактно-философских размышлений, ближе к конкретности, к классическим евразийцам. Я считаю, что нужно обратить внимание и в будущем помнить о том, что нет евразийства как такового, существуют разные «евразийства». Идеи, политические обстоятельства в течение двадцати лет менялись, и очень сложно говорить, что идеи 1921 г., идеи 1929 г. или идеи 1938 г. суть одно и то же евразийство. Это не так, во-первых. Во-вторых, очень важно различать тех, кто печатался у евразийцев. Можно ли считать М.В. Шахматова евразийцем? Да, он публиковался в евразийских изданиях, но делает ли это из него евразийца? С.Л. Франк также там публиковался… Так что сам по себе вопрос сложный, здесь еще очень многое нужно сделать. И, конечно, главное: важно смотреть «за кулисы» тех опубликованных работ, которые сейчас очень широко
44
распространены. Нужно смотреть, кем и когда, с какой целью они были написаны. Именно с таким отношением я и рассматриваю ключевую, как мне кажется, статью П.Н. Савицкого «Что делать?». Опубликована она в январе 1926 г. в «Евразийской хронике» и, насколько знаю, практически неизвестна – статья написана автором, скрывшемся под псевдонимом «С.». Это и есть псевдоним Савицкого, как удалось выяснить при чтении архивных материалов.
Очень важно учитывать, что евразийство в отличие от других эмигрантских течений пыталось соединить идеи и действия, у евразийцев никогда не было чистой философии, чистой идеи. Практически с самого начала евразийство было вызовом к действию, к активности, некой философией действия. В то время таких «философий» было очень много, и они очень хорошо вписываются в европейский контекст. К примеру, в Германии были очень известные журнал и движение под названием «Die Tat» («Действие»). Просто же думать – писать и не действовать – этим, по мнению евразийцев, были призваны заниматься «старые грымзы», предыдущее поколение русского религиозного возрождения.
В 1923 г. эти стремления к действию у евразийцев наконец получили какое-то конкретное выражение. Началось сотрудничество с так называемым «Трестом» – подпольной, антибольшевистской монархической организацией в СССР. Представители этой организации вступили в контакт с евразийскими деятелями, и те очень охотно на это откликнулись. Конечно, организация «Трест» была фиктивная, она была создана ГПУ для того, чтобы контролировать и манипулировать эмигрантами, в том числе евразийцами. Несмотря на то, что евразийцы понимали, что здесь не все чисто, они считали себя привилегированными, ведь у них была «прямая линия» в Советский Союз. В течение пяти лет, до начала 1927 г., евразийцы регулярно ездили в СССР, а представители «Треста» – за границу, они присутствовали на евразийских заседаниях, съездах, даже публиковались в евразийских изданиях. Петр Арапов ездил в СССР два раза, Савицкий – один раз, был даже постоянный представитель евразийства в Советском Союзе – некий Мукалов. Кстати, он был учеником Савицкого по тому же самому Русскому юридическому факультету, о котором ранее уже говорилось. К сожалению, Мукалов был убит сотрудниками советских служб после развала «Треста» в 1927 г.
Особую интенсивность эти контакты приобрели в 1925 г. Прийти к власти в Советском Союзе – основная цель евразийцев в середине 1920 гг. Для этого нужны были документы – политические, в
44
распространены. Нужно смотреть, кем и когда, с какой целью они были написаны. Именно с таким отношением я и рассматриваю ключевую, как мне кажется, статью П.Н. Савицкого «Что делать?». Опубликована она в январе 1926 г. в «Евразийской хронике» и, насколько знаю, практически неизвестна – статья написана автором, скрывшемся под псевдонимом «С.». Это и есть псевдоним Савицкого, как удалось выяснить при чтении архивных материалов.
Очень важно учитывать, что евразийство в отличие от других эмигрантских течений пыталось соединить идеи и действия, у евразийцев никогда не было чистой философии, чистой идеи. Практически с самого начала евразийство было вызовом к действию, к активности, некой философией действия. В то время таких «философий» было очень много, и они очень хорошо вписываются в европейский контекст. К примеру, в Германии были очень известные журнал и движение под названием «Die Tat» («Действие»). Просто же думать – писать и не действовать – этим, по мнению евразийцев, были призваны заниматься «старые грымзы», предыдущее поколение русского религиозного возрождения.
В 1923 г. эти стремления к действию у евразийцев наконец получили какое-то конкретное выражение. Началось сотрудничество с так называемым «Трестом» – подпольной, антибольшевистской монархической организацией в СССР. Представители этой организации вступили в контакт с евразийскими деятелями, и те очень охотно на это откликнулись. Конечно, организация «Трест» была фиктивная, она была создана ГПУ для того, чтобы контролировать и манипулировать эмигрантами, в том числе евразийцами. Несмотря на то, что евразийцы понимали, что здесь не все чисто, они считали себя привилегированными, ведь у них была «прямая линия» в Советский Союз. В течение пяти лет, до начала 1927 г., евразийцы регулярно ездили в СССР, а представители «Треста» – за границу, они присутствовали на евразийских заседаниях, съездах, даже публиковались в евразийских изданиях. Петр Арапов ездил в СССР два раза, Савицкий – один раз, был даже постоянный представитель евразийства в Советском Союзе – некий Мукалов. Кстати, он был учеником Савицкого по тому же самому Русскому юридическому факультету, о котором ранее уже говорилось. К сожалению, Мукалов был убит сотрудниками советских служб после развала «Треста» в 1927 г.
Особую интенсивность эти контакты приобрели в 1925 г. Прийти к власти в Советском Союзе – основная цель евразийцев в середине 1920 гг. Для этого нужны были документы – политические, в
45
том числе правовые. Какие-то абстрактно-философские декларации здесь не годились, поэтому были написаны разные декларации, которые затем распространялись не только в Советском Союзе через линию «Треста», но и среди эмигрантов. Практически все эти документы не опубликованы, находятся в архивах.
Существует одна такая статья, так называемая «английская записка», написанная на английском языке летом 1925 г. одним из евразийцев, который упоминается не так часто, – П.Н. Малевским-Малевичем. На эту записку откликнулся Савицкий, его ответ остался бы незамеченным, если бы в начале 1926 г. Савицкий не опубликовал его в Евразийской хронике, которую он сам тогда и издавал. Ответом Малевскому-Малевичу стала статья под названием «Что делать?». По сути дела, это план действий, план по захвату власти в Советском Союзе. И, конечно, название статьи не случайно – здесь и Чернышевский, и Ленин абсолютно сознательно упоминаются, конечно, не по имени, отсылка видна в названии. В статье идет речь о создании какой-то элитной партии, как называет это Савицкий, «национальной организации». И вот эта «национальная организация» должна захватить власть в СССР. Изначально она распространяется внутри коммунистического аппарата, втекает во все «поры» этого аппарата, а потом в нужный момент, когда она наберет силу, эта организация захватит власть. Причем, для Савицкого «захват власти» –отнюдь не фигура речи. В другом контексте речь уже идет о том, чтобы «срезать верхушку». Именно так евразийцы хотели действовать.
Сейчас я пересказываю эту статью, потому что многие вопросы, о которых мы говорили, затрагиваются именно в этом программном документе. Итак, что случится после захвата власти? После захвата власти будут выборы – общие и свободные, как считал Савицкий. И без этого насильственного захвата власти таких выборов быть не может. Однако в дальнейшем после этих выборов, из-за российских условий – в частности, как говорит Савицкий, из-за пассивности, малограмотности крестьян и каких-то географических и исторических соображений – в СССР (т.е. уже тогда в Евразии) невозможно построить демократию в западном смысле. Это не значит, что евразийцы или Савицкий были против демократии вообще; они лишь считали, что для России она не годится. Савицкий, например, говорил, что евразийцы относятся с пониманием и признанием к великим демократиям Запада, к их историческому значению, их соответствию историческим условиям Запада. Однако для России демократия не годится, нужна другая форма, которую Савицкий назвал «демотия».
45
том числе правовые. Какие-то абстрактно-философские декларации здесь не годились, поэтому были написаны разные декларации, которые затем распространялись не только в Советском Союзе через линию «Треста», но и среди эмигрантов. Практически все эти документы не опубликованы, находятся в архивах.
Существует одна такая статья, так называемая «английская записка», написанная на английском языке летом 1925 г. одним из евразийцев, который упоминается не так часто, – П.Н. Малевским-Малевичем. На эту записку откликнулся Савицкий, его ответ остался бы незамеченным, если бы в начале 1926 г. Савицкий не опубликовал его в Евразийской хронике, которую он сам тогда и издавал. Ответом Малевскому-Малевичу стала статья под названием «Что делать?». По сути дела, это план действий, план по захвату власти в Советском Союзе. И, конечно, название статьи не случайно – здесь и Чернышевский, и Ленин абсолютно сознательно упоминаются, конечно, не по имени, отсылка видна в названии. В статье идет речь о создании какой-то элитной партии, как называет это Савицкий, «национальной организации». И вот эта «национальная организация» должна захватить власть в СССР. Изначально она распространяется внутри коммунистического аппарата, втекает во все «поры» этого аппарата, а потом в нужный момент, когда она наберет силу, эта организация захватит власть. Причем, для Савицкого «захват власти» –отнюдь не фигура речи. В другом контексте речь уже идет о том, чтобы «срезать верхушку». Именно так евразийцы хотели действовать.
Сейчас я пересказываю эту статью, потому что многие вопросы, о которых мы говорили, затрагиваются именно в этом программном документе. Итак, что случится после захвата власти? После захвата власти будут выборы – общие и свободные, как считал Савицкий. И без этого насильственного захвата власти таких выборов быть не может. Однако в дальнейшем после этих выборов, из-за российских условий – в частности, как говорит Савицкий, из-за пассивности, малограмотности крестьян и каких-то географических и исторических соображений – в СССР (т.е. уже тогда в Евразии) невозможно построить демократию в западном смысле. Это не значит, что евразийцы или Савицкий были против демократии вообще; они лишь считали, что для России она не годится. Савицкий, например, говорил, что евразийцы относятся с пониманием и признанием к великим демократиям Запада, к их историческому значению, их соответствию историческим условиям Запада. Однако для России демократия не годится, нужна другая форма, которую Савицкий назвал «демотия».
46
Эта «демотия» создается правящим отбором, ее отличительный признак в том, что государство постоянно взаимодействует с народом, есть постоянный контакт, это не голосование раз в четыре, пять или шесть лет, а конкретное, постоянное взаимодействие. Мне это напоминает вот что: Савицкий сам – из Чернигова, в молодости он занимался местными украинскими обычаями, искусством и культурой. В тех местах в XVI–XVII вв. существовало гетманство: гетман тоже был в постоянном контакте с народом, гетман у них такой был, «институционализированный».
Такая «демотия», конечно, не строится на пустом месте. Основой для нового правительства, для этой новой Евразии будут служить те же «советы», которые в СССР уже есть. Имеются в виду, конечно, «советы»1925 г., а не 1935 г. Однако эти советы должны быть изменены. Согласно Савицкому, в их состав включаются духовенство, руководители сельского хозяйства, представители торговых кругов и промышленности. Они включаются не просто так – проводятся выборы. Однако это выборы опять же не по западному образцу (прямые, тайные, всеобщие), а выборы специфические – они напоминают нам об идеях корпоративизма. Профессиональное представительство имеет очень большое значение, не все голоса считаются равными. Савицкий считает, что нужно взвешивать голоса: голоса организаторов промышленности, сельского хозяйства и др. имеют большую ценность, чем голоса простых работников.
После захвата власти создается Конституция Евразии, в которой отражается дальнейший процесс «профессионализации» представителей народа. Хотелось бы еще раз отметить, что Савицкий в первую очередь по образованию не юрист и не историк, а экономист. Он экономист, ученик П.Б. Струве по Петербургскому Политехническому институту, поэтому особое значение Савицкий придает профессионализму и экономике. По его мнению, советы становятся из ветвей власти, но должны существовать и другие. Должны существовать «профессиональные палаты», как Савицкий их называет. Есть земледельческая палата и промышленная палата: согласно плану Савицкого, они находятся в разных городах. Земледельческая палата – в Киеве, промышленная – в Новониколаевске (Новосибирске). Новой столицей государства становится Евразийск. Он находится, конечно, в Сибири – на одной линии между промышленной столицей и земледельческой столицей, между Киевом и Новосибирском. Но существуют еще две духовные столицы: православная и мусульманская. Это, конечно, Москва и Самарканд. Евразийск находится на пересечении этих двух линий:
46
Эта «демотия» создается правящим отбором, ее отличительный признак в том, что государство постоянно взаимодействует с народом, есть постоянный контакт, это не голосование раз в четыре, пять или шесть лет, а конкретное, постоянное взаимодействие. Мне это напоминает вот что: Савицкий сам – из Чернигова, в молодости он занимался местными украинскими обычаями, искусством и культурой. В тех местах в XVI–XVII вв. существовало гетманство: гетман тоже был в постоянном контакте с народом, гетман у них такой был, «институционализированный».
Такая «демотия», конечно, не строится на пустом месте. Основой для нового правительства, для этой новой Евразии будут служить те же «советы», которые в СССР уже есть. Имеются в виду, конечно, «советы»1925 г., а не 1935 г. Однако эти советы должны быть изменены. Согласно Савицкому, в их состав включаются духовенство, руководители сельского хозяйства, представители торговых кругов и промышленности. Они включаются не просто так – проводятся выборы. Однако это выборы опять же не по западному образцу (прямые, тайные, всеобщие), а выборы специфические – они напоминают нам об идеях корпоративизма. Профессиональное представительство имеет очень большое значение, не все голоса считаются равными. Савицкий считает, что нужно взвешивать голоса: голоса организаторов промышленности, сельского хозяйства и др. имеют большую ценность, чем голоса простых работников.
После захвата власти создается Конституция Евразии, в которой отражается дальнейший процесс «профессионализации» представителей народа. Хотелось бы еще раз отметить, что Савицкий в первую очередь по образованию не юрист и не историк, а экономист. Он экономист, ученик П.Б. Струве по Петербургскому Политехническому институту, поэтому особое значение Савицкий придает профессионализму и экономике. По его мнению, советы становятся из ветвей власти, но должны существовать и другие. Должны существовать «профессиональные палаты», как Савицкий их называет. Есть земледельческая палата и промышленная палата: согласно плану Савицкого, они находятся в разных городах. Земледельческая палата – в Киеве, промышленная – в Новониколаевске (Новосибирске). Новой столицей государства становится Евразийск. Он находится, конечно, в Сибири – на одной линии между промышленной столицей и земледельческой столицей, между Киевом и Новосибирском. Но существуют еще две духовные столицы: православная и мусульманская. Это, конечно, Москва и Самарканд. Евразийск находится на пересечении этих двух линий:
47
Киев-Новосибирск и Москва-Самарканд. Савицкий придавал очень большое значение символическим обоснованиям власти: духовному и экономическому.
Какова политическая жизнь в этой Евразии? Существует Всесоюзный Съезд Советов, он выбирает царя. Однако это сложная система выборов. Савицкий очень четко обозначает, что это не монархия, потому что монархия – на Западе. Ни о какой наследственности речи быть здесь не может. В Евразии царь предлагает и назначает своих преемников, из которых затем Съезд Советов избирает царя. Царь здесь важен как авторитетная, хотя я бы не сказал, как «декоративная» фигура. Он значим в качестве духовной ценности: Евразия в восприятии Савицкого – все же сакральная империя, царь получает здесь освящение. Понятно, что царь не тождественен президенту: президент – скорее секулярный человек; царь же получает свои полномочия от Бога, царь придает религиозную окраску этой новой Евразии, новому государству.
Савицкий далее касается вопросов экономики. И здесь он, конечно, специалист. После захвата власти должна происходить денационализация. Здесь важна личная собственность, личная инициатива. Савицкий очень любил фигуру «хозяина», какого-то целостного хозяйствующего субъекта, человека, который лично управляет своими делами, своим хозяйством. Это, по сути, идеальный гражданин. Я уверен, что в системе Савицкого он получает намного больше голосов, чем обычный рабочий. Но экономическая система состоит не только из хозяев, она представляет собой смешанную, «государственно-частную» систему. Крупные предприятия, как предполагал Савицкий, на пятьдесят процентов состоят в частном владении, остальные пятьдесят процентов принадлежат государству.
Законодательство в этой новой Евразии после прихода к власти евразийцев постоянно усовершенствуется, согласно идеям Савицкого. Безусловно, учитываются русские традиции, но, что немного удивительно, Савицкий призывает к тому, чтобы американский и западноевропейский опыт также были учтены при дальнейшем развитии евразийской конституции.
Таково содержание статьи «Что делать?». Я думаю, что это наиболее конкретное, что когда-либо кто-то из евразийцев писал именно о том, как происходит приход к власти в Советском Союзе и как этот врощенный в Евразию Советский Союз будет функционировать. При этом Советский Союз, конечно, будет федерацией. Причем вопрос «Монархия или не монархия?» каждый
47
Киев-Новосибирск и Москва-Самарканд. Савицкий придавал очень большое значение символическим обоснованиям власти: духовному и экономическому.
Какова политическая жизнь в этой Евразии? Существует Всесоюзный Съезд Советов, он выбирает царя. Однако это сложная система выборов. Савицкий очень четко обозначает, что это не монархия, потому что монархия – на Западе. Ни о какой наследственности речи быть здесь не может. В Евразии царь предлагает и назначает своих преемников, из которых затем Съезд Советов избирает царя. Царь здесь важен как авторитетная, хотя я бы не сказал, как «декоративная» фигура. Он значим в качестве духовной ценности: Евразия в восприятии Савицкого – все же сакральная империя, царь получает здесь освящение. Понятно, что царь не тождественен президенту: президент – скорее секулярный человек; царь же получает свои полномочия от Бога, царь придает религиозную окраску этой новой Евразии, новому государству.
Савицкий далее касается вопросов экономики. И здесь он, конечно, специалист. После захвата власти должна происходить денационализация. Здесь важна личная собственность, личная инициатива. Савицкий очень любил фигуру «хозяина», какого-то целостного хозяйствующего субъекта, человека, который лично управляет своими делами, своим хозяйством. Это, по сути, идеальный гражданин. Я уверен, что в системе Савицкого он получает намного больше голосов, чем обычный рабочий. Но экономическая система состоит не только из хозяев, она представляет собой смешанную, «государственно-частную» систему. Крупные предприятия, как предполагал Савицкий, на пятьдесят процентов состоят в частном владении, остальные пятьдесят процентов принадлежат государству.
Законодательство в этой новой Евразии после прихода к власти евразийцев постоянно усовершенствуется, согласно идеям Савицкого. Безусловно, учитываются русские традиции, но, что немного удивительно, Савицкий призывает к тому, чтобы американский и западноевропейский опыт также были учтены при дальнейшем развитии евразийской конституции.
Таково содержание статьи «Что делать?». Я думаю, что это наиболее конкретное, что когда-либо кто-то из евразийцев писал именно о том, как происходит приход к власти в Советском Союзе и как этот врощенный в Евразию Советский Союз будет функционировать. При этом Советский Союз, конечно, будет федерацией. Причем вопрос «Монархия или не монархия?» каждый
48
субъект федерации может решить самостоятельно – так думает Савицкий.
Что с этой статьей случилось? Ничего, потому что другие евразийцы крайне резко о ней отозвались: в частности, Сувчинский и Трубецкой. Трубецкой считал, что публиковать такую статью – большая глупость, потому что любой человек, который прочтет ее в Евразийской хронике, подумает одно из двух. Или же евразийцы – «жулики», которые просто обманывают народ, придумывают какие-то схемы прихода к власти, об этом еще публично высказываются; то есть это может быть несерьезно, с одной стороны. Или с другой, евразийцы – это провокаторы, люди недобросовестные. Опубликование этой статьи, как считал Трубецкой, имело обратный эффект: отныне никто всерьез евразийцев воспринимать не будет. Хотя Трубецкой с идеями статьи безусловно согласился, он по тактическим соображениям не считал целесообразным их публиковать. Сувчинский же против формы действий Савицкого ничего не имел абсолютно. Его просто раздражала сама идея монархии, в одном из писем он гневно писал: «Я царственником быть не хочу и не буду»; «царственниками» Савицкий называл членов правящего отбора. В тот момент, в 1925-1926 гг., Сувчинский уже начал осваивать марксизм, и ближе к концу 1920-х гг. это привело его к близости марксистской идеологии и СССР.
Так что из этой статьи Савицкого ничего собственно и не вышло. Тем не менее, идеи Савицкого абсолютно последовательны: и до и после того Савицкий продолжал придерживаться своей линии, даже после разрыва с «Трестом» в 1927 г. Я считаю, что до конца своей жизни Савицкий думал, что рано или поздно СССР будет превращен в Евразию именно по такому плану.
Это с точки зрения действенности. Насчет идеи, я думаю, что здесь очень важен 1925 г., предшествующий году присоединения к евразийству Алексеева, тем более, его ученика Дунаева. Мне представляется интересным то, что Савицкий во всем, что он писал, проявлял себя как утопист, любитель и дилетант. Тем не менее термины «демотия», «правящий отбор» уже в готовом виде, правда, без особого содержания, предлагались правоведам (в том числе Алексееву). Именно специалисты должны были затем придать им какую-то научную окраску, наполнить их содержанием.
Кроме того, 1925-ый год в истории евразийства значим не только как пик «евразийского активизма», но и как переходный момент. Первую половину 1920-х гг. я бы назвал периодом «утопического евразийства», когда статьи Шахматова и др. вполне
48
субъект федерации может решить самостоятельно – так думает Савицкий.
Что с этой статьей случилось? Ничего, потому что другие евразийцы крайне резко о ней отозвались: в частности, Сувчинский и Трубецкой. Трубецкой считал, что публиковать такую статью – большая глупость, потому что любой человек, который прочтет ее в Евразийской хронике, подумает одно из двух. Или же евразийцы – «жулики», которые просто обманывают народ, придумывают какие-то схемы прихода к власти, об этом еще публично высказываются; то есть это может быть несерьезно, с одной стороны. Или с другой, евразийцы – это провокаторы, люди недобросовестные. Опубликование этой статьи, как считал Трубецкой, имело обратный эффект: отныне никто всерьез евразийцев воспринимать не будет. Хотя Трубецкой с идеями статьи безусловно согласился, он по тактическим соображениям не считал целесообразным их публиковать. Сувчинский же против формы действий Савицкого ничего не имел абсолютно. Его просто раздражала сама идея монархии, в одном из писем он гневно писал: «Я царственником быть не хочу и не буду»; «царственниками» Савицкий называл членов правящего отбора. В тот момент, в 1925-1926 гг., Сувчинский уже начал осваивать марксизм, и ближе к концу 1920-х гг. это привело его к близости марксистской идеологии и СССР.
Так что из этой статьи Савицкого ничего собственно и не вышло. Тем не менее, идеи Савицкого абсолютно последовательны: и до и после того Савицкий продолжал придерживаться своей линии, даже после разрыва с «Трестом» в 1927 г. Я считаю, что до конца своей жизни Савицкий думал, что рано или поздно СССР будет превращен в Евразию именно по такому плану.
Это с точки зрения действенности. Насчет идеи, я думаю, что здесь очень важен 1925 г., предшествующий году присоединения к евразийству Алексеева, тем более, его ученика Дунаева. Мне представляется интересным то, что Савицкий во всем, что он писал, проявлял себя как утопист, любитель и дилетант. Тем не менее термины «демотия», «правящий отбор» уже в готовом виде, правда, без особого содержания, предлагались правоведам (в том числе Алексееву). Именно специалисты должны были затем придать им какую-то научную окраску, наполнить их содержанием.
Кроме того, 1925-ый год в истории евразийства значим не только как пик «евразийского активизма», но и как переходный момент. Первую половину 1920-х гг. я бы назвал периодом «утопического евразийства», когда статьи Шахматова и др. вполне
49
вписывались в евразийские сборники. Однако во второй половине 1920-х гг. «утопическое евразийство» превращается в «евразийство научное». Именно в это время мы видим в евразийстве специалистов: Г.В. Вернадского как историка, Н.С. Трубецкого как филолога, Р.О. Якобсона как лингвиста и, конечно, П.Н. Савицкого как экономиста. В научном плане Н.Н. Алексеев также играет здесь определенную роль. Эта статья, этот год – переходные пункты: здесь на каком-то пике заканчиваются евразийский утопизм, героическая фаза евразийства, начинается более «трезвая», научная фаза. Спасибо за внимание!
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, Мартин! У меня небольшое добавление. Все-таки термин «демотия» предлагает впервые Яков Садовский. Савицкий же наполняет его некоторым новым, отличным от прежнего содержанием. Итак, два вопроса к Мартину. Рустем Ринатович, пожалуйста.
Р.Р. Вахитов: У меня два небольших вопроса. Первый вопрос: Мартин, Вы сказали, что существует не евразийство вообще, но существуют разные евразийства. Но тогда возникает резонный вопрос: а есть ли между этими разными евразийствами что-либо общее? Если этого общего нет, тогда мы просто теряем предмет исследования, и получается творчество различных авторов, которые называют себя евразийцами.
М. Байссвенгер: Общее – это православие, признание православия как основы для строительства новой России, новой Евразии.
Р.Р. Вахитов: Это предмет для дискуссии, наверное, лучше потом это обсудить.
М. Байссвенгер: Да, я уже говорил, я историк, так что прошу прощения у правоведов. Я очень люблю смотреть на перемены во времени. Безусловно, я должен добавить, что в евразийском контексте православие исключительно лишь в начале 1920-х гг., ближе к концу 1920-х оно «распространяется» на другие религии. Известно, что Карсавин в одной из своих работ написал, что все иные, нехристианские, религии – «потенциальное православие». Он это весьма своеобразно понимал, это его какая-то философская концепция – здесь речь не идет о какой-то насильственной христианизации, не в этом дело. Но ближе к концу 1920-х гг. и уж точно в начале 1930-х гг. эта эксклюзивная сфокусированность на православии исчезает. Евразийство открывается другим религиозным группам – главное, чтобы человек был верующий. Здесь и Бромберг, как еврей, вполне мог вписаться. Тем более что был еще Хайнрих Штаммлер, которого,
49
вписывались в евразийские сборники. Однако во второй половине 1920-х гг. «утопическое евразийство» превращается в «евразийство научное». Именно в это время мы видим в евразийстве специалистов: Г.В. Вернадского как историка, Н.С. Трубецкого как филолога, Р.О. Якобсона как лингвиста и, конечно, П.Н. Савицкого как экономиста. В научном плане Н.Н. Алексеев также играет здесь определенную роль. Эта статья, этот год – переходные пункты: здесь на каком-то пике заканчиваются евразийский утопизм, героическая фаза евразийства, начинается более «трезвая», научная фаза. Спасибо за внимание!
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, Мартин! У меня небольшое добавление. Все-таки термин «демотия» предлагает впервые Яков Садовский. Савицкий же наполняет его некоторым новым, отличным от прежнего содержанием. Итак, два вопроса к Мартину. Рустем Ринатович, пожалуйста.
Р.Р. Вахитов: У меня два небольших вопроса. Первый вопрос: Мартин, Вы сказали, что существует не евразийство вообще, но существуют разные евразийства. Но тогда возникает резонный вопрос: а есть ли между этими разными евразийствами что-либо общее? Если этого общего нет, тогда мы просто теряем предмет исследования, и получается творчество различных авторов, которые называют себя евразийцами.
М. Байссвенгер: Общее – это православие, признание православия как основы для строительства новой России, новой Евразии.
Р.Р. Вахитов: Это предмет для дискуссии, наверное, лучше потом это обсудить.
М. Байссвенгер: Да, я уже говорил, я историк, так что прошу прощения у правоведов. Я очень люблю смотреть на перемены во времени. Безусловно, я должен добавить, что в евразийском контексте православие исключительно лишь в начале 1920-х гг., ближе к концу 1920-х оно «распространяется» на другие религии. Известно, что Карсавин в одной из своих работ написал, что все иные, нехристианские, религии – «потенциальное православие». Он это весьма своеобразно понимал, это его какая-то философская концепция – здесь речь не идет о какой-то насильственной христианизации, не в этом дело. Но ближе к концу 1920-х гг. и уж точно в начале 1930-х гг. эта эксклюзивная сфокусированность на православии исчезает. Евразийство открывается другим религиозным группам – главное, чтобы человек был верующий. Здесь и Бромберг, как еврей, вполне мог вписаться. Тем более что был еще Хайнрих Штаммлер, которого,
50
наверное, никто не знает. Это молодой человек, внук Рудольфа Штаммлера, немецкого правоведа. Он учился у Савицкого в Праге.
Р.Р. Вахитов:Он был евразиец? М. Байссвенгер: Да. Он и стал «последним евразийцем».
Штаммлер был профессором в Канзасском университете, умер в 2006 г. Он однажды спросил Савицкого: «А можно мне вообще быть евразийцем, я же протестант?». Савицкий ответил: «Хороший протестант – это наш друг».
Р.Р. Вахитов: «Потенциальный православный». М. Байссвенгер: Да, и потом уже в начале – середине 1930-х гг.
евразийство открывается тем людям, которые хотя бы не заявляли о себе как атеистах. Так что это все меняется со временем. Поэтому я считаю, что очень важно смотреть кто, что, когда сказал.
Р.Р. Вахитов: У меня есть еще вопрос. Мартин, Вы очень интересно говорили о том, как Савицкий мыслил себе рекрутацию в Советы. Он отдавал предпочтение хозяйственным руководителям, а не рабочим. Здесь уже говорилось о влиянии советской практики на евразийцев – не есть ли это влияние практики лишенцев? Пролетарии в евразийской России становятся своеобразными полулишенцами, тогда как в Советском Союзе они занимали элитарную позицию.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, Рустем Ринатович, но это скорее реплика. Последний вопрос Мартину от Владимира Игоревича.
В.И. Карпец: У меня не вопрос, это реплика. Концепция Советов у Савицкого, которую Мартин изложил, – это и есть московские Земские Соборы. Не столько гетманство, сколько социально-представительное государство по типу Московской Руси.
М. Байссвенгер: Здесь разница в том, что это работа в постоянном контакте. Земские Соборы все-таки редко работали.
Б.В. Назмутдинов: Временно. В.И. Карпец: Как сказать. С 1613-1626 гг. при Михаиле I
Земский Собор работал практически постоянно. Б.В. Назмутдинов: Это был только конкретный период... В.И. Карпец: Конкретный период, да. Р.Р. Вахитов: Мне кажется, Мартин говорил больше о каких-то
профессиональных объединениях... М. Байссвенгер: Да! Р.Р. Вахитов: Тогда это напоминает скорее корпоративное
государство Муссолини... Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо! Очень символично, что
мы на этом заканчиваем обсуждение. Георгий Джемалович, пожалуйста, Вам слово. Как раз для линий симметрии, которые
50
наверное, никто не знает. Это молодой человек, внук Рудольфа Штаммлера, немецкого правоведа. Он учился у Савицкого в Праге.
Р.Р. Вахитов:Он был евразиец? М. Байссвенгер: Да. Он и стал «последним евразийцем».
Штаммлер был профессором в Канзасском университете, умер в 2006 г. Он однажды спросил Савицкого: «А можно мне вообще быть евразийцем, я же протестант?». Савицкий ответил: «Хороший протестант – это наш друг».
Р.Р. Вахитов: «Потенциальный православный». М. Байссвенгер: Да, и потом уже в начале – середине 1930-х гг.
евразийство открывается тем людям, которые хотя бы не заявляли о себе как атеистах. Так что это все меняется со временем. Поэтому я считаю, что очень важно смотреть кто, что, когда сказал.
Р.Р. Вахитов: У меня есть еще вопрос. Мартин, Вы очень интересно говорили о том, как Савицкий мыслил себе рекрутацию в Советы. Он отдавал предпочтение хозяйственным руководителям, а не рабочим. Здесь уже говорилось о влиянии советской практики на евразийцев – не есть ли это влияние практики лишенцев? Пролетарии в евразийской России становятся своеобразными полулишенцами, тогда как в Советском Союзе они занимали элитарную позицию.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, Рустем Ринатович, но это скорее реплика. Последний вопрос Мартину от Владимира Игоревича.
В.И. Карпец: У меня не вопрос, это реплика. Концепция Советов у Савицкого, которую Мартин изложил, – это и есть московские Земские Соборы. Не столько гетманство, сколько социально-представительное государство по типу Московской Руси.
М. Байссвенгер: Здесь разница в том, что это работа в постоянном контакте. Земские Соборы все-таки редко работали.
Б.В. Назмутдинов: Временно. В.И. Карпец: Как сказать. С 1613-1626 гг. при Михаиле I
Земский Собор работал практически постоянно. Б.В. Назмутдинов: Это был только конкретный период... В.И. Карпец: Конкретный период, да. Р.Р. Вахитов: Мне кажется, Мартин говорил больше о каких-то
профессиональных объединениях... М. Байссвенгер: Да! Р.Р. Вахитов: Тогда это напоминает скорее корпоративное
государство Муссолини... Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо! Очень символично, что
мы на этом заканчиваем обсуждение. Георгий Джемалович, пожалуйста, Вам слово. Как раз для линий симметрии, которые
51
Мартин прочертил максимально широко. Думаю, логично будет продолжить. Пожалуйста, доклад «Доктрина евразийства в контексте дискуссий о производительных силах России».
Г.Д. Гловели: Собственно говоря, я интересовался евразийством не как таковым, не как цельным течением: передо мной не стояло такой задачи. Меня интересовало евразийство с точки зрения его места в контексте русской экономической мысли, включая экономическую мысль русской эмиграции. Экономическая мысль русской эмиграции исследована очень мало, а сколько-нибудь удовлетворительного исследования экономической мысли России в целом тоже нет, так как написанная в 1950-1960 гг. многотомная «История русской экономической мысли» безнадежно устарела. Но любопытно, между прочим, что П.Н. Савицкий в переписке с известным советским историком В.Т. Пашуто спрашивал, нет ли у того какой-то связи с коллективом авторов Института экономики АН СССР, которые составляли этот многотомник. Савицкому хотелось обратить внимание на свои первые статьи, которые были опубликованы в «Русской мысли» по проблемам теории производительных сил Ф. Листа и производительных сил имперской России (1916, № 3 и № 11).
Вторая сторона моего интереса к евразийству относится также к работам П.Н. Савицкого и в меньшей степени Г.В. Вернадского. Она касается не истории экономических учений, а экономической истории: роли геополитического и геоэкономического фактора как имеющего, безусловно, огромное значение для истории экономики, в том числе для истории экономики России. Порок существующих курсов по истории экономики России заключается в том, что она рассматривается изолированно, вне мира. И П.Н. Савицкий на нескольких ярких примерах, особенно тех, что касаются превращения России из передовой промышленной страны при Екатерине II в промышленно отсталую в XIX в. (превращения, которое в советской историографии всецело объяснялось крепостным правом), обращает внимание именно на геоэкономический фактор, на то, что промышленный переворот в Англии обеспечил безусловное лидерство тем странам, которые имели не просто богатые запасы минерального топлива и железных руд, но запасы, расположенные близко друг от друга. Савицкий также указывал на отсутствие у России такого рода главных предпосылок для промышленной революции, что стало фактором ее превращения в страну, промышленно отсталую.
Я не буду повторять того, что написано мной в тезисах, но евразийская концепция особенно интересна мне в таком аспекте.
51
Мартин прочертил максимально широко. Думаю, логично будет продолжить. Пожалуйста, доклад «Доктрина евразийства в контексте дискуссий о производительных силах России».
Г.Д. Гловели: Собственно говоря, я интересовался евразийством не как таковым, не как цельным течением: передо мной не стояло такой задачи. Меня интересовало евразийство с точки зрения его места в контексте русской экономической мысли, включая экономическую мысль русской эмиграции. Экономическая мысль русской эмиграции исследована очень мало, а сколько-нибудь удовлетворительного исследования экономической мысли России в целом тоже нет, так как написанная в 1950-1960 гг. многотомная «История русской экономической мысли» безнадежно устарела. Но любопытно, между прочим, что П.Н. Савицкий в переписке с известным советским историком В.Т. Пашуто спрашивал, нет ли у того какой-то связи с коллективом авторов Института экономики АН СССР, которые составляли этот многотомник. Савицкому хотелось обратить внимание на свои первые статьи, которые были опубликованы в «Русской мысли» по проблемам теории производительных сил Ф. Листа и производительных сил имперской России (1916, № 3 и № 11).
Вторая сторона моего интереса к евразийству относится также к работам П.Н. Савицкого и в меньшей степени Г.В. Вернадского. Она касается не истории экономических учений, а экономической истории: роли геополитического и геоэкономического фактора как имеющего, безусловно, огромное значение для истории экономики, в том числе для истории экономики России. Порок существующих курсов по истории экономики России заключается в том, что она рассматривается изолированно, вне мира. И П.Н. Савицкий на нескольких ярких примерах, особенно тех, что касаются превращения России из передовой промышленной страны при Екатерине II в промышленно отсталую в XIX в. (превращения, которое в советской историографии всецело объяснялось крепостным правом), обращает внимание именно на геоэкономический фактор, на то, что промышленный переворот в Англии обеспечил безусловное лидерство тем странам, которые имели не просто богатые запасы минерального топлива и железных руд, но запасы, расположенные близко друг от друга. Савицкий также указывал на отсутствие у России такого рода главных предпосылок для промышленной революции, что стало фактором ее превращения в страну, промышленно отсталую.
Я не буду повторять того, что написано мной в тезисах, но евразийская концепция особенно интересна мне в таком аспекте.
52
Знаменитый японский бизнесмен Акио Морита, основатель фирмы «Sony», сказал, что в японском языке, в отличие от английского, нет такого понятия, как «неисчерпаемый ресурс». Морита противопоставлял японцев американцам. Но известно, что и в России понятие «неисчерпаемый ресурс» тоже используется довольно часто, и предполагается, что это страна с неограниченными природными богатствами, прежде всего, в том, что касается минеральных руд (кстати, и П.Н. Савицкий, и Г.В. Вернадский с большим интересом следили за советскими изысканиями и разработками в этой области). Но, если рассматривать историю российской общественной мысли, в том числе историю экономической мысли, то можно обнаружить два ряда фигур. Часть из них действительно считала, что Россия – это очень богатая страна, причем богатство рассматривалось некоторыми, прежде всего, с точки зрения сельского хозяйства (чернозем), другими же – с точки зрения промышленно-ресурсной одаренности. Но многие указывали, напротив, на обделенность России, причем на обделенность, которая сказалась на тормозящем развитии всех трех главных сфер хозяйства. И вот как раз П.Н. Савицкий, на мой взгляд, глубже всех остальных и отчетливо сфокусировал эти проблемы. Начиная с его работы «Континент и океан. Россия и мировой рынок» (София, 1921) и завершая его книгой «Месторазвитие русской промышленности» (Берлин, 1932), П.Н. Савицкий показал, что существуют три уровня проблем, которые затрудняют экономическое развитие России по западному образцу.
Для меня разительное отличие евразийства от славянофильства заключается именно в том, что Савицкий, когда говорит (по крайней мере, в своих геополитических работах) об особенностях русского пути развития, не утверждает, что это провиденциальный путь, предназначенный России к тому, чтобы научить весь мир. Это путь, который обусловлен особенностями евразийского месторазвития. Ведь так, как развивается Запад, Россия просто развиваться не сможет. Савицкий показывает, прежде всего, транспортную обездоленность, исходя из континентальности страны.
Далее, Савицкий – еще молодым, еще в доевразийский период – формулирует свою дилемму коренного ядра российских областей: культура, в том числе промышленная, устремлена на северо-запад к Европе и морю; промышленные же ресурсы серьезного значения расположены на юге и на востоке. Хотя сам П.Н.Савицкий об этом, насколько мне известно, не упоминает, аналогичную мысль высказывал С.Ю. Витте. И опять-таки он был не одинок в том, что проблема России не в том, что не хватает определенных
52
Знаменитый японский бизнесмен Акио Морита, основатель фирмы «Sony», сказал, что в японском языке, в отличие от английского, нет такого понятия, как «неисчерпаемый ресурс». Морита противопоставлял японцев американцам. Но известно, что и в России понятие «неисчерпаемый ресурс» тоже используется довольно часто, и предполагается, что это страна с неограниченными природными богатствами, прежде всего, в том, что касается минеральных руд (кстати, и П.Н. Савицкий, и Г.В. Вернадский с большим интересом следили за советскими изысканиями и разработками в этой области). Но, если рассматривать историю российской общественной мысли, в том числе историю экономической мысли, то можно обнаружить два ряда фигур. Часть из них действительно считала, что Россия – это очень богатая страна, причем богатство рассматривалось некоторыми, прежде всего, с точки зрения сельского хозяйства (чернозем), другими же – с точки зрения промышленно-ресурсной одаренности. Но многие указывали, напротив, на обделенность России, причем на обделенность, которая сказалась на тормозящем развитии всех трех главных сфер хозяйства. И вот как раз П.Н. Савицкий, на мой взгляд, глубже всех остальных и отчетливо сфокусировал эти проблемы. Начиная с его работы «Континент и океан. Россия и мировой рынок» (София, 1921) и завершая его книгой «Месторазвитие русской промышленности» (Берлин, 1932), П.Н. Савицкий показал, что существуют три уровня проблем, которые затрудняют экономическое развитие России по западному образцу.
Для меня разительное отличие евразийства от славянофильства заключается именно в том, что Савицкий, когда говорит (по крайней мере, в своих геополитических работах) об особенностях русского пути развития, не утверждает, что это провиденциальный путь, предназначенный России к тому, чтобы научить весь мир. Это путь, который обусловлен особенностями евразийского месторазвития. Ведь так, как развивается Запад, Россия просто развиваться не сможет. Савицкий показывает, прежде всего, транспортную обездоленность, исходя из континентальности страны.
Далее, Савицкий – еще молодым, еще в доевразийский период – формулирует свою дилемму коренного ядра российских областей: культура, в том числе промышленная, устремлена на северо-запад к Европе и морю; промышленные же ресурсы серьезного значения расположены на юге и на востоке. Хотя сам П.Н.Савицкий об этом, насколько мне известно, не упоминает, аналогичную мысль высказывал С.Ю. Витте. И опять-таки он был не одинок в том, что проблема России не в том, что не хватает определенных
53
месторождений, а в том, что главные, которые нужны крупной промышленности – железорудные и угольные, – рассредоточены. С.Ю. Витте (как практик) интересовался прикладным аспектом; по его мнению, было необходимо железнодорожное строительство.
И, наконец, основная сфера на протяжении веков в России – сельское хозяйство. Ее П.Н. Савицкий, правда, затрагивает в меньшей степени, но, тем не менее, упоминает – что показывает его знакомство с дискуссиями среди русских экономистов-аграрников XIX–начала XX вв. – дискуссии, которые высветили следующие обстоятельства: предпосылкой промышленного взлета Западной Европы и потом Соединенных Штатов было создание интегрированных агротехнологий, то есть внедрение многопольных севооборотов, которые сделали возможным сочетание и взаимодополнение интенсивного земледелия и интенсивного животноводства, то есть земледелия, связанного с эффективным использованием минеральных удобрений. Это была агротехнологическая революция, о которой экономисты имели очень слабое представление, а те, кто руководил Советским Союзом, по-моему, вообще никакого. В Российской империи эта агротехнологическая революция затронула только западные губернии: Остзейские и Привислинские. П.Н. Савицкий, возможно, преувеличивал, говоря, что русская степь, которая столь благоприятна для пшеницы на большом своем протяжении, не является в то же время благоприятной для картофеля и клевера – двух ключевых культур западных интенсивных севооборотов. Таким образом, для Савицкого аграрный вопрос был еще одним аспектом неевропейскости пути экономического развития России, и для меня геополитическая доктрина Савицкого, в которой экономические аспекты имеют большое значение, – это не только важный вклад в дискуссии российских экономистов о национальных производительных силах, но это еще и формулировка проблемы «вызов-ответ». Савицкий дает четкое представление именно о неевропейскости экономического развития России и о необходимости искать другие ответы, нежели западный либерализм с его формулой свободного рынка, которая предполагает интенсивный экономический обмен.
Наконец, в заключение, интересное размышление П.Н. Савицкого, когда он рассуждает о «государственно-частной системе хозяйства». На мой взгляд, постановка евразийцами вопроса о «государственно-частной системе хозяйства», о соразмерности государственного начала и того, что П.Н. Савицкий называл «хозяйским ценением», является слишком абстрактной, и они не
53
месторождений, а в том, что главные, которые нужны крупной промышленности – железорудные и угольные, – рассредоточены. С.Ю. Витте (как практик) интересовался прикладным аспектом; по его мнению, было необходимо железнодорожное строительство.
И, наконец, основная сфера на протяжении веков в России – сельское хозяйство. Ее П.Н. Савицкий, правда, затрагивает в меньшей степени, но, тем не менее, упоминает – что показывает его знакомство с дискуссиями среди русских экономистов-аграрников XIX–начала XX вв. – дискуссии, которые высветили следующие обстоятельства: предпосылкой промышленного взлета Западной Европы и потом Соединенных Штатов было создание интегрированных агротехнологий, то есть внедрение многопольных севооборотов, которые сделали возможным сочетание и взаимодополнение интенсивного земледелия и интенсивного животноводства, то есть земледелия, связанного с эффективным использованием минеральных удобрений. Это была агротехнологическая революция, о которой экономисты имели очень слабое представление, а те, кто руководил Советским Союзом, по-моему, вообще никакого. В Российской империи эта агротехнологическая революция затронула только западные губернии: Остзейские и Привислинские. П.Н. Савицкий, возможно, преувеличивал, говоря, что русская степь, которая столь благоприятна для пшеницы на большом своем протяжении, не является в то же время благоприятной для картофеля и клевера – двух ключевых культур западных интенсивных севооборотов. Таким образом, для Савицкого аграрный вопрос был еще одним аспектом неевропейскости пути экономического развития России, и для меня геополитическая доктрина Савицкого, в которой экономические аспекты имеют большое значение, – это не только важный вклад в дискуссии российских экономистов о национальных производительных силах, но это еще и формулировка проблемы «вызов-ответ». Савицкий дает четкое представление именно о неевропейскости экономического развития России и о необходимости искать другие ответы, нежели западный либерализм с его формулой свободного рынка, которая предполагает интенсивный экономический обмен.
Наконец, в заключение, интересное размышление П.Н. Савицкого, когда он рассуждает о «государственно-частной системе хозяйства». На мой взгляд, постановка евразийцами вопроса о «государственно-частной системе хозяйства», о соразмерности государственного начала и того, что П.Н. Савицкий называл «хозяйским ценением», является слишком абстрактной, и они не
54
сделали какие-то шаги к более конкретной проработке. Но зато интересен пример о двух худших периодах с точки зрения экономического развития России. Это, с одной стороны, период наибольшего экономического либерализма в период реформ Александра II 1860-1870 гг. (на самом деле, экономический либерализм был навязан еще раньше отмены крепостного права – Англией и Францией после Крымской войны). Действительно, в это двадцатилетие, в силу вовлеченности России в свободную торговлю с остальным миром, усугублялось экономическое отставание – особенно, в области промышленности. Рывок был сделан при Александре III, когда от экономического либерализма в министерстве финансов отказались. И, с другой стороны, это, конечно же, период военного коммунизма, когда власть государственного большевистского начала развалила почти всю экономику. Ну и, наверное, более справедливо указать на 1990-е гг., когда тот же самый (теперь уже с высоты исторического опыта) экономический либерализм привел, в общем, к максимальному падению производства в России в течение всего XX в., начиная с периода военного коммунизма.
Поэтому, на мой взгляд, заслуга работ евразийцев заключается, прежде всего, в защите важного тезиса: нельзя ни в коей мере при оценке исторического пути развития России и, в том числе в экономике, забывать о геополитическом факторе, который имеет очень большое значение. И сейчас есть упрощенные представления, что глобальное потепление открывает широкие экспортные перспективы для развития сельского хозяйства. К сожалению, не открывает, и не открывает именно потому, что не возникло системы интегрированных аграрных технологий, где земледелие и животноводство дополняли бы друг друга. В то же время, не надо стесняться большой доли минерального сырьевого экспорта и едва ли стоит всерьез воспринимать дискуссии о ресурсном проклятии, которые имели место в России в 2000-е годы.
В целом же, как мне кажется – я, конечно, не подвергаю сомнению православных основ идеологии П.Н. Савицкого, в современных условиях евразийство перспективно именно как светская государственная идеология. Я скептически отношусь к проекту «идеократии» – по-моему, в XXI в. это нереально просто в силу изменений, произошедших в информационной сфере. Тем не менее, евразийство как светская интегрирующая идеология, конечно, для евразийского пространства необходима. Спасибо!
54
сделали какие-то шаги к более конкретной проработке. Но зато интересен пример о двух худших периодах с точки зрения экономического развития России. Это, с одной стороны, период наибольшего экономического либерализма в период реформ Александра II 1860-1870 гг. (на самом деле, экономический либерализм был навязан еще раньше отмены крепостного права – Англией и Францией после Крымской войны). Действительно, в это двадцатилетие, в силу вовлеченности России в свободную торговлю с остальным миром, усугублялось экономическое отставание – особенно, в области промышленности. Рывок был сделан при Александре III, когда от экономического либерализма в министерстве финансов отказались. И, с другой стороны, это, конечно же, период военного коммунизма, когда власть государственного большевистского начала развалила почти всю экономику. Ну и, наверное, более справедливо указать на 1990-е гг., когда тот же самый (теперь уже с высоты исторического опыта) экономический либерализм привел, в общем, к максимальному падению производства в России в течение всего XX в., начиная с периода военного коммунизма.
Поэтому, на мой взгляд, заслуга работ евразийцев заключается, прежде всего, в защите важного тезиса: нельзя ни в коей мере при оценке исторического пути развития России и, в том числе в экономике, забывать о геополитическом факторе, который имеет очень большое значение. И сейчас есть упрощенные представления, что глобальное потепление открывает широкие экспортные перспективы для развития сельского хозяйства. К сожалению, не открывает, и не открывает именно потому, что не возникло системы интегрированных аграрных технологий, где земледелие и животноводство дополняли бы друг друга. В то же время, не надо стесняться большой доли минерального сырьевого экспорта и едва ли стоит всерьез воспринимать дискуссии о ресурсном проклятии, которые имели место в России в 2000-е годы.
В целом же, как мне кажется – я, конечно, не подвергаю сомнению православных основ идеологии П.Н. Савицкого, в современных условиях евразийство перспективно именно как светская государственная идеология. Я скептически отношусь к проекту «идеократии» – по-моему, в XXI в. это нереально просто в силу изменений, произошедших в информационной сфере. Тем не менее, евразийство как светская интегрирующая идеология, конечно, для евразийского пространства необходима. Спасибо!
55
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, Георгий Джемалович за столь интересный доклад и действительно осовременивающий контекст обсуждения. Пожалуйста, вопросы. Давайте двумя вопросами обойдемся. Первый вопрос от Мартина… а затем Анастасия Георгиевна выступает.
М. Байссвенгер: Вы говорили, что скептически относитесь к православным основам евразийства…
Г.Д. Гловели: Не совсем. К идеократии. М. Байссвенгер: Да, к идеократии. Вы упомянули статью П.Н.
Савицкого «Хозяин и хозяйство». Я считаю, что там есть очень интересный экономический момент, который, на первый взгляд, собственно не экономический, а скорее религиозный. Я говорю о роли хозяина, о понятии устойчивости. Савицкий большое значение придает устойчивости. Мой вопрос в том, что Вы об этом думаете? Мое прочтение «Хозяина и хозяйства» таково, что Cавицкий в этом плане был в том числе одним из первых, наверное, в России экологов. По-моему, именно в образе такого «хозяина» воплощена идея о том, что экономические ресурсы, природа должны быть сохранены, ее нужно сберечь. Нельзя просто, несмотря ни на что, проводить индустриализацию. Мне кажется, именно этим объясняется достаточно критическое и скептическое отношение Савицкого к индустриализации СССР при И.В. Сталине. Потому что Сталин как раз не был «хозяином». По крайней мере, в том, что касалось экологии и устойчивости. Как Вы на это смотрите с точки зрения экономиста?
Г.Д. Гловели: На что именно? М. Байссвенгер: На высказывания Савицкого о том, что
частью правильного отношения к экономическим ресурсам является необходимое условие устойчивого развития.
Г.Д. Гловели: Да, я, конечно, с Вами согласен, хотя тогда понятие «экология» не употреблялось. Но вот был такой экономист-аграрник Н.П. Огановский. Я не знаю, знаком ли был Савицкий с его работами, но как раз Огановский, на мой взгляд, первый, кто в истории экономической мысли всерьез поставил вопрос об экологической стороне хозяйства. Его категория устойчивого развития производительных сил как раз и предполагает такое хозяйствование, при котором нет потребительского отношения к благам природы. Что касается Савицкого и особенно Г.В.Вернадского, то они все же положительно оценивали то, что в СССР называли сдвигом производительных сил на Восток . А, в общем, мне кажется, что в вопросах экономики у евразийцев присутствует та же непредрешенность, как и в вопросах о форме правления. К примеру,
55
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, Георгий Джемалович за столь интересный доклад и действительно осовременивающий контекст обсуждения. Пожалуйста, вопросы. Давайте двумя вопросами обойдемся. Первый вопрос от Мартина… а затем Анастасия Георгиевна выступает.
М. Байссвенгер: Вы говорили, что скептически относитесь к православным основам евразийства…
Г.Д. Гловели: Не совсем. К идеократии. М. Байссвенгер: Да, к идеократии. Вы упомянули статью П.Н.
Савицкого «Хозяин и хозяйство». Я считаю, что там есть очень интересный экономический момент, который, на первый взгляд, собственно не экономический, а скорее религиозный. Я говорю о роли хозяина, о понятии устойчивости. Савицкий большое значение придает устойчивости. Мой вопрос в том, что Вы об этом думаете? Мое прочтение «Хозяина и хозяйства» таково, что Cавицкий в этом плане был в том числе одним из первых, наверное, в России экологов. По-моему, именно в образе такого «хозяина» воплощена идея о том, что экономические ресурсы, природа должны быть сохранены, ее нужно сберечь. Нельзя просто, несмотря ни на что, проводить индустриализацию. Мне кажется, именно этим объясняется достаточно критическое и скептическое отношение Савицкого к индустриализации СССР при И.В. Сталине. Потому что Сталин как раз не был «хозяином». По крайней мере, в том, что касалось экологии и устойчивости. Как Вы на это смотрите с точки зрения экономиста?
Г.Д. Гловели: На что именно? М. Байссвенгер: На высказывания Савицкого о том, что
частью правильного отношения к экономическим ресурсам является необходимое условие устойчивого развития.
Г.Д. Гловели: Да, я, конечно, с Вами согласен, хотя тогда понятие «экология» не употреблялось. Но вот был такой экономист-аграрник Н.П. Огановский. Я не знаю, знаком ли был Савицкий с его работами, но как раз Огановский, на мой взгляд, первый, кто в истории экономической мысли всерьез поставил вопрос об экологической стороне хозяйства. Его категория устойчивого развития производительных сил как раз и предполагает такое хозяйствование, при котором нет потребительского отношения к благам природы. Что касается Савицкого и особенно Г.В.Вернадского, то они все же положительно оценивали то, что в СССР называли сдвигом производительных сил на Восток . А, в общем, мне кажется, что в вопросах экономики у евразийцев присутствует та же непредрешенность, как и в вопросах о форме правления. К примеру,
56
князь Трубецкой говорил о том, что если опыт показывает, что поземельная община не является эффективной для хозяйствования, то и не надо держаться за эту форму. Это отличает евразийство от славянофильства.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо. Михаил, у Вас был вопрос.
М. Варюшин: Я читал работу Савицкого – так называемую историю экономических циклов – и мне было бы интересно услышать Ваше мнение по поводу их научности, а также то, что Вы думаете по поводу развития этой темы в последующих работах Савицкого, о том, какое место они занимают в истории экономической мысли. Именно об экономических циклах, выявляемых на протяжении всех этапов развития российской экономики.
Г.Д. Гловели: Вы знаете, это как раз тот аспект наследия Савицкого, с которым я менее знаком. Но мне представляется, что у него есть в этом элемент какой-то интеллектуальной игры, он слишком увлечен идеей цикличности и некоторым образом подгоняет под нее исторический опыт. И меня, конечно, удивило то, что у него нет ссылок на концепцию «больших циклов» Кондратьева. Он не мог ее не знать: она в 1920-е гг. широко обсуждалась. Но спасибо за вопрос, поскольку Вы напомнили мне об очень существенном моменте! Понимаете, вне зависимости от того, как относиться конкретно к исследованиям Савицкого в области циклов, его понятие вековой технико-экономической конъюнктуры я считаю исключительно плодотворным. Более того, если использовать такую категорию, как великая экономическая держава, то я думаю, что именно Савицкий предложил наилучший критерий, потому что великая экономическая держава – это та, которая способна влиять на вековую технико-экономическую конъюнктуру, а не только следовать за ней.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, Георгий Джемалович! Последние доклады были посвящены П.Н. Савицкому. Сейчас мы переходим в другую плоскость, и слово предоставляется А.Г. Гачевой. Доклад на тему «Идеократия и эйдократия: учение евразийцев о государстве в свете отечественной историософской традиции». Пожалуйста, Анастасия Георгиевна.
А.Г. Гачева: Я начну с того, на чем закончил Георгий Джемалович, когда сказал о том, что, с его точки зрения, евразийство в современности может состояться именно как светское учение. Мне кажется, что если мы все-таки будем исходить из такой, очень сложной эволюции евразийства в 1920-1930 гг., то оно, наоборот, шло
56
князь Трубецкой говорил о том, что если опыт показывает, что поземельная община не является эффективной для хозяйствования, то и не надо держаться за эту форму. Это отличает евразийство от славянофильства.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо. Михаил, у Вас был вопрос.
М. Варюшин: Я читал работу Савицкого – так называемую историю экономических циклов – и мне было бы интересно услышать Ваше мнение по поводу их научности, а также то, что Вы думаете по поводу развития этой темы в последующих работах Савицкого, о том, какое место они занимают в истории экономической мысли. Именно об экономических циклах, выявляемых на протяжении всех этапов развития российской экономики.
Г.Д. Гловели: Вы знаете, это как раз тот аспект наследия Савицкого, с которым я менее знаком. Но мне представляется, что у него есть в этом элемент какой-то интеллектуальной игры, он слишком увлечен идеей цикличности и некоторым образом подгоняет под нее исторический опыт. И меня, конечно, удивило то, что у него нет ссылок на концепцию «больших циклов» Кондратьева. Он не мог ее не знать: она в 1920-е гг. широко обсуждалась. Но спасибо за вопрос, поскольку Вы напомнили мне об очень существенном моменте! Понимаете, вне зависимости от того, как относиться конкретно к исследованиям Савицкого в области циклов, его понятие вековой технико-экономической конъюнктуры я считаю исключительно плодотворным. Более того, если использовать такую категорию, как великая экономическая держава, то я думаю, что именно Савицкий предложил наилучший критерий, потому что великая экономическая держава – это та, которая способна влиять на вековую технико-экономическую конъюнктуру, а не только следовать за ней.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, Георгий Джемалович! Последние доклады были посвящены П.Н. Савицкому. Сейчас мы переходим в другую плоскость, и слово предоставляется А.Г. Гачевой. Доклад на тему «Идеократия и эйдократия: учение евразийцев о государстве в свете отечественной историософской традиции». Пожалуйста, Анастасия Георгиевна.
А.Г. Гачева: Я начну с того, на чем закончил Георгий Джемалович, когда сказал о том, что, с его точки зрения, евразийство в современности может состояться именно как светское учение. Мне кажется, что если мы все-таки будем исходить из такой, очень сложной эволюции евразийства в 1920-1930 гг., то оно, наоборот, шло
57
к утверждению религии как основы не только идеократии, но и вообще всей своей идейной системы. Поэтому современное евразийство, если оно отрекается от религиозных основ, становится уже чем-то другим. То есть вообще вариант светского евразийства – это, действительно, интересная идея, но к чему она приведет – большой вопрос, так как, с моей точки зрения, это религиозное, христианское начало в евразийстве – основное. Другое дело, что сам образ христианства в том виде, в каком его рассматривали евразийцы, конечно, эволюционировал. И именно с этой эволюцией того, что они понимали под христианством и отношением такого христианства к истории, политике, культуре, так сказать, к социальной сфере – во многом именно с этим и была связана эволюция евразийской доктрины. Мне придется немного об этом сказать, потому что тогда будет понятно, что у них происходило с государством.
Начну вот с чего. Задумывались ли вы над тем, что евразийцы ведь сначала вообще не призывали к себе в союзники разных мыслителей конца XIX – начала XX вв., о которых позднее они говорили как о своих предшественниках? Во многом это было связано с тем, что евразийство периода «Исхода к Востоку» начинало с разрыва с русской историософской традицией. Ведь что такое стержневой тезис Хомякова, Соловьева, Федорова, Булгакова, Бердяева, Флоренского, то есть всей традиции русской христианской мысли? Это идея единства истории и всеобщий вектор всемирного развития, в основе которого лежит христианство. А что такое христианская историософия? Это движение от сотворения через грехопадение к Боговоплощению в царстве Божьем, то есть это и идея единства истории. Если мы возьмем с вами книгу Трубецкого «Европа и Человечество», которая легла в основание евразийства эпохи «Исхода к Востоку», то поймем, что Трубецкой никакого единства человечества не признавал, по крайней мере, в этой книге. Понятно, что в дальнейшем и у него тоже происходила эволюция его взглядов под влиянием его контактов с членами движения и не только. Однако в этой книге такой идеи единства истории нет. Будучи духовным наследником Н.Я. Данилевского, он действительно представлял арену истории как поле сосуществования замкнутых автономных культур, задача которых в максимальном сосредоточении на себя и минимальном взаимодействии с другими культурами. Тем самым, вопрос о религиозном смысле истории в «Европе и Человечестве» не стоял. Кроме того, еще один важнейший тезис русской христианской историософии − то, что Достоевский называл идеей «всечеловечности». «Всечеловечности», которая вовсе не отрицает
57
к утверждению религии как основы не только идеократии, но и вообще всей своей идейной системы. Поэтому современное евразийство, если оно отрекается от религиозных основ, становится уже чем-то другим. То есть вообще вариант светского евразийства – это, действительно, интересная идея, но к чему она приведет – большой вопрос, так как, с моей точки зрения, это религиозное, христианское начало в евразийстве – основное. Другое дело, что сам образ христианства в том виде, в каком его рассматривали евразийцы, конечно, эволюционировал. И именно с этой эволюцией того, что они понимали под христианством и отношением такого христианства к истории, политике, культуре, так сказать, к социальной сфере – во многом именно с этим и была связана эволюция евразийской доктрины. Мне придется немного об этом сказать, потому что тогда будет понятно, что у них происходило с государством.
Начну вот с чего. Задумывались ли вы над тем, что евразийцы ведь сначала вообще не призывали к себе в союзники разных мыслителей конца XIX – начала XX вв., о которых позднее они говорили как о своих предшественниках? Во многом это было связано с тем, что евразийство периода «Исхода к Востоку» начинало с разрыва с русской историософской традицией. Ведь что такое стержневой тезис Хомякова, Соловьева, Федорова, Булгакова, Бердяева, Флоренского, то есть всей традиции русской христианской мысли? Это идея единства истории и всеобщий вектор всемирного развития, в основе которого лежит христианство. А что такое христианская историософия? Это движение от сотворения через грехопадение к Боговоплощению в царстве Божьем, то есть это и идея единства истории. Если мы возьмем с вами книгу Трубецкого «Европа и Человечество», которая легла в основание евразийства эпохи «Исхода к Востоку», то поймем, что Трубецкой никакого единства человечества не признавал, по крайней мере, в этой книге. Понятно, что в дальнейшем и у него тоже происходила эволюция его взглядов под влиянием его контактов с членами движения и не только. Однако в этой книге такой идеи единства истории нет. Будучи духовным наследником Н.Я. Данилевского, он действительно представлял арену истории как поле сосуществования замкнутых автономных культур, задача которых в максимальном сосредоточении на себя и минимальном взаимодействии с другими культурами. Тем самым, вопрос о религиозном смысле истории в «Европе и Человечестве» не стоял. Кроме того, еще один важнейший тезис русской христианской историософии − то, что Достоевский называл идеей «всечеловечности». «Всечеловечности», которая вовсе не отрицает
58
идею какой-либо национальной самобытности, а является как бы таким синтетическим примирением, т.е. Правдой нации, Правдой целого, Правдой человечества. Это то, что Карсавин в последующем сформулирует как идею «симфонической личности». Однако евразийство эпохи «Исхода к Востоку» ни о чем подобном вообще не говорило, и для них понятие «всечеловечности» стоит на одной доске с понятием космополитизма. Тем самым это указывает на однозначную негативную окраску, которую они придавали понятию «всечеловечности». В таком случае возникает вопрос: что они делают с христианством? Кстати, примечательно, что они берут именно христианство, а не православие. Как мы помним, православие потом станет образом вселенской религии для них. Однако это уже будет потом. В начальном же евразийстве – там то, о чем говорил Достоевский в свое время, когда он упрекал Шатова в том, что для него Бог есть народ, то есть сведение православия к атрибуту народности. Таким образом, это и есть то, что происходит в евразийстве эпохи «Исхода к Востоку».
Понимание антитезы «Россия – Запад» тоже является интересной у евразийцев. Потому что если, скажем, для Хомякова, Тютчева, Достоевского, Соловьева, Федорова и других противопоставление России и Запада – это в первую очередь противопоставление духовных идеалов развития человечества и идеала «Царства мира сего» с его культом потребления, комфорта, эгоизма, борьбы всех против всех, для них символом такого пути является цивилизация Запада. Тем самым, это не геополитическое образование, это в первую очередь духовный идеал. Россия же в их понимании – это носительница другого идеала, который коренится в христианстве: идеала соборности, любви, братства. Этот идеал можно передать строками из знаменитого тютчевского стихотворения:
«Единство, – возвестил оракул наших дней, –Быть может спаяно железом лишь и кровью...»Но мы попробуем спаять его любовью,–А там увидим, что прочней... Понятно, что опять же здесь, в евразийстве, совершенно другое,
то есть противостояние в первую очередь геополитических типов. И наконец, что самое главное и корень всех проблемных моментов в понимании государства у евразийцев у меня – это вопрос о том, что такое история, понятая в христианском смысле? В русской историософской традиции боролись два течения. Первое – это
58
идею какой-либо национальной самобытности, а является как бы таким синтетическим примирением, т.е. Правдой нации, Правдой целого, Правдой человечества. Это то, что Карсавин в последующем сформулирует как идею «симфонической личности». Однако евразийство эпохи «Исхода к Востоку» ни о чем подобном вообще не говорило, и для них понятие «всечеловечности» стоит на одной доске с понятием космополитизма. Тем самым это указывает на однозначную негативную окраску, которую они придавали понятию «всечеловечности». В таком случае возникает вопрос: что они делают с христианством? Кстати, примечательно, что они берут именно христианство, а не православие. Как мы помним, православие потом станет образом вселенской религии для них. Однако это уже будет потом. В начальном же евразийстве – там то, о чем говорил Достоевский в свое время, когда он упрекал Шатова в том, что для него Бог есть народ, то есть сведение православия к атрибуту народности. Таким образом, это и есть то, что происходит в евразийстве эпохи «Исхода к Востоку».
Понимание антитезы «Россия – Запад» тоже является интересной у евразийцев. Потому что если, скажем, для Хомякова, Тютчева, Достоевского, Соловьева, Федорова и других противопоставление России и Запада – это в первую очередь противопоставление духовных идеалов развития человечества и идеала «Царства мира сего» с его культом потребления, комфорта, эгоизма, борьбы всех против всех, для них символом такого пути является цивилизация Запада. Тем самым, это не геополитическое образование, это в первую очередь духовный идеал. Россия же в их понимании – это носительница другого идеала, который коренится в христианстве: идеала соборности, любви, братства. Этот идеал можно передать строками из знаменитого тютчевского стихотворения:
«Единство, – возвестил оракул наших дней, –Быть может спаяно железом лишь и кровью...»Но мы попробуем спаять его любовью,–А там увидим, что прочней... Понятно, что опять же здесь, в евразийстве, совершенно другое,
то есть противостояние в первую очередь геополитических типов. И наконец, что самое главное и корень всех проблемных моментов в понимании государства у евразийцев у меня – это вопрос о том, что такое история, понятая в христианском смысле? В русской историософской традиции боролись два течения. Первое – это
59
пессимистический взгляд на историю Леонтьева, когда история это движение к концу. Этим концом может быть катастрофа, кризис и т.д. В истории, согласно этому течению, невозможно никакое созидательное строительство, потому что она обречена на провал: существует огромный разрыв между относительным и абсолютным, и никакое гармоничное строительство невозможно.
Второе течение основывается на том, что говорили славянофилы и, конечно, троица 1870 гг. – Достоевский, Федоров, Соловьев. То есть это попытка представить историю как некое созидательное движение по строительству «Царства Божия» на Земле. Однако «Царства Божьего» понятого не в смысле секулярного земного рая. Позже возможность «секулярного рая» критиковал Новгородцев, на концепцию которого многие евразийцы опирались – в частности, Алексеев, который в своей «Теории государства» во многом проявил себя как наследник идей Новгородцева, хотя тоже немного такой беззаконный наследник. Тем не менее, Алексеев постоянно подчеркивал, что государство создается как некое компромиссное образование, связанное с тем, что разрыв между Царствием Божьим и наличной реальностью мира, где bellum omnium contra omnes, вынуждает создавать некоторое удерживающее образование и не дает людям, условно говоря, «сожрать» друг друга, не более того. В свою очередь, для Достоевского, Федорова, Соловьева и тем в более в будущем у Булгакова в его идее христианской политики и христианского социализма, в сущности, задача истории – в построении некоего совершенного целого, совершенного социума, который будет еще одной ступенькой к Иерусалиму Небесному.
Понятно, что с такой концепцией «начальные» евразийцы примириться не могли, – это было им чуждо. Однако дальше происходит очень интересная вещь. В евразийство приходят новые силы. (Понятно, кстати, что сценарий истории Леонтьева, безусловно, грел душу и Флоровскому, и Трубецкому, для них это было органично.) Так вот, дальше приходят новые люди: Карташев, Вл. Ильин, Карсавин, которые как раз по каким-то духовным своим основам, в том числе по историософским склонностям, им как раз ближе традиция оптимистической трактовки истории. Тем самым, это люди начинают вносить свои акценты в евразийскую историософию. Благодаря этому фактически происходит некоторое созревание внутри самого евразийства понимания христианства как вселенской религии и все больше и больше начинает себя утверждать идея оправдания истории. Как раз вот в этой знаменитой статье Карташева «Реформа,
59
пессимистический взгляд на историю Леонтьева, когда история это движение к концу. Этим концом может быть катастрофа, кризис и т.д. В истории, согласно этому течению, невозможно никакое созидательное строительство, потому что она обречена на провал: существует огромный разрыв между относительным и абсолютным, и никакое гармоничное строительство невозможно.
Второе течение основывается на том, что говорили славянофилы и, конечно, троица 1870 гг. – Достоевский, Федоров, Соловьев. То есть это попытка представить историю как некое созидательное движение по строительству «Царства Божия» на Земле. Однако «Царства Божьего» понятого не в смысле секулярного земного рая. Позже возможность «секулярного рая» критиковал Новгородцев, на концепцию которого многие евразийцы опирались – в частности, Алексеев, который в своей «Теории государства» во многом проявил себя как наследник идей Новгородцева, хотя тоже немного такой беззаконный наследник. Тем не менее, Алексеев постоянно подчеркивал, что государство создается как некое компромиссное образование, связанное с тем, что разрыв между Царствием Божьим и наличной реальностью мира, где bellum omnium contra omnes, вынуждает создавать некоторое удерживающее образование и не дает людям, условно говоря, «сожрать» друг друга, не более того. В свою очередь, для Достоевского, Федорова, Соловьева и тем в более в будущем у Булгакова в его идее христианской политики и христианского социализма, в сущности, задача истории – в построении некоего совершенного целого, совершенного социума, который будет еще одной ступенькой к Иерусалиму Небесному.
Понятно, что с такой концепцией «начальные» евразийцы примириться не могли, – это было им чуждо. Однако дальше происходит очень интересная вещь. В евразийство приходят новые силы. (Понятно, кстати, что сценарий истории Леонтьева, безусловно, грел душу и Флоровскому, и Трубецкому, для них это было органично.) Так вот, дальше приходят новые люди: Карташев, Вл. Ильин, Карсавин, которые как раз по каким-то духовным своим основам, в том числе по историософским склонностям, им как раз ближе традиция оптимистической трактовки истории. Тем самым, это люди начинают вносить свои акценты в евразийскую историософию. Благодаря этому фактически происходит некоторое созревание внутри самого евразийства понимания христианства как вселенской религии и все больше и больше начинает себя утверждать идея оправдания истории. Как раз вот в этой знаменитой статье Карташева «Реформа,
60
реформация и исполнение церкви» в евразийском сборнике «На путях» (1922),в которой он утверждает идею того, что хилиастический вектор построения Царства Божьего на Земле, которое опять же не есть секулярное Царство, но есть «преображенное царство», ступень к Иерусалиму Небесному. Эта идея в статье Карташева звучит со всей полнотой и полнозвучностью. Тем самым, религия, призванная в живом единстве питать совокупность социального бытия, не может быть мертвенной схемой, формулой Богопризнания, а должна пронизать своим смыслом все сферы дел и творчества человека, то есть экономическое и государственное строительство тоже. Экономика, право, хозяйство не могут оставаться без религиозного обоснования, а должны быть включены в это целостное христианское строительство, в этот самый вектор истории как работы спасения и тем самым они должны быть коренным образом преображены, исходя из этого пафоса и воли к преображению бытия в «благобытие», мира – в Царство Христово. Соответственно, они, эти сферы, становятся орудиями. Как пишет Савицкий, «хозяйственная техника с религиозной точки зрения есть средство осуществления завета, вложенного Творцом при создании человеческого рода». То есть идея заповеди об обладании землей как первой заповеди, данной Творцом человеку, которая, как вы знаете, была в основе булгаковской философии хозяйства и его формулы «мир как хозяйство», начинает определенным образом у них работать. Эта идея, конечно, активно работает у Савицкого, потому что Савицкий из всех них ближе к этой идее наряду с Чхеидзе. И в брошюре «Евразийство. Опыт систематического изложения» (1926 г.) мы видим полностью формулу идеи богочеловеческого строительства в истории. К примеру, процитирую следующий отрывок: «Церковно-христианская деятельность есть искупление и спасение человека, т.е. его совершенствование и, в конце концов, в существе, говоря терминами свято-отеческого богословия, его обожение». Тем самым, мы видим, что теперь ими используются термины, о которых раньше и речи не могло идти в период «Исхода к Востоку». К примеру, «совершенствоваться значит совершенствовать в себе и через себя весь мир, т.е. возводить и образовывать его из материала для церкви Божьей в действительное Царство Божье, полнота церкви предполагает оцерковление всего». Мы видим, что за пять лет происходит совершенно фантастическая трансформация. То есть от трактовки истории как культурного бытования наций и отрицания в ней единого религиозного вектора до идей преображение всего в действительное Царство Божье и понимание Церкви как центра
60
реформация и исполнение церкви» в евразийском сборнике «На путях» (1922),в которой он утверждает идею того, что хилиастический вектор построения Царства Божьего на Земле, которое опять же не есть секулярное Царство, но есть «преображенное царство», ступень к Иерусалиму Небесному. Эта идея в статье Карташева звучит со всей полнотой и полнозвучностью. Тем самым, религия, призванная в живом единстве питать совокупность социального бытия, не может быть мертвенной схемой, формулой Богопризнания, а должна пронизать своим смыслом все сферы дел и творчества человека, то есть экономическое и государственное строительство тоже. Экономика, право, хозяйство не могут оставаться без религиозного обоснования, а должны быть включены в это целостное христианское строительство, в этот самый вектор истории как работы спасения и тем самым они должны быть коренным образом преображены, исходя из этого пафоса и воли к преображению бытия в «благобытие», мира – в Царство Христово. Соответственно, они, эти сферы, становятся орудиями. Как пишет Савицкий, «хозяйственная техника с религиозной точки зрения есть средство осуществления завета, вложенного Творцом при создании человеческого рода». То есть идея заповеди об обладании землей как первой заповеди, данной Творцом человеку, которая, как вы знаете, была в основе булгаковской философии хозяйства и его формулы «мир как хозяйство», начинает определенным образом у них работать. Эта идея, конечно, активно работает у Савицкого, потому что Савицкий из всех них ближе к этой идее наряду с Чхеидзе. И в брошюре «Евразийство. Опыт систематического изложения» (1926 г.) мы видим полностью формулу идеи богочеловеческого строительства в истории. К примеру, процитирую следующий отрывок: «Церковно-христианская деятельность есть искупление и спасение человека, т.е. его совершенствование и, в конце концов, в существе, говоря терминами свято-отеческого богословия, его обожение». Тем самым, мы видим, что теперь ими используются термины, о которых раньше и речи не могло идти в период «Исхода к Востоку». К примеру, «совершенствоваться значит совершенствовать в себе и через себя весь мир, т.е. возводить и образовывать его из материала для церкви Божьей в действительное Царство Божье, полнота церкви предполагает оцерковление всего». Мы видим, что за пять лет происходит совершенно фантастическая трансформация. То есть от трактовки истории как культурного бытования наций и отрицания в ней единого религиозного вектора до идей преображение всего в действительное Царство Божье и понимание Церкви как центра
61
преображающегося в него грешного мира. Понятно, что Церковь здесь не институт, а принцип. Церковь – это принцип совершенного строя жизни. Это тоже очень важно понимать здесь.
Также известно, что Георгий Флоровский еще в 1921 г. говорил: евразийство – течение не политическое, а культурно-философское. Он говорил о проповеди личной ответственности, строительстве культуры, но никак не о политической деятельности, т.е. политику он вообще выводил за сферу евразийских идей. Поэтому позднее в конечном итоге он и покинул евразийское движение. Тем самым, разработка рецептов организации общества, с точки зрения Флоровского, не входит в задачи евразийства. И здесь опять же была своя нерушимая логика, которая соотносилась с идеями историософского пессимизма. Потому что, если есть разрыв между идеалом и реальностью, если христианство − это трансцендентная религия прежде всего, а социальное строительство в истории ведет лишь к построению утопий, то, безусловно, зачем мы будем лезть в политику? Чтобы творить новую утопию, чтобы служить какому-то разрушению? Нет, значит, этот путь не для нас, не для евразийцев.
Однако евразийство как раз уже начинает двигаться к построению именно политической доктрины, и отсюда, собственно, и вырастает концепция идеократии, то есть она, с моей точки зрения,− закономерное следствие вектора идей евразийства к построению политического целого. Как возникает эта концепция идеократии? Ее родоначальником, как мы знаем, является Трубецкой, который стоит все же на позиции, согласно которой, социальное строительство не может быть абсолютным. Так вот, эта изначальная идея идеократии потом начинает эволюционировать. Как именно, я потом еще скажу. Возникает, во-первых, вопрос о целях и путях социального деланья, которое должно не уводить от Христа, но вести мир к Христу; во-вторых, идея «государства правды», которое основано на неразрывной связи человека с Богом. Отсюда возникает концепция идеократии и отсюда вырастает Кламар, конечно. Потому что именно кламарцы и левые евразийцы активно утверждают идею деланья истории. То есть, пафос мироделанья, который формулируется на страницах газеты «Евразия», – он тоже лежит в векторе понимания истории как творческого задания человека, религиозного деланья и, в общем-то, оправданного деланья человека в мире. Отсюда понятно, почему именно на этапе Кламара возникает интерес к философии Федорова – по моему мнению, одного из самых радикальных мыслителей в лоне христианской историософии, – потому что он абсолютно последовательно выстраивает вектор истории как осуществление не
61
преображающегося в него грешного мира. Понятно, что Церковь здесь не институт, а принцип. Церковь – это принцип совершенного строя жизни. Это тоже очень важно понимать здесь.
Также известно, что Георгий Флоровский еще в 1921 г. говорил: евразийство – течение не политическое, а культурно-философское. Он говорил о проповеди личной ответственности, строительстве культуры, но никак не о политической деятельности, т.е. политику он вообще выводил за сферу евразийских идей. Поэтому позднее в конечном итоге он и покинул евразийское движение. Тем самым, разработка рецептов организации общества, с точки зрения Флоровского, не входит в задачи евразийства. И здесь опять же была своя нерушимая логика, которая соотносилась с идеями историософского пессимизма. Потому что, если есть разрыв между идеалом и реальностью, если христианство − это трансцендентная религия прежде всего, а социальное строительство в истории ведет лишь к построению утопий, то, безусловно, зачем мы будем лезть в политику? Чтобы творить новую утопию, чтобы служить какому-то разрушению? Нет, значит, этот путь не для нас, не для евразийцев.
Однако евразийство как раз уже начинает двигаться к построению именно политической доктрины, и отсюда, собственно, и вырастает концепция идеократии, то есть она, с моей точки зрения,− закономерное следствие вектора идей евразийства к построению политического целого. Как возникает эта концепция идеократии? Ее родоначальником, как мы знаем, является Трубецкой, который стоит все же на позиции, согласно которой, социальное строительство не может быть абсолютным. Так вот, эта изначальная идея идеократии потом начинает эволюционировать. Как именно, я потом еще скажу. Возникает, во-первых, вопрос о целях и путях социального деланья, которое должно не уводить от Христа, но вести мир к Христу; во-вторых, идея «государства правды», которое основано на неразрывной связи человека с Богом. Отсюда возникает концепция идеократии и отсюда вырастает Кламар, конечно. Потому что именно кламарцы и левые евразийцы активно утверждают идею деланья истории. То есть, пафос мироделанья, который формулируется на страницах газеты «Евразия», – он тоже лежит в векторе понимания истории как творческого задания человека, религиозного деланья и, в общем-то, оправданного деланья человека в мире. Отсюда понятно, почему именно на этапе Кламара возникает интерес к философии Федорова – по моему мнению, одного из самых радикальных мыслителей в лоне христианской историософии, – потому что он абсолютно последовательно выстраивает вектор истории как осуществление не
62
только нравственных обетований, но и онтологических обетований. Для него история − богочеловеческое деланье по преображению мира в этот Небесный Иерусалим, в Царство Христово. То есть там человечество участвует и в обретении бессмертия, и в воскрешении умерших, и в изменении самого строя мира и т.д. Тем самым тут уже ставится абсолютно религиозный вектор онтологической работы. Соответственно, уже оправдывается активность; активность оправдывается Федоровым религиозно. За это, конечно же, берутся кламарцы, потому что для них Федоров является преодолением Маркса, то есть если Маркс дает секулярную утопию, то Федоров предлагает целостно-христианское деланье. И очень красивая есть формула у Святополка-Мирского, когда он говорит, что марксизм – это Луна, увиденная с одной стороны. В свою очередь, Федоров оправдывает действие религиозно, когда действие не самостийно, оно не есть некое человекобожие, а есть богосыновство, есть осуществление заветов Христа человеку и построенного на этой формуле выражения: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит». Отсюда этот интерес, который потом будет у идеолога концепции совершенной идеократии Константина Чхеидзе.
Соответственно, с конца 1920 гг. и начинается активное движение евразийцев к теории построения совершенного государства, вообще теории построения государства и теории совершенного государства Алексеева. Однако тут возникает еще одна интересная вещь, которая тоже чрезвычайно любопытна. Ведь Алексеев, который говорит о «государстве правды», «гарантийном государстве» в конечном итоге в какой-то момент останавливается: он говорит, что, да, «государство правды», но, с другой стороны, абсолютный социальный идеал, по его мнению, недостижим. И здесь происходит внутреннее противоречие его концепции, которое я нахожу. Потому что, с одной стороны, он говорит, что идеальные, нравственные начала должны действовать на всех уровнях государственной власти, и только абсолютный нравственный идеал может быть сдерживающим фактором для этого самого правящего отбора. Получается, что призрак диктатуры, призрак власти, которая оторвана от нравственных начал, постоянно его пугает. Но в то же время, если эти начала не есть начала религиозные, христианские, Христовой любви и жертвы, Христова деланья, то, в сущности, опасность диктатуры здесь постоянно возникает. И, соответственно, его формула, которая звучит, как «будущее принадлежит православному правовому государству, которое сумеет сочетать твердую власть,
62
только нравственных обетований, но и онтологических обетований. Для него история − богочеловеческое деланье по преображению мира в этот Небесный Иерусалим, в Царство Христово. То есть там человечество участвует и в обретении бессмертия, и в воскрешении умерших, и в изменении самого строя мира и т.д. Тем самым тут уже ставится абсолютно религиозный вектор онтологической работы. Соответственно, уже оправдывается активность; активность оправдывается Федоровым религиозно. За это, конечно же, берутся кламарцы, потому что для них Федоров является преодолением Маркса, то есть если Маркс дает секулярную утопию, то Федоров предлагает целостно-христианское деланье. И очень красивая есть формула у Святополка-Мирского, когда он говорит, что марксизм – это Луна, увиденная с одной стороны. В свою очередь, Федоров оправдывает действие религиозно, когда действие не самостийно, оно не есть некое человекобожие, а есть богосыновство, есть осуществление заветов Христа человеку и построенного на этой формуле выражения: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит». Отсюда этот интерес, который потом будет у идеолога концепции совершенной идеократии Константина Чхеидзе.
Соответственно, с конца 1920 гг. и начинается активное движение евразийцев к теории построения совершенного государства, вообще теории построения государства и теории совершенного государства Алексеева. Однако тут возникает еще одна интересная вещь, которая тоже чрезвычайно любопытна. Ведь Алексеев, который говорит о «государстве правды», «гарантийном государстве» в конечном итоге в какой-то момент останавливается: он говорит, что, да, «государство правды», но, с другой стороны, абсолютный социальный идеал, по его мнению, недостижим. И здесь происходит внутреннее противоречие его концепции, которое я нахожу. Потому что, с одной стороны, он говорит, что идеальные, нравственные начала должны действовать на всех уровнях государственной власти, и только абсолютный нравственный идеал может быть сдерживающим фактором для этого самого правящего отбора. Получается, что призрак диктатуры, призрак власти, которая оторвана от нравственных начал, постоянно его пугает. Но в то же время, если эти начала не есть начала религиозные, христианские, Христовой любви и жертвы, Христова деланья, то, в сущности, опасность диктатуры здесь постоянно возникает. И, соответственно, его формула, которая звучит, как «будущее принадлежит православному правовому государству, которое сумеет сочетать твердую власть,
63
начало диктатуры с народоправством, началом вольности и служению социальной правде», – такая формула может работать только тогда, когда в ее основе лежит христианская идея, христианская идея служения, ответственности, постоянной проверки собственной совести, потому что, как только эта идея выпадает, мы получаем монстра, мы получаем то самое секулярное евразийство, которое по большому счету будет диктатурой, с моей точки зрения. То есть только вот это начало религиозной совести, религиозной ответственности, если хотите – покаяния, только оно может удержать впадение государственных деятелей в произвол. Интересно, что именно эта формула соотносится с очень известной формулой истинной веры, которую ввел Достоевский, идеи которого для евразийцев также играли существенную роль. В подготовительных материалах к роману «Бесы» есть такая формула истинной веры: «Каяться. Себя созидать. Царство Христово созидать». То есть вот этот вектор движения внутренней нравственной работы, о которой, собственно говоря, и пишет Алексеев, когда говорит о созидании Царство Божьего вовне, созидании социального, экономического, политического строя жизни, вот он чрезвычайно важен.
Такое введение религиозного, нравственного принципа в правящий отбор является сильной стороной у Алексеева, отсюда, собственно говоря, его апелляция к волжским старцам. Но, с моей точки зрения, противоречие возникает тогда, когда он говорит: да, государство оно церковью стать никогда не сможет. То есть, условно, выходит вот эта его связка с Новгородцевым, для которого социальное строительство − это всегда построение утопий, выйти за пределы творчества утопий для социального строительства невозможно.
Чхеидзе же, о котором я хочу сказать буквально три слова, опираясь на идеи Федорова и Соловьева, как раз дает и выстраивает этот вектор, когда выдвигает концепцию «совершенной идеократии», которая, как он говорит, основана на конечном идеале активного христианства, внесенного вот этой самой русской христианской историософией, в которой история есть движение к построению Царства Христова, преображающегося в Небесный Иерусалим. И тогда мы видим возможность движения от государства к церкви – от государства к совершенному обществу, которое, как говорил Федоров, строится по образу и подобию Троицы, то есть это явно нераздельное единство личности, основанное на любви, вере, правде, взаимной ответственности и т.д. Это является очень интересной идеей у Чхеидзе, которую он развивает в 1930-х гг. в целом ряде своих статей,
63
начало диктатуры с народоправством, началом вольности и служению социальной правде», – такая формула может работать только тогда, когда в ее основе лежит христианская идея, христианская идея служения, ответственности, постоянной проверки собственной совести, потому что, как только эта идея выпадает, мы получаем монстра, мы получаем то самое секулярное евразийство, которое по большому счету будет диктатурой, с моей точки зрения. То есть только вот это начало религиозной совести, религиозной ответственности, если хотите – покаяния, только оно может удержать впадение государственных деятелей в произвол. Интересно, что именно эта формула соотносится с очень известной формулой истинной веры, которую ввел Достоевский, идеи которого для евразийцев также играли существенную роль. В подготовительных материалах к роману «Бесы» есть такая формула истинной веры: «Каяться. Себя созидать. Царство Христово созидать». То есть вот этот вектор движения внутренней нравственной работы, о которой, собственно говоря, и пишет Алексеев, когда говорит о созидании Царство Божьего вовне, созидании социального, экономического, политического строя жизни, вот он чрезвычайно важен.
Такое введение религиозного, нравственного принципа в правящий отбор является сильной стороной у Алексеева, отсюда, собственно говоря, его апелляция к волжским старцам. Но, с моей точки зрения, противоречие возникает тогда, когда он говорит: да, государство оно церковью стать никогда не сможет. То есть, условно, выходит вот эта его связка с Новгородцевым, для которого социальное строительство − это всегда построение утопий, выйти за пределы творчества утопий для социального строительства невозможно.
Чхеидзе же, о котором я хочу сказать буквально три слова, опираясь на идеи Федорова и Соловьева, как раз дает и выстраивает этот вектор, когда выдвигает концепцию «совершенной идеократии», которая, как он говорит, основана на конечном идеале активного христианства, внесенного вот этой самой русской христианской историософией, в которой история есть движение к построению Царства Христова, преображающегося в Небесный Иерусалим. И тогда мы видим возможность движения от государства к церкви – от государства к совершенному обществу, которое, как говорил Федоров, строится по образу и подобию Троицы, то есть это явно нераздельное единство личности, основанное на любви, вере, правде, взаимной ответственности и т.д. Это является очень интересной идеей у Чхеидзе, которую он развивает в 1930-х гг. в целом ряде своих статей,
64
к примеру, у него есть такая «Записка о философии Федорова» на 1934 г. В письмах Савицкому он тоже об этом говорит: о том, что идеократия только тогда может состояться, когда она основана на абсолютном начале. Иначе она несовершенна и ущербна и, как следствие, проигрывает в истории – то есть в истории может быть осуществлен только целостный и абсолютный идеал, а такой целостный идеал дает христианство с его идеей преображения мира и человека, поэтому христианство абсолютно невозможно изъять из евразийства. Либо же мы получаем ущербные идеократии в виде коммунизма и фашизма или еще каких-то идеократий, которые могут возникнуть в истории. Тем самым, вот этот целостный религиозный вектор абсолютно необходим. Более того, Чхеидзе совмещал концепцию совершенной идеократии с идеей номогенеза, о которой активно писал и Савицкий тоже. То есть идея номогенеза, которая вводит векторное начало в эволюционный процесс, видит некий восходящий вектор эволюции, приводящий к созданию человека, являющегося существом не случайным, не пылинкой на лике Земли, а существом, всецело отвечающим за мир вокруг него. Поэтому идея строительства, лежащая в основе евразийства, евразийской государственности, – это есть полнота ответственности за свое бытие, это и есть идея организации мира, понятого не только как организации социума, но и вообще организации миропорядка.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо Анастасия Георгиевна! У меня очень много реплик и вопросов, но боюсь, что сейчас просто не хватит на них времени, поэтому я отдельно поговорю с Вами по этой теме. Действительно, в процессе Вашего выступления возникло много важных, неоднозначных вопросов. Есть ли один какой-либо вопрос к докладчику? После этого мы перейдем к заключительной триаде докладов.
Р.Р. Вахитов: У меня тоже не вопрос, а реплика. Я хотел сказать, что в «Исходе к Востоку», на мой взгляд, есть две тенденции. Первая – это Трубецкой и в какой-то мере Савицкий. То есть отрицание единого человечества Трубецким. И, действительно, когда читаешь книгу Трубецкого, даже непонятно, человек верующий или неверующий писал.
А.Г. Гачева: Да! Р.Р. Вахитов: Получается такой объективный научный подход.
А вторая тенденция – это Сувчинский, конечно. У него, к примеру, в «Исходе к Востоку» – статья «Эпоха веры», где Сувчинский пишет, что после эпохи западного материализма наступает евразийская эпоха
64
к примеру, у него есть такая «Записка о философии Федорова» на 1934 г. В письмах Савицкому он тоже об этом говорит: о том, что идеократия только тогда может состояться, когда она основана на абсолютном начале. Иначе она несовершенна и ущербна и, как следствие, проигрывает в истории – то есть в истории может быть осуществлен только целостный и абсолютный идеал, а такой целостный идеал дает христианство с его идеей преображения мира и человека, поэтому христианство абсолютно невозможно изъять из евразийства. Либо же мы получаем ущербные идеократии в виде коммунизма и фашизма или еще каких-то идеократий, которые могут возникнуть в истории. Тем самым, вот этот целостный религиозный вектор абсолютно необходим. Более того, Чхеидзе совмещал концепцию совершенной идеократии с идеей номогенеза, о которой активно писал и Савицкий тоже. То есть идея номогенеза, которая вводит векторное начало в эволюционный процесс, видит некий восходящий вектор эволюции, приводящий к созданию человека, являющегося существом не случайным, не пылинкой на лике Земли, а существом, всецело отвечающим за мир вокруг него. Поэтому идея строительства, лежащая в основе евразийства, евразийской государственности, – это есть полнота ответственности за свое бытие, это и есть идея организации мира, понятого не только как организации социума, но и вообще организации миропорядка.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо Анастасия Георгиевна! У меня очень много реплик и вопросов, но боюсь, что сейчас просто не хватит на них времени, поэтому я отдельно поговорю с Вами по этой теме. Действительно, в процессе Вашего выступления возникло много важных, неоднозначных вопросов. Есть ли один какой-либо вопрос к докладчику? После этого мы перейдем к заключительной триаде докладов.
Р.Р. Вахитов: У меня тоже не вопрос, а реплика. Я хотел сказать, что в «Исходе к Востоку», на мой взгляд, есть две тенденции. Первая – это Трубецкой и в какой-то мере Савицкий. То есть отрицание единого человечества Трубецким. И, действительно, когда читаешь книгу Трубецкого, даже непонятно, человек верующий или неверующий писал.
А.Г. Гачева: Да! Р.Р. Вахитов: Получается такой объективный научный подход.
А вторая тенденция – это Сувчинский, конечно. У него, к примеру, в «Исходе к Востоку» – статья «Эпоха веры», где Сувчинский пишет, что после эпохи западного материализма наступает евразийская эпоха
65
– «эпоха веры», то есть предполагается существование единого человечества, которое переходит в новую эпоху.
А.Г. Гачева: Кстати, ведь идея «эпохи веры» и у Савицкого тоже была!
Р.Р. Вахитов: Но статью написал Сувчинский. А.Г. Гачева: Да, я знаю, но потом эта идея звучит и у
Савицкого. Р.Р. Вахитов: И неслучайно, что потом Сувчинский стал левым
евразийцем, то есть эта тенденция также уходит своими корнями в «Исход к Востоку».
А.Г. Гачева: Но там она, понимаете, не доминирует, там ее подголосок скорее. А так я с Вами согласна, конечно, изначальное евразийство не монолитное. Но это же самое интересное – заметить в «Исходе к Востоку» эмбрионы дальнейшего развития евразийства.
Б.В. Назмутдинов: Спасибо, коллеги. Владимир Игоревич хотел бы высказаться.
В.И. Карпец: Мне, к сожалению, нужно уходить, у меня одна очень простая реплика. Является ли то отношение к христианству, которое Вы здесь изложили, собственно коренным православным?
А.Г. Гачева: Да, это, безусловно, вопрос. В.И. Карпец: Я приведу один пример. Есть послераскольное
чтение Символа веры: «Его же Царствию не будет конца», тогда – да. Однако есть и дораскольное чтение символа веры: «Его же Царствию несть конца». И формулировка «несть конца» никоим образом не соотносится с этой экуменической картиной, которую Вы нарисовали. Соответственно, тогда получается, что евразийцы во второй период попали в плен романо-германского ига, от которого они так серьезно открещивались в самом начале.
А.Г. Гачева: Нет, между прочим, в той логике, которой Вы рассуждаете, можно так, наверно, сказать, хотя я бы так не говорила. Лично мне, например, дорога эта традиция русско-христианской философии. Хотя все мы здесь исследователи и стараемся в наших научных построениях отвлекаться от личного опыта, свой опыт мы полностью все равно не спрячем. Все наши уклоны, склонения обнажатся в том, как мы видим предмет исследования. Никуда мы от личности не уйдем в любом случае. Так вот, мне кажется, что трактовка, представленная мной, абсолютно неканоничная. По крайней мере, пока. Не знаю, что будет дальше – мир он все-таки развивается.
В.И. Карпец: Анастасия Георгиевна, семь вселенских соборов – восьмой разбойничий!
65
– «эпоха веры», то есть предполагается существование единого человечества, которое переходит в новую эпоху.
А.Г. Гачева: Кстати, ведь идея «эпохи веры» и у Савицкого тоже была!
Р.Р. Вахитов: Но статью написал Сувчинский. А.Г. Гачева: Да, я знаю, но потом эта идея звучит и у
Савицкого. Р.Р. Вахитов: И неслучайно, что потом Сувчинский стал левым
евразийцем, то есть эта тенденция также уходит своими корнями в «Исход к Востоку».
А.Г. Гачева: Но там она, понимаете, не доминирует, там ее подголосок скорее. А так я с Вами согласна, конечно, изначальное евразийство не монолитное. Но это же самое интересное – заметить в «Исходе к Востоку» эмбрионы дальнейшего развития евразийства.
Б.В. Назмутдинов: Спасибо, коллеги. Владимир Игоревич хотел бы высказаться.
В.И. Карпец: Мне, к сожалению, нужно уходить, у меня одна очень простая реплика. Является ли то отношение к христианству, которое Вы здесь изложили, собственно коренным православным?
А.Г. Гачева: Да, это, безусловно, вопрос. В.И. Карпец: Я приведу один пример. Есть послераскольное
чтение Символа веры: «Его же Царствию не будет конца», тогда – да. Однако есть и дораскольное чтение символа веры: «Его же Царствию несть конца». И формулировка «несть конца» никоим образом не соотносится с этой экуменической картиной, которую Вы нарисовали. Соответственно, тогда получается, что евразийцы во второй период попали в плен романо-германского ига, от которого они так серьезно открещивались в самом начале.
А.Г. Гачева: Нет, между прочим, в той логике, которой Вы рассуждаете, можно так, наверно, сказать, хотя я бы так не говорила. Лично мне, например, дорога эта традиция русско-христианской философии. Хотя все мы здесь исследователи и стараемся в наших научных построениях отвлекаться от личного опыта, свой опыт мы полностью все равно не спрячем. Все наши уклоны, склонения обнажатся в том, как мы видим предмет исследования. Никуда мы от личности не уйдем в любом случае. Так вот, мне кажется, что трактовка, представленная мной, абсолютно неканоничная. По крайней мере, пока. Не знаю, что будет дальше – мир он все-таки развивается.
В.И. Карпец: Анастасия Георгиевна, семь вселенских соборов – восьмой разбойничий!
66
А.Г. Гачева:Да, восьмого еще не было. В.И. Карпец: Слава Богу, что не было. А.Г. Гачева: Русская историософская традиция стояла на идее
догматического развития церкви. Можно ее считать модернизмом, но, кстати, интересно, что целый ряд евразийцев, в том числе и Чхеидзе, эту идею подхватывали, они без нее обойтись не могли. Особенно в утверждении идеи совершенной идеократии.
М. Байссвенгер: Одно предложение. Интересно, что митрополит Антоний Храповицкий, который считал себя евразийцем, в 1923 году писал Трубецкому, что готов предоставить статью для следующего евразийского сборника, на что Трубецкой сказал: «Боже мой! Только не это».
А.Г. Гачева: Конечно, они были абсолютно не готовы взять его в союзники.
Б. В. Назмутдинов: Большое спасибо! Рустем Ринатович Вахитов, пожалуйста, Ваш доклад «Евразийская критика этнонационализма».
Р.Р. Вахитов: Я думаю, что не стоит много говорить об актуальности этой критики. Этнонационализм – один из очень важных вызовов современности, он сыграл свою роль в распаде Югославии, СССР,сейчас он угрожает целостности Российской Федерации. И очень интересно, что именно у евразийцев мы находим, на мой взгляд, очень глубокую и даже более глубокую, чем это обычно кажется, критику этнонационализма.
На первый взгляд, суть этой критики очень проста: этнонационализм – национализм очень узкий, нежизнеспособный, при помощи него нельзя спаять какое-то большое государство, которое было бы автаркийным (к чему, собственно, стремились евразийцы). И поэтому идеалу этнонационального государства евразийцы противопоставляют «многонародное» государство-империю или, как они выражались, «государство-материк».
Но это только внешнее, потому что есть еще и подводная часть айсберга, глубинные основания этой критики. На мой взгляд, эти основания связаны с тем, что в свое время исследователь евразийства Патрик Серио называл «онтологическим структурализмом» евразийства. Евразийцы предлагают совершенно иную концепцию нации, альтернативную этническому национализму (национализму «немецкого типа») и гражданскому национализму (национализму «французского типа»). Для евразийцев нация – это единство, спаянное не общностью происхождения, не какими-то политическими ценностями, но единство, спаянное структурой.
66
А.Г. Гачева:Да, восьмого еще не было. В.И. Карпец: Слава Богу, что не было. А.Г. Гачева: Русская историософская традиция стояла на идее
догматического развития церкви. Можно ее считать модернизмом, но, кстати, интересно, что целый ряд евразийцев, в том числе и Чхеидзе, эту идею подхватывали, они без нее обойтись не могли. Особенно в утверждении идеи совершенной идеократии.
М. Байссвенгер: Одно предложение. Интересно, что митрополит Антоний Храповицкий, который считал себя евразийцем, в 1923 году писал Трубецкому, что готов предоставить статью для следующего евразийского сборника, на что Трубецкой сказал: «Боже мой! Только не это».
А.Г. Гачева: Конечно, они были абсолютно не готовы взять его в союзники.
Б. В. Назмутдинов: Большое спасибо! Рустем Ринатович Вахитов, пожалуйста, Ваш доклад «Евразийская критика этнонационализма».
Р.Р. Вахитов: Я думаю, что не стоит много говорить об актуальности этой критики. Этнонационализм – один из очень важных вызовов современности, он сыграл свою роль в распаде Югославии, СССР,сейчас он угрожает целостности Российской Федерации. И очень интересно, что именно у евразийцев мы находим, на мой взгляд, очень глубокую и даже более глубокую, чем это обычно кажется, критику этнонационализма.
На первый взгляд, суть этой критики очень проста: этнонационализм – национализм очень узкий, нежизнеспособный, при помощи него нельзя спаять какое-то большое государство, которое было бы автаркийным (к чему, собственно, стремились евразийцы). И поэтому идеалу этнонационального государства евразийцы противопоставляют «многонародное» государство-империю или, как они выражались, «государство-материк».
Но это только внешнее, потому что есть еще и подводная часть айсберга, глубинные основания этой критики. На мой взгляд, эти основания связаны с тем, что в свое время исследователь евразийства Патрик Серио называл «онтологическим структурализмом» евразийства. Евразийцы предлагают совершенно иную концепцию нации, альтернативную этническому национализму (национализму «немецкого типа») и гражданскому национализму (национализму «французского типа»). Для евразийцев нация – это единство, спаянное не общностью происхождения, не какими-то политическими ценностями, но единство, спаянное структурой.
67
Причем Серио противопоставляет понимание структуры у евразийцев пониманию структуры у Ролана Барта. У Барта структура возникает в ходе исследования объекта. У евразийцев структура находится в самом объекте – она предшествует исследованию. Эта структура – эйдос. Савицкий в своих так называемых «структуральных манифестах» – в статьях сборника «Тридцатые годы» (1931) и других – прямо об этом пишет. Это некая интеллигибельная система, которая организует обе части «месторазвития» – двуединство «месторазвития»; она организует и пространство, и культуру.
Именно поэтому мы не можем говорить о географическом детерминизме у евразийцев. Речь идет о том, что эти системы − языковой союз, географический мир, хозяйственный мир – просто накладываются друг на друга, совпадают. Выявление этого принципа организации позволяет определить границы – допустим, языковой критерий границ Евразии. На востоке, за границами Евразии, начинается пространство политонических языков – там, где от тональности слова зависит его смысл. А на западе уже нет мягкостной корреляции, как утверждает Роман Якобсон в работе «К характеристике Евразийского языкового союза». То есть Евразия – органическое единство. Можно еще глубже взглянуть, об этом пишет Якобсон в самом начале упомянутой мною работы. Евразийцы утверждали, что в науке произошла методологическая революция: на смену детерминистской, генетической науке, которая искала общее происхождение, приходит новая структуральная наука, которая ищет общность функции. Кстати, именно поэтому в этой новой структуральной науке невозможно постулировать механический детерминизм, причинно-следственные связи. Здесь элементы системы взаимно влияют друг на друга – они взаимозависимы: нет одностороннего каузального влияния.
В этом можно видеть критический заряд, направленный против этнонационализма. Трубецкой в статье «Общеевразийский национализм» подчеркивает, что нация всегда представляет из себя некую однородность, совокупность этнических групп. Причем для националистов этнические группы должны быть объединены единством происхождения. Так, для русских националистов великороссы, малороссы и белорусы должны составлять единую «русскую» нацию. Однако для евразийцев это совершенно не так: этнические группы объединены не общим происхождением, а некими перекличками культуры, комплиментарностью – вхождением этих
67
Причем Серио противопоставляет понимание структуры у евразийцев пониманию структуры у Ролана Барта. У Барта структура возникает в ходе исследования объекта. У евразийцев структура находится в самом объекте – она предшествует исследованию. Эта структура – эйдос. Савицкий в своих так называемых «структуральных манифестах» – в статьях сборника «Тридцатые годы» (1931) и других – прямо об этом пишет. Это некая интеллигибельная система, которая организует обе части «месторазвития» – двуединство «месторазвития»; она организует и пространство, и культуру.
Именно поэтому мы не можем говорить о географическом детерминизме у евразийцев. Речь идет о том, что эти системы − языковой союз, географический мир, хозяйственный мир – просто накладываются друг на друга, совпадают. Выявление этого принципа организации позволяет определить границы – допустим, языковой критерий границ Евразии. На востоке, за границами Евразии, начинается пространство политонических языков – там, где от тональности слова зависит его смысл. А на западе уже нет мягкостной корреляции, как утверждает Роман Якобсон в работе «К характеристике Евразийского языкового союза». То есть Евразия – органическое единство. Можно еще глубже взглянуть, об этом пишет Якобсон в самом начале упомянутой мною работы. Евразийцы утверждали, что в науке произошла методологическая революция: на смену детерминистской, генетической науке, которая искала общее происхождение, приходит новая структуральная наука, которая ищет общность функции. Кстати, именно поэтому в этой новой структуральной науке невозможно постулировать механический детерминизм, причинно-следственные связи. Здесь элементы системы взаимно влияют друг на друга – они взаимозависимы: нет одностороннего каузального влияния.
В этом можно видеть критический заряд, направленный против этнонационализма. Трубецкой в статье «Общеевразийский национализм» подчеркивает, что нация всегда представляет из себя некую однородность, совокупность этнических групп. Причем для националистов этнические группы должны быть объединены единством происхождения. Так, для русских националистов великороссы, малороссы и белорусы должны составлять единую «русскую» нацию. Однако для евразийцев это совершенно не так: этнические группы объединены не общим происхождением, а некими перекличками культуры, комплиментарностью – вхождением этих
68
культур в единую систему, где есть оппозиции, подобные фонемам. Например, это тюркские языки и славянские языки, «лес» и «степь».
Получается, что евразийцы выбивают научные основания из-под теории этнонационализма. Тут мы подходим к очень интересному моменту связи этнонационализма и науки. В общем-то, не секрет, что если мы обратимся и к возникновению национализма на Западе (в XVIII–XIX вв.), и к возникновению национализмов уже в XX в. (к примеру, у малых народов России), то всегда в среде «будителей» национализма мы наблюдаем ученых. Почему именно ученых? В какой-то мере прав Геллнер: можно не разделять идею «этноконструктивистов» о том, что в сущности нации не существует, на мой взгляд, она как раз существует, однако трудно отрицать то, что национализм создает нацию. Люди, живущие на некоем пространстве, зачастую не ощущают культурного единства – как, например, еще в XVII в. на территории современной Германии жили этносы и субэтносы, которые не ощущали себя единой немецкой нацией – для этого объединения должен был появиться Фихте, который объявил их немецкой нацией.
И ключевую роль, как мне кажется, здесь играет наука, а в случае этнонационализма – три науки: лингвистика, биология и история.
Почему лингвистика? Если мы обратимся к национализмам, особенно к пан-национализмам XIX века, то мы видим, что огромное значение здесь имеет классическая лингвистическая концепция языковых семей. Обратимся к Н.Я. Данилевскому с его концепцией культурно-исторических типов. Как он разделяет народы и совокупности народов, системы народов на эти типы? По принципу генетического родства языков – «славянский» тип и т.д. И в этом смысле, конечно, евразийцы разрушают базис национализма, потому что они предлагают альтернативу – концепцию языкового союза. То есть союза генетически разных языков, которые воплощают собой общие тенденции, связанные с тем, что народы, говорящие на этих языках соседствуют, имеют общую историческую судьбу. Концепция языкового союза – одно из обоснований «империализма» евразийцев, идеи «евразийской империи», противостоящей проекту этнонации.
Почему биология? Когда этнонационалисты рассуждают о международной политике и об истории, то они во многом экстраполируют на народы, взаимоотношения народов биологическую систематику. Кстати, в основе теории языковых семей тоже ведь лежит какая-то биологизаторская идея: где есть народ – там есть пращур, праязык, «род». С другой стороны, это экстраполяция
68
культур в единую систему, где есть оппозиции, подобные фонемам. Например, это тюркские языки и славянские языки, «лес» и «степь».
Получается, что евразийцы выбивают научные основания из-под теории этнонационализма. Тут мы подходим к очень интересному моменту связи этнонационализма и науки. В общем-то, не секрет, что если мы обратимся и к возникновению национализма на Западе (в XVIII–XIX вв.), и к возникновению национализмов уже в XX в. (к примеру, у малых народов России), то всегда в среде «будителей» национализма мы наблюдаем ученых. Почему именно ученых? В какой-то мере прав Геллнер: можно не разделять идею «этноконструктивистов» о том, что в сущности нации не существует, на мой взгляд, она как раз существует, однако трудно отрицать то, что национализм создает нацию. Люди, живущие на некоем пространстве, зачастую не ощущают культурного единства – как, например, еще в XVII в. на территории современной Германии жили этносы и субэтносы, которые не ощущали себя единой немецкой нацией – для этого объединения должен был появиться Фихте, который объявил их немецкой нацией.
И ключевую роль, как мне кажется, здесь играет наука, а в случае этнонационализма – три науки: лингвистика, биология и история.
Почему лингвистика? Если мы обратимся к национализмам, особенно к пан-национализмам XIX века, то мы видим, что огромное значение здесь имеет классическая лингвистическая концепция языковых семей. Обратимся к Н.Я. Данилевскому с его концепцией культурно-исторических типов. Как он разделяет народы и совокупности народов, системы народов на эти типы? По принципу генетического родства языков – «славянский» тип и т.д. И в этом смысле, конечно, евразийцы разрушают базис национализма, потому что они предлагают альтернативу – концепцию языкового союза. То есть союза генетически разных языков, которые воплощают собой общие тенденции, связанные с тем, что народы, говорящие на этих языках соседствуют, имеют общую историческую судьбу. Концепция языкового союза – одно из обоснований «империализма» евразийцев, идеи «евразийской империи», противостоящей проекту этнонации.
Почему биология? Когда этнонационалисты рассуждают о международной политике и об истории, то они во многом экстраполируют на народы, взаимоотношения народов биологическую систематику. Кстати, в основе теории языковых семей тоже ведь лежит какая-то биологизаторская идея: где есть народ – там есть пращур, праязык, «род». С другой стороны, это экстраполяция
69
теории Дарвина, причем вульгарно понятой. Националист воспринимает отношения между народами как взаимоотношения между животными «в мире Дарвина», где разные животные борются между собой за выживание. Отсюда милитаризм, очень агрессивная внешнеполитическая националистическая доктрина. Для национализма нормой является «война всех против всех», но не внутри национального государства, не внутри нации, а вовне – между народами.
И опять-таки (об этом говорила А.Г. Гачева) очень интересно, что евразийцы предлагают некую альтернативу – теорию номогенеза Берга, которой евразийцы очень активно интересовались. Они ее философски переосмыслили и, по-моему, органически включили в состав своей теории.
Берг предлагал на место принципа дивергенции поставить принцип конвергенции. Сообщества животных, по Бергу, образуют свои виды не за счет того, что животные генетически родственны, а потому что они живут в одних и тех же условиях и начинают изменять свои свойства. Классический пример – киты и рыбы. Киты – млекопитающие, которые оказались в водной среде и уподобились рыбам. Этот пример очень любили Трубецкой и Якобсон. Через призму этой метафоры они трактовали взаимоотношения русских и туранских народов в Евразии.
Далее, по Бергу, эволюцией движет не борьба за существование, а мутации. А поскольку это так, то виды отделены друг от друга, ведь сообщества животных локальны, отграничены. Это напоминает то, что говорят евразийцы о взаимоотношениях больших государств-континентов. Отличие евразийского национализма от этнонационализма в том и состоит, что для евразийцев идеалом является «вечный мир» – не вечная война наций, а вечный мир больших «многонародных наций». Почему? Потому что они автаркийны, самодостаточны. Они не нуждаются во внешних ресурсах, им нет смысла воевать с другими такими же империями.
Собственно, главная идея Берга, отраженная в самом названии его теории номогенеза – идея закономерности, идея наличия эйдоса в живой природе – также близка евразийцам, она лежит в основе евразийских концепций рубежа 1920-1930 гг., «поздних» Трубецкого, Савицкого и Якобсона.
Теперь обратимся к исторической науке и ее роли в формировании идеологии национализмов. Очевидно, что историки всегда поставляют националистам каноническую версию истории, которая изображает историю конкретного народа так, как хочется
69
теории Дарвина, причем вульгарно понятой. Националист воспринимает отношения между народами как взаимоотношения между животными «в мире Дарвина», где разные животные борются между собой за выживание. Отсюда милитаризм, очень агрессивная внешнеполитическая националистическая доктрина. Для национализма нормой является «война всех против всех», но не внутри национального государства, не внутри нации, а вовне – между народами.
И опять-таки (об этом говорила А.Г. Гачева) очень интересно, что евразийцы предлагают некую альтернативу – теорию номогенеза Берга, которой евразийцы очень активно интересовались. Они ее философски переосмыслили и, по-моему, органически включили в состав своей теории.
Берг предлагал на место принципа дивергенции поставить принцип конвергенции. Сообщества животных, по Бергу, образуют свои виды не за счет того, что животные генетически родственны, а потому что они живут в одних и тех же условиях и начинают изменять свои свойства. Классический пример – киты и рыбы. Киты – млекопитающие, которые оказались в водной среде и уподобились рыбам. Этот пример очень любили Трубецкой и Якобсон. Через призму этой метафоры они трактовали взаимоотношения русских и туранских народов в Евразии.
Далее, по Бергу, эволюцией движет не борьба за существование, а мутации. А поскольку это так, то виды отделены друг от друга, ведь сообщества животных локальны, отграничены. Это напоминает то, что говорят евразийцы о взаимоотношениях больших государств-континентов. Отличие евразийского национализма от этнонационализма в том и состоит, что для евразийцев идеалом является «вечный мир» – не вечная война наций, а вечный мир больших «многонародных наций». Почему? Потому что они автаркийны, самодостаточны. Они не нуждаются во внешних ресурсах, им нет смысла воевать с другими такими же империями.
Собственно, главная идея Берга, отраженная в самом названии его теории номогенеза – идея закономерности, идея наличия эйдоса в живой природе – также близка евразийцам, она лежит в основе евразийских концепций рубежа 1920-1930 гг., «поздних» Трубецкого, Савицкого и Якобсона.
Теперь обратимся к исторической науке и ее роли в формировании идеологии национализмов. Очевидно, что историки всегда поставляют националистам каноническую версию истории, которая изображает историю конкретного народа так, как хочется
70
националистам. Эта история обосновывает, к примеру, территориальные претензии к другим нациям. Дело, на мой взгляд, не в том, что есть хорошие и плохие историки (хорошие – «историки-интернационалисты», а плохие – «историки-националисты»). Дело в том, что современная история националистична по своей сути: как в Средние века писали историю королевств и историю королей, так ныне пишут историю наций. И зачастую эти нации экстраполируют туда, где их еще не было. Во французской истории изучается Хлодвиг, изучаются франки, изучается X век, когда французской нации и в принципе еще не было. Те же самые франки были германцами, их можно, по большому счету, отнести к немецкой истории (что тоже не факт). В современных трактовках истории уже заложен мощный заряд национализма, причем этнонационализма.
Историк-евразиец Г.В. Вернадский предлагает альтернативу националистическим версиям истории. Концепция истории, которую разрабатывает Вернадский, не разделяет народы, а, наоборот, их соединяет. Автор настаивает: невозможно помыслить русскую историю без монгольской истории. И вообще нужно говорить о евразийской истории, о систематической истории.
Я хотел бы завершить тем, о чем говорил до этого, но кратко. По сути, евразийцы не просто критикуют этнонационализм. Они предлагают другую форму национализма. Этот другой национализм – тоже национализм. Если мы обратимся к предисловию «Исхода к Востоку» – «в делах мирских настроения наши есть настроения национализма, но мы не хотим заключать его в узкие рамки национального шовинизма…». То есть евразийцы вышли из среды русских националистов. Тот же Савицкий был учеником национал-либерала Петра Струве. Евразийцы продолжали себя считать националистами – та модель, которую они разрабатывают, – националистическая, но это другой национализм. Это национализм, который коренным образом отличается не только от этнонационационализма, который в нашу эпоху часто критикуется, но и от гражданского национализма, который сейчас предлагается нам как идеал, но в общем-то тоже несет в себе серьезные недостатки.
Мне кажется, что такой структуральный национализм, имперский национализм евразийцев имеет свои ответы на вызовы нашего времени.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, Рустем Ринатович! Вы как раз высказались по поводу истории, а у нас вслед за Вами двое выступающих – их можно назвать историками. Есть в этом такой полемический запал… Борис Евгеньевич, пожалуйста, Ваш вопрос.
70
националистам. Эта история обосновывает, к примеру, территориальные претензии к другим нациям. Дело, на мой взгляд, не в том, что есть хорошие и плохие историки (хорошие – «историки-интернационалисты», а плохие – «историки-националисты»). Дело в том, что современная история националистична по своей сути: как в Средние века писали историю королевств и историю королей, так ныне пишут историю наций. И зачастую эти нации экстраполируют туда, где их еще не было. Во французской истории изучается Хлодвиг, изучаются франки, изучается X век, когда французской нации и в принципе еще не было. Те же самые франки были германцами, их можно, по большому счету, отнести к немецкой истории (что тоже не факт). В современных трактовках истории уже заложен мощный заряд национализма, причем этнонационализма.
Историк-евразиец Г.В. Вернадский предлагает альтернативу националистическим версиям истории. Концепция истории, которую разрабатывает Вернадский, не разделяет народы, а, наоборот, их соединяет. Автор настаивает: невозможно помыслить русскую историю без монгольской истории. И вообще нужно говорить о евразийской истории, о систематической истории.
Я хотел бы завершить тем, о чем говорил до этого, но кратко. По сути, евразийцы не просто критикуют этнонационализм. Они предлагают другую форму национализма. Этот другой национализм – тоже национализм. Если мы обратимся к предисловию «Исхода к Востоку» – «в делах мирских настроения наши есть настроения национализма, но мы не хотим заключать его в узкие рамки национального шовинизма…». То есть евразийцы вышли из среды русских националистов. Тот же Савицкий был учеником национал-либерала Петра Струве. Евразийцы продолжали себя считать националистами – та модель, которую они разрабатывают, – националистическая, но это другой национализм. Это национализм, который коренным образом отличается не только от этнонационационализма, который в нашу эпоху часто критикуется, но и от гражданского национализма, который сейчас предлагается нам как идеал, но в общем-то тоже несет в себе серьезные недостатки.
Мне кажется, что такой структуральный национализм, имперский национализм евразийцев имеет свои ответы на вызовы нашего времени.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, Рустем Ринатович! Вы как раз высказались по поводу истории, а у нас вслед за Вами двое выступающих – их можно назвать историками. Есть в этом такой полемический запал… Борис Евгеньевич, пожалуйста, Ваш вопрос.
71
Б.Е. Степанов: У меня два вопроса. Первый касается структурального национализма: Вы ссылаетесь на Серио, но Серио – структуралист, он описывает структурализм в интерпретации евразийства критически, для него проблема создается наложением разных уровней, разных научных пластов (лингвистического, географического, религиозного и пр.). Получается, Ваша интерпретация расходится с интерпретацией Серио. И второй вопрос по поводу версии истории: Вы сказали, что есть версия истории, которая позволяет включить разные народы в историю Евразии. Но как с этой точки зрения Вы относитесь к утверждению Марлен Ларюэль, что евразийцы, декларируя толерантность и «многонародность» Евразии, реально не интересовались другими народами? То есть фактически писали историю хотя и не каноническим образом, но в этом смысле достаточно традиционно.
Р.Р. Вахитов: Я соглашусь с Вами: Патрик Серио крайне критически воспринимает структурализм евразийцев. И, более того, – хотя прямо это он не говорит – между строк у него сквозит понимание евразийского структурализма как пресловутого «недоструктурализма». По Серио, настоящий структурализм все-таки у Барта, Альтюссера, а евразийцы не разорвали еще пуповину, связывающую их с романтической философией истории. Но все же главный критический аргумент, который Серио выдвигает против евразийцев, – они считали, что структура существует. То есть евразийцы виновны в грехе холизма. По-моему, сужение структурализма к французской версии все же неправомерно. Структуралисты – и евразийцы, и Барт. Но и потом я не отстаиваю правоту евразийцев, мое отношение к этой концепции сложное. Я просто говорю, что они такой структурализм пытались положить в основу критики этнонационализма.
Б.Е. Степанов: С учетом того, что структурализма тогда еще не было …
Р.Р. Вахитов: Почему? В лингвистике он был. И фонологическая теория – это структуралистская лингвистика. Просто ни сам Соссюр, ни Трубецкой в период создания «Основ фонологии» не употребляют термин «структуры» – они говорили о «системах». Термин возникает несколько позже, хотя никто не сомневается, что Соссюр – структуральный лингвист.
А второй Ваш вопрос об истории… Я очень люблю евразийцев, и мне больно сознаваться: Ларюэль, наверное, была права – среди евразийцев тюркологов не было. Там были представители самых разных научных направлений, но не тюркологи и востоковеды.
71
Б.Е. Степанов: У меня два вопроса. Первый касается структурального национализма: Вы ссылаетесь на Серио, но Серио – структуралист, он описывает структурализм в интерпретации евразийства критически, для него проблема создается наложением разных уровней, разных научных пластов (лингвистического, географического, религиозного и пр.). Получается, Ваша интерпретация расходится с интерпретацией Серио. И второй вопрос по поводу версии истории: Вы сказали, что есть версия истории, которая позволяет включить разные народы в историю Евразии. Но как с этой точки зрения Вы относитесь к утверждению Марлен Ларюэль, что евразийцы, декларируя толерантность и «многонародность» Евразии, реально не интересовались другими народами? То есть фактически писали историю хотя и не каноническим образом, но в этом смысле достаточно традиционно.
Р.Р. Вахитов: Я соглашусь с Вами: Патрик Серио крайне критически воспринимает структурализм евразийцев. И, более того, – хотя прямо это он не говорит – между строк у него сквозит понимание евразийского структурализма как пресловутого «недоструктурализма». По Серио, настоящий структурализм все-таки у Барта, Альтюссера, а евразийцы не разорвали еще пуповину, связывающую их с романтической философией истории. Но все же главный критический аргумент, который Серио выдвигает против евразийцев, – они считали, что структура существует. То есть евразийцы виновны в грехе холизма. По-моему, сужение структурализма к французской версии все же неправомерно. Структуралисты – и евразийцы, и Барт. Но и потом я не отстаиваю правоту евразийцев, мое отношение к этой концепции сложное. Я просто говорю, что они такой структурализм пытались положить в основу критики этнонационализма.
Б.Е. Степанов: С учетом того, что структурализма тогда еще не было …
Р.Р. Вахитов: Почему? В лингвистике он был. И фонологическая теория – это структуралистская лингвистика. Просто ни сам Соссюр, ни Трубецкой в период создания «Основ фонологии» не употребляют термин «структуры» – они говорили о «системах». Термин возникает несколько позже, хотя никто не сомневается, что Соссюр – структуральный лингвист.
А второй Ваш вопрос об истории… Я очень люблю евразийцев, и мне больно сознаваться: Ларюэль, наверное, была права – среди евразийцев тюркологов не было. Там были представители самых разных научных направлений, но не тюркологи и востоковеды.
72
Б.Е. Степанов: Никитин там был, а так вообще сложно… Р.Р. Вахитов: Да, Никитин был дипломат, Трубецкой довольно
скептически относился к его творчеству. Был интересный сюжет: евразийцы пытались привлечь Ахмет-Заки Валиди – башкирского тюрколога и пантюркиста, но как-то у них это не получилось. Можно действительно согласиться здесь с Ларюэль, но, мне кажется, это не отменяет того, что евразийцы пытались создать такую «альтер-националистическую» трактовку истории.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, Рустем Ринатович, у нас получается такая эстафетная палочка: задающий вопрос затем выступает с докладом…
А.Г. Гачева: А можно все же задать вопрос? Доклад действительно замечательный, хотелось, чтобы Вы прокомментировали в контексте того, о чем Вы говорили, теорию «идеократического интернационала», которая возникла в евразийстве в 1930-х гг.
Р.Р. Вахитов: С ходу сложно сказать, но, в общем-то это вполне вписывается в проблематику.
А.Г. Гачева: Вписывается! Но вот в новое понимание! Я думаю, что концепция «идеократического интернационала» генетически связана, безусловно, с идеей «симфонической личности» Карсавина, которая фактически примиряет правду национального и правду целого.
Р.Р. Вахитов: Проблема в том, что Вы делаете упор на идее человечества.
А.Г. Гачева: Я делаю… Но человечество, оно же не безликое! Понимаете оно, как мы здесь сейчас. Мы же не безликие здесь, на круглом столе. У каждого свое понимание евразийства, что-то такое из нас кристаллизуется. Точно так же и там. Я думаю, концепция «идеократического интернационала», которую они выстроили в оппозиции якобы «неподлинному» интернационализму СССР, очень интересна. Она, между прочим, еще не до конца отрефлексирована. Евразийцы считали, что они дают истинный евразийский интернационализм. Они его тоже в каком-то религиозном ключе разворачивали.
Р.Р. Вахитов: Левые евразийцы вообще избегали терминов национализма.
А.Г. Гачева: «Идеократический интернационал» – это, между прочим, пражская группа (Савицкий, Чхеидзе), это уже тридцатые годы. Но совсем не левые евразийцы! Самое потрясающее другое: так сцеплялись правые и левые евразийцы в эпоху Кламара, что, когда мы
72
Б.Е. Степанов: Никитин там был, а так вообще сложно… Р.Р. Вахитов: Да, Никитин был дипломат, Трубецкой довольно
скептически относился к его творчеству. Был интересный сюжет: евразийцы пытались привлечь Ахмет-Заки Валиди – башкирского тюрколога и пантюркиста, но как-то у них это не получилось. Можно действительно согласиться здесь с Ларюэль, но, мне кажется, это не отменяет того, что евразийцы пытались создать такую «альтер-националистическую» трактовку истории.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо, Рустем Ринатович, у нас получается такая эстафетная палочка: задающий вопрос затем выступает с докладом…
А.Г. Гачева: А можно все же задать вопрос? Доклад действительно замечательный, хотелось, чтобы Вы прокомментировали в контексте того, о чем Вы говорили, теорию «идеократического интернационала», которая возникла в евразийстве в 1930-х гг.
Р.Р. Вахитов: С ходу сложно сказать, но, в общем-то это вполне вписывается в проблематику.
А.Г. Гачева: Вписывается! Но вот в новое понимание! Я думаю, что концепция «идеократического интернационала» генетически связана, безусловно, с идеей «симфонической личности» Карсавина, которая фактически примиряет правду национального и правду целого.
Р.Р. Вахитов: Проблема в том, что Вы делаете упор на идее человечества.
А.Г. Гачева: Я делаю… Но человечество, оно же не безликое! Понимаете оно, как мы здесь сейчас. Мы же не безликие здесь, на круглом столе. У каждого свое понимание евразийства, что-то такое из нас кристаллизуется. Точно так же и там. Я думаю, концепция «идеократического интернационала», которую они выстроили в оппозиции якобы «неподлинному» интернационализму СССР, очень интересна. Она, между прочим, еще не до конца отрефлексирована. Евразийцы считали, что они дают истинный евразийский интернационализм. Они его тоже в каком-то религиозном ключе разворачивали.
Р.Р. Вахитов: Левые евразийцы вообще избегали терминов национализма.
А.Г. Гачева: «Идеократический интернационал» – это, между прочим, пражская группа (Савицкий, Чхеидзе), это уже тридцатые годы. Но совсем не левые евразийцы! Самое потрясающее другое: так сцеплялись правые и левые евразийцы в эпоху Кламара, что, когда мы
73
начинаем читать тексты правых евразийцев в 1930 гг., мы видим там такую близость. Они впитали эти идеи, они их на новом витке развивали. Вот уж действительно: «свой своя не познаша». В 1920-х гг., безусловно, была еще борьба за лидерство, и это во многом их погубило в 1928 г. Найди они тогда компромисс, и вообще было бы очень интересно.
Б.В. Назмутдинов: Анастасия Георгиевна! Большое спасибо! Хочу предоставить слово Борису Евгеньевичу Степанову. Доклад под названием «Дискуссия о Церкви, личности и государстве в контексте интеллектуальной истории евразийства».
Степанов Б.Е.: Спасибо! Круглый стол начался с упоминания дат, связанных с евразийством – столетия Льва Гумилева и др. Напомню, что в этом году также отмечается 130-летие со дня рождения Карсавина. Для меня это важная дата, отправная точка: заниматься историей евразийского движения почти двадцать лет назад я начал в связи с Карсавиным. Эти занятия, как мне кажется, вполне вписываются в сегодняшний тренд, связанный с анализом значения религиозности для евразийцев. Я вышел на этот сюжет без всякого осознанного плана, просто потому, что пытался не только анализировать философские воззрения Карсавина, но и выстраивать для них некоторые исторические и культурные контексты. Один из таких путей привел меня в фонд Савицкого в ГАРФе, среди материалов которого обнаружил дискуссию вокруг труда Карсавина «О церкви, личности и государстве», о которой сегодня буду говорить. Эта дискуссия, как выясняется, неожиданно актуальна. Работая с архивными материалами, я пришел к пониманию двух вещей, которые вполне резонируют с тем, что уже звучало сегодня. Первое: евразийство крайне неоднозначно. Даже если мы говорим о евразийстве 1920-х гг., действительно важно всегда иметь в виду – кто говорит, когда, в каком контексте и т.д. Для меня всегда большая проблема говорить о евразийстве в целом, о том, что объединяет евразийцев; эта проблема сегодня уже возникала. Вторая крайне значимая проблема – то, что евразийство долго рассматривалось достаточно недифференцированно: происходила реконструкция системы в целом, при этом разговора о конкретных дисциплинарных сюжетах (эстетических, политических, религиозных) не было. Хорошо, что эта тенденция начала исчезать в 2000-х гг. Показательно, что сегодня на круглом столе мы пытаемся говорить о евразийстве в каких-то конкретных рамках – права, экономики, политики и т.д.
Обращаясь к религиозному сюжету должен сказать, что коллеги сильно облегчили мою задачу. После прозвучавших здесь
73
начинаем читать тексты правых евразийцев в 1930 гг., мы видим там такую близость. Они впитали эти идеи, они их на новом витке развивали. Вот уж действительно: «свой своя не познаша». В 1920-х гг., безусловно, была еще борьба за лидерство, и это во многом их погубило в 1928 г. Найди они тогда компромисс, и вообще было бы очень интересно.
Б.В. Назмутдинов: Анастасия Георгиевна! Большое спасибо! Хочу предоставить слово Борису Евгеньевичу Степанову. Доклад под названием «Дискуссия о Церкви, личности и государстве в контексте интеллектуальной истории евразийства».
Степанов Б.Е.: Спасибо! Круглый стол начался с упоминания дат, связанных с евразийством – столетия Льва Гумилева и др. Напомню, что в этом году также отмечается 130-летие со дня рождения Карсавина. Для меня это важная дата, отправная точка: заниматься историей евразийского движения почти двадцать лет назад я начал в связи с Карсавиным. Эти занятия, как мне кажется, вполне вписываются в сегодняшний тренд, связанный с анализом значения религиозности для евразийцев. Я вышел на этот сюжет без всякого осознанного плана, просто потому, что пытался не только анализировать философские воззрения Карсавина, но и выстраивать для них некоторые исторические и культурные контексты. Один из таких путей привел меня в фонд Савицкого в ГАРФе, среди материалов которого обнаружил дискуссию вокруг труда Карсавина «О церкви, личности и государстве», о которой сегодня буду говорить. Эта дискуссия, как выясняется, неожиданно актуальна. Работая с архивными материалами, я пришел к пониманию двух вещей, которые вполне резонируют с тем, что уже звучало сегодня. Первое: евразийство крайне неоднозначно. Даже если мы говорим о евразийстве 1920-х гг., действительно важно всегда иметь в виду – кто говорит, когда, в каком контексте и т.д. Для меня всегда большая проблема говорить о евразийстве в целом, о том, что объединяет евразийцев; эта проблема сегодня уже возникала. Вторая крайне значимая проблема – то, что евразийство долго рассматривалось достаточно недифференцированно: происходила реконструкция системы в целом, при этом разговора о конкретных дисциплинарных сюжетах (эстетических, политических, религиозных) не было. Хорошо, что эта тенденция начала исчезать в 2000-х гг. Показательно, что сегодня на круглом столе мы пытаемся говорить о евразийстве в каких-то конкретных рамках – права, экономики, политики и т.д.
Обращаясь к религиозному сюжету должен сказать, что коллеги сильно облегчили мою задачу. После прозвучавших здесь
74
выступлений нет необходимости специально доказывать значимости религиозного момента для идеологии евразийства. В частности, важным мне кажется упоминание о работе Патрика Серио. Для Серио весьма показателен момент, характеризующий то, что из себя представляет евразийская теория. Границы Евразии, которые обозначаются на основе лингвистических, географических и других данных, поразительным образом накладываются на религиозные границы Евразии – прежде всего границы католичества и православия.
Для меня принципиальными являются исторические обстоятельства формирования религиозной концепции у евразийцев. Я тезисно обозначу ряд контекстов, важных для понимания того, как развивалась эта концепция. Первое: возникновение в России атеистического государства; русская революция была не только политической, но и религиозной. Второе: возникновение некоторой угрозы для православия; чертой первых работ евразийцев становится защита православия от наступления романо-германской религиозности, что логически проистекает из критики романо-германской культуры, которую можно найти у Трубецкого в «Европе и человечестве». Третий момент – эмигрантский контекст; церковь и религиозные организации в эмигрантском контексте играли важную роль. В первой половине 1920-х гг. состоялся так называемый «Зарубежный съезд», на котором попытались провозгласить «крестовый поход против большевиков». Произошла «мобилизация» религиозных организаций, связанная с тем, что церковь в СССР подвергалась гонениям. Появилась угроза раскола, которая в итоге и привела к появлению Русской Православной Церкви за рубежом. Четвертый контекст – отношения внутри интеллектуального сообщества, в частности, стремление противопоставить себя иной поколенческой группе – Бердяеву, Булгакову и др. Борьба евразийцев с теми, кого они в своей переписке называли «старыми грымзами», имела религиозную подоплеку, подавалась как утверждение нового типа религиозности и религиозной философии. И, наконец, последнее: отношения внутри евразийской организации, где религиозная проблематика в определенный момент стала камнем преткновения для участников евразийского движения.
Я хочу более подробно остановиться на дискуссии 1925-1927-х гг., связанной с подготовкой к публикации работы Карсавина «Церковь, личность, государство», вышедшей в 1927 г. в виде брошюры в Евразийском книгоиздательстве. Она сыграл важную роль в формировании евразийской идеологии, причем некоторые ее
74
выступлений нет необходимости специально доказывать значимости религиозного момента для идеологии евразийства. В частности, важным мне кажется упоминание о работе Патрика Серио. Для Серио весьма показателен момент, характеризующий то, что из себя представляет евразийская теория. Границы Евразии, которые обозначаются на основе лингвистических, географических и других данных, поразительным образом накладываются на религиозные границы Евразии – прежде всего границы католичества и православия.
Для меня принципиальными являются исторические обстоятельства формирования религиозной концепции у евразийцев. Я тезисно обозначу ряд контекстов, важных для понимания того, как развивалась эта концепция. Первое: возникновение в России атеистического государства; русская революция была не только политической, но и религиозной. Второе: возникновение некоторой угрозы для православия; чертой первых работ евразийцев становится защита православия от наступления романо-германской религиозности, что логически проистекает из критики романо-германской культуры, которую можно найти у Трубецкого в «Европе и человечестве». Третий момент – эмигрантский контекст; церковь и религиозные организации в эмигрантском контексте играли важную роль. В первой половине 1920-х гг. состоялся так называемый «Зарубежный съезд», на котором попытались провозгласить «крестовый поход против большевиков». Произошла «мобилизация» религиозных организаций, связанная с тем, что церковь в СССР подвергалась гонениям. Появилась угроза раскола, которая в итоге и привела к появлению Русской Православной Церкви за рубежом. Четвертый контекст – отношения внутри интеллектуального сообщества, в частности, стремление противопоставить себя иной поколенческой группе – Бердяеву, Булгакову и др. Борьба евразийцев с теми, кого они в своей переписке называли «старыми грымзами», имела религиозную подоплеку, подавалась как утверждение нового типа религиозности и религиозной философии. И, наконец, последнее: отношения внутри евразийской организации, где религиозная проблематика в определенный момент стала камнем преткновения для участников евразийского движения.
Я хочу более подробно остановиться на дискуссии 1925-1927-х гг., связанной с подготовкой к публикации работы Карсавина «Церковь, личность, государство», вышедшей в 1927 г. в виде брошюры в Евразийском книгоиздательстве. Она сыграл важную роль в формировании евразийской идеологии, причем некоторые ее
75
формулировки почти дословно вошли в манифест «Евразийство. Опыт систематического изложения», вышедший в 1926 году. В процессе дискуссии долго обсуждалось, публиковать ли текст статьи Карсавина в форме общеевразийского манифеста, или же он должен выйти за подписью автора. Таким образом, представление о статусе этой статьи несколько раз менялось в течение обсуждения.
Основной темой статьи Карсавина является отношение Церкви и государства. Поэтому я начну с формулировок, отражающих то, каким образом автор видел эту проблему применительно к современной для него политической ситуации, а затем попытаюсь проанализировать его теоретические рассуждения.
Отношение Карсавина и к монархии, и к советскому строю неоднозначно. С одной стороны, автор в принципе симпатизирует монархии, пишет, что это, возможно, наиболее оптимальный для России режим. При этом неприятие Карсавина вызывает то, что монархия в ее российско-имперском изводе была связана с подчинением Церкви государству. Государство делало Церковь инструментом своей политики, что, по Карсавину, недопустимо. Схожие убеждения можно найти и у Н.С. Трубецкого. С другой стороны, отношение к утверждающемуся в России социализму у Карсавина также неоднозначно. Будучи православным философом, Карсавин не мог принять полностью новый строй, в частности, из-за гонений на Церковь. При этом у него есть определенная готовность, связанная, возможно, с тем, что в свое время В.В.Зеньковский назвал «христианским натурализмом», считать этот новый порядок тоже религиозным в своем основании. Примером может быть одна из заглавных формулировок статьи, во многом и спровоцировавшая дискуссию: мы всегда знаем, где Церковь есть, но не всегда знаем, где ее нет. Эта фраза подразумевает, что в каких-то проявлениях советского строя также можно найти религиозный смысл. Кроме того, Карсавин рад, что в нынешней ситуации религия в СССР не является предметом политиканства, политических манипуляций что, напротив, характеризует эмигрантский контекст. Эти манипуляции вызывают его негодование, и Карсавин полемически заостряет свои рассуждения против идей привлечения Церкви к обоснованию «крестового похода против Советов», к восстановлению прежнего монархического порядка. Еще один спорный пример, который приводит Карсавин, – взаимоотношения Ивана IV и митрополита Филиппа: митрополит для Карсавина, «конечно, мученик, но царь тоже прав».
Неоднозначность этой позиции подводит нас к важному сюжету – «непредрешенчеству» евразийцев. Сегодня уже звучала мысль, что
75
формулировки почти дословно вошли в манифест «Евразийство. Опыт систематического изложения», вышедший в 1926 году. В процессе дискуссии долго обсуждалось, публиковать ли текст статьи Карсавина в форме общеевразийского манифеста, или же он должен выйти за подписью автора. Таким образом, представление о статусе этой статьи несколько раз менялось в течение обсуждения.
Основной темой статьи Карсавина является отношение Церкви и государства. Поэтому я начну с формулировок, отражающих то, каким образом автор видел эту проблему применительно к современной для него политической ситуации, а затем попытаюсь проанализировать его теоретические рассуждения.
Отношение Карсавина и к монархии, и к советскому строю неоднозначно. С одной стороны, автор в принципе симпатизирует монархии, пишет, что это, возможно, наиболее оптимальный для России режим. При этом неприятие Карсавина вызывает то, что монархия в ее российско-имперском изводе была связана с подчинением Церкви государству. Государство делало Церковь инструментом своей политики, что, по Карсавину, недопустимо. Схожие убеждения можно найти и у Н.С. Трубецкого. С другой стороны, отношение к утверждающемуся в России социализму у Карсавина также неоднозначно. Будучи православным философом, Карсавин не мог принять полностью новый строй, в частности, из-за гонений на Церковь. При этом у него есть определенная готовность, связанная, возможно, с тем, что в свое время В.В.Зеньковский назвал «христианским натурализмом», считать этот новый порядок тоже религиозным в своем основании. Примером может быть одна из заглавных формулировок статьи, во многом и спровоцировавшая дискуссию: мы всегда знаем, где Церковь есть, но не всегда знаем, где ее нет. Эта фраза подразумевает, что в каких-то проявлениях советского строя также можно найти религиозный смысл. Кроме того, Карсавин рад, что в нынешней ситуации религия в СССР не является предметом политиканства, политических манипуляций что, напротив, характеризует эмигрантский контекст. Эти манипуляции вызывают его негодование, и Карсавин полемически заостряет свои рассуждения против идей привлечения Церкви к обоснованию «крестового похода против Советов», к восстановлению прежнего монархического порядка. Еще один спорный пример, который приводит Карсавин, – взаимоотношения Ивана IV и митрополита Филиппа: митрополит для Карсавина, «конечно, мученик, но царь тоже прав».
Неоднозначность этой позиции подводит нас к важному сюжету – «непредрешенчеству» евразийцев. Сегодня уже звучала мысль, что
76
евразийцы скорее склонялись к тому, что невозможно однозначно сказать, какой политический строй будет на территории современной России. Для них принципиально важным моментом было то, что происходящее на территории России имеет какое-то свое историческое оправдание, историческую справедливость и т.д. Интересно, каким образом эта установка соотносится с тем, как Карсавин описывает взаимоотношения между Церковью и государством. Здесь автор исходит из двух принципиально противоположных формулировок. С одной стороны, мир и государство (как часть этого мирского порядка) есть становящаяся Церковь. С другой стороны, в отличие от Церкви государство всегда принадлежит к порядку греховного, эмпирического мира – государство в этом смысле всегда есть нечто ограниченное. Последний тезис интересен в свете обсуждавшейся сегодня проблемы монархии, ведь монархия – религиозно обоснованный порядок. Однако, по Карсавину, Церковь не должна оправдывать государство в его греховной сущности. Функции Церкви заключаются в том, чтобы, будучи автономной по отношению к государству, указывать на ошибки, неправильные поступки, которые совершают государственные деятели. Но при этом Церковь не может предписывать государству конкретных шагов, не имеет возможности указывать, как ему действовать. Она сама в этом смысле ограничена своим мирским горизонтом и не знает, как должно быть. Если речь идет о битве, Церковь не должна ее оправдывать. Мы же не знаем, подчеркивает Карсавин, что нужно этому государству: победа или поражение. Никаких предписаний от Церкви исходить не может. Церковь в этом смысле является таким институтом, который осуществляет моральную функцию, а государство пытается действовать в эмпирических, греховных рамках.
Работа Карсавина является одним из первых опытов развития евразийской теории личности и систематического введения этой проблематики в евразийскую идеологию. Значимость ее определяется, по крайней мере, двумя моментами. Во-первых, Карсавин дает интерпретацию отношений человека и Бога с точки зрения личности, поскольку это часть его философской концепции. Во-вторых, он строит теорию «многонародных» симфонических личностей, которая как раз и позволяет обосновать, то, как должны строиться отношения Церкви и государства. В принципе она позволяет обосновать религиозную природу общества. Этот сюжет – тема личности – мне представляется важным для дальнейшего развития евразийских концепций. Если мы посмотрим на введение к работе Трубецкого «К
76
евразийцы скорее склонялись к тому, что невозможно однозначно сказать, какой политический строй будет на территории современной России. Для них принципиально важным моментом было то, что происходящее на территории России имеет какое-то свое историческое оправдание, историческую справедливость и т.д. Интересно, каким образом эта установка соотносится с тем, как Карсавин описывает взаимоотношения между Церковью и государством. Здесь автор исходит из двух принципиально противоположных формулировок. С одной стороны, мир и государство (как часть этого мирского порядка) есть становящаяся Церковь. С другой стороны, в отличие от Церкви государство всегда принадлежит к порядку греховного, эмпирического мира – государство в этом смысле всегда есть нечто ограниченное. Последний тезис интересен в свете обсуждавшейся сегодня проблемы монархии, ведь монархия – религиозно обоснованный порядок. Однако, по Карсавину, Церковь не должна оправдывать государство в его греховной сущности. Функции Церкви заключаются в том, чтобы, будучи автономной по отношению к государству, указывать на ошибки, неправильные поступки, которые совершают государственные деятели. Но при этом Церковь не может предписывать государству конкретных шагов, не имеет возможности указывать, как ему действовать. Она сама в этом смысле ограничена своим мирским горизонтом и не знает, как должно быть. Если речь идет о битве, Церковь не должна ее оправдывать. Мы же не знаем, подчеркивает Карсавин, что нужно этому государству: победа или поражение. Никаких предписаний от Церкви исходить не может. Церковь в этом смысле является таким институтом, который осуществляет моральную функцию, а государство пытается действовать в эмпирических, греховных рамках.
Работа Карсавина является одним из первых опытов развития евразийской теории личности и систематического введения этой проблематики в евразийскую идеологию. Значимость ее определяется, по крайней мере, двумя моментами. Во-первых, Карсавин дает интерпретацию отношений человека и Бога с точки зрения личности, поскольку это часть его философской концепции. Во-вторых, он строит теорию «многонародных» симфонических личностей, которая как раз и позволяет обосновать, то, как должны строиться отношения Церкви и государства. В принципе она позволяет обосновать религиозную природу общества. Этот сюжет – тема личности – мне представляется важным для дальнейшего развития евразийских концепций. Если мы посмотрим на введение к работе Трубецкого «К
77
проблеме русского самопознания» (1927), то, конечно, обнаружим влияние дискуссий между Карсавиным и Трубецким. Трубецкой изначально не собирался признавать культуру личностью: он считал, что есть «индивидуальная личность», есть народ как коллективная личность, есть Божественная личность. Культура личностью не является, она есть совокупность предметов, нельзя же идентифицировать собрание сочинений Пушкина с самим Пушкиным. Карсавин убедил Трубецкого, что культуру как нечто объемлющее, как совокупность наций, народов, тоже можно считать личностью.
Таким образом, тема личности здесь развивается в двух направлениях. Я начну со второго из них, а именно с концепции иерархии социальных личностей, восходящей от небольших групп до «симфонической» личности. Карсавин показывает, как модель отношений человека и Бога может быть развернута в социальную плоскость. Здесь «систематически» разворачивается понятие личности, которое может быть включено в консервативную идеологию, поскольку отправной точкой рассуждения о личности в «Опыте систематического изложения» является переформулирование либерального понимания личности в консервативное представление. Соответственно личность оказывается не только индивидуумом, она включена вот в это «целое». Как известно, в процессе развития евразийской социальной философии обнаружились сходство с концепциями европейских консервативных мыслителей. Например, Трубецкой общается с австрийским автором Оттмаром Шпанном, обнаруживая нечто общее между его философией и евразийством.
Первая обозначенная мною линия представлена темой покаяния. Действительно, в своих рассуждениях Карсавин пытается перенести проблематику отношения личности и государства внутрь личности, показывать отношения между государством и Церковью как отношения «кающегося» и «священника». Государство как греховный субъект должно каяться, а Церковь – направлять его на путь истинный. Такой подход противостоит, в связи с упомянутой проблематикой оправдания войны, каким-то иным подходам, в частности, позиции Ивана Ильина – идеолога религиозного оправдания «крестового похода» против большевиков, защитника идей «священного меча». Однако в качестве выражения позиции евразийцев этот подход становится предметом спора между евразийцами. Здесь нужно упомянуть о том, что дискуссия «О Церкви, личности и государстве» следует за другой дискуссией – дискуссией между Трубецким и Араповым по поводу понятия «нация». Арапов хотел убрать последнее понятие из евразийской
77
проблеме русского самопознания» (1927), то, конечно, обнаружим влияние дискуссий между Карсавиным и Трубецким. Трубецкой изначально не собирался признавать культуру личностью: он считал, что есть «индивидуальная личность», есть народ как коллективная личность, есть Божественная личность. Культура личностью не является, она есть совокупность предметов, нельзя же идентифицировать собрание сочинений Пушкина с самим Пушкиным. Карсавин убедил Трубецкого, что культуру как нечто объемлющее, как совокупность наций, народов, тоже можно считать личностью.
Таким образом, тема личности здесь развивается в двух направлениях. Я начну со второго из них, а именно с концепции иерархии социальных личностей, восходящей от небольших групп до «симфонической» личности. Карсавин показывает, как модель отношений человека и Бога может быть развернута в социальную плоскость. Здесь «систематически» разворачивается понятие личности, которое может быть включено в консервативную идеологию, поскольку отправной точкой рассуждения о личности в «Опыте систематического изложения» является переформулирование либерального понимания личности в консервативное представление. Соответственно личность оказывается не только индивидуумом, она включена вот в это «целое». Как известно, в процессе развития евразийской социальной философии обнаружились сходство с концепциями европейских консервативных мыслителей. Например, Трубецкой общается с австрийским автором Оттмаром Шпанном, обнаруживая нечто общее между его философией и евразийством.
Первая обозначенная мною линия представлена темой покаяния. Действительно, в своих рассуждениях Карсавин пытается перенести проблематику отношения личности и государства внутрь личности, показывать отношения между государством и Церковью как отношения «кающегося» и «священника». Государство как греховный субъект должно каяться, а Церковь – направлять его на путь истинный. Такой подход противостоит, в связи с упомянутой проблематикой оправдания войны, каким-то иным подходам, в частности, позиции Ивана Ильина – идеолога религиозного оправдания «крестового похода» против большевиков, защитника идей «священного меча». Однако в качестве выражения позиции евразийцев этот подход становится предметом спора между евразийцами. Здесь нужно упомянуть о том, что дискуссия «О Церкви, личности и государстве» следует за другой дискуссией – дискуссией между Трубецким и Араповым по поводу понятия «нация». Арапов хотел убрать последнее понятие из евразийской
78
идеологии в пользу понятия государства, а Трубецкой, наоборот,критиковал попытки вывести на первый план понятие государства. В целом понятно, что Арапов здесь прежде всего руководствовался задачами перевода евразийства в политическую организацию.
На первом этапе дискуссии «О Церкви, личности и государстве» Карсавин обосновывает то, что государство, несмотря на все указанные рассуждения, может быть включено в эту теорию личности и быть признано формой личного бытия. Карсавин настаивает на значимости государства, на том, что в этой дискуссии прав все-таки Арапов. Но затем к концу дискуссии оказывается, что Карсавин больше сближается с Трубецким и больше расходится с Араповым и Петром Малевским-Малевичем – представителями офицерской когорты в евразийстве, обеспечивавшей практическую составляющую евразийской работы в целом. И когда текст уже был в относительно готовом состоянии, когда большинство евразийцев с ним согласилось, оказалось, что Арапова и Малевского-Малевича он не устраивал. Не устраивал по той причине, что в нем государство называется принципиально греховным, освящение воинского дела запрещается, не допускается религиозное оправдание войны. Однако благодаря поддержке основателей евразийства Карсавину свою позицию все же удалось отстоять.
Этот итог интересен следующим моментом. Евразийцев традиционно критикуют за нивелирование индивидуального начала, подчинение индивида коллективным личностям, но, оказывается, по этому поводу в евразийстве не только существовали различные позиции – это показывает Мартин Байссвенгер в своей статье, посвященной этому сюжету. В разных контекстах тема личности у евразийцев приобретала разное звучание. Это было связано с неоднородностью текстов и тех идей, которые в них высказывались. То, что в одном контексте имело тенденцию к утверждению приоритета государства и подчиненного положения индивидуальной личности, в другом – связывалось с постановкой этических проблем, эстетической рефлексией, меняя свое значение. Последний контекст сближал Карсавина, которого часто обвиняют в пренебрежении к индивидуальной личности, и Трубецкого, для которого такая позиция была не характерна.
Тем не менее, в целом можно сказать, что работа Карсавина «О Церкви, личности и государстве» сыграла большую роль, ведь в середине 1920-х гг. теория личности становится одной из основополагающих, базовых теорий в евразийской идеологии. В
78
идеологии в пользу понятия государства, а Трубецкой, наоборот,критиковал попытки вывести на первый план понятие государства. В целом понятно, что Арапов здесь прежде всего руководствовался задачами перевода евразийства в политическую организацию.
На первом этапе дискуссии «О Церкви, личности и государстве» Карсавин обосновывает то, что государство, несмотря на все указанные рассуждения, может быть включено в эту теорию личности и быть признано формой личного бытия. Карсавин настаивает на значимости государства, на том, что в этой дискуссии прав все-таки Арапов. Но затем к концу дискуссии оказывается, что Карсавин больше сближается с Трубецким и больше расходится с Араповым и Петром Малевским-Малевичем – представителями офицерской когорты в евразийстве, обеспечивавшей практическую составляющую евразийской работы в целом. И когда текст уже был в относительно готовом состоянии, когда большинство евразийцев с ним согласилось, оказалось, что Арапова и Малевского-Малевича он не устраивал. Не устраивал по той причине, что в нем государство называется принципиально греховным, освящение воинского дела запрещается, не допускается религиозное оправдание войны. Однако благодаря поддержке основателей евразийства Карсавину свою позицию все же удалось отстоять.
Этот итог интересен следующим моментом. Евразийцев традиционно критикуют за нивелирование индивидуального начала, подчинение индивида коллективным личностям, но, оказывается, по этому поводу в евразийстве не только существовали различные позиции – это показывает Мартин Байссвенгер в своей статье, посвященной этому сюжету. В разных контекстах тема личности у евразийцев приобретала разное звучание. Это было связано с неоднородностью текстов и тех идей, которые в них высказывались. То, что в одном контексте имело тенденцию к утверждению приоритета государства и подчиненного положения индивидуальной личности, в другом – связывалось с постановкой этических проблем, эстетической рефлексией, меняя свое значение. Последний контекст сближал Карсавина, которого часто обвиняют в пренебрежении к индивидуальной личности, и Трубецкого, для которого такая позиция была не характерна.
Тем не менее, в целом можно сказать, что работа Карсавина «О Церкви, личности и государстве» сыграла большую роль, ведь в середине 1920-х гг. теория личности становится одной из основополагающих, базовых теорий в евразийской идеологии. В
79
каком-то смысле она придает целостность евразийскому проекту. Спасибо!
Р.Р. Вахитов: Хотел бы уточнить, насколько я понимаю, Трубецкой все же не согласился с тем, что государство – это личность?
Б.Е. Степанов: Критика Трубецкого отчасти была основана на недоразумении. Карсавин в «Церкви, личности и государстве» этого однозначно не утверждал. Но то, что он настойчиво и последовательно эволюционировал в сторону отождествления культуры и государства, очевидно. В этом смысле, если мы посмотрим на то, как представлена концепция личности у Трубецкого в предисловии к «К проблемам русского самопознания», то заметим, что там, конечно, этого момента, связанного с государством, нет. Эта концепция там представлена скорее в таком общетеоретическом, абстрактном плане. В этом смысле она выведена за пределы тех напряжений, которые мы обнаруживаем внутри дискуссии. Точно так же и с идеологическими манифестами. Они представляют собой результат определенной эволюции, поскольку моральная составляющая из них уходит.
Б.В. Назмутдинов: Мне интересно другое наблюдение. В статье «Государство и кризис демократии», написанной уже в 1934 г., то есть после отхода от евразийства, Карсавин все-таки говорит, что государство есть личность, причем там упомянуты как личности «сейм», «сословия» и «государство».
Б.Е. Степанов: Нет ничего невозможного в том, чтобы какой-то дрейф здесь произошел и вышел за пределы обозначенных мною рамок. Хотя, с другой стороны, у Трубецкого есть в ряде текстов неоднозначные формулировки, но он все-таки отрицает, что государство есть личность.
А.А. Сафонов: Может быть, я не очень хорошо знаю некоторые исходные позиции евразийства, но откуда появляется связь православного богословия и интерпретации греховности государства? До настоящего времени я считал, что в православной трактовке государство предстает институтом, который должен сдерживать греховность человеческого существа. Государство создается для того, чтобы ограничить наиболее глубинные проявления сатанинской энергии, которая изначально включена в человека. Откуда возникает идея о греховности государства?
Б.Е. Степанов: Спасибо за вопрос. У Карсавина это связано с тем, что для него государство становится предметом рефлексии на втором этапе формирования философии. Первоначально для него
79
каком-то смысле она придает целостность евразийскому проекту. Спасибо!
Р.Р. Вахитов: Хотел бы уточнить, насколько я понимаю, Трубецкой все же не согласился с тем, что государство – это личность?
Б.Е. Степанов: Критика Трубецкого отчасти была основана на недоразумении. Карсавин в «Церкви, личности и государстве» этого однозначно не утверждал. Но то, что он настойчиво и последовательно эволюционировал в сторону отождествления культуры и государства, очевидно. В этом смысле, если мы посмотрим на то, как представлена концепция личности у Трубецкого в предисловии к «К проблемам русского самопознания», то заметим, что там, конечно, этого момента, связанного с государством, нет. Эта концепция там представлена скорее в таком общетеоретическом, абстрактном плане. В этом смысле она выведена за пределы тех напряжений, которые мы обнаруживаем внутри дискуссии. Точно так же и с идеологическими манифестами. Они представляют собой результат определенной эволюции, поскольку моральная составляющая из них уходит.
Б.В. Назмутдинов: Мне интересно другое наблюдение. В статье «Государство и кризис демократии», написанной уже в 1934 г., то есть после отхода от евразийства, Карсавин все-таки говорит, что государство есть личность, причем там упомянуты как личности «сейм», «сословия» и «государство».
Б.Е. Степанов: Нет ничего невозможного в том, чтобы какой-то дрейф здесь произошел и вышел за пределы обозначенных мною рамок. Хотя, с другой стороны, у Трубецкого есть в ряде текстов неоднозначные формулировки, но он все-таки отрицает, что государство есть личность.
А.А. Сафонов: Может быть, я не очень хорошо знаю некоторые исходные позиции евразийства, но откуда появляется связь православного богословия и интерпретации греховности государства? До настоящего времени я считал, что в православной трактовке государство предстает институтом, который должен сдерживать греховность человеческого существа. Государство создается для того, чтобы ограничить наиболее глубинные проявления сатанинской энергии, которая изначально включена в человека. Откуда возникает идея о греховности государства?
Б.Е. Степанов: Спасибо за вопрос. У Карсавина это связано с тем, что для него государство становится предметом рефлексии на втором этапе формирования философии. Первоначально для него
80
важно отношение между эмпирическим бытием и надэмпирическим божественным миром. Это видно в данной статье, где сначала он говорил о том, как человек соотносится с Богом, а потом уже пытается спроецировать эту модель…
А.А. Сафонов: Нет, я просто имею в виду, что эта идея взята не из православного богословия. Каков в таком случае ее источник?
Р.Р. Вахитов: По-моему, эта идея восходит к философии политики Блаженного Августина. Он считал, что государство – инструмент властный, а власть сама по себе греховна, поскольку держится на насилии.
М. Байссвенгер: Я бы скорее иначе спросил. А почему государство является таким? Откуда святость государства?
А.А. Сафонов: То есть изначальный источник этих взглядов – католическая концепция государства?
Б.В. Назмутдинов: Жаль, что уже ушел Владимир Игоревич Карпец, я думаю, он бы дал здесь развернутое толкование. Александр Николаевич Дмитриев, пожалуйста, Вам слово. Доклад «Евразийство и сменовеховство».
А.Н. Дмитриев: У меня последняя реплика, может быть, даже эпилог дискуссии. В отличие от большей части выступающих я придерживаюсь скептического взгляда по отношению к евразийству, рассматриваю его со стороны своих основных сюжетов. В этом смысле хотел бы ввести в нашу дискуссию в определенные берега. Иначе разговор сводится к тому, что евразийство – ключ ко всему, на все в нем найдется некий отклик, в нем – реализация каких-то скрытых потенций гуманитарных наук, теория монархической власти, адекватный ответ на все вызовы межвоенной эпохи и так далее. Здесь мне близок тот историко-научный подход, в частности, позиция коллеги Байссвенгера, который сегодня уже был заявлен. Мой интерес к евразийству – чисто историко-идеологический, он не касается каких-то попыток возродить евразийство, прибавить к нему приставку «нео-», от чего-то очистить, что-то к нему добавить. Он касается в основном проблематики и сюжетов, связанных с нэповской в частности и вообще пореволюционной Россией 1920-1930-х гг.
Взгляд со стороны сменовеховцев представляется мне таким полезным антидотом от «самоозеркаливания» через евразийство, которого на самом деле трудно избежать тем, кто занимается любимым предметом. В этом смысле диалог за нашим столом типологически мне напомнил одну конференцию в честь юбилея VII Конгресса Коминтерна, которую проводили несколько лет назад в РГАСПИ. Там собрались старые советские коминтерноведы и
80
важно отношение между эмпирическим бытием и надэмпирическим божественным миром. Это видно в данной статье, где сначала он говорил о том, как человек соотносится с Богом, а потом уже пытается спроецировать эту модель…
А.А. Сафонов: Нет, я просто имею в виду, что эта идея взята не из православного богословия. Каков в таком случае ее источник?
Р.Р. Вахитов: По-моему, эта идея восходит к философии политики Блаженного Августина. Он считал, что государство – инструмент властный, а власть сама по себе греховна, поскольку держится на насилии.
М. Байссвенгер: Я бы скорее иначе спросил. А почему государство является таким? Откуда святость государства?
А.А. Сафонов: То есть изначальный источник этих взглядов – католическая концепция государства?
Б.В. Назмутдинов: Жаль, что уже ушел Владимир Игоревич Карпец, я думаю, он бы дал здесь развернутое толкование. Александр Николаевич Дмитриев, пожалуйста, Вам слово. Доклад «Евразийство и сменовеховство».
А.Н. Дмитриев: У меня последняя реплика, может быть, даже эпилог дискуссии. В отличие от большей части выступающих я придерживаюсь скептического взгляда по отношению к евразийству, рассматриваю его со стороны своих основных сюжетов. В этом смысле хотел бы ввести в нашу дискуссию в определенные берега. Иначе разговор сводится к тому, что евразийство – ключ ко всему, на все в нем найдется некий отклик, в нем – реализация каких-то скрытых потенций гуманитарных наук, теория монархической власти, адекватный ответ на все вызовы межвоенной эпохи и так далее. Здесь мне близок тот историко-научный подход, в частности, позиция коллеги Байссвенгера, который сегодня уже был заявлен. Мой интерес к евразийству – чисто историко-идеологический, он не касается каких-то попыток возродить евразийство, прибавить к нему приставку «нео-», от чего-то очистить, что-то к нему добавить. Он касается в основном проблематики и сюжетов, связанных с нэповской в частности и вообще пореволюционной Россией 1920-1930-х гг.
Взгляд со стороны сменовеховцев представляется мне таким полезным антидотом от «самоозеркаливания» через евразийство, которого на самом деле трудно избежать тем, кто занимается любимым предметом. В этом смысле диалог за нашим столом типологически мне напомнил одну конференцию в честь юбилея VII Конгресса Коминтерна, которую проводили несколько лет назад в РГАСПИ. Там собрались старые советские коминтерноведы и
81
западные «левые» исследователи. И там также витала такая идея: наш объект изучения, с одной стороны, вроде бы давно кончился, а зато с другой стороны нынешний альтерглобализм и т.д. Так вот моя позиция: оставаться только историком, не искать в своей теме никаких других сторон, не пытаться реактуализировать его, поддаваясь новому «евразийскому соблазну».
Итак, взгляд со стороны сменовеховцев. Сменовеховству не повезло, его историческое бытие отсчитывают первой половиной 1920-х гг. – разговорами о Каноссе, «смене вех», попытках новой интеллигенции приспособиться к советской власти. В то же время вклад сменовеховцев очень часто отождествляют, и по праву, с деятельностью Николая Устрялова, который до возвращения в СССР в 1934 г. был в каком-то смысле зеркалом евразийства. При этом стоит обратить внимание, что во внутриевразийской переписке середины и второй половины 1920-х годов Устрялов выступал тем, в кого нельзя превратиться («а то станем, как Устрялов»), и в этом смысле его параллельный взгляд на евразийство тоже может быть интересен.
Нередко взгляды самого Устрялова сближают с «левым евразийством», причем это относится к периоду еще до появления Кламарской группы. В частично опубликованной переписке Устрялова с евразийцами – в первую очередь, с Сувчинским – можно говорить об определенной попытке союзничества, перекличек, но с очень сильным добавлением характерного секулярного момента. Каждый раз Устрялов, воспринимая тот или иной тезис евразийцев, пытался перенести их на то, что ему казалось более конкретной историко-политической почвой. Я бы отметил, что знаменитый термидорианский тезис Устрялова, пик дискуссии вокруг сменовеховской проблематики – примерно в 1925-1926 гг., когда это перекинулось на оппозиционную борьбу внутри ВКП(б) – тоже был скорее репродукцией тенденций и споров о «Великой России» 1910-х гг., чем абсолютно новым обсуждением революционной проблематики или, если говорить о «левом евразийстве», попыток Сувчинского синтезировать идеи Федорова и Маркса на фоне неприятия римско-католического Запада и т.д.
Устрялов в своей переписке с Сувчинским, пытаясь полемизировать с главными евразийскими тезисами, говорит о своей собственной закваске струвизма, которая в нем сильна и которая не позволяет принять негативного отношения евразийцев к петербургскому периоду русской истории. Устрялов видит Ленина наследником Пестеля, Петра I и пытается встроить его в общую российскую традицию, которую он начинает с IX в., не отбрасывая
81
западные «левые» исследователи. И там также витала такая идея: наш объект изучения, с одной стороны, вроде бы давно кончился, а зато с другой стороны нынешний альтерглобализм и т.д. Так вот моя позиция: оставаться только историком, не искать в своей теме никаких других сторон, не пытаться реактуализировать его, поддаваясь новому «евразийскому соблазну».
Итак, взгляд со стороны сменовеховцев. Сменовеховству не повезло, его историческое бытие отсчитывают первой половиной 1920-х гг. – разговорами о Каноссе, «смене вех», попытках новой интеллигенции приспособиться к советской власти. В то же время вклад сменовеховцев очень часто отождествляют, и по праву, с деятельностью Николая Устрялова, который до возвращения в СССР в 1934 г. был в каком-то смысле зеркалом евразийства. При этом стоит обратить внимание, что во внутриевразийской переписке середины и второй половины 1920-х годов Устрялов выступал тем, в кого нельзя превратиться («а то станем, как Устрялов»), и в этом смысле его параллельный взгляд на евразийство тоже может быть интересен.
Нередко взгляды самого Устрялова сближают с «левым евразийством», причем это относится к периоду еще до появления Кламарской группы. В частично опубликованной переписке Устрялова с евразийцами – в первую очередь, с Сувчинским – можно говорить об определенной попытке союзничества, перекличек, но с очень сильным добавлением характерного секулярного момента. Каждый раз Устрялов, воспринимая тот или иной тезис евразийцев, пытался перенести их на то, что ему казалось более конкретной историко-политической почвой. Я бы отметил, что знаменитый термидорианский тезис Устрялова, пик дискуссии вокруг сменовеховской проблематики – примерно в 1925-1926 гг., когда это перекинулось на оппозиционную борьбу внутри ВКП(б) – тоже был скорее репродукцией тенденций и споров о «Великой России» 1910-х гг., чем абсолютно новым обсуждением революционной проблематики или, если говорить о «левом евразийстве», попыток Сувчинского синтезировать идеи Федорова и Маркса на фоне неприятия римско-католического Запада и т.д.
Устрялов в своей переписке с Сувчинским, пытаясь полемизировать с главными евразийскими тезисами, говорит о своей собственной закваске струвизма, которая в нем сильна и которая не позволяет принять негативного отношения евразийцев к петербургскому периоду русской истории. Устрялов видит Ленина наследником Пестеля, Петра I и пытается встроить его в общую российскую традицию, которую он начинает с IX в., не отбрасывая
82
при этом государственнических, модерных традиций ни XVIII, ни XIX столетий. Другим пунктом сравнения и сопоставления может быть поколенческий фактор – близость Устрялова к определенным кругам евразийцев в их неприятии неославянофильства или неоромантизма Бердяева. Хотя какие-то попытки Устрялова сблизиться с Бердяевым и близким ему кругом мыслителей в начале 1920-х гг. все же были – через Братство Святой Софии.
В начале 1930 гг. Устрялов, оставшийся генералом без армии, в его переписке с Г. Диким говорит о евразийстве достаточно пренебрежительно, именуя евразийские проекции «историософскими» чертежами, не имеющими к реальной истории никакого отношения и, более того, считает, что вожди этого течения впали в некую «ридикюльность». Негативное отношение Трубецкого к Устрялову во многом определило и обратное, довольно сдержанное, отношение Устрялова к евразийству.
Говоря о евразийстве в более широком историческом контексте, я бы хотел обратить особое внимание на «левое сменовеховство», о котором довольно мало известно и мало сказано, меж тем как это было едва ли не единственное разрешенное, полуоппозиционное политическое течение в нэповской России, хотя и свернутое уже к середине 1920-х гг. Нужно уделить больше внимания периоду между 1922-м и 1926 гг., когда издавался журнал «Новая Россия» (затем – «Россия») Исая Лежнева, когда Устрялов почти безо всяких цензурных ограничений публиковал свои историософские заметки и в отличие от Савицкого легально приезжал в СССР. Этому контексту нужно уделять больше внимание при рассмотрении тупиков и перекрестков пореволюционных идей 1920-х гг. Наряду с журналистикой, примерно пятнадцатью номерами «России» или «Новой России», также стоит обратить внимание, говоря о евразийских концепциях «демотии», «правящего отбора», переводя их в контекст нэповской России, на публикации Владимира Тан-Богораза и его учеников в середине 1920-х гг.
Тан-Богораз успел выпустить чуть ли не семь выпусков книг очерков о новом быте, посвященных процессам того времени, которые реально происходили в низах российского общества, – в первую очередь, на уровне деревни, не только русской: был издан сборник «Еврейское местечко в революции». Эти книги являли попытку отчасти журналистского, отчасти аналитического комментария, отличного от традиционного бухаринско-зиновьевского или сталинского языка, в них был дан очень живой и любопытный срез старого и нового быта. В своих работах Тан-Богораз – бывший
82
при этом государственнических, модерных традиций ни XVIII, ни XIX столетий. Другим пунктом сравнения и сопоставления может быть поколенческий фактор – близость Устрялова к определенным кругам евразийцев в их неприятии неославянофильства или неоромантизма Бердяева. Хотя какие-то попытки Устрялова сблизиться с Бердяевым и близким ему кругом мыслителей в начале 1920-х гг. все же были – через Братство Святой Софии.
В начале 1930 гг. Устрялов, оставшийся генералом без армии, в его переписке с Г. Диким говорит о евразийстве достаточно пренебрежительно, именуя евразийские проекции «историософскими» чертежами, не имеющими к реальной истории никакого отношения и, более того, считает, что вожди этого течения впали в некую «ридикюльность». Негативное отношение Трубецкого к Устрялову во многом определило и обратное, довольно сдержанное, отношение Устрялова к евразийству.
Говоря о евразийстве в более широком историческом контексте, я бы хотел обратить особое внимание на «левое сменовеховство», о котором довольно мало известно и мало сказано, меж тем как это было едва ли не единственное разрешенное, полуоппозиционное политическое течение в нэповской России, хотя и свернутое уже к середине 1920-х гг. Нужно уделить больше внимания периоду между 1922-м и 1926 гг., когда издавался журнал «Новая Россия» (затем – «Россия») Исая Лежнева, когда Устрялов почти безо всяких цензурных ограничений публиковал свои историософские заметки и в отличие от Савицкого легально приезжал в СССР. Этому контексту нужно уделять больше внимание при рассмотрении тупиков и перекрестков пореволюционных идей 1920-х гг. Наряду с журналистикой, примерно пятнадцатью номерами «России» или «Новой России», также стоит обратить внимание, говоря о евразийских концепциях «демотии», «правящего отбора», переводя их в контекст нэповской России, на публикации Владимира Тан-Богораза и его учеников в середине 1920-х гг.
Тан-Богораз успел выпустить чуть ли не семь выпусков книг очерков о новом быте, посвященных процессам того времени, которые реально происходили в низах российского общества, – в первую очередь, на уровне деревни, не только русской: был издан сборник «Еврейское местечко в революции». Эти книги являли попытку отчасти журналистского, отчасти аналитического комментария, отличного от традиционного бухаринско-зиновьевского или сталинского языка, в них был дан очень живой и любопытный срез старого и нового быта. В своих работах Тан-Богораз – бывший
83
народник, этнограф, печатавшийся на страницах «Новой России» Лежнева и официально именуемый «сменовеховцем» – анализировал процессы, происходящие с нэповским, пореволюционным обществом, избегая, конечно, политизированной терминологии, давая четкую картину жизни пореволюционной России, о которой так любили рассуждать на страницах историософской публицистики и евразийцы, и даже сам Устрялов.
Из-за недостатка времени можно сейчас лишь сказать: да, есть такие книги, на которые до сих мало кто обращает внимание (пожалуй, за исключением покойной Н.Н. Козловой). Тем более, круг людей, которые писали для Тана-Богораза, не выявлен. Любопытно: то, что Тан-Богораз называет историко-географическими экскурсиями, явно намекает на идеи краеведения 1910-1920-х гг., познания России на региональном уровне. То есть это течение, которое отвечало каким-то импульсам евразийства, но опять-таки было встроено в гораздо более широкий контекст изменений российской идеологии 1910-1920-х гг. По отношению к этой идее евразийство, сменовеховство и идеи Устрялова были только фрагментами того общего сдвига, который произошел в российской идеологии с начала 1910-х годов и Первой мировой войны, и который задал вектор развития российской идеи, в рамках которого мы должны контекстуально рассматривать евразийство.
Еще одной возможностью сопоставления евразийства с другими течениями является компаративный аспект. Я не буду сейчас рассматривать идеи Оттмара Шпанна или Карла Шмитта, отчасти это сделал Мартин Байссвенгер в своей давней статье в «воронежском сборнике», – но это как раз та идейная целина, которая ждет своего освоения.
Далее, отстаиваемый мной секулярный подход, попытка посмотреть на евразийство и сменовеховство с точки зрения социологии знания или историко-компаративного подхода истории идей, кажется мне абсолютно необходимым звеном в анализе евразийской идеологии, которое сейчас в нашей литературе практически отсутствует. Все же гораздо чаще мы можем увидеть набор разнообразных самоописаний текущей идейной проблематики с помощью евразийских понятий или рецептов (с помощью приставок «нео-», «пост-» и др.), и видим попытки как-то реактуализировать или гальванизировать нечто, оставшееся от евразийства, вместо того чтобы подвергать это течение контекстуальному историко-идейному анализу. Подобный путь социологии науки обозначился еще в начале 1920-х гг. уже у Питирима Сорокина прямо накануне его высылки из
83
народник, этнограф, печатавшийся на страницах «Новой России» Лежнева и официально именуемый «сменовеховцем» – анализировал процессы, происходящие с нэповским, пореволюционным обществом, избегая, конечно, политизированной терминологии, давая четкую картину жизни пореволюционной России, о которой так любили рассуждать на страницах историософской публицистики и евразийцы, и даже сам Устрялов.
Из-за недостатка времени можно сейчас лишь сказать: да, есть такие книги, на которые до сих мало кто обращает внимание (пожалуй, за исключением покойной Н.Н. Козловой). Тем более, круг людей, которые писали для Тана-Богораза, не выявлен. Любопытно: то, что Тан-Богораз называет историко-географическими экскурсиями, явно намекает на идеи краеведения 1910-1920-х гг., познания России на региональном уровне. То есть это течение, которое отвечало каким-то импульсам евразийства, но опять-таки было встроено в гораздо более широкий контекст изменений российской идеологии 1910-1920-х гг. По отношению к этой идее евразийство, сменовеховство и идеи Устрялова были только фрагментами того общего сдвига, который произошел в российской идеологии с начала 1910-х годов и Первой мировой войны, и который задал вектор развития российской идеи, в рамках которого мы должны контекстуально рассматривать евразийство.
Еще одной возможностью сопоставления евразийства с другими течениями является компаративный аспект. Я не буду сейчас рассматривать идеи Оттмара Шпанна или Карла Шмитта, отчасти это сделал Мартин Байссвенгер в своей давней статье в «воронежском сборнике», – но это как раз та идейная целина, которая ждет своего освоения.
Далее, отстаиваемый мной секулярный подход, попытка посмотреть на евразийство и сменовеховство с точки зрения социологии знания или историко-компаративного подхода истории идей, кажется мне абсолютно необходимым звеном в анализе евразийской идеологии, которое сейчас в нашей литературе практически отсутствует. Все же гораздо чаще мы можем увидеть набор разнообразных самоописаний текущей идейной проблематики с помощью евразийских понятий или рецептов (с помощью приставок «нео-», «пост-» и др.), и видим попытки как-то реактуализировать или гальванизировать нечто, оставшееся от евразийства, вместо того чтобы подвергать это течение контекстуальному историко-идейному анализу. Подобный путь социологии науки обозначился еще в начале 1920-х гг. уже у Питирима Сорокина прямо накануне его высылки из
84
Советской России (например, на страницах «Вестника Петроградского Дома литераторов»). Пусть и в публицистической форме, в этих публикациях появлялись попытки зафиксировать течения, чаяния, мысли пореволюционной служилой интеллигенции, частью которой были и сменовеховцы, пытавшиеся говорить от ее имени. Евразийство, конечно, имело куда больший замах: со всеми своими историософскими, религиозными инспирациями, когда они чуть позднее пытались говорить от имени будущего правящего слоя. Огрубляя: если сменовеховцы ориентировались на «спецов», служилую интеллигенцию и городских профессионалов, то вымышленный, крайне далекий от подлинного, социальный субъект евразийства в нэповской России – это, например, парафраз Тухачевского, красный офицер, принятый в ВКП(б), но который, на самом деле, в душе хотел якобы построить православное царство или Великую Русь с бóльшими ее границами.
Подводя итог моему весьма скептическому анализу евразийства со стороны сменовеховства, я бы хотел сказать еще об академическом, историко-научном аспекте дискуссии, который мы, кажется, не учитываем. Он упоминался на круглом столе, но опять-таки не стал объектом принципиального рассмотрения. Тем не менее об этом стоит сказать отдельно. Это проблема дилетантизма. Понятно, что это категория конкретно-историческая: дилетантизм в данном случае не означает просто «непрофессионализм». Нужно четко понимать, о ком, о какой социальной или интеллектуальной фигуре мы говорим, когда говорим о евразийстве как об идейном течении. Тут можно усмотреть две условные линии. Первая – еще дореволюционная, датированная 1910-ми гг., – это фигура Струве, профессионального журналиста, публициста, идеолога, на каком-то раннем повороте (о котором много пишет Модест Колеров) – убежденного революционера. Это первый пласт практики, практико-политический, связанный с политикой идей. Другой пласт – интеллектуальный. Это фигура философа, советника, эксперта – то, кем, хотел стать Савицкий, всегда остававшийся дилетантом, хотя где-то и преподававший, стремившийся к академическому признанию. Между двумя этими линиями, интеллектуально-политической и экспертно-академической, у евразийцев всегда маячит то, что отвергал Устрялов, – фигура священника, некий такой сакральный пласт. Здесь я его не рассматриваю, но мы не можем говорить о евразийстве, не учитывая этот третий, самый сокровенный, и для Трубецкого, к примеру, самый, наверное, важный пласт.
84
Советской России (например, на страницах «Вестника Петроградского Дома литераторов»). Пусть и в публицистической форме, в этих публикациях появлялись попытки зафиксировать течения, чаяния, мысли пореволюционной служилой интеллигенции, частью которой были и сменовеховцы, пытавшиеся говорить от ее имени. Евразийство, конечно, имело куда больший замах: со всеми своими историософскими, религиозными инспирациями, когда они чуть позднее пытались говорить от имени будущего правящего слоя. Огрубляя: если сменовеховцы ориентировались на «спецов», служилую интеллигенцию и городских профессионалов, то вымышленный, крайне далекий от подлинного, социальный субъект евразийства в нэповской России – это, например, парафраз Тухачевского, красный офицер, принятый в ВКП(б), но который, на самом деле, в душе хотел якобы построить православное царство или Великую Русь с бóльшими ее границами.
Подводя итог моему весьма скептическому анализу евразийства со стороны сменовеховства, я бы хотел сказать еще об академическом, историко-научном аспекте дискуссии, который мы, кажется, не учитываем. Он упоминался на круглом столе, но опять-таки не стал объектом принципиального рассмотрения. Тем не менее об этом стоит сказать отдельно. Это проблема дилетантизма. Понятно, что это категория конкретно-историческая: дилетантизм в данном случае не означает просто «непрофессионализм». Нужно четко понимать, о ком, о какой социальной или интеллектуальной фигуре мы говорим, когда говорим о евразийстве как об идейном течении. Тут можно усмотреть две условные линии. Первая – еще дореволюционная, датированная 1910-ми гг., – это фигура Струве, профессионального журналиста, публициста, идеолога, на каком-то раннем повороте (о котором много пишет Модест Колеров) – убежденного революционера. Это первый пласт практики, практико-политический, связанный с политикой идей. Другой пласт – интеллектуальный. Это фигура философа, советника, эксперта – то, кем, хотел стать Савицкий, всегда остававшийся дилетантом, хотя где-то и преподававший, стремившийся к академическому признанию. Между двумя этими линиями, интеллектуально-политической и экспертно-академической, у евразийцев всегда маячит то, что отвергал Устрялов, – фигура священника, некий такой сакральный пласт. Здесь я его не рассматриваю, но мы не можем говорить о евразийстве, не учитывая этот третий, самый сокровенный, и для Трубецкого, к примеру, самый, наверное, важный пласт.
85
И последнее: мне кажется, такой секулярный взгляд на евразийство будет полезным. Хотя это все же только самый общий набросок того, как можно было бы смотреть на евразийство со стороны, сопоставляя его с другими течениями пореволюционной мысли или сравнивая его с европейской мыслью 1920-х гг., откликающейся на тот поворот, который пережила не только Россия, но вся Европа и Америка в 1920-1930-х гг. Этот акцент на секулярный анализ евразийства, на отказ от любых попыток актуализации будет очень полезен. Иначе мы будем бесконечно продолжать разговоры наследников Коминтерна только с правой стороны – говоря об «идеократическом интернационале» и прочем, так никогда не сделав нужного шага в сторону от такого привлекательного для многих из здесь присутствующих евразийского зеркала.
Б.В. Назмутдинов: Спасибо! Вопросов Александру Николаевичу, думаю, будет много, учитывая даже такую деталь, что Александр Николаевич сидит один на стороне, противоположной другим докладчикам. Мартин Байссвенгер, пожалуйста.
М. Байссвенгер: Известно ли Вам, что Устрялов публиковался в евразийских изданиях?
А.Н. Дмитриев: Нет. Вроде бы как нет одной библиографии Устрялова, но есть несколько… Это в 1930-е гг. или, может быть, еще раньше?
М. Байссвенгер: Да, в 1930-е гг. А.Н. Дмитриев: Нет, но мне это очень интересно. Возможно,
статьи Устрялова, как и Франка, публиковавшиеся на страницах евразийских изданий, все же имели особый статус. Устрялов – это все же не Георгий Флоровский, даже не Мстислав Шахматов. Я думаю, здесь речь шла о некой трибуне. Был период какого-то сближения, который, мне кажется, приходился на 1926-1927 гг., в 1930-х гг. уже был некий разрыв. Тем более любопытны эти поздние выступления.
М. Байссвенгер: Мне кажется, что это должен быть один из итогов – смотреть, кто, где, с кем, когда. То есть в 1920-е гг. Устрялов переписывался с Сувчинским, а уже в 1930-е гг. публиковался у Савицкого.
А.Н. Дмитриев: И переписывался с Алексеевым. Есть, по-моему, рецензия Устрялова на Алексеева в юридическом журнале в Харбине, кажется.
М. Байссвенгер: Евразийцы очень часто обсуждали работы Устрялова. К сожалению, это все не опубликовано, но вот самое существенное сотрудничество, можно сказать, было как раз в 1930 гг., а не раньше. И не между Сувчинским и Устряловым, потому что эта
85
И последнее: мне кажется, такой секулярный взгляд на евразийство будет полезным. Хотя это все же только самый общий набросок того, как можно было бы смотреть на евразийство со стороны, сопоставляя его с другими течениями пореволюционной мысли или сравнивая его с европейской мыслью 1920-х гг., откликающейся на тот поворот, который пережила не только Россия, но вся Европа и Америка в 1920-1930-х гг. Этот акцент на секулярный анализ евразийства, на отказ от любых попыток актуализации будет очень полезен. Иначе мы будем бесконечно продолжать разговоры наследников Коминтерна только с правой стороны – говоря об «идеократическом интернационале» и прочем, так никогда не сделав нужного шага в сторону от такого привлекательного для многих из здесь присутствующих евразийского зеркала.
Б.В. Назмутдинов: Спасибо! Вопросов Александру Николаевичу, думаю, будет много, учитывая даже такую деталь, что Александр Николаевич сидит один на стороне, противоположной другим докладчикам. Мартин Байссвенгер, пожалуйста.
М. Байссвенгер: Известно ли Вам, что Устрялов публиковался в евразийских изданиях?
А.Н. Дмитриев: Нет. Вроде бы как нет одной библиографии Устрялова, но есть несколько… Это в 1930-е гг. или, может быть, еще раньше?
М. Байссвенгер: Да, в 1930-е гг. А.Н. Дмитриев: Нет, но мне это очень интересно. Возможно,
статьи Устрялова, как и Франка, публиковавшиеся на страницах евразийских изданий, все же имели особый статус. Устрялов – это все же не Георгий Флоровский, даже не Мстислав Шахматов. Я думаю, здесь речь шла о некой трибуне. Был период какого-то сближения, который, мне кажется, приходился на 1926-1927 гг., в 1930-х гг. уже был некий разрыв. Тем более любопытны эти поздние выступления.
М. Байссвенгер: Мне кажется, что это должен быть один из итогов – смотреть, кто, где, с кем, когда. То есть в 1920-е гг. Устрялов переписывался с Сувчинским, а уже в 1930-е гг. публиковался у Савицкого.
А.Н. Дмитриев: И переписывался с Алексеевым. Есть, по-моему, рецензия Устрялова на Алексеева в юридическом журнале в Харбине, кажется.
М. Байссвенгер: Евразийцы очень часто обсуждали работы Устрялова. К сожалению, это все не опубликовано, но вот самое существенное сотрудничество, можно сказать, было как раз в 1930 гг., а не раньше. И не между Сувчинским и Устряловым, потому что эта
86
единственная опубликованная переписка как-то скучновата, в ней нет чего-то особенного. Но дело в том – и мне было бы интересно знать Ваше мнение, – что в тот момент Устрялов уже не был никаким сменовеховцем, тогда вообще сменовехоства уже не было. И здесь очень важно различать личность Устрялова как мыслителя и сменовеховства как движения. И евразийцы – это тоже видно в переписке – очень четко это различали даже в 1920-е гг. Они говорили: сменовеховцы – это для них нечто совсем неприемлемое, а вот Устрялов – это что-то иное. Здесь, я думаю, очень важно не делать ошибку. Нужно смотреть на евразийство по принципу «как, кто, где и когда» и различать Устрялова и сменовеховцев. Это нужно учитывать, потому что, Вы тоже об этом знаете, он о готовящемся сборнике «Смена вех» (1921) ничего не знал. Составители сборника попросту взяли его работы и опубликовали их там.
А.Н. Дмитриев: Да, первым сменовеховцем был скорее Ключников.
М. Байссвенгер: Конечно! Устрялов был абсолютно далек от всего этого. Я считаю очень правильным, важным выйти за рамки «узкого» евразийства. Но вот одно смущает: очень часто говорят о том, что Савицкий положительно отзывался об Устрялове еще в 1921 году, ссылаясь на одно из писем Савицкого о национал-большевизме. Хочу обратить внимание: опубликованное письмо неправильно датировано! В опубликованной переписке это выглядит так, будто письмо написано после выхода сборника «Смена вех». Савицкий будто бы положительно относится к этому сборнику. На самом деле, римские цифры XI и IX пишутся одинаково, вот только единица то слева, то справа. И письмо написано не в ноябре, как в опубликованной версии, а в сентябре, то есть еще до выхода «Смены вех». Савицкий отзывался положительно о «сменовеховцах», не зная вообще об этом сборнике. И как только он узнал о нем, он написал письмо Струве, где высказал совсем иное мнение. Интересно также, что Савицкий и Устрялов – в той или иной мере ученики Струве, что тоже очень важно.
А.Н. Дмитриев: Большое спасибо за уточнение. Б.В. Назмутдинов: Пожалуйста, еще вопросы. Если их нет, у
меня вопрос к Александру Николаевичу. Вы говорили о методологии социологии знания, или истории идей… Что это будет за версия? Рингера или кого-то еще? Какую именно методологию Вы предлагаете? Как Вы, рассматривая евразийство секулярно и отказываясь от многих аспектов евразийства, которые здесь сегодня
86
единственная опубликованная переписка как-то скучновата, в ней нет чего-то особенного. Но дело в том – и мне было бы интересно знать Ваше мнение, – что в тот момент Устрялов уже не был никаким сменовеховцем, тогда вообще сменовехоства уже не было. И здесь очень важно различать личность Устрялова как мыслителя и сменовеховства как движения. И евразийцы – это тоже видно в переписке – очень четко это различали даже в 1920-е гг. Они говорили: сменовеховцы – это для них нечто совсем неприемлемое, а вот Устрялов – это что-то иное. Здесь, я думаю, очень важно не делать ошибку. Нужно смотреть на евразийство по принципу «как, кто, где и когда» и различать Устрялова и сменовеховцев. Это нужно учитывать, потому что, Вы тоже об этом знаете, он о готовящемся сборнике «Смена вех» (1921) ничего не знал. Составители сборника попросту взяли его работы и опубликовали их там.
А.Н. Дмитриев: Да, первым сменовеховцем был скорее Ключников.
М. Байссвенгер: Конечно! Устрялов был абсолютно далек от всего этого. Я считаю очень правильным, важным выйти за рамки «узкого» евразийства. Но вот одно смущает: очень часто говорят о том, что Савицкий положительно отзывался об Устрялове еще в 1921 году, ссылаясь на одно из писем Савицкого о национал-большевизме. Хочу обратить внимание: опубликованное письмо неправильно датировано! В опубликованной переписке это выглядит так, будто письмо написано после выхода сборника «Смена вех». Савицкий будто бы положительно относится к этому сборнику. На самом деле, римские цифры XI и IX пишутся одинаково, вот только единица то слева, то справа. И письмо написано не в ноябре, как в опубликованной версии, а в сентябре, то есть еще до выхода «Смены вех». Савицкий отзывался положительно о «сменовеховцах», не зная вообще об этом сборнике. И как только он узнал о нем, он написал письмо Струве, где высказал совсем иное мнение. Интересно также, что Савицкий и Устрялов – в той или иной мере ученики Струве, что тоже очень важно.
А.Н. Дмитриев: Большое спасибо за уточнение. Б.В. Назмутдинов: Пожалуйста, еще вопросы. Если их нет, у
меня вопрос к Александру Николаевичу. Вы говорили о методологии социологии знания, или истории идей… Что это будет за версия? Рингера или кого-то еще? Какую именно методологию Вы предлагаете? Как Вы, рассматривая евразийство секулярно и отказываясь от многих аспектов евразийства, которые здесь сегодня
87
прозвучали, попытаетесь выявить какие-то новые смыслы, в нем содержащиеся?
А.Н. Дмитриев: Конечно, Фриц Рингер – одно из приходящих в голову имен с точки зрения аналитики евразийства. Есть Бурдье, в первую очередь, или его последователи – например, Кристоф Шарль или Жизель Сапиро. Я бы упомянул работы Марлен Ларюэль (пусть источниковая база у нее небогата), недавний труд Сергея Глебова, статьи петербургского социолога Михаила Соколова. Важен анализ эмигрантской идеологии, компоненты которой сплетаются с притязаниями – гипотетическими или фактическими – нового, пореволюционного, слоя на власть. В этом смысле весь пласт отсылок к допетровскому царству, земским соборам, вся эта легитимация рассматривается только как очень «модерный» продукт, близкий к идеологии Action Francaise. Есть еще очень хорошие книги израильского историка Зеэва Штернхела, который анализировал все эти правые-левые идеологии, попытки синтеза (не обязательно «муссолиниевского») большого клубка сложных идей начала 1920-х гг., среди которых была сильна идея нового строя. Далеко не все из таких идеологов стали правыми или фашистами. У некоторых, наоборот, были потом ходы налево, к большевикам… В целом, есть инструменты анализа такого рода композитных идеологических конструкций. Если говорить об исследованиях евразийства, то мне, наверное, ближе исследования Сергея Глебова, то есть такое сложное, синтетическое – и историко-политическое, и историко-научное, академическое видение совокупности разных доктрин. Здесь, с моей точки зрения, нужна осторожность и дистанцированность. В то время как то, что я вижу в литературе, это процентов на семьдесят…
Б.В. Назмутдинов: Но ведь вопрос в том, насколько относятся все эти семьдесят процентов к тому, что здесь было сказано.
Б.Е. Степанов: По-моему, речь не шла о том, что если мы говорим о значимости религиозного компонента, то это уже религиозный подход. Нам нужны какие-то рамки и отстраняющие элементы. Когда мы, например, рассматриваем концепцию «личности» как некую попытку перевода понятий из одной идеологии в другую, то мы уже рассматриваем это определенным образом, и мы не можем относиться к этому, как к чему-то само собой разумеющемуся. Эта история не является для нас чем-то объективно существующим, а чем-то, что формируется. В той же церковной дискуссии формируется определенное представление о православии. Здесь скорее не генезис, потому что с генезисом здесь не очень понятно, хоть и имеются какие-то наиболее очевидные источники
87
прозвучали, попытаетесь выявить какие-то новые смыслы, в нем содержащиеся?
А.Н. Дмитриев: Конечно, Фриц Рингер – одно из приходящих в голову имен с точки зрения аналитики евразийства. Есть Бурдье, в первую очередь, или его последователи – например, Кристоф Шарль или Жизель Сапиро. Я бы упомянул работы Марлен Ларюэль (пусть источниковая база у нее небогата), недавний труд Сергея Глебова, статьи петербургского социолога Михаила Соколова. Важен анализ эмигрантской идеологии, компоненты которой сплетаются с притязаниями – гипотетическими или фактическими – нового, пореволюционного, слоя на власть. В этом смысле весь пласт отсылок к допетровскому царству, земским соборам, вся эта легитимация рассматривается только как очень «модерный» продукт, близкий к идеологии Action Francaise. Есть еще очень хорошие книги израильского историка Зеэва Штернхела, который анализировал все эти правые-левые идеологии, попытки синтеза (не обязательно «муссолиниевского») большого клубка сложных идей начала 1920-х гг., среди которых была сильна идея нового строя. Далеко не все из таких идеологов стали правыми или фашистами. У некоторых, наоборот, были потом ходы налево, к большевикам… В целом, есть инструменты анализа такого рода композитных идеологических конструкций. Если говорить об исследованиях евразийства, то мне, наверное, ближе исследования Сергея Глебова, то есть такое сложное, синтетическое – и историко-политическое, и историко-научное, академическое видение совокупности разных доктрин. Здесь, с моей точки зрения, нужна осторожность и дистанцированность. В то время как то, что я вижу в литературе, это процентов на семьдесят…
Б.В. Назмутдинов: Но ведь вопрос в том, насколько относятся все эти семьдесят процентов к тому, что здесь было сказано.
Б.Е. Степанов: По-моему, речь не шла о том, что если мы говорим о значимости религиозного компонента, то это уже религиозный подход. Нам нужны какие-то рамки и отстраняющие элементы. Когда мы, например, рассматриваем концепцию «личности» как некую попытку перевода понятий из одной идеологии в другую, то мы уже рассматриваем это определенным образом, и мы не можем относиться к этому, как к чему-то само собой разумеющемуся. Эта история не является для нас чем-то объективно существующим, а чем-то, что формируется. В той же церковной дискуссии формируется определенное представление о православии. Здесь скорее не генезис, потому что с генезисом здесь не очень понятно, хоть и имеются какие-то наиболее очевидные источники
88
вроде Св. Августина. Здесь, скорее, наоборот – возникает вопрос: как формируются взгляды на историю церкви с точки зрения той проблематики, которую здесь обсуждали, как отбираются какие-то идеи – старчество и т.д.?
А.Н. Дмитриев: Существует довольно богатая литература, очень разные (и апологетические, и критические) работы на тему консервативной революции в Германии, ближайшем аналоге для сопоставительного анализа с евразийством.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо! Сейчас время реплик. Есть ли невысказанное, что осталось внутри и рвется наружу? Кто-то хотел бы концептуализировать услышанное?
Б.Е. Степанов: Мне бы хотелось отметить: о чем бы здесь не говорили – о политике, праве, экономике евразийства – везде мы сталкиваемся с определенным дефицитом. В плане политики – непредрешенчество; непонятно, что это и как нужно поступать. Единой экономической концепции у евразийцев, по мнению Георгия Гловели, несмотря на наличие каких-то продуктивных идей, так и не появилось. Доклад Булата Назмутдинова был о том, что правоведы-евразийцы были, но правовая школа не состоялась. Мне кажется, это довольно любопытный симптом того, что есть какие-то сложности с переводом наследия евразийцев в реальную политическую практику. По крайней мере, попытки такого перевода вызывают некоторые вопросы и требуют напряженной рефлексии.
А.Н. Дмитриев:Я бы даже сказал, что в связи с 1920-1930-ми гг. работы о политическом содержании евразийства приобретают такой «огпушный» оттенок, что неудивительно в контексте истории «Треста», С. Эфрона и др. Вы гораздо лучше знаете исследовательскую литературу: были ли попытки посмотреть на евразийство с точки зрения политики –политики нэповской России, эмигрантской политики, как это сделал московский историк Михаил Соколов в своих трудах про крестьянские партии? Кто-то же писал про евразийство с таких позиций?
М. Байссвенгер: Я думаю, да. Есть книга Флейшмана о «Тресте». Она вполне отвечает на эти вопросы. Безусловно, евразийство могло быть только в 1920-е гг. и только в первой их половине. Потом пришли уже другие, которые особо идеями не занимались. Например, младороссы, о которых я говорил. У младороссов своей идеологии не было: если не считать «царя», все остальное они украли у евразийцев. Это даже можно посмотреть по их программе, где есть идеи «Востока», «Запада» и т.д. То же самое сделали НТСовцы – солидаристы нового поколения. Они отбросили
88
вроде Св. Августина. Здесь, скорее, наоборот – возникает вопрос: как формируются взгляды на историю церкви с точки зрения той проблематики, которую здесь обсуждали, как отбираются какие-то идеи – старчество и т.д.?
А.Н. Дмитриев: Существует довольно богатая литература, очень разные (и апологетические, и критические) работы на тему консервативной революции в Германии, ближайшем аналоге для сопоставительного анализа с евразийством.
Б.В. Назмутдинов: Большое спасибо! Сейчас время реплик. Есть ли невысказанное, что осталось внутри и рвется наружу? Кто-то хотел бы концептуализировать услышанное?
Б.Е. Степанов: Мне бы хотелось отметить: о чем бы здесь не говорили – о политике, праве, экономике евразийства – везде мы сталкиваемся с определенным дефицитом. В плане политики – непредрешенчество; непонятно, что это и как нужно поступать. Единой экономической концепции у евразийцев, по мнению Георгия Гловели, несмотря на наличие каких-то продуктивных идей, так и не появилось. Доклад Булата Назмутдинова был о том, что правоведы-евразийцы были, но правовая школа не состоялась. Мне кажется, это довольно любопытный симптом того, что есть какие-то сложности с переводом наследия евразийцев в реальную политическую практику. По крайней мере, попытки такого перевода вызывают некоторые вопросы и требуют напряженной рефлексии.
А.Н. Дмитриев:Я бы даже сказал, что в связи с 1920-1930-ми гг. работы о политическом содержании евразийства приобретают такой «огпушный» оттенок, что неудивительно в контексте истории «Треста», С. Эфрона и др. Вы гораздо лучше знаете исследовательскую литературу: были ли попытки посмотреть на евразийство с точки зрения политики –политики нэповской России, эмигрантской политики, как это сделал московский историк Михаил Соколов в своих трудах про крестьянские партии? Кто-то же писал про евразийство с таких позиций?
М. Байссвенгер: Я думаю, да. Есть книга Флейшмана о «Тресте». Она вполне отвечает на эти вопросы. Безусловно, евразийство могло быть только в 1920-е гг. и только в первой их половине. Потом пришли уже другие, которые особо идеями не занимались. Например, младороссы, о которых я говорил. У младороссов своей идеологии не было: если не считать «царя», все остальное они украли у евразийцев. Это даже можно посмотреть по их программе, где есть идеи «Востока», «Запада» и т.д. То же самое сделали НТСовцы – солидаристы нового поколения. Они отбросили
89
лишний философско-религиозный балласт. В чем-то можно сравнить отношение других течений к евразийству с ситуацией в Советском Союзев 1930-х гг. Весь идеологический балласт, всех этих бухаринцев-зиновьевцев отбросили, ведь все очень сложно для оценивания, и решили строить коммунизм.
Б.В. Назмутдинов: Александр Николаевич, возможно, Вам будет интересно. Несмотря на то, что в Праге много внимания уделялось императорскому праву дореволюционной России, там же был выпущен двухтомник «Советское право». Почти все мысли Николая Алексеева конца 1920-х гг. уже содержались в статье «Государственный строй». Статья небольшая (около ста страниц), в ней можно найти идеи «Русского народа и государства», можно найти оценки Конституции РСФСР 1918 г. Попытки построить евразийское государство и право во многом строились в оппозиции строительству Советского государства и права. Изменения евразийских проектов, в том числе и конституционных, напрямую зависят даже от того, как менялись названия советских государственных органов. Происходило отталкивание от существовавшего советского права.
М. Байссвенгер: Вы очень большое внимание обратили на это, но всегда нужно помнить, что евразийцы не забывали о том, что евразийство не только научная теория – его нужно будет рано или поздно применять. В 1930-е гг., хоть это уже и смешно было, Зинаида Шаховская с мужем раздавали какие-то евразийские листовки советским морякам в Антверпене. Смешно в чем-то, но они в это верили. Кстати, они обращали очень пристальное внимание на происходящее в СССР. В 1933 г. – и об этом здесь не упоминалось – вышел очень большой сборник на английском языке «Russia – USSR» под редакцией П.Н. Малевского-Малевича. По сути это евразийский сборник: там пишут Савицкий, Алексеев, Чхеидзе, Бромберг – все пишут. В сборнике достаточно критично, но в тоже время научно говорилось о том, что евразийцы думали о Советском Союзе того времени, как они все это рассматривали. С точки зрения компаративистики, кстати, эта работа очень интересна, потому что она стала стандартной в американской науке. Там нет ни слова о Евразии, но идеи евразийства все-таки есть.
Б.В. Назмутдинов: Есть ли еще вопросы и реплики? Если нет, я хочу поделиться своими мыслями о том, что планировалось и что получилось, что еще получится, потому что работа над материалами круглого стола не закончится сегодня, все это будет обрабатываться, будет идти обмен мнениями. Планировался круглый стол по принципу большого веера. Хотя видимой частью этого веера были
89
лишний философско-религиозный балласт. В чем-то можно сравнить отношение других течений к евразийству с ситуацией в Советском Союзев 1930-х гг. Весь идеологический балласт, всех этих бухаринцев-зиновьевцев отбросили, ведь все очень сложно для оценивания, и решили строить коммунизм.
Б.В. Назмутдинов: Александр Николаевич, возможно, Вам будет интересно. Несмотря на то, что в Праге много внимания уделялось императорскому праву дореволюционной России, там же был выпущен двухтомник «Советское право». Почти все мысли Николая Алексеева конца 1920-х гг. уже содержались в статье «Государственный строй». Статья небольшая (около ста страниц), в ней можно найти идеи «Русского народа и государства», можно найти оценки Конституции РСФСР 1918 г. Попытки построить евразийское государство и право во многом строились в оппозиции строительству Советского государства и права. Изменения евразийских проектов, в том числе и конституционных, напрямую зависят даже от того, как менялись названия советских государственных органов. Происходило отталкивание от существовавшего советского права.
М. Байссвенгер: Вы очень большое внимание обратили на это, но всегда нужно помнить, что евразийцы не забывали о том, что евразийство не только научная теория – его нужно будет рано или поздно применять. В 1930-е гг., хоть это уже и смешно было, Зинаида Шаховская с мужем раздавали какие-то евразийские листовки советским морякам в Антверпене. Смешно в чем-то, но они в это верили. Кстати, они обращали очень пристальное внимание на происходящее в СССР. В 1933 г. – и об этом здесь не упоминалось – вышел очень большой сборник на английском языке «Russia – USSR» под редакцией П.Н. Малевского-Малевича. По сути это евразийский сборник: там пишут Савицкий, Алексеев, Чхеидзе, Бромберг – все пишут. В сборнике достаточно критично, но в тоже время научно говорилось о том, что евразийцы думали о Советском Союзе того времени, как они все это рассматривали. С точки зрения компаративистики, кстати, эта работа очень интересна, потому что она стала стандартной в американской науке. Там нет ни слова о Евразии, но идеи евразийства все-таки есть.
Б.В. Назмутдинов: Есть ли еще вопросы и реплики? Если нет, я хочу поделиться своими мыслями о том, что планировалось и что получилось, что еще получится, потому что работа над материалами круглого стола не закончится сегодня, все это будет обрабатываться, будет идти обмен мнениями. Планировался круглый стол по принципу большого веера. Хотя видимой частью этого веера были
90
политико-правовые аспекты классического евразийства, было понятно по составу участников и темам докладов, что это только начало, приглашение к большой дискуссии, где обсуждение сложных тем затронет смежную проблематику. Вопрос о государстве вызовет вопрос о праве, вопрос о праве – спор о религии, спор о религии – вопрос о соотношении государства и церкви. Такое накручивание, мне кажется, было достаточно плодотворным. Сегодня если и не говорили об одном и том же, то хотя бы понятия использовали схожим образом. Я записал несколько ключевых сегодняшних тем: во-первых, это проблема религиозности евразийцев; она, на мой взгляд, обозначалась почти во всех докладах. Второй момент – так называемый «идеократический интернационал», здесь смыкаются право, государство, идеи национализма. Третий момент – «месторазвитие» Евразии, о котором говорил Г.Д. Гловели; это взгляд на то, как евразийство сегодня может превратиться в геополитическую доктрину без религиозного содержания. Это может быть интересно для современных людей: евразийство как секулярная доктрина становится для них более понятным. Четвертый момент возник в связи с докладом А.Н. Дмитриева. Большинство, мне кажется, говорило сегодня о евразийстве скорее как о чем-то живом, чем о мертвом, не только как о предмете исследования, но также как о действующих идеях, которые обозреваются в их прошлом. Таким же образом можно наблюдать идеи не глазами хирурга, оперирующего скальпелем, а глазами взрослого, который смотрит на растущего ребенка. Мне показалось, что здесь сталкиваются два подхода: либо мы смотрим на это, как на экспонат, либо как на что-то, что может быть реализовано. Мне кажется, здесь нельзя говорить о евразийстве как о живом или о мертвом, нужно сочетать оба этих подхода. Если говорить о евразийстве лишь ретроспективно, как о том, что было и кончилось, мы не увидим очень важных деталей. Александр Николаевич говорит о работе Глебова, которая мне не очень нравится как раз из-за отсутствия – может быть, это ненаучный термин – «вживания». Глебов пишет о Савицком как о человеке, живущем в соседней комнате, но при этом у него нет сочувствования, вживания в этого Савицкого, о понимании тех вещей, которые непонятны без учета личности…
М. Байссвенгер: По поводу «вчувствования» – лучше не надо. Я написал о Савицком диссертацию: два тома, восемьсот страниц. Я вчувствовался до той степени, что знал его лучше, чем его собственные дети и родители.
90
политико-правовые аспекты классического евразийства, было понятно по составу участников и темам докладов, что это только начало, приглашение к большой дискуссии, где обсуждение сложных тем затронет смежную проблематику. Вопрос о государстве вызовет вопрос о праве, вопрос о праве – спор о религии, спор о религии – вопрос о соотношении государства и церкви. Такое накручивание, мне кажется, было достаточно плодотворным. Сегодня если и не говорили об одном и том же, то хотя бы понятия использовали схожим образом. Я записал несколько ключевых сегодняшних тем: во-первых, это проблема религиозности евразийцев; она, на мой взгляд, обозначалась почти во всех докладах. Второй момент – так называемый «идеократический интернационал», здесь смыкаются право, государство, идеи национализма. Третий момент – «месторазвитие» Евразии, о котором говорил Г.Д. Гловели; это взгляд на то, как евразийство сегодня может превратиться в геополитическую доктрину без религиозного содержания. Это может быть интересно для современных людей: евразийство как секулярная доктрина становится для них более понятным. Четвертый момент возник в связи с докладом А.Н. Дмитриева. Большинство, мне кажется, говорило сегодня о евразийстве скорее как о чем-то живом, чем о мертвом, не только как о предмете исследования, но также как о действующих идеях, которые обозреваются в их прошлом. Таким же образом можно наблюдать идеи не глазами хирурга, оперирующего скальпелем, а глазами взрослого, который смотрит на растущего ребенка. Мне показалось, что здесь сталкиваются два подхода: либо мы смотрим на это, как на экспонат, либо как на что-то, что может быть реализовано. Мне кажется, здесь нельзя говорить о евразийстве как о живом или о мертвом, нужно сочетать оба этих подхода. Если говорить о евразийстве лишь ретроспективно, как о том, что было и кончилось, мы не увидим очень важных деталей. Александр Николаевич говорит о работе Глебова, которая мне не очень нравится как раз из-за отсутствия – может быть, это ненаучный термин – «вживания». Глебов пишет о Савицком как о человеке, живущем в соседней комнате, но при этом у него нет сочувствования, вживания в этого Савицкого, о понимании тех вещей, которые непонятны без учета личности…
М. Байссвенгер: По поводу «вчувствования» – лучше не надо. Я написал о Савицком диссертацию: два тома, восемьсот страниц. Я вчувствовался до той степени, что знал его лучше, чем его собственные дети и родители.
91
Б.В. Назмутдинов: Я говорил немного не об этом, скорее о том, что некоторые идеи непонятны без учета личности. Со своей же стороны я постараюсь, чтобы мы собрали все материалы: для собравшихся важно выявить какой-то динамический аспект развития евразийства. Сегодня были аналитические подвиги, важно дополнить их синтетическим подвигом – понять, как из разного получается нечто единое. Для меня и первое, и второе было очень важно. Я искренне благодарю вас за участие, благодарю всех, кто помогал организовать этот круглый стол. Получилось долгое и, главное, насыщенное обсуждение.
91
Б.В. Назмутдинов: Я говорил немного не об этом, скорее о том, что некоторые идеи непонятны без учета личности. Со своей же стороны я постараюсь, чтобы мы собрали все материалы: для собравшихся важно выявить какой-то динамический аспект развития евразийства. Сегодня были аналитические подвиги, важно дополнить их синтетическим подвигом – понять, как из разного получается нечто единое. Для меня и первое, и второе было очень важно. Я искренне благодарю вас за участие, благодарю всех, кто помогал организовать этот круглый стол. Получилось долгое и, главное, насыщенное обсуждение.
92
Осмысляя «Евразию»: краткий обзор дискуссии
22 ноября 2012 года на факультете права НИУ ВШЭ был проведен «круглый стол» «Политико-правовые аспекты классического евразийства», организованный кафедрой теории права и сравнительного правоведения.
В рамках данного мероприятия обсуждались политико-правовые аспекты классического евразийства. Участников встречи волновали вопросы восприятия идей, настроений, интенций этого течения мысли, возникшего в начале 1920-х гг. и утверждавшего уникальность России как «мира в себе». «Глубинность» и неочевидность выносимых на дискуссию научных проблем способствовала привлечению специалистов различного профиля – юристов В.И. Карпца и Б.В. Назмутдинова, историков М. Байссвенгера, Б.Е. Степанова и А.Н. Дмитриева, философа Р.Р. Вахитова, филолога А.Г. Гачеву, экономиста Г.Д. Гловели.
На знаковый характер круглого стола внимание участников обращалось далеко не единожды. В качестве поводов встречи провозглашались 100-летие со дня рождения неоевразийца Льва Николаевича Гумилева и 130-летний юбилей классика евразийства Льва Платоновича Карсавина. Основной причиной – накопившееся с начала 1990-х гг. критическое количество материалов и публикаций, нуждающихся в осмыслении.
Доклад за докладом, одни тезисы последовательно сменялись другими, побуждая к изучению и обсуждению новых аспектов учения, не утративших поныне ни теоретического, ни фундаментального прикладного значения.
Первым было представлено рассуждение Б.В. Назмутдинова – ведущего встречи. В основу доклада был положен основополагающий вопрос изучения евразийства как правового явления: а существовала ли в действительности «евразийская» школа права? Посредством анализа не только идей классиков евразийства (Н.Н. Алексеева, Л.П. Карсавина, В.Н. Ильина), но также институциональной организации, отношений «внутри» евразийской структуры автором были предложены дискуссионные выводы. Так, идейная солидарность евразийцев относительно взглядов на единство России-Евразии не свидетельствует об общности взглядов на природу и сущность права. Единство терминологии и локализация евразийцев (например, Русский юридический факультет города Праги) не свидетельствуют о
92
Осмысляя «Евразию»: краткий обзор дискуссии
22 ноября 2012 года на факультете права НИУ ВШЭ был проведен «круглый стол» «Политико-правовые аспекты классического евразийства», организованный кафедрой теории права и сравнительного правоведения.
В рамках данного мероприятия обсуждались политико-правовые аспекты классического евразийства. Участников встречи волновали вопросы восприятия идей, настроений, интенций этого течения мысли, возникшего в начале 1920-х гг. и утверждавшего уникальность России как «мира в себе». «Глубинность» и неочевидность выносимых на дискуссию научных проблем способствовала привлечению специалистов различного профиля – юристов В.И. Карпца и Б.В. Назмутдинова, историков М. Байссвенгера, Б.Е. Степанова и А.Н. Дмитриева, философа Р.Р. Вахитова, филолога А.Г. Гачеву, экономиста Г.Д. Гловели.
На знаковый характер круглого стола внимание участников обращалось далеко не единожды. В качестве поводов встречи провозглашались 100-летие со дня рождения неоевразийца Льва Николаевича Гумилева и 130-летний юбилей классика евразийства Льва Платоновича Карсавина. Основной причиной – накопившееся с начала 1990-х гг. критическое количество материалов и публикаций, нуждающихся в осмыслении.
Доклад за докладом, одни тезисы последовательно сменялись другими, побуждая к изучению и обсуждению новых аспектов учения, не утративших поныне ни теоретического, ни фундаментального прикладного значения.
Первым было представлено рассуждение Б.В. Назмутдинова – ведущего встречи. В основу доклада был положен основополагающий вопрос изучения евразийства как правового явления: а существовала ли в действительности «евразийская» школа права? Посредством анализа не только идей классиков евразийства (Н.Н. Алексеева, Л.П. Карсавина, В.Н. Ильина), но также институциональной организации, отношений «внутри» евразийской структуры автором были предложены дискуссионные выводы. Так, идейная солидарность евразийцев относительно взглядов на единство России-Евразии не свидетельствует об общности взглядов на природу и сущность права. Единство терминологии и локализация евразийцев (например, Русский юридический факультет города Праги) не свидетельствуют о
93
правовой сонаправленности их научных работ. Между тем, именно единение идейных и институциональных структур выступает для юристов конституирующим признаком правовой школы. Подтверждением тому – «школа свободного права» во Франции, «школа правовых реалистов» в Америке и другие.
Следующим был представлен доклад В.И. Карпца, осветившего евразийство в необычной парадигме геополитики. Основополагающей посылкой такого подхода явилось соотнесение формы государства и «месторазвития» – понятий взаимозависимых и корреспондирующих друг другу в перспективе культуры и истории, политики и географии. По мнению докладчика, евразийство не имеет прямого отношения к вопросу о том, что сейчас именуется формой государства. Данное отношение возникает в силу того, что именно территорией во многом обусловливается тип хозяйствования – последний влияет на характер управления. Большое, однородное пространство Евразии косвенно требует единой власти. Отсутствие же в доктрине евразийцев однозначного ответа на вопрос о форме правления не исключало их монархических пристрастий. Надпартийная, превалирующая над обществом природа верховной власти, которая могла быть и монархической, сочеталась у них с идеей социального представительства. Это отчасти напоминает государственное устройство дониконовской России, а именно правление Михаила Федоровича Романова, при котором часто созывались Земские соборы.
Заседание продолжило выступление М. Байссвенгера, истолковавшего политический смысл статьи П.Н. Савицкого «Что делать?» с позиций евразийской доктрины. Особое внимание автор уделил практико-политическому значению статьи для российской действительности. В частности, П.Н. Савицким были представлены попытки весьма специфическим образом соединить мысли В.И. Ленина, Н.Г. Чернышевского и В.С. Соловьева. Упоминались докладчиком и существенные возражения против такого подхода. Наконец, подчеркивалось влияние статьи на теорию евразийства – в части определения «правящего отбора» и «демотии» – понятий, лежащих в основе евразийской доктрины. Важно, что докладчик опирался не только на опубликованную статью Савицкого, но и на архивные материалы – «внутриевразийскую» полемику, выраженную в письмах П.П. Сувчинского и Н.С. Трубецкого. Благодаря этой осведомленности, М. Байссвенгер дал весьма рельефную картину политико-правовых взглядов П.Н. Савицкого, который пытался в геоэкономическом ключе выстроить новое административно-
93
правовой сонаправленности их научных работ. Между тем, именно единение идейных и институциональных структур выступает для юристов конституирующим признаком правовой школы. Подтверждением тому – «школа свободного права» во Франции, «школа правовых реалистов» в Америке и другие.
Следующим был представлен доклад В.И. Карпца, осветившего евразийство в необычной парадигме геополитики. Основополагающей посылкой такого подхода явилось соотнесение формы государства и «месторазвития» – понятий взаимозависимых и корреспондирующих друг другу в перспективе культуры и истории, политики и географии. По мнению докладчика, евразийство не имеет прямого отношения к вопросу о том, что сейчас именуется формой государства. Данное отношение возникает в силу того, что именно территорией во многом обусловливается тип хозяйствования – последний влияет на характер управления. Большое, однородное пространство Евразии косвенно требует единой власти. Отсутствие же в доктрине евразийцев однозначного ответа на вопрос о форме правления не исключало их монархических пристрастий. Надпартийная, превалирующая над обществом природа верховной власти, которая могла быть и монархической, сочеталась у них с идеей социального представительства. Это отчасти напоминает государственное устройство дониконовской России, а именно правление Михаила Федоровича Романова, при котором часто созывались Земские соборы.
Заседание продолжило выступление М. Байссвенгера, истолковавшего политический смысл статьи П.Н. Савицкого «Что делать?» с позиций евразийской доктрины. Особое внимание автор уделил практико-политическому значению статьи для российской действительности. В частности, П.Н. Савицким были представлены попытки весьма специфическим образом соединить мысли В.И. Ленина, Н.Г. Чернышевского и В.С. Соловьева. Упоминались докладчиком и существенные возражения против такого подхода. Наконец, подчеркивалось влияние статьи на теорию евразийства – в части определения «правящего отбора» и «демотии» – понятий, лежащих в основе евразийской доктрины. Важно, что докладчик опирался не только на опубликованную статью Савицкого, но и на архивные материалы – «внутриевразийскую» полемику, выраженную в письмах П.П. Сувчинского и Н.С. Трубецкого. Благодаря этой осведомленности, М. Байссвенгер дал весьма рельефную картину политико-правовых взглядов П.Н. Савицкого, который пытался в геоэкономическом ключе выстроить новое административно-
94
территориальное деление России-Евразии. Москва, по мнению евразийца, превратилась бы не в политическую, а в православную столицу. Мусульманской столицей провозглашался бы Самарканд, политическим же центром должен был стать «Евразийск», находившийся в Западной Сибири. Смелые, но утопические проекты Савицкого строились на своеобразных линиях симметрии, которые он проводил на карте Евразии.
Г.Д. Гловели в своем докладе заострил проблематику геоэкономического аспекта евразийства. Парадигма геополитики П.Н. Савицкого в его докладе рассматривалась под углом политики производительных сил, «технико-экономической конъюнктуры», характеризующей сдвиги мировой экономики. Автором был подчеркнут как вклад евразийства в развитие производительных сил России (вектор развития, постановка системы «вызов-ответ»), так и сущностные недостатки концепции (переоценка идеократии). Особо докладчик подчеркнул важность соединения государственного и частного начал в экономической сфере, на чем и настаивали евразийцы. Примат государственного или частного момента обычно приводит к наибольшей рецессии экономики, как это уже случалось во время военного коммунизма (роль государства!) или в период «великих» реформ Александра II и в начале 1990-х гг. (преимущество частных начал). Любопытно, что в отличие от предыдущих докладчиков, особо подчеркивавших религиозный аспект евразийства, Г.Д. Гловели сделал акцент на «секулярном» аспекте этого направления, который, по его мнению, в современной России более важен и злободневен, чем евразийские трактовки «власти идеи», «правящего отбора» и пр.
А.Г. Гачева в своем докладе об идеократии, напротив, особо подчеркнула важность для евразийства религиозного начала. Идеократия, или «власть организационной идеи», была весьма важным конструктом для К.А. Чхеидзе, Н.С. Трубецкого и Н.Н. Алексеева, поскольку нравственный идеал рассматривался ими критерием «правящего отбора» в евразийском государстве. Христианский идеал совести толковался авторами в качестве единственно возможного ограничителя диктатуры и произвола государственных деятелей. Докладчик наметил весьма спорную эволюцию у евразийцев: от идеократии, как концепта Н.С. Трубецкого, настаивавшего на качественном разделении культур, к «общечеловеческой» идеократии, как понятию К.А. Чхеидзе.
Одну из важных проблем современности в контексте евразийских идей в своем докладе рассмотрел Р.Р. Вахитов. Критика
94
территориальное деление России-Евразии. Москва, по мнению евразийца, превратилась бы не в политическую, а в православную столицу. Мусульманской столицей провозглашался бы Самарканд, политическим же центром должен был стать «Евразийск», находившийся в Западной Сибири. Смелые, но утопические проекты Савицкого строились на своеобразных линиях симметрии, которые он проводил на карте Евразии.
Г.Д. Гловели в своем докладе заострил проблематику геоэкономического аспекта евразийства. Парадигма геополитики П.Н. Савицкого в его докладе рассматривалась под углом политики производительных сил, «технико-экономической конъюнктуры», характеризующей сдвиги мировой экономики. Автором был подчеркнут как вклад евразийства в развитие производительных сил России (вектор развития, постановка системы «вызов-ответ»), так и сущностные недостатки концепции (переоценка идеократии). Особо докладчик подчеркнул важность соединения государственного и частного начал в экономической сфере, на чем и настаивали евразийцы. Примат государственного или частного момента обычно приводит к наибольшей рецессии экономики, как это уже случалось во время военного коммунизма (роль государства!) или в период «великих» реформ Александра II и в начале 1990-х гг. (преимущество частных начал). Любопытно, что в отличие от предыдущих докладчиков, особо подчеркивавших религиозный аспект евразийства, Г.Д. Гловели сделал акцент на «секулярном» аспекте этого направления, который, по его мнению, в современной России более важен и злободневен, чем евразийские трактовки «власти идеи», «правящего отбора» и пр.
А.Г. Гачева в своем докладе об идеократии, напротив, особо подчеркнула важность для евразийства религиозного начала. Идеократия, или «власть организационной идеи», была весьма важным конструктом для К.А. Чхеидзе, Н.С. Трубецкого и Н.Н. Алексеева, поскольку нравственный идеал рассматривался ими критерием «правящего отбора» в евразийском государстве. Христианский идеал совести толковался авторами в качестве единственно возможного ограничителя диктатуры и произвола государственных деятелей. Докладчик наметил весьма спорную эволюцию у евразийцев: от идеократии, как концепта Н.С. Трубецкого, настаивавшего на качественном разделении культур, к «общечеловеческой» идеократии, как понятию К.А. Чхеидзе.
Одну из важных проблем современности в контексте евразийских идей в своем докладе рассмотрел Р.Р. Вахитов. Критика
95
евразийцами этнического национализма отразилась в их своеобразном «онтологическом структурализме» – концепции распространения и наложения исторических, культурных, религиозных пластов, симфоническом созвучии языков, самовыражении различных народов и этносов. Структуральная концепция «единства во множестве» отразилась в представлениях о цельной Евразии. Полагая общую историческую судьбу народов в рамках языкового союза, концепция обосновывает «имперские» притязания евразийцев. Биологическое же отграничение видов заменяется здесь категорией номогенеза, плодотворной синергией комплиментарных народов.
Идейные и философские ноты продолжали звучать в рассуждении Б.Е. Степанова по поводу дискуссии «о Церкви, личности и государстве». Именно этот предмет был представлен Л.П. Карсавиным в одноименной работе, послужившей отправной точкой горячей внутриевразийской дискуссии в 1925-1927-х гг. Отграничение государственной сферы от воплощения воцерковленных идей и сугубо личного таинства покаяния послужило лейтмотивом доклада. Построенная на сопоставлении, выявлении взаимных зависимостей культурных и государственных категорий структура доклада обусловила во многом его полемичность. Так, прежде всего участники обратились к докладчику за уточнением: а тождественны ли в воззрениях классиков государство и личность? Даже за неоднозначностью толкования первичных посылок просматриваются расхождения между подходами Л.П. Карсавина и Н.С. Трубецкого. Возможность же теоретических «дрейфов» в рассуждениях каждого отдельного автора не поддается сомнению. Это справедливо и в контексте соотношения эмпирического бытия и божественного мира у Л.П. Карсавина.
В завершении встречи участниками обсуждался доклад А.Н. Дмитриева, отразивший веяния евразийских идей в критической перспективе истории – практической утилитарности будущего, образуемого, возможно, брожением этих идей. Воззрения евразийцев сопоставлялись здесь с более поздними взглядами сменовеховцев, которые для научного обозрения, в отличие от евразийцев, долгое время оставались в тени. Сущностная критика евразийского подхода была рассмотрена в докладе с точки зрения убеждений Н.В. Устрялова, отмечавшего в своих письмах «ридикюльность», несерьезность, историческую схематичность евразийских идей. Одухотворенный историко-философский подход евразийцев по практичности уступал секулярной доктрине позднего сменовеховства. В пику устроительским рассуждениям евразийского толка,
95
евразийцами этнического национализма отразилась в их своеобразном «онтологическом структурализме» – концепции распространения и наложения исторических, культурных, религиозных пластов, симфоническом созвучии языков, самовыражении различных народов и этносов. Структуральная концепция «единства во множестве» отразилась в представлениях о цельной Евразии. Полагая общую историческую судьбу народов в рамках языкового союза, концепция обосновывает «имперские» притязания евразийцев. Биологическое же отграничение видов заменяется здесь категорией номогенеза, плодотворной синергией комплиментарных народов.
Идейные и философские ноты продолжали звучать в рассуждении Б.Е. Степанова по поводу дискуссии «о Церкви, личности и государстве». Именно этот предмет был представлен Л.П. Карсавиным в одноименной работе, послужившей отправной точкой горячей внутриевразийской дискуссии в 1925-1927-х гг. Отграничение государственной сферы от воплощения воцерковленных идей и сугубо личного таинства покаяния послужило лейтмотивом доклада. Построенная на сопоставлении, выявлении взаимных зависимостей культурных и государственных категорий структура доклада обусловила во многом его полемичность. Так, прежде всего участники обратились к докладчику за уточнением: а тождественны ли в воззрениях классиков государство и личность? Даже за неоднозначностью толкования первичных посылок просматриваются расхождения между подходами Л.П. Карсавина и Н.С. Трубецкого. Возможность же теоретических «дрейфов» в рассуждениях каждого отдельного автора не поддается сомнению. Это справедливо и в контексте соотношения эмпирического бытия и божественного мира у Л.П. Карсавина.
В завершении встречи участниками обсуждался доклад А.Н. Дмитриева, отразивший веяния евразийских идей в критической перспективе истории – практической утилитарности будущего, образуемого, возможно, брожением этих идей. Воззрения евразийцев сопоставлялись здесь с более поздними взглядами сменовеховцев, которые для научного обозрения, в отличие от евразийцев, долгое время оставались в тени. Сущностная критика евразийского подхода была рассмотрена в докладе с точки зрения убеждений Н.В. Устрялова, отмечавшего в своих письмах «ридикюльность», несерьезность, историческую схематичность евразийских идей. Одухотворенный историко-философский подход евразийцев по практичности уступал секулярной доктрине позднего сменовеховства. В пику устроительским рассуждениям евразийского толка,
96
сменовеховство на практике располагало к действию в светской, советской реальности.
Подытожившая «круглый стол» ноткой скепсиса посылка доклада обусловила встречные замечания по данной тематике. К примеру, М. Байссвенгером поднимался вопрос публикаций Н.В. Устрялова в евразийских изданиях, хронологии их выхода в свет. На примере динамичности убеждений исследователя на повестку был вынесен спор о различных субъективных углах рассмотрения евразийства и сменовеховства.
Формат круглого стола в современной науке – явление удивительное и в своем роде единственное. Задача круглого стола заключалась вовсе не в поиске новых ответов. Предварительные рецепты были представлены в наработках участников еще до того, как состоялся сам «круглый стол». Основной целью дискуссии стала постановка новых вопросов на каждый из прежних ответов. Проблематика евразийства не только вновь поднимается из анналов российской истории, но играет новыми красками в декорациях современной политики.
По итогам заседания были сформулированы следующие ключевые дискуссионные «точки»: проблема религиозности евразийцев; вопрос «идеократического интернационала»; роль геополитики в евразийском учении; жизнеспособность идей евразийства, их потенциальное воплощение в будущем.
Плодотворный поиск, обнаружение новых камней преткновения служат одновременно призмой и вектором дальнейших исследований евразийства. А значит, новые размышления и доклады участников встречи ждать себя не заставят.
Георгий ТЮЛЯЕВ, студент 4-го курса
факультета права НИУ ВШЭ,участник кружка
изучения политическихи правовых идей
96
сменовеховство на практике располагало к действию в светской, советской реальности.
Подытожившая «круглый стол» ноткой скепсиса посылка доклада обусловила встречные замечания по данной тематике. К примеру, М. Байссвенгером поднимался вопрос публикаций Н.В. Устрялова в евразийских изданиях, хронологии их выхода в свет. На примере динамичности убеждений исследователя на повестку был вынесен спор о различных субъективных углах рассмотрения евразийства и сменовеховства.
Формат круглого стола в современной науке – явление удивительное и в своем роде единственное. Задача круглого стола заключалась вовсе не в поиске новых ответов. Предварительные рецепты были представлены в наработках участников еще до того, как состоялся сам «круглый стол». Основной целью дискуссии стала постановка новых вопросов на каждый из прежних ответов. Проблематика евразийства не только вновь поднимается из анналов российской истории, но играет новыми красками в декорациях современной политики.
По итогам заседания были сформулированы следующие ключевые дискуссионные «точки»: проблема религиозности евразийцев; вопрос «идеократического интернационала»; роль геополитики в евразийском учении; жизнеспособность идей евразийства, их потенциальное воплощение в будущем.
Плодотворный поиск, обнаружение новых камней преткновения служат одновременно призмой и вектором дальнейших исследований евразийства. А значит, новые размышления и доклады участников встречи ждать себя не заставят.
Георгий ТЮЛЯЕВ, студент 4-го курса
факультета права НИУ ВШЭ,участник кружка
изучения политическихи правовых идей
Научное издание
Политико-правовые аспекты классического евразийства
Материалы круглого стола: тезисы, стенограмма, обзор дискуссии
Научный редактор и составитель Б.В. Назмутдинов
Редакторы:
И.Е. Османкина,Г.С. Тюляев
Обложка Ю.С. Мышляева
Изд. лиц. ЛР №066025 от 22.07.98г. Подписано в печать 01.05.2013 г. Бумага офсетная. Формат 60х90/16. Печать цифровая. П. л. 6,06. Издательство «Современная музыка», 123100, г. Москва, Студенецкий пер., д.6.
Научное издание
Политико-правовые аспекты классического евразийства
Материалы круглого стола: тезисы, стенограмма, обзор дискуссии
Научный редактор и составитель Б.В. Назмутдинов
Редакторы:
И.Е. Османкина,Г.С. Тюляев
Обложка Ю.С. Мышляева
Изд. лиц. ЛР №066025 от 22.07.98г. Подписано в печать 01.05.2013 г. Бумага офсетная. Формат 60х90/16. Печать цифровая. П. л. 6,06. Издательство «Современная музыка», 123100, г. Москва, Студенецкий пер., д.6.