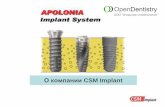Маргинальные заметки о второй главе Гухьясамаджа...
Transcript of Маргинальные заметки о второй главе Гухьясамаджа...
1
Владимир Коробов
(Вильнюсский Университет)
Маргинальные заметки о второй главе Гухьясамаджа Тантры.
Вторая глава Гухьясамаджа Тантры (далее ГТ) посвящена безусловной
бодхичитте (don dam byang chub kyi sems). Ваджрадхара и пять татхагат, возникшие
из его сердца, по очереди входят в состояние самадхи и произносят строфы,
посвященные безусловной бодхичитте.
Эти короткие строфы, и в особенности слова Вайрочаны 1 , являются
предметом комментирования индийских и тибетских ученых.
Vajradhara:
abhāve bhāvanābhāvo bhāvanā naiva bhāvanā
iti bhāve na bhāvaḥ syad bhāvanā nopalabhyate
dngos po med pas sgom pa med
bsgom par bya ba sgom pa min
de ltar dnos po dngos med pas
sgom pa dmigs su med pa’o
[Когда] отсутствуют вещи, то нет и внимания;
акт внимания перестает быть вниманием.
Таким образом, отсутствие вещей
лишает внимание предметной основы2.
1 Например, небольшая работа Камалашилы Бодхичиттабхавана и также сочинение Нагарджуны Бодхичиттавиварана. Тибетский ученый 16-го века Наванг Драгпа (Ngag dbang grags pa) на основе индийского комментария, написанного Смритиджнянакирти, составил восмичленную схему для правильного понимания слов Вайрочаны. 2 Как мы можем заметить, игра слов в санскритском тексте (bhāvā – bhāvanā) в тибетском переводе отсутствует (dngos po – sgom pa). Термины bhāvā – dngos po и bhāvanā – sgom pa обладают очень широким спектром значений. Мне представляется, что в контексте 2 главы ГТ термин bhāvā (dngos po) передает идею единичной, отдельной предметности, вещности. Термин bhāvanā (sgom pa),
2
Vairocana:
sarvabhāvavigataṃ skandhadhātv –
āyatanagrāhyagrāhakavarjitam
dharmanairātmyasamatayā svacittam
ādyanutpannaṃ śūnyatāsvabhāvam
dngos po thams cad dang bral ba
phung po khams dang skye mched dang
gzun dang ‘dzin pa rnam spangs pa
chos bdag med pa mnyams nyid pas
rang sems gdod nas ma skyes pa
stong pa nyid kyi rang bzhin no
Поскольку все дхармы лишены «Я» и единообразны, индивидуальное сознание, лишенное
всех вещей и не связанное с скандхами, дхату и аятана, [а также] не [являющееся]
познающим субъектом и свободное от познаваемого объекта, не рождается,
пустота суть его самотождественность.
Akṣobhya:
anutpannā ime bhāvā na dharmā na ca dharmatā
ākāśam iva nairātmyam idaṃ bodhinayaṃ dṛḍham
dngos po ‘di rnams ma skyes pa
chos dang chos nyid med pa ste
nam mkha’ lta bur bdag med pa
byang chub tshul ‘di brtan pa’o
который обычно переводят как «созерцание, медитация», в данном случае уместнее переводить как «внимание» или «созидающее внимание» - т.е. направленный интенциональный акт по своей форме совпадающий с отдельной единичностью (с данной вещью). Буддистский дискурс, разворачивается в таком знаковом пространстве, где, во-первых, нет возможности отделить внимание от его конкретного содержания; во-вторых, где нет возможности отделить внимание от собственно сознания (поскольку сознание начинает быть только в случае, если какой-то феномен отделен и таким образом существует в качестве определенного); в-третьих, где из самой деятельности внимания (из акта внимания) еще никак не следует, что должен существовать некий длящийся внешний мир (существует только то, что в данный момент занимает внимание, то, что «схвачено» - grāhya), и, в-четвертых, где нет необходимости полагать наличие субъекта, «я» как источника внимания (ничто в самом акте внимания не указывает на существование «я»).
3
Эти вещи не возникают,
нет ни реальности, ни дхарм.
Отсутствие «Я» подобно открытому пространству,
- в этом путь к просветлению.
Ratnaketu:
abhāvāḥ sarvadharmā dharmalakṣaṇavarjitāḥ
dharmanairātmyasaṃbhūtā idaṃ bodhinayaṃ dṛḍham
chos rnam thams cad dngos med cing
chos kyi mtshan nyid rnam par spangs
bdag med chos las kun tu byung
byang chub tshul ‘di brtan pa’o
Все дхармы не являются вещами
и лишены феноменальных признаков.
Все возникает из отсутствия индивидуальных различий,
- в этом путь к просветлению.
Amitayus:
anutpanneṣu dharmeṣu na bhāva na ca bhāvanā
ākāśapadayogena iti bhāvaḥ pragīyate
ma skyes pa yi chos rnams la
ngo bo med de sgom pa’ang med
nam mka’i tshul du sbyor ba yis
dngos po dag du rab tu bsgrags
Поскольку дхармы не возникают,
нет ни самотождественных сущностей, ни внимания,
если соединиться с открытым пространством,
то совершенное существо объявится.
4
Amoghasiddhi:
prakṛtiprabhāsvarā dharmā ādiśuddhā nabhaḥsamāḥ
na bodhir nābhisamayam idaṃ bodhinayaṃ dṛḍham
chos rnams rang bzhin ‘od gsal ba
gdod nas dag pa nam mkha’ bzhin
byang chub med cing mngon rtogs med
byang chub tshul ‘di brtan pa’o
Самосветящаяся природа дхарм,
подобно открытому пространству изначально совершенна.
Нет ни просветления, ни высшего постижения,
- в этом путь к просветлению.
Как известно, познание (совокупность различных когнитивных актов 3 )
знание вообще обладают в буддийской эпистемологии особым сотериологическим
статусом, поскольку именно посредством устранения неведения (avidyā)
достигается освобождение от страданий. Соответственно, центр тяжести всей
проблематики, связанной с доктриной освобождения в буддизме, оказывается
смещенным в сторону эпистемологии.
Обычно, когда мы говорим об устранении того, что называем «незнанием»,
«неведением», то совершенно естественно подразумеваем работу с новыми
фактами относительно интересующих нас предметов, создание новых когнитивных
моделей, выработку новых когнитивных стратегий и т.д. Понятно, что при таком
подходе мы вынуждены все время находиться в границах дискурсивных
репрезентаций, т.е. в рамках системы «наблюдатель – наблюдаемые различия»,
тогда как описания истинной реальности (tathātā) и безусловной бодхичитты в
традициях буддизма Махаяны очевидно предполагают возможность выхода за
пределы дискурсивных репрезентаций и концептуального мышления.
3 Результатом когнитивного акта будет являться любой единичный (отграниченный) феномен (запах, цвет, форма, отдельная мысль, и т.д.), занимающий наличное внимание или же этим вниманием порожденный.
5
Таким образом, буддийская эпистемология, во-первых, очень четко
обозначает свои собственные границы (т.е. границы дискурсивного знания), и, во-
вторых, в пределах этих границ (т.е. внутри самой эпистемологии) собственными
дискурсивными средствами должен быть намечен выход за пределы дискурсивных
репрезентаций.
В данной статье я попытаюсь обсудить следующие две темы, для удобства
сформулированные в виде вопросов:
1) как в буддийской эпистемологии обозначены границы дискурсивного
знания (т.е. по сути границы всякого когнитивного акта)?
2) как в рамках самого дискурсивного знания может быть представлен выход
за пределы дискурсивных репрезентаций?
Дигнага в Праманасамуччае устанавливает «нижнюю границу» для
когнитивных актов: «Невозможно, чтобы определенное было предметом
чувственного восприятия, поскольку определенное является предметом
логического вывода» (Hattori, p.191)4. Также в Праманасамуччае говорится:
«Свалакшана неопределяема (не поддается определению)» 5 . Как пишет Дан
Арнольд: «Для Дигнаги svalakṣaṇa представляют собой уникальные объекты
когнитивного акта, которым является восприятие (перцепция). Это то, с чем
перцепция сталкивается, будучи (следуя Тиллеману) «естественным образом
устроенной так, чтобы соответствовать не-дискурсивному постижению»» (Arnold,
162).
Непосредственное чувственное восприятие (pratyakṣa), будучи основной
праманой буддийской эпистемологии6, «не в состоянии самостоятельно определить
как свой объект, так и себя самое как восприятие данного объекта. Только после
того, как объект отнесен к определенной категории посредством суждения,
4 dbanpo’i blo la bstan par bya ba’i yul nyid srid pa ma yin te, bstan par bya ba ni rjes su dpag pa’i yul yin pa’i phyir yo. bstan par bya ba ma yin pa nyid la yan ‘khrul ba yod pa ma yin te…. 5 ran gi mtshan nyid bstan bya min (Pramāṇasamuccaya 2.2a). Дискуссия относительно самого термина svalakṣaṇa и его значения для буддийской эпистемологии довольно широко и детально представлена в работах современных буддологов и историков философии. Однако для данной статьи существенным является лишь то, что на уровне непосредственного восприятия (pratyakṣa) дискурсивное знание не формируется, т.е., иными словами, на этом уровне не происходит отнесения феномена к знаку (роду или виду), не происходит понимания. 6 Дигнага, Дхармакирти, Дхармоттара и вслед за ними представители новой эпистемологической традиции в Тибете (tshad ma gsar ma) признают достоверность только двух праман – непосредственного чувственного восприятия (mngon sum) и логического вывода (rjes su dpag), при этом, с одной стороны, только непосредственное чувственное восприятие (pratyakṣa) может явиться основой достоверного суждения, а, с другой, только после наложения на реальность пропозиционной «сетки», непосредственное чувственное восприятие становится и определенным и восприятием.
6
например, является голубым, чувственное восприятие приобретает собственную
определенность, например, зрительное восприятие голубого. Это как если бы
чувственное восприятие приобретало свою достоверность задним числом, после
вмешательства способности суждения» (Dreifus, p. 356). Таким образом,
чувственное восприятие в своем чистом виде лишено каких бы то ни было
пропозиционных форм и, соответственно, непроницаемо для дискурсивного
понимания. С другой стороны, совершенное (и достоверное) знание (т.е.
праджняпарамита) представлено в философии мадхъямаки как лишенное обычной
пропозиционной структуры («наблюдатель» - «наблюдаемый предмет», субъект -
предикат). В Абхисамаяаланкаре и комментаторской литературе говорится о трех
видах совершенного знания («изначального знания» – ye shes): знание всех аспектов
существующего (sarvākārajñatā), знание путей (mārgajñatā) и знание основ
(sarvajñatā).
«Непосредственное, без концептуального посредника в виде «общего образа»
(don spyi; скр. arthasāmānya) постижение пустоты дхарм от самостоятельного
существования известно как «праджняпарамита» (shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa;
скр. prajñāpāramitā), т.е. «совершенство понимания как путь». Сутры
Праджняпарамиты имеют своим содержанием (предметом) «пустоту всех дхарм», и
это – совершенство понимания как текст. «Недвойственное» (gnyis-su med-pa), т.е.
непосредственное, постижение пустоты всех дхарм представляет собой
«праджняпарамиту», т.е. совершенство понимания как результат (‘bras-bu; скр.
phala)» (Крапивина Р.Н., с. 29).
В Буддабхуми Сутре и комментариях к ней всезнание Будды представленов
виде четырех взаимодействующих между собой аспектов мудрости:
зерцалоподобная мудрость (ādarśajñanā), равностная мудрость (samatājñanā),
различающая мудрость (pratyavekṣājñanā) и действенная мудрость
(kṛtyānusthānajñanā). Эти четыре вида мудрости в свою очередь ассоциируются с
тремя телами Будды: действенная мудрость ассоциируется с «телом эманации»
(nairmāṇikakāya), различающая и равностная мудрость ассоциируется с «телом
блаженства» (sāmbhogikakāya), а зерцалоподобная мудрость – с «дхармическим» или
«сущностным» телом Будды (dharmakāya или svābhāvikakāya). Здесь следует иметь
в виду, что хотя все термины содержащие корень jña- имеют отношение к знанию,
следует различать обычные формы знания, связанные с vijñanā («перцептивным
7
распознаванием» В. Лысенко) и совершенное знание высшего порядка, которое в
традициях Махаяны называется jñanā или prajñā7.
Также как и непосредственное чувственное восприятие (pratyakṣa),
совершенное знание - jñanā/ prajñā – лишено каких бы то ни было признаков
пропозиционной когнитивности, и, соответственно, также является
непроницаемым для дискурсивного понимания.
Подобно непосредственному восприятию, совершенное знание (prajñā)
исключает из общей структуры наблюдателя, или, если рассматривать ситуацию
под другим углом, наблюдатель включен в когнитивные структуры таким образом,
что «место», откуда ведется наблюдение, располагается в каждой (отдельной) точке
гомогенного пространства присутствия (синтагмы).
Праджняпарамита как знание 8 требует определенной когнитивной и
этологической стратегии. Бодхичитта во всех своих проявлениях и есть такая
стратегия, а безусловная бодхичитта (don dam byang chub kyi sems), описанная во
второй главе ГТ, представляет собой верхнюю границу замкнутой
эпистемологической сферы9.
Именно между двумя этими полюсами, т.е. между до-дискурсивным и не
систематизированным непосредственным чувственным восприятием (pratyakṣa) и
пост-дискурсивным постижением реальности как она есть (prajñā), «располагается»
сфера, которая обрабатывается дискурсивным мышлением (т.е. сфера собственно
дискурсивного знания) так, что реальность становится «укрытой» плотной сетью
иллюзорно самотождественных «фигур», позволяющих повторять
(воспроизводить) уже обретенную очевидность.
Однако, если и существуют какие-то знаки, указывающие на возможность
«прорваться» к самой реальности, то их следует искать именно в среде этих
иллюзорных сатомождественных «фигур», т.е. в области дискурсивного знания.
7 Кроме того, как отмечает Харрис: «Нирвана и сансара не являются онтологическими терминами. Наоборот, они указывают направление к единой, онтической, непредсказуемой области, которая само по себе является основой возникновения как vijñanā, так и jñanā/ prajñā» (Harris, p. 2). 8 Как отмечает Дорже Ванчук: «В не тантрийской Махаяне такие термины как bodhi, buddha, prajñāpāramitā и madhyama pratipat предполагают наличие достоверного, не-концептуального гнозиса способного постичь истинную реальность (т.е. śūnyatā, tathatā и т.д.) и, соответственно, могут быть отождествлены с гносеологической бодхичиттой» (Wangchuk, с.199). 9 Пратьякша как постижение до пределов знания и праджняпарамита как постижение за (после) пределами знания
8
Таким образом, возникает вопрос: существует ли в самой структуре знания
элементы, предполагающие (или указывающие) наличие выхода за пределы
дискурсивных репрезентаций к реальности как таковой?
Сама возможность осуществления когнитивного акта зависит от двух
фундаментальных условий: 1) предмет познания должен быть отнесен к
познающему (к наблюдателю), экстериоризирован, т.е. он должен быть «другим»
по отношению к локусу наблюдения; 2) предмет познания должен представляться
самотождественным (rang bzhin), он должен «длиться» для того, чтобы быть
захваченным когнитивной сетью сходств и различий, т.е. быть отнесенным к
определенному (bstan par bya ba) виду, классу, категории. Только при наличии этих
двух условий становится возможным дискурсивное знание, которое можно хранить
и передавать.
Проблема «другого» каким-то образом отнесенного к локусу наблюдения
(«Я») является этической, сотериологической и эпистемологической одновременно.
Однако здесь мне хотелось бы коснуться именно эпистемологического аспекта,
поскольку, как мне представляется, именно этот аспект лежит в основе этики и
сотериологии.
По сути дела когнитивный акт возможен только в деформированном
гетерогенном пространстве, т.е. только там, где всегда есть наблюдатель,
занимающий особое привилегированное положение, существенно отличающееся от
всех возможных (внешних) наблюдаемых вещей. Таким образом, изначальная
гомогенность пространства присутствия 10 искажена несоразмерным
противопоставлением «я» и «другого». И суть здесь не столько в том, что «я» не
существует, сколько в том, что всякое «другое» - это тоже «я».
10 Неверным было бы представлять себе пространство присутствия в качестве некоего резервуара, вместилища, в которое вещи как бы «приходят», а потом «уходят». Присутствие состоит из фигур (элементов), которые подвергаются постоянным заменам. Дискретность (фигурность, «зернистость» или «мозаичность») присутствия создает своеобразное пространство (не в физическом смысле) для развертывания когнитивных схем и т.о. способствует порождению как новых смыслов, так и новых действий. Кроме того, пространство присутствия существует в модусе внимания. Дело в том, что когда нечто «схватывается» органами чувств, то это «нечто» одновременно как бы «сообщает» что-то о себе. Или, если быть совершенно точным, - «сообщает» самоё себя. И это «нечто» всегда определено уже самим «схватыванием», являясь своего рода функцией от «схватывания». Это есть то, что открыто «схватыванию» в момент «схватывания», - всегда только первый «ответ» на постоянно тем или иным образом звучащую череду вопросов «что это?», создающую возможность воспроизведения (повторения) уже обретенной очевидности.
9
Дан Ластхаус представляет такую несоразмерность следующим образом:
«Согласно буддистскому учению, наиболее глубоко укоренившейся ошибочной и
ущербной точкой зрения является признавать существование постоянного, вечного,
неразрушимого и независимого «я». Такого «я» не существует, и в глубине души
мы знаем это. Но такое знание заставляет нас беспокоиться, поскольку оно
предполагает, что никакая самоидентификация не длится вечно. Для того, чтобы
избавиться от беспокойства мы конструируем «я», заполняя каким-то содержанием
беспокоящую нас пустоту и заставляя что-то длиться. Конструирование
познаваемых объектов, которые могли бы схватываться сознанием, является одним
из инструментов конструирования «я». Если «я» может познавать вещи (идеи,
теории, материальные объекты), то значит «я существует». Если существуют
постоянные объекты, которые доступны моему познанию, значит и «я» тоже
должно быть постоянным. Если «я» может быть идентифицировано с чем-то
постоянным, то оно также должно обладать постоянной природой. Для того, чтобы
разрушить эту безысходное и ошибочное представление, йогачары говорят:
«Уберите предмет, и «я» само по себе исчезнет» (Madhyānta-vibhāga, 1:4,8)»
(Lusthaus, 1997).
Когнитивные и этологические стратегии в махаянском буддизме направлены
именно на устранение такой «деформации». Отсюда – особая этологическая
стратегия, детально разработанная в доктрине пяти «мирских» парамит. По своей
сути дана (даяние), шила (нравственная дисциплина), кшанти (приятие), вирья
(усердие) и дхьяна (сосредоточение) парамиты предполагают наличие реципиента,
т.е. того «другого11», к кому обращено действие, и представляют собой различные
методы, посредством которых конструирование «я» происходит в соответствии с
принципом «равностности» (гомогенности - mnyams nyid). Парамиты суть
различные способы воспроизводства «другого» в себе. Будучи par excellence
этическими принципами по своей форме, парамиты по содержанию основаны не
на каких-то моральных законах, но на такой деконструкции когнитивного акта,
11 Термин dngos po, который обычно переводится как «вещь», «предмет», «объект», «субстанция», в контексте второй главы ГТ было бы правильным переводить именно как «другой», «иной». Камалашила, комментируя строфы Вайрочаны, пишет в Бодхичиттабхаване: «[Понятие] «вещь» («феноменальное», dngos po) в высказывании «все вещи…» описывается в [терминах] «самости» (bdag) и понимается как [собственно] «самость», как «обыкновенное бытие» (sems can), как «[обладающее] жизненной силой (srog), как «становящееся» (gso ba), «возникшее» (skye bu), «обладающее индивидуальностью» (gang zag), «возникшее [посредством] воздействия» (shed las skyes), через «усилие» (shed bu), как «субъект действия» (byed pa po), как «претерпевающее» (tshor ba po). Однако все [перечисленное] не является истинно существующим (sems kyi rang bzhin)» (Ācārya Gyeltsen Namdol, p. 92).
10
когда постепенно (в случае с пятью «мирскими» парамитами) устраняется различие
между «я» и «другим». Что же является результатом деконструкции когнитивного
акта? Или, иначе, что остается после деконструкции когнитивного акта, когда
познание, основанное на дискурсивном мышлении, уже перестает «работать»?
Остается то, что можно было бы обозначить термином «подражание» или
«имитация» (не бесконечное приращение аналитического знания о каком-то
предмете, но воссоздание самого себя как этого предмета). Только воспроизведя
«другого» в самом себе как самого себя, можно исправить когнитивную
«деформацию», которая препятствует пониманию истинной реальности и является
причиной страдания. Т.о. все пять «мирских» парамит объединяет стремление
(намерение) выйти за свои собственные пределы, т.е. за пределы дискурсивной
картины мира.
Напряженное стремление, с которой сознание пытается «прорваться» (Сартр)
к тому, что как будто бы не является им самим12, заставляет нас предположить
наличие в интенциональных отношениях универсального основания,
обеспечивающего, с одной стороны, постоянный «интерес» сознания («приток»
сознания) к своим предметам, а, с другой, - постоянную готовность предметов быть
«данными» («отданными») сознанию.
Это стремление по сути и есть бодхичитта – интенциональная форма,
которую пять «мирских» парамит наполняют соответствующим содержанием.
Все сказанное выше относится и к шестой парамите – парамите мудрости
или «совершенного понимания» (праджняпарамита) с тем только отличием, что у
этой парамиты реципиент как таковой отсутствует.
Подражание как деятельность (практика) подразумевает, во-первых, наличие
определенных стратегий поведения по отношению к «другому». Эти стратегии
представлены пятью «мирскими» парамитами. Во-вторых, подражание
подразумевает наличие какого-то эталона, модели, прообраза, который способен
стать предметом подражания. Что может быть таким прообразом? Прообраз
(эталон имитации) задается в текстах праджняпарамитской литературы как
«пустота» (śūnyatā), поскольку «пустота» является как природой
12 Та же ситуация повторяется в языке: предметность нелингвистического невозможно проблематизировать, не прибегая к помощи лингвистических средств, более того, сам статус предметности-объекта оно получает, только попадая в языковой фокус, приобретая очертания той языковой сетки, которую на него набросят. Как безумие приходится рассматривать из перспективы разума, преступление - с позиций дозволенного, повседневное - сквозь теоретический дискурс, так и нелингвистическое обнаруживает себя только на экране языка.
11
(самотождественностью) «другого», так и природой (самотождественностью) «я».
Причем, поскольку речь идет о сфере дискурсивного знания, то «выход» к
истинной реальности возможен только через «другого»13, который в данном случае
играет роль «посредника» или, если угодно, «проводника» к истинной реальности.
В не-тантрийской Махаяне таким «посредником» является весь наличный
внешний мир, «все живые существа», иначе говоря, все «другие», всё «не-я»,
которое раскрывает свою истинную природу по мере приближения к нему
посредством этологических стратегий пяти «мирских» парамит. В тантрийской
Махаяне такими «посредниками» являются структурно проработанные и
тщательно семантически атрибутированные репрезентации «другого» - т.е. идамы,
«божества медитации», - которые также перестают быть «другими» и раскрывают
свою истинную природу в результате применения особых техник визуализации на
«этапе завершения» (rdzogs rim).
Литература:
Крапивина Р. Н. Украшение из постижений (I-III главы): Изучение пути махаяны в
Гоман-дацане тибетского монастыря Дрэпун. СПб.: Наука, 2010.
Ācārya Gyeltsen Namdol. 'phags mchog klu sgrub zhabs kyis mdzad pa'i byang chub sems 'grel
dang/ slob dpon kamalashilas mdzad pa'i byang chub kyi sems bsgom pa bcas bzhugs so/,
Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi, 1991.
Hattori Masaaki. Dignaga, On Perception, being the Pratyakṣapariccheda of Dignaga's
Pramāṇasamuccaya from the Sanskrit fragments and the Tibetan versions. Cambridge:
Harvard University Press, 1968.
Lusthaus, Dan. What is Denied in the Statement External Objects Do Not Exist? Paper
presented at the Annual Meeting of the American Academy of Religion, San Francisco,
November 21-25, 1997.
13 «Другой» является здесь знаком «пустоты».
12
Arnold, Dan. Candrakīrti on Dignāga on Svalakṣaṇas. In Journal of International
Association of Buddhist Studies, vol. 26, Number 1, pp. 139 – 175, 2003.
Wangchuk, Dorji. The Resolve to Become a Buddha. A Study of the Bodhicitta Concept in
Indo Tibetan Buddhism, Studia Philologica Buddhica 23, Tokyo: The International Institute
for Buddhist Studies of the International College for Postgraduate Buddhist Studies, 2007.
Fremantle, Francesca. A Critical Study of the Guhyasamāja Tantra, Ph.D. Thesis, University
of London, 1971.
Matsunaga, Yukei (ed.). The Guhyasamāja Tantra, Osaka: Toho Shuppan, 1978.
Harris, Ian Charles. The Continuity of Madhyamaka and Yogācāra in Indian Mahāyāna
Buddhism, Brill’s Indological Library 6, Leiden: Brill, 1991.