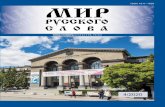Ислам и власть в Башкортостане // Россия и...
Transcript of Ислам и власть в Башкортостане // Россия и...
36
А.Б. Юнусова, директор Центра этнологических исследований Уфимского научного центра РАН, доктор исторических наук ИСЛАМ И ВЛАСТЬ В БАШКОРТОСТАНЕ Башкортостан – один из ключевых регионов России, распо-
ложенный в ее центре. Республика в самом прямом смысле отвеча-ет понятиям «полиэтничность» и «поликонфессионализм». Боль-шинство населения, однако, составляют мусульмане. В Башкорто-стане имел место тот же самый процесс возрождения ислама, кото-рый после распада Советского Союза происходил в других частях мусульманского сообщества. Отличие состоит в том, что здесь практически не наблюдалось вспышек религиозного экстремизма. Они гасились прежде всего благодаря высокому уровню толерант-ности башкортостанского общества, а также тем, что потенциаль-ные очаги радикализма отслеживались администрацией. Разумеет-ся, не все обстояло гладко. Но, тем не менее, общими усилиями стабильность как во внутри-, так и в межконфессиональных отно-шениях сохраняется до сих пор. Еще одним немаловажным обстоя-тельством, определяющим особенность ситуации с исламом в рес-публике, является то, что Уфа претендовала и претендует на особую роль в мусульманской России. Действующее здесь Цен-тральное Духовное управление мусульман считает себя прямым преемником (и наследником) существовавшего в советский период Духовного управления мусульман европейской части России и Си-бири (ДУМЕС). На этой почве внутри российского мусульманского сообщества существуют противоречия, поскольку далеко не все муфтии и имамы признают главенство Уфы. Борьба за «исламскую вертикаль власти» продолжается, то затихая, то обостряясь. Похо-же, верх одержит идея полицентрии, и в мусульманской России не сложится управленческой иерархии. Так или иначе, ситуация в Башкортостане влияет на религиозную обстановку в стране в це-лом.
Ислам – крупнейшая по числу последователей религия в Башкортостане – одном из многонациональных и поликонфессио-нальных регионов Южного Урала. По данным на 1 января 2006 г., в Республике Башкортостан действуют семь религиозных центров, 1175 религиозных объединений, относящихся к 22 конфессиям.
37
Современный ислам представлен в Башкортостане широким спек-тром религиозных общин, как зарегистрированных и неофициаль-ных, подчиняющихся двум духовным управлениям, так и незави-симых. С 1788 г. Уфа является духовным центром мусульман Рос-сии. Деятельность ЦДУМ России и европейских стран СНГ и его пребывание в Уфе всегда вызывали неоднозначную реакцию как у местных, так и у центральных властей, у духовенства и у самих ве-рующих. С появлением Башкирской автономии в 1917 г. башкир-ское мусульманское духовенство поставило вопрос о создании са-мостоятельного духовного управления и о высылке бывшего ОМДС из Уфы. Было создано Башкирское Духовное управление (БДУ), но и центральное (ЦДУМ) по-прежнему оставалось в Уфе. Вопрос о главенстве в рамках Башкирии отпал сам собой после разгрома БДУ в 1936 г., однако дух соперничества между двумя ведомствами был реанимирован в начале 90-х годов прошлого ве-ка, когда на волне суверенизации были созданы республиканское и региональные духовные управления по всей России, и в первую очередь в Башкортостане и Татарстане.
В настоящее время подведомственные ЦДУМ региональные управления функционируют почти в каждом регионе. Острота про-тивостояния между местными и центральным ведомствами про-должается и сегодня, но особенно характерна она для Башкорто-стана, поскольку именно здесь продолжает находиться ЦДУМ и его лидер Талгат Таджуддин. В 1998 г., до начала перерегистрации на основании новых (российского 1997 г. и республиканского 1998 г.) законов о свободе совести, в республике были официально зафиксированы 507 мусульманских приходов. Из них 301 находит-ся в ведении ДУМ РБ, 189 – ЦДУМ, 16 – неопределившихся и один приход официально зарегистрирован как независимый. Согласно Закону Российской Федерации 1997 г. «О свободе совести», прихо-ды, не прошедшие перерегистрацию, должны быть распущены в судебном порядке. B данное время продолжают действовать не только все прежние общины, но и появились новые: 259 мечетей зарегистрированы в составе ДУМ РБ, которое возглавляет муфтий Нурмухамет Нигматуллин, а 211 мечетей относятся к ЦДУМ Рос-сийской Федерации, председателем которого является Верховный муфтий России шейх уль-Ислам Талгат Таджуддин. В юрисдикции ЦДУМ также находятся свыше 20 муфтиев и духовных лидеров России и стран СНГ. В 2005 г. в составе ЦДУМ был создан Обще-ственный совет ЦДУМ России «в целях привлечения обществен-
38
ных организаций, деятелей культуры, науки, представителей биз-неса и других сфер деятельности общества и объединения их в деле духовно-нравственного возрождения и просвещения, сохранения межконфессионального и межнационального мира и согласия в России». Место заседания Общественного совета – г. Уфа, рези-денция верховного муфтия России. Около 20 мечетей не соотно-сятся с действующими духовными управлениями и считаются «не-зависимыми». Кроме того, в Башкортостане возродилась традиция строительства мечетей на средства благотворителей, собственных средств руководителей разного ранга, предпринимателей, артистов и пр.
«Мусульманская община» – весьма условное понятие для со-временного Башкортостана. Мечети в сельской местности не явля-ются сегодня центрами социальной структуры, вокруг которых строится жизнь сельчан. Объясняется это не только тем, что за го-ды советской власти секуляризационные процессы сузили функции общины и изменили ее место в обществе. Большое значение имеет социальный статус имама, который давно перестал быть духовным наставником, примером высокой нравственности и превратился в «отправителя культов», чья деятельность в селе зачастую ограни-чивается обрядами и пятничными службами. За период с начала 90-х годов по 2005 г., в связи с ростом миграционных потоков, из бывших советских республик Центральной Азии в Башкирию при-были свыше 400 тыс. человек. В настоящее время более 10% насе-ления республики – мигранты 90-х годов XX в.: за период с 1992 по 2004 г. в Башкортостан переселились 486 тыс. человек: 149 тыс. из республик бывшего СССР и 337 тыс. (69%) из регионов Россий-ской Федерации. Большинство прибывших из стран СНГ состав-ляют русские, татары, башкиры или так называемые «возвращен-цы». Как правило, это дети или внуки тех, кто в разные периоды советской эпохи выехал в среднеазиатские союзные республики: спасаясь от репрессий 30-х годов, работать по распределению ву-зов, на строительство крупных промышленных объектов, на вос-становление после землетрясений городов Таджикской или Узбек-ской союзных республик. Возвращение на историческую родину не всем сулило работу, жилье, благополучие. Неожиданно лучше мно-гих сумели устроиться пожилые мужчины, старики, учившиеся ко-гда-то арабской грамоте или просто знавшие несколько молитв и умевшие читать Коран. В начале 90-х годов именно им, освящен-ным наивными представлениями местного населения об «ислам-
39
ской» Средней Азии, народ доверил службу в мечетях, преподава-ние в воскресных школах при них. Так в сельских мечетях появи-лись «самоучки», чьи знания были обильно приправлены ради-кальными идеями, почерпнутыми в чайханах, на базарах и в других людных местах горячих точек Средней Азии, откуда им пришлось бежать. Кроме того, многонациональный состав населения Баш-кортостана дополнился представителями диаспор – казахской, уз-бекской, туркменской, киргизской, таджикской. Наряду с появле-нием в Башкирии многочисленных просветителей из стран му-сульманского мира дополнительным фактором радикализации час-ти мусульман республики стали среднеазиатские беженцы.
Сегодня наибольшим уважением среди верующих в сельской местности пользуются не специально обученные имамы, выпуск-ники религиозных учебных заведений, а бывшие председатели сельских советов, учителя, директора школ, отставные офицеры Советской Армии, председатели колхозов, которые стали выпол-нять функции мулл. Как правило, они самостоятельно изучают ис-лам, знают две-три молитвы, Коран читают в переводе на русский язык. Но именно к ним обращаются верующие по всем вопросам как духовного, так и социального характера. По какой стороне улицы проложить газопровод, как найти средства на ремонт моста, куда направить учиться выпускников школы – эти и многие другие вопросы решают односельчане в мечети совместно с местными ав-торитетами, которых уважительно называют «хазратами». По дан-ным наших исследований, 16% мечетей возглавляют бывшие сов-работники, которые, выйдя не пенсию, были избраны обществом в качестве руководителей общин. Некоторые из них продолжают со-вмещать богослужение со светской профессией учителя, предпри-нимателя, сотрудника администрации, работника культурно-массовых учреждений. Согласно полученным данным, 24% общего числа имамов Башкирии имеют высшее богословское образование, полученное в российских исламских институтах и университетах, главным образом в РИУ им. Р. Фахретдинова; 27% имеют среднее религиозное образование – это выпускники медресе Уфы, Октябр-ского, Стерлитамака и др.; до 10% опрошенных имамов обучались в воскресных школах при мечетях, 39% – самоучки. Возраст има-мов Башкирии колеблется от 19 до 83 лет: возраст 20% имамов – от 20 до 39 лет, 30% от 40 до 59 лет, 42% от 60 до 75 лет, 10% свыше 75 лет.
40
С целью выяснения перспектив развития мусульманского со-циума в Республике Башкортостан нами была разработана серия анкет для этносоциологических опросов, вопросников для интер-вью, произведена выборка среди населения республики, определе-ны фокус-группы. Обследование проводилось в центральных, юж-ных, северных, западных районах Республики Башкортостан. Всего было опрошено 1200 человек. На вопрос о том, считаете ли вы себя верующим человеком, 75% ответили утвердительно, 19% – отрица-тельно. При этом к неверующим положительно и терпимо относят-ся 82,7%, отрицательно – 6,7% опрошенных. Признавая свободу совести и исповеданий, учащиеся в большинстве признают право на выбор религиозных убеждений. На вопрос, считаете ли вы, что русский обязательно должен быть православным, 18,3% ответили «да» и 81,7% – «нет». На вопрос, считаете ли вы, что башкир или татарин обязательно должен быть мусульманином, 22,1% ответили «да», а 77,9% – «нет». Отвечая на вопрос, чтó проповедуют ислам и мусульмане, 69% указали на нравственность, коллективизм и ми-лосердие, а 11% – на жестокость, дискриминацию женщин. При выборе друзей 88,5% опрошенной молодежи не обращают внима-ния на религиозную принадлежность. Ответы на вопрос о том, от-даете ли вы предпочтение верующим или единоверцам, распреде-лись следующим образом: 2,9% отдают предпочтение единовер-цам; 2,9% – неверующим людям, а 88,5% ответили, что религия для них не имеет при этом значения. Учащиеся признают свободу со-вести и право исповедовать в России любые религиозные убежде-ния как за гражданами России, так и за ее президентом. Таким образом, вероисповедная принадлежность не является для боль-шинства населения, и особенно для молодежи, фактором, опреде-ляющим коммуникативное поведение в сфере межкультурных от-ношений. В то же время определенную обеспокоенность должны вызвать ответы учащихся на вопрос о том, какой тип государствен-ного устройства представляют собой Российская Федерация и Pecпублика Башкортостан. Ровно половина (50%) опрошенных убеждена, что Россия – православное государство, и столько же – светское; 49% опрошенных убеждены, что Башкортостан – ислам-ское государство, и столько же – светское, 2% – атеистическое. От-веты свидетельствуют о достаточно низком уровне правовых зна-ний, необходимости совершенствования учебных программ по ос-новам государства и права, повышенного внимания к вопросам
41
конституционного устройства России и Башкирии, законодательст-ва о свободе совести.
Сегодня на территории Республики Башкортостан действуют пять мусульманских учебных заведений. Крупнейшее из них – Рос-сийский исламский университет им. Р. Фахретдина, который счи-тается преемником знаменитого медресе «Галия» в Уфе, которому в октябре 2006 г. исполнилось 100 лет. За период с 1906 по 1919 г. в медресе прошли обучение сотни представителей тюркских наро-дов Урала, Поволжья, Сибири, Казахстана, Центральной Азии. В настоящее время здесь обучаются около 500 студентов. В Уфе так-же действует медресе им. М. Султановой. В Стерлитамаке действу-ет медресе «Hyp аль-Иман», в Октябрьском – медресе «Hyp аль-Ислам». Деятельность мусульманских учебных заведений в Баш-кирии и других регионах России нуждается в серьезной корректи-ровке. Выпускники медресе и российских исламских университе-тов в Москве, Казани, Уфе и других городах не находят своего места в жизни, они зачастую вынуждены искать приработок или вовсе устраиваться не по специальности, чтобы прокормить себя и семью. В то же время их узкоспециальные знания (догматики ис-лама, арабского языка, чтения Корана) недостаточны, чтобы удов-летворить духовные потребности современных верующих. Среди российских мусульман, особенно в сельской местности, возобно-вилось функционирование элементов мусульманской традиции и шариата – от ношения традиционной одежды, юридического оформления различных сделок и брака до обрезания и дозволенно-го – «халяль» – убоя скота. В целом в религиозной среде – мусуль-манской и православной – отмечен рост обращений к негосударст-венной, так называемой традиционной медицине, от имени которой зачастую выступают малообразованные люди.
Нами был подготовлен проект интеграции религиозного и светского образования, ориентированный на подготовку служите-лей культа и профессиональных специалистов, которые смогут быть проводниками политики толерантности, выполнять профес-сиональные функции, удовлетворять духовные, информационные, культурные и иные практические потребности современного ве-рующего. В рамках проекта было проведено три научно-практических семинара в Уфе, разработаны учебные программы с включением интеграционных элементов: по курсу «История Оте-чества» с углубленным изучением истории Русской православной церкви, ислама и других религий в России; по курсу «История го-
42
сударства и права» с изучением истории религиозного права, зако-нодательства в сфере свободы совести и государственно-церковных отношений; по дисциплине «История костюма» для специальности «Технология швейных изделий» с изучением исто-рии и особенностей конструирования культовой одежды; по дис-циплине «Архитектура зданий» для специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с изучением основ строи-тельства культовых зданий; по дисциплине «История культуры Республики Башкортостан» с изучением древних и современных религиозных представлений и межрелигиозных отношений в Баш-кортостане; по дисциплине «Ислам в мировой истории, культуре и политике» для медресе; был разработан спецкурс «Религия и обще-ственная безопасность в условиях глобализации» по специально-стям «Политология» и «Религиоведение» для вузов. Уфа стала площадкой реализации проекта интеграции светского и религиоз-ного образования, поскольку является одним из крупнейших в Вол-го-Уральском регионе центром науки, культуры и образования. Здесь действует свыше 20 высших и более 100 средних специаль-ных учебных заведений, центров по подготовке специалистов раз-личного профиля, курсов, учебных пунктов. В республике создана нормативно-правовая база, соответствующая Конституции Россий-ской Федерации и учитывающая особенности этноконфессиональ-ного состава населения многонационального региона. В Уфе име-ется академическая научно-исследовательская база, созданы этно-логическая социологическая и религиоведческая школы, сложилась практика конструктивного взаимодействия органов власти, религи-озных организаций и научных сообществ при решении наиболее актуальных проблем реализации законодательства в сфере свободы совести, формирования толерантности. Башкортостан в общест-венном сознании россиян прочно ассоциируется с исламом и му-сульманским миром. Между тем в самой республике, в ее полити-ческой и общественной жизни, культурной политике исламу отво-дится второстепенное место. Долгое время местные власти не осознавали политических преимуществ от пребывания ЦДУМ и его лидера в Уфе, возможностей использования их в регулировании взаимоотношений с федеральным центром, с соседним Татарста-ном, а главное, в формировании «мусульманского электората» и его поведения на выборах. Надо подчеркнуть, что ни президент Башкирии, ни премьер-министр, ни руководители других рангов не делают ставки на ислам в своей политической карьере, не мобили-
43
зуют верующих мусульман в общественно-политические процессы, развивающиеся в Башкирии, равно как на религиозный фактор в целом. В последние годы руководство республики активно сотруд-ничает с обоими духовными управлениями, осознавая, что они во многом определяют лицо ислама в республике. В целях дальнейше-го развития сотрудничества 17 ноября 2005 г. в Уфе была проведе-на встреча руководителей органов государственной власти и управления с представителями мусульманского духовенства Рес-публики Башкортостан под названием «Ислам – религия мира и созидания», обсуждены вопросы, связанные с социальными усло-виями и правовым обеспечением удовлетворения духовных по-требностей верующих, развития мусульманских объединений в ус-ловиях реформы местного самоуправления.
Необходимо отметить, что в отличие от руководителей дру-гих субъектов Российской Федерации представители республикан-ских органов власти не позиционируют себя в качестве носителей той или иной религии. В начале перестройки многие из руководи-телей так называемых «мусульманских» регионов СССР сочли не-пременным совершение хаджа в Мекку. По Центральному телеви-дению демонстрировали фильм о паломничестве Г. Алиева, титул «хаджи» появился у Э.Ш. Рахмонова, С.А. Ниязова, М. Шаймиева, о чем они с гордостью заявляли прессе. М.Г. Рахимов тоже совер-шил хадж, но не сделал этот факт достоянием прессы, исключив его из своей политической биографии. Руководители Башкортоста-на регулярно поздравляют мусульман республики с традиционны-ми датами мусульманского календаря, с праздниками Ураза-байрам и Курбан байрам, но при этом не склонны посещать мечети в каче-стве верующих. Бросается в глаза личная дистанцированность пре-зидента, премьер-министра, министров от религии. Особенно это заметно стало в период обсуждения вопроса о введении в школь-ные программы предмета «Основы православной культуры». Депу-таты Госсобрания и президент М.Г. Рахимов однозначно заявили о том, что «в школах республики не будет преподаваться никакая религия», мотивируя это не столько поликультурностью Башкорто-стана, сколько Конституцией Российской Федерации и Конститу-цией Республики Башкортостан, законодательством России. Такая позиция президента М.Г. Рахимова – практически единственная в стране. Руководители всех остальных регионов – и те, кто поддер-живает идею введения «Основ ...», и те, кто против, – в данном во-просе аргументируют это либо традициями российской духовно-
44
сти, либо традициями многонационального и поликонфессиональ-ного государства, забывая о самой Конституции. В то же время власти республики уделяют большое внимание вопросам удовле-творения духовных потребностей верующих. Президент Башкирии М.Г. Рахимов лично возглавляет Попечительский совет по восста-новлению храма Рождества Богородицы в Уфе, курировал строи-тельство уфимской мечети «Ляля-Тюльпан», Николо-Березовского храма в Нефтекамском районе. Премьер-министр Р. Байдавлетов, как уже говорилось выше, принимал участие в строительстве двухминаретной мечети в д. Усмангали. Делается все это исключи-тельно в рамках существующего законодательства.
В 1997 г. нами был проведен опрос 200 имамов республики. Так, на вопрос, нужна ли мусульманская политическая партия для защиты интересов мусульман, абсолютное большинство респон-дентов ответили отрицательно. Муфтии и имамы не склонны всту-пать в какие-либо исламские политические организации. Те имамы (в основном старше 60 лет), которые высказываются одобрительно, добавляют: «Да, КПСС нужна». Коммунистическая партия в их сознании остается единственно возможной. Выборы в Госдуму России 1995 г. и президентские выборы 1996 г. отчетливо проде-монстрировали, с одной стороны, «продепутатские интересы» от-дельных мусульманских публичных деятелей, а с другой – отсутст-вие ясных политических целей у так называемого «мусульманско-го» электората России. По сути дела, такового и нет в сегодняшнем российском политическом поле. Современная общественно-политическая практика свидетельствует о том, что в распределении политических пристрастий мусульманского электората важное зна-чение имеет выбор между партией власти и оппозицией, этнона-циональными и общероссийскими интересами, но не между ислам-ской и православной идеей или секуляризацией и теократией. Это не означает, что мусульманский фактор не может быть использован и задействован как средство общественно-политической мобилиза-ции. Попытки привлечь мусульман предпринимались объединен-ной оппозицией Башкирии, которая в 2004–2005 гг. организовала серию массовых акций протеста против действующего президента М. Рахимова. Организованные объединенной оппозицией акции по времени совпали с арестами членов организации «Хизб ут-Тахрир», и в это же время в мечетях Уфы, Туймазов, Белорецка появились листовки с призывами к активным действиям против «политического режима, который угнетает мусульман», подписан-
45
ные – «Мусульмане Башкортостана». После возбуждения уголов-ного дела против членов «Хизб ут-Тахрир» руководители объеди-ненной оппозиции, видимо, решили отказаться от намерений ис-пользовать религиозный фактор в борьбе с официальной властью, чтобы не оказаться обвиненными в нарушении законодательства в сфере борьбы с экстремизмом. Сказанное выше свидетельствует в целом о маловероятности появления в Башкортостане так называе-мой исламской, как и любой другой, конфессионально-ориентированной оппозиции.
А.Б. Юнусова. «Ислам в Башкортостане», М., 2007, с. 7–9, 44–50, 60–70.
Юрий Аршинов, политолог (г.Саратов) ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ВЛИЯНИЯ В РЕГИОНЕ ПРИКАСПИЯ В 2000–2007 гг. В геополитическом понимании значимость любого региона
определяется влиянием на международные экономические, поли-тические и военно-политические процессы. В этом отношении ре-гион Прикаспия обладает исключительным значением для таких государств, как Россия, Китай, США, Иран, Турция, страны ЕС. Для Российской Федерации данный регион приобретает критиче-ски важное значение, поскольку успехи, равно как и неудачи, на данной геополитической сцене демонстрируют состоятельность энергетической политики руководства страны как важнейшего компонента внешнеполитического курса.
Современные геополитические реалии показывают, что два фактора способствуют однозначному успеху внешних игроков в борьбе за энергетические площадки мира: военно-политическое влияние и транспортно-коммуникационная зависимость. Геополи-тическая ценность Прикаспия основывается на тесном переплете-нии интересов региональных и внерегиональных государств как в энергетической области, так и в сфере международной безопасно-сти. При этом ведущим критерием «ценности» региона для внеш-них «игроков» является значимость Каспия для мировой энергети-ки. Так, по оценкам специалистов, запасы доказанных объемов нефти Каспийского моря составляют примерно 5,8 млрд. т