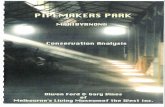Genealogiae
Transcript of Genealogiae
Книга IX
ФИНЕЙ и восточные индоевропейцы
в юго-восточной Европе.
(сокровенное родословие скифо-балто-славянского праязыка)
1а свидетельства эллинской мифологии
Эллинская мифология повествует о нескольких персонажах с именем
Финей. Нас в данном случае интересуют особенно два сюжета
мифологической генеалогии.
Один Финей (гр.) был Агеноридом.
Финей, сын Агенора, или сын Фойника и Кассиэпии, внук Агенора,
царь фракийского Салмидесса, от которого Клеопатра, дочь Борея, родила
Орийфа и Крамбиса, а Идея, дочь Дардана, – Фина и Мариандина.
Слепой прорицатель Финей, сын Агенора или Посейдона, или сын
Фойника и Кассиепии, внук Агенора, прибыв в Финеиды, стал царем
фракийского Салмидесса (Аполлодор I, 9, 21–22).
Финей отправился на поиски Европы вместе с другими сыновьями
Агенора. После долгих странствий по странам, морям и островам флот Финея
пристал к местностям у Боспора Фракийского. Там по преданию поселился
Финей и его люди. Эта область стала именоваться Финеидами. Финеевы
берега (греч. ), страна, где правил некогда Финей, фракийская
прибрежная область, именуемая Гемимонтом ( ) с
главным городом Салмидесс.
От Финея Клеопатра, дочь Оритии от Борея, родила сыновей
Плексиппа и Пандиона (Аполлодор III, 15, 3) или Орийфа и Крамбиса, а
Идея, дочь Дардана, родила Финею сыновей Фина (Ѳѵна) и Мариандина
(Вiѳѵна). Идея ложно обвинила пасынков, будто они пытались ее соблазнить,
и Финей, поверив ей, ослепил обоих. Согласно «Антигоне» Софокла (968
слл.) братья были ослеплены самой мачехой (то же сообщают «Финей»
Эсхила и «Финей» Софокла).
От Аполлона вещий Финей имел дар предсказания, но был ослеплен
вследствие гнева богов, так как неосторожно открыл планы Дия. Гарпии
мучили его, унося у него кушанья и марая остатки еды нечистотами, так что
он вечно томился голодом за то, что, по побуждению своей второй супруги,
ослепил сыновей от первого брака. Когда аргонавты пристали к его берегу,
то Бореады, Зет и Калаид, избавили его от гарпий (Гигин XIV, 19).
Финей оказывается современником похищения Европы, т. е., жил еще в
последней четверти XVI в. до н. э. А с другой стороны, он – современник
плавания аргонавтов в первой четверти XIII в. Это не смущало писателей
аттической и общеэллинской хронологической традиции.
Другой Финей был Белидом.
У Бела родились сыновья-близнецы Айгюпт и Данай, а еще к тому же
Кефей и Финей, как сообщает Еврипид (Аполодор II, 1, 4; II, 4, 3). Финей –
сын Бела и Анхинои, брат Египта, Даная и Кефея, отец выделил ему удел –
страну эфиопов. Этого Финея, претендента на руку Андромеды, Персей
обратил в камень при помощи головы Медузы.
Этот Финей оказывается современником Персея, т. е., жил во второй
трети XIV в. до н. э. согласно традиционной аттической хронологии.
***
Тут было бы уместно привести мифологические свидетельства о
наиболее вероятном отце Финея Агенорида, о Фойнике, сына Агенора и
Дамно.
Агенор, узнав о похищении Европы критским быком на берегу моря у
Тира, велел своим сыновьям искать сестру по всей земле и без нее не
возвращаться.
Фойник, выступивший с флотом из Тира, был отнесен бурей к
ливийским берегам, исследовал там все местности до самых Геракловых
столпов и, не найдя следов сестры, поселился близ озера Тритонида, где
прожил много лет.
После смерти отца Агенора он вернулся в страну, которая с того
времени носит его имя – Фойникия, отвоевал отцовский удел и царствовал
много лет. Он также стал отцом Адониса от Афесибеи.
Все это произошло за пять поколений до того, как в Арголиде родился
Алкей Геракл, сын Амфитриона (Геродот 2:44, 4:47; Павсаний 5:25.7).
Поколенный пересчет по Геродоту, хоть и основан на нереальном
числе (40 лет поколение), все же помещает жизнь и деяния Фойника в период
-1580-1540 гг., что не противоречит времени странствий его сына Финея – в
последней четверти XVI в. до н. э.
1б свидетельство скифской мифологии
«Как говорят сами скифы, они – самые новые (люди) из всех народов.
А произошло это таким образом. Первым жителем этой, тогда еще
необитаемой, страны был муж по имени Таргитай (). Родителями
этого Таргитая (), как говорят скифы, были Зевс () и
дочь реки Борисфена ()…
Так рассказывают скифы о происхождения своего народа. Они думают,
впрочем, что со времен первого царя Таргитая () до вторжения в
их землю Дария () прошло не более 1000 лет…» (Herodotus IV 5–7).
Согласно этой мифологической хронологии, родоначальник скифских
племен Таргиай был современником прибытия Европы на Крит, Кадма в
Элладу, Данаид и Египтиадов в Арголиду, т. е., жил в последнюю четверть
XVI в. до н. э. (поход Дария на скифов датируется около 517 г. до н. э.).
Налицо хронологический конкорданс Таргитая и Финея Агенорида.
Борисфеном до великой эллинской колонизации именовали пролив
Дарданеллы. Что также приводит нас в искомый регион. См. Скиф и скифы.
1в свидетельства эллинской этнографии.
Финей Агенорид стал родоначальником племен во Фракии и Вифинии.
Финеиды (греч. ) – потомки Финея,
народность, обитавшая преимущественно у Финеевых берегов.
Тюны (Ѳѵны) – народность, населявшая Боспор Фракийский, включая
Византий и Селимврию и противолежащую область Вифинии.
Мариандины (греч. , лат. Mariandyni) – народность,
которая населяла северо-западную часть Вифинии и вместе с соседними
пафлагонами формировала отдельное подразделение в персидском войске.
1г свидетельства эллинской исторической географии
Финей был первым поселенцем Сесама пафлагонийского по
сообщению Стефана Византийского: S»samon, pÒlij Paflagon…aj, ™n Î
õkhsen Ð prîtoj FineÚj. D…dumoj d• nÁson aÙt»n fhsi. tÕ ™qnikÕn Shsamhno…
kaˆ Shsam…thj.
С Финеем и Финеидами традиционно ассоциируется юго-восточная
часть Балканского п-ова от русел рек Туджа, Марица до Черного моря. Этот
регион традиционно подразделялся на историко-культурные области: Тиния
(от Византия до Селимврии), Европа (от водораздела Странджи до Марицы),
Гемимонт (от Тунджи до Черного моря, включая горную и лесистую область
Странджа). Основным местом обитания Финея обычно считалась приморская
часть южной Странджи с городками Фин(е)ополь и Салмидесс (Midia, ныне
Kıyıköy).
2а свидетельства ономастики
Все свидетельства нарративных источников оставляют нас в
неопределенности, языковые реликты какого вида следует искать в
указанных областях армяно-албано-хеттского или индоиранского? Поэтому
следует обозреть ономастические свидетельства из указанного региона и
сделать дедуктивный вывод.
Фактическим основателем рода и фратрии можно считать Фойника,
отца Финея. Этимология этого имени неясна (из др.-егип. bnw ‘священная
птица Феникс’?), фонетический облик – эллинский. По самому своему
рождению Фойник был как Агеноридом (по отцу), так и Белидом (по
матери). Его материнский язык, следовательно, был близок языку Египта и
Даная, Кефея Палестинского и Финея Эфиопского. К тому же, Фойник
прожил некоторое время в Ливии. Все это не могло не отразиться на
языковых и культурных навыках сына Фойника, Финея.
ИС Финей также не имеет уверенной этимологии, хотя весь облик
имени эллинский. Под этим именем мы понимаем родоначальника финеидов.
Словообразование отчества Финеидов поясняет Суда: FineÚj: Ônoma kÚrion.
kaˆ Fine…dhj, Ð ¢pÕ toà Finšwj. А словообразование производного топонима
поясняет Геродиан: FinÒpolij pÒlij prÕj tù PÒntJ ¢pÕ Finšwj.
Отмечу аутентичность скифской традиции, которая доносит, похоже,
реальное имя родоначальника финеидов. ИС Таргитай ,
из скифского генеалогического мифа имеет прекрасное
ориентальное клинописное подтверждение XVII в. до н. э. из города Алалаха
в Северной Сирии: Tirgutawija, Tirgutauiia. Наиболее убедительная
этимология антропонима Targitaos – скифский рефлекс индоиранского
targ’h[i]-tavás/távya-, в котором первая часть сложения однокоренная др.-инд.
tṛih- ‘терзать, крушить’, tárh- ‘терзание, сокрушение’, dasyu-tárhaṇa-
‘сокрушение врагов-инородцев’, а вторая – прилаг. távya- ‘сильный’,
тождественного tavás- ‘strong, energetic; сильный, энергичный’ (Mon.-Will.
440, 441, 453). Для первой части словосложения имеются ясные праслав.
аналоги: *tьrzati, -ajǫ, ‘терзать, терзаю; разрывать’, *tъrgnǫti ‘отторгнуть,
разорвать’, *targanъ ‘отторгнутый, оторванный’, ср. женское ИС TirgatЈw
[*tirgatauā] в Меотиде.
Древний Alalah, ныне Täll-Açana, Antakya-ili, город-государство XVIII–
XV вв до н. э. IV строительный период города имеет следы сильного
разрушения около -1425 г. до н. э. Наличие в городе XVII в. производного
ИС -iia от вероятного эпонима или этнонима *t gutaua- делает эпоним еще
более древним (XVIII в. до н. э.?).
Предполагаю, что антропоним или эпоним служил
подлинным самоназванием восточно-индоевропейской фратрии, которую мы
именуем Финеем и Финеидами по эллинской традиции.
Имя Фина (Ѳѵн) также этимологически не прозрачно. От него
отвлечен, как будто бы этноним, а от последнего – хороним. Этноним Qunoi,
Thynii – 1) племя в Гемимонте между Аполлонией и Салмидессом, 2) племя
на п-ове Тюния (от Салмидесса и Селимврии до Византия), 3) племя в
области между реками Ребас и Сангариос в Вифинии (Detschew 1976: 211).
Если, конечно, сам этноним не отвлечен от хоронима. Корень *thun- в
составе хоронима Quni¦j tѕn 'Apollwniatîn cèra [Strab.],
Thynia, Thynias Thunia
(Detschew 1976: 211–212) предлагаю этимологизировать в связи с прилаг.
*thuni- < thenui- ‘тонкий’, ср. праслав. *tьnъkъ(jь), производн. с суф. -ъkъ от
основы *tьn-, восходящей к и.-е. *tenu-, м. р. *tenús, ж. р. *tenuī ‘тонкий,
тонкая’, производных от гл. корня *ten-, *tn- ‘тянуть, вытягивать,
растягивать’, родственные соответствия: осет. t‘ænæg, др.-инд. tanú-
‘вытянутое’, ‘тело’, tanví ‘тонкая, плоская, тощая’, др.-греч. tanÚ-, tanaÒj
‘длинный, вытянутый’, лат. tenuis, англосакс. þynni ‘тонкий’, кимр. teneu, др.-
ирл. tanae, tane ‘тонкий, вытянутый’. Альтернативная этимология эпонима и
этнонима в связи тотемом (тунцом), ср. греч. θύννος, народно-лат. thunnus,
ит. tonno, нем. Thun (fisch), тур. tun ‘тунец’ (Маценауэр 356, 415; Горяев, ЭС
380; Mi. EW 365; TEl., Nachtr. I, 59; Преображенский Труды I, 17 и сл.; Г.
Майер, Türk. Stud. I, 26; Брюкнер 584).
Этноним Mariandyni (Herodian tÕ mšntoi BiqunÒj kaˆ MariandunÒj
™qnikЈ. Mari£ndunoj d• barutÒnwj kat¦ toÝj A„ole‹j), якобы отвлеченный от
эпонима Финеида, не получила убедительной этимологии.
Словообразовательный суф. -yn-< *-un-известен и в других палеобалканских
этнонимах. А вот чистая основа *mariand- не ясна. Если перед нами
словосложение, то первая часть *mari- ‘море’ (?), а вторая часть – и.-е. *andh-
‘поле’ (?), ср. арм. and ‘поле’ (Pokorny I, 40–41).
Обозрим характерный морфемный репертуар реликтовой
«фракийской» ономастики очерченного региона.
Основа *agrian- в составе гидронима – Ergene Nehri, Ergene-
Dere, скорее всего, является эллинской адаптацией субстратного гидронима
Эргин с сопутствующим переосмыслением как «дикая (река)». См. Эргин.
Основа *aet- в составе Aetos (XIII AD) – Айтос, Бургасско,
Aetos (XIII AD), – Соколица, Соколовци, Смолянско, Tzitaetoàj –
крепость в Гемимонте (Prokop. aed. IV 11; Detschew 1976: 497), толкуется как
фрак. сущ. *aetous, *aitous ‘часть, доля’, ср. авест. aēta ‘надлежащая часть,
достойная участь’, продолжение и.-е. *aito-, *aiti-, *oito- ‘доля, часть, участь’,
ср. оск. формы род. п. aeteis ‘partis, части’, aíttíúm ‘portionum’, др.-ирл. âes <
*ait-tu ‘люди’ (Pokorny I, 10–11).
Основа *aiz(i)- в составе хоронима , который трактуется как
производное с суф. -- от - ‘коза, козий’, ср., особенно, арм. aic ‘коза’ и
др.-инд. aja-, ajā ‘коза, козел’. Правда, возможна альтернативная этимология
на основе и.-е. *aig- ‘дуб, oak’;
Основа *aksinē в составе Axine, Asine – Приморско, Бургас, ближе
всего к авест. aχšaena- ‘иссиня-чёрный’ и производна с суф. -in- от и.-е.
* ksio- (фрак. , axiu-) ‘чёрный’, известного в составе
самофракийских теонимов , гидронимов
‘Черна вода’ (М. Скифия) и ‘Чёрная река, Вардар’
(Македония), топонима , Axiupolis (Detschew 1976: 18)
Основа *am[a]la- ‘кислый’ в составе топонима , ex vico
Amlaidina (Detschew 1976: 16) и дакийск. фитонима amolusta ‘пупавка,
ромашка Kamille’ (Detschew 1976: 543) сопоставима с лит. amalas ‘сладкий,
кисло-сладкий’ и др.-инд. amla- ‘кислый’;
Предлог или приставка ana- в составе 'Anagogkl… – крепость в
Гемимонте (Prokop. aed. IV 11; Detschew 1976: 17, 108), в данном топониме
справедливо усматривают гот. предложно-падежное словосочетание или
образование с преф. ana- ‘in, on, upon, at, over, to; в, на, над, у, около’ от
goŋklí, не получившего убедительного толкования (пропущено в перечнях
правдоподобных и вероятных толкований топонимов славянского
происхождения у Прокопия) (Георгиев 1958: 69–88), м. б., аналог нем.
(бавар.) Gúnkel ж. р. ‘углубление, воронка, впадина в земле’. Конечное -í
может быть гот. показателем вин. п. (ja-основы), с которым употр. предлог
ana.
Наречие *antō в составе 'Antw‹non – крепость в Гемимонте (Prokop.
aed. IV 11), Antaei moenia, Anto, Анто (топоним сохранялся на картах до 1771
г.!). Скорее всего, фрак. производное прил. с суф. -in- от туземной формы ж.
р. *antō ‘та, что напротив’, ср. 'Antis£ra, 'Antis£rh (Detschew 1976: 18),
кельт. Anto-broges, Antoci (Holder I 1961: 161).
Основа *apro- в составе ”Aproj – Germeyan Kalesi, Malkara, Tekirdag Ili
('Eparc…a Qr®khj, ½goun EÙrèphj· ØpÕ konsilar…wn, toutšsti bouleutîn,
pÒleij id· EÙdoxioÚpolij, `Hr£kleia, 'ArkadioÚpolij, BizÚh, P£nion, ”Ornoi,
G£noj, Kall…polij, M»rizoj, Saltik», SaÚada, 'Afrodis…a, ”Aproj, Koil…a) не
получила убедительной этимологии. Возможно, перед нами та же основа до
метатезы, которая представлена в скифском антропониме и эпониме
и праслав. *Dъněprъ.
Корень *aps- ‘тополь’ в составе хоронима , и топонима Macrea
Apsinthia, Macré = Mecidiye сопоставим с этимоном праслав. *osina < *opsina.
Аргументом в семантической реконструкции служат варваризмы Kavakdere
«тополиная река», Kavakköy «тополиное село». Следует обратить внимание и
на «фракийский» суф. -inth-. См. Перинф.
Основа *artak- в составе этнонимов 'Art£kioi, '”Artakoi – племя в
области Гемимонт (и в области Никополя на Ятре) (Detschew 1976: 28) и
гидронима, скорее всего, отвлечение от гидронима 'Art£khj, ”Artakoj =
TÒnzoj (Detschew 1976: 535), т. е. ‘живущие по реке Артак’. Но, возможно,
этноним был образован посредством суф. -ak- от и.-е. art- ‘zusammengefügt’,
ср. греч. ; и лит. artì ‘близ,
около, вблизи’ (Pokorny I 1959: 56–57).
Корень *arz- в составе гидронима , Arzos, Arsus (Sazlidere, Edirne
Ili) сопоставим с др.-инд. arṣ- ‘течь’ или корнем сущ. árjuna ‘светлый, белый;
сияющий, блестящий как серебро’;
Корень *as- в составе топонимов ”Asgarzoj крепость в Гемимонте
(Prokop. aed. IV 11; Detschew 1976: 243) словосложение фрак. *as-, as-, asa-,
az- ‘?’ и рефлекса и.-е. диал. *ghord
hio-s ‘ограда’ (Detschew 1976: 30),
'Asg…zouj крепость в Гемимонте (Prokop. aed. IV 11) – словосложение фрак.
*as-, as-, asa-, az- ‘?’ и , gizsa, gisoj, gisa, g…ssa: l…qoj ‘камень’
(Detschew 1976: 30, 106). Сорее всего, прилагательное с цветовым или
качественным знач., к прим., «пепельный камень»
Основа *ast- в составе этнонима 'Asta…, Astae, Astii, 'Astîn (Strab.),
'Asta…, œqnoj Qr®khj, 'Astîn cwraj (Stephan. Byz.) – народность, обитавшая
преимущественно на юго-зап. склонах горного хребта Странджа (Detschew
1976: 32). Убедительной этимологии нет: то ли от и.-е. *ast[h]- ‘кость’
(Pokorny I 1959: 69), то ли от корня греч. ‘омар, лобстер’ (в таком
случае перед нами этноним тотемного происхождения), ср. – город
в Акарнании на р. Ахелой. Сюда же 'AstikÒj, mons Asticus ‘астийский отрог’
– горный отрог над Салмидессом, производное с суф. -ik- от этнонима 'Asta…
(Detschew 1976: 32). 'Astikhj kaˆ 'Astik» (Stephan. Byz.) ‘страна астов’ –
выглядит как греч. производное с суф. -ik- от этнонима 'Asta… (Detschew
1976: 32). В поддержку семантики апеллатива «лобстер, омар» упомянем
изображение ракообразного на реверсе монетных серий небольшого царства
астов в эллинистический период.
Корень *aul- ‘авл, флейта; авлет, флейтист’ в составе производных с
суф. -ai-: топонима ™j AÙla…ou te‹coj ‘стена, крепость Авлая’ (Detschew
1976: 34) и антропонима AÙla‹oj (Detschew 1976: 34), связан с фрак.
эпитетом Аполлона-Авлета, ср. фрак. Aulo-, Aulou-, Auilou-, Ablou-,
Allou- (Detschew 1976: 35-38) и лит. aulys, лтш. aulis ‘вид улья’, ст.-слав.
оулинь ‘углубление в дереве’, лат. alvus ‘полость, углубление’, др.-греч.
‘продолговатая полость’, тох. Б. aulon. Ср. боспорск. ИС ,
скиф. *aulu-poris ‘сын Аполлона-авлета’ – сложение фрак. *aulu- и *poris
‘сын’, ср. лат. puer, -eris ‘мальчик’; боспорск. ИС – фрак.
(Detschew 1976: 35–38; Бояджиев 1980: 95), *aulu-zelmes ‘змей Аполлона-
авлета’, сложение фрак. *aulu- и *zelmis ‘змей, священная змея’ (Detschew
1976: 181) (Шапошников 2009).
Сложная основа AÙlar…okoj – эпитет Аполлона в надписи из
святилища Голямата Могила (Мишкова нива), М. Търново, вероятно,
сложение с соединительным -i- основ *aulario- ‘авлет, флейтист’и *oku- (греч.
-wp-, русск. выс-ок-, шир-ок-), ср. иные фрак. теонимы AÙlarkhnÒj,
AÙlarchnÒj (Detschew 1976: 34). Форма *aulario – суффиксальное
производное имя деятеля от *aul- ‘авл, флейта’ с суф., подобным лат. суф.
деятеля -arius и, между прочим, праслав. -arь.
Основа *authi- ‘необитаемый’ (?) в составе ойконима 'Auqip£rou –
крепость в Гемимонте (Prokop. aed. IV 11), который внешне выглядит как
род. п. ИС . Фракийское двусоставное слово с соединительным -i-.
Вторая часть предположительно (вызывает сомнение исход слова на -ou) -
para (Vlahov 1966: 302, 304; Detschew 1976: 34), в первой части – и.-е. диал.
*aut[h]ios ‘отдаленный, пустынный, необитаемый’, ср. греч. ‘тот
же самый’, гот. auþja-, auþeis, auþs ‘пустынный, необитаемый’ (Pokorny I
1959: 74), во 2-й части – фрак. para ‘дом”, все вместе ‘необитаемый, пустой
или отдаленный дом’. При этом и фонетический облик составных частей, и
характерный способ соединения относят этот топоним к фракийским (Влахов
1976: 101) и скифским (Шапошников 2005, 2007, 2009) языковым реликтам.
Ср. толкование сев.-прич. реликта *auθi-anda- ‘жители пустынного поля
(пустынных полей)’: племя на Северном Кавказе Authiandae – из и.-е. диал.
*aut[h]ios ‘отдаленный, пустынный, необитаемый’ (Pokorny I 1959: 74) и
*andh- ‘поле’, ср. арм. and ‘поле’ (Pokorny I 1959: 40–41).
Корень *ba-, компонент имен собственных с предположительным
знач. ‘свет’ и в составе топонимов Ba‹ka (Detschew 1976: 40) сопоставляли с
др.-инд. bha- ‘светить’, индоиранск. *bhā- (Абаев I, 553; II, 211);
Основа *bas- в составе фрак. топонима Bas…bounon – крепость в
Гемимонте (Prokop. aed. IV 11; Detschew 1976: 43, 243) может являться
антропонимом или этнонимом. Было предложено толкование ‘гора большой
хищной птицы’ (?), сложное образование с соединительным -i- основы и.-е.
*bhāso- ‘большая хищная птица’, ср. др-инд. bhāsa- ‘вид хищной птицы’
(Pokorny I 1959: 111), греч. ‘гора’, ‘гористая местность’ (Хориков,
Малев 1993: 195). В отношении семантики фрак. топонима – ср. Каргуйското
кале в М. Търново.
Основа *basta-, в составе фрак. и вифин. ИС
(Detschew 1976: 45–46) сопоставима с др.-инд. bastá-
‘козёл’, ‘баран’;
Основа *bazo-, ‘много, часто, очень’ в составе теонима Jupiter
Bazosenus, антропонима , ойконима , этнонима
(Detschew 1976: 40) сопоставима с др.-перс. bazu-, др.-инд. bahú-
, bahu- ‘многий; обильный, достаточный; изобилующий чем-л., много, часто,
очень’;
Основа *bebruk- ‘бурый, коричневый’ в составе вифин. этнонима
имеет цельно-лексемное соответствие – лит. гидроним (озеро)
Bebrùkas, апеллятив bebriùkas ‘бобренок’, др.-инд. babhruká- ‘коричневый’
[Топоров 1972в, 27; Katičić 1976, 140; Janakieva, Dimitrov 1996, 93–94;
Откупщиков 1998, 29; Откупщиков 2001, 302];
Основа *bekouli- в составе Bekoàli – крепость в Гемимонте (Prokop.
aed. IV 11) получила различные этимологии (Detschew 1976: 43): ‘пчельник’
или ‘буковая’ (?). Возможно толкование как производного с суф.-ouli (форма
местного падежа на -i уменьш. суф. -oulē, очень похожего на слав. -ul’a, ср.
ИС Asdula, , МН , Bergule, Vergulensis civitas, Virgolis)
(Detschew 1976: 52), от корня *bek- в галл. bekos, др.-ирл. bech ‘пчела’, лат.
apicula ‘пчёлка’, праслав. *bъčela (Pokorny I 1959: 116), или фриг.
‘хлеб’, арм. bek (< и.-е. *bheg-) ‘преломленный, сломанный’ (Pokorny I 1959:
114). Корень представлен также в (крепость в М. Скифии между
Abritus и Scaidava) (Detschew 1976: 48, 56). Альтернативное (но
маловероятное) толкование с учётом формы *ana-gonk-li: герм. диал.
производное с суф. -lig от *bēkō ‘бук’ (ср. англ. beech, голл. boek, нем. Buch),
варианта более распространенного *bōkō, заимствованного, кстати, в
праслав. *buky, *bukъve (ЭССЯ 2 1975: 91-92). Семантика топонима ‘Буковая
(крепость)’ вероятна для объекта в заповедных лесах Странджи. См. Гелон и
балты.
Основа *bēla- ~ *b’āla- (фрак. ) ‘правитель, владыка’ или ‘белый’
(?) в составе топонима BhlastÚraj (Prokop. aed. IV 11) сопоставима с
праслав. *bělъ. Ср. антропонимы, теонимы, топонимы , Balius,
Bales, Balus, , Dece-balus,
(Detschew 1976: 41–42, 56).
Основа *bēr- ‘раскоп’ (?) в составе топонима BÁroj – крепость в
Гемимонте (Prokop. aed. IV 11; Detschew 1976: 56), ср. фрак.
в составе
(Detschew 1976: 56–57) может восходить к и.-е. *bhēro-, прототипу
арм. -bir ‘aufgrabend; раскопанный, разрытый, шурф’ в составе getna-bir,
erkra-bir, hola-bir ‘den Boden aufgrabend, durchwühlend; перекопанная,
выкопанная земля (почва, грунт, земельный участок, дно)’ (Pokorny I 1959:
134).
Предлог и приставка *bi- в составе ~ , ~ ,
~ (Detschew 1976) сопоставимы с архетипом и.-е. *amb
hi- (Pokorny
I), ср. праслав. форму приставки *obi- (Трубачев в ЭССЯ).
Основа *biia в составе B…a – крепость в Гемимонте (Prokop. aed. IV 11)
формально сопоставима с праслав. гл. *biti, *bijačь, *bijaka.
Корень *bon- ~ *boun- в составе KasibÒnwn и Bas…bounon – крепости в
Гемимонте (Prokop. aed. IV 11; Detschew 1976: 234) толкуется как «(крепость)
у хижин Касиев», «(крепость) у хижины Басиев», как фрак. словосложение с
соединительным -i- этнонимов / антропонимов *Kas- (ср. топоним в
Родопах, антропонимы ), *Bas- и сущ.
*bhoun- по глаг. *b
hū- ‘быть, бытовать’, предположительно родственного алб.
bun ‘hut; Hütte; хижина’ (Detschew 1976: 75).
Основа *breda- ‘брод’ или ‘ель’ в составе Bršdaj – крепость в
Гемимонте (Prokop. aed. IV 11; Detschew 1976: 85) сопоставима со слав. диал.
*bredъ ‘брод в озере’, ‘ива, ветла, тальник’, ‘верба’, ‘ракита’, ‘лоза’, ‘нижняя
часть хлебного снопа’ (ЭССЯ 3 1976: 11–13), лит. brãdas ‘рыболовство’
(Pokorny I 1959: 164). И.-е. архетип *bhred
h- ‘переходить вброд’ представлен
еще и в кельтских языках, ср. галл. Bredo, -onis, Bredaculo, Bredal, Bredanna
(la Brenn) (Holder I 1961: 516; III 1962: 928). Предложена менее убедительная
этимология на базе алб. сущ. bredh, bredhi ‘ель’ или гл. breth, aor. brodha
‘прыгать, скакать’ (Георгиев В. Езиков.-етнограф. изследования в памет на
Ст. Романски. 498).
Топооснова *bria ‘край, кромка, кремль’, фрак.
, bria, уже много лет безосновательно сопоставляют с
тохар. A ri и B riye ‘ville; Stadt; город’ и возводят к и.-е. *wriyā, *uriia
(Tomaschek 1893, 1894; Георгиев 1958: 85, 86, 97, 148; Георгиев 1960: 90, 95,
97, 98, 107, 108, 110, 111, 112, 113; Georgiev 1984: 211; Gindin 1984: 33;
Janakiewa 1984: 250–253). Между тем, внешнее сопоставление и внутренняя
реконструкция весьма сомнительны, сходство – обманчиво. Эти
обстоятельства, однако, не вызывали ни у кого сомнений в предложенной
некогда этимологии. Можно, все же, предложить иное толкование. Чтобы
нащупать иной путь к верной этимологии фрак. -bria, достаточно его
сопоставить с обильным кельтским топонимическим материалом: Bria (два
топонима), Admagetobria, Brutobria, Catubria, Coeliobria, Sadobria, Nodobria,
Samarobria, Columbobria (mons Columbi), Conimbria, Vindobria, villa Briāco
etc., в которых форма -bria несколько поспешно отождествлялась с brig-
‘гора, холм, высота’, briga, brica ‘холм, городище на вершине’, brīgā ‘мощь,
крепость’ (Holder I 1961: 529, 533–534). Скорее всего, и.-е. архетип фрак.
*bria выглядел как *bhrī- и относился к и.-е. лексическому гнезду *b
hr-ēi-,
*bhr-ī/ĭ-, *b
her- ‘резать, кроить’, скифо-фрак. ‘цирюльник’, праслав.
*briti, (ЭССЯ 3 1976: 31), а первичное значение топоформанта было
аналогичным русск. ‘кремль’, ‘кромка’, ‘край’ и мотивировалось архаичным
фортификационным приемом ‘отрезать (неприятелю) путь’.
Основа *burd- ‘доска’ в составе топонима Bourdšptw, Burdipta –
крепость в Гемимонте (Prokop. aed. IV 11; IA 137, 2; 231, 6; Detschew 1976:
81) толкуется как рефлекс и.-е. лексического гнезда *bhered
h-, *b
hord
ho-,
*bhㅳd
h- ‘резать’, ‘доска’, ‘бёрдо’, ср. праслав. *bьrdo и прагерм. *burð-, гот.
fōtu-baúrd ‘Fussbrett’ (Pokorny I 1959: 138; ЭССЯ 3 1976: 164–165). Вторая
часть словосложения *eptā тяготеет к лат. adeptum, aptus sum.
Основа *burtu- ‘дырявое’ в составе Burticom, Burticum – место между
Аполлонией и Тиниадой, предположительно Бродиво (Detschew 1976: 82),
BourtoÚdgiz – крепость в Гемимонте (Prokop. aed. IV 11), Burtudice = Babaeski
(Vissocher XVII в.) возводится к рефлексу и.-е. *bhur-tuo-, архетипу праслав.
*bъrtva, *bъrtъ, *bъrtь ‘борть, дупло дерева с ульем внутри’ (ЭССЯ 3 1976:
132–133), а также лит. bùrtas ‘жребий’, bùrti ‘колдовать’, лат. forare ‘сверлить,
дырявить’, foramen ‘дыра’ и, м. б., кельт. Burt, Burtiacus, Burtius, Burtina,
(Holder I 1961: 643; III 1962: 1009).
Основа *buza-, в составе антропонимов ,
топонима (Detschew 1976: 94–95) сопоставима с др.-инд. глаг.
основой bhujáti ‘сгибать, гнуть’, сущ. bhujā- ‘изгиб’, bhogá- ‘поворот’,
‘изгиб’; праформу *buz-a(n)t-ion можно трактовать как ‘имеющий изогнутый
(рог)’. Ср. залив Золотой Рог там же и имя мифического основателя города
«Круторогий».
Корень *gan- в составе топонима G£noj – Газикёй в Текирдаге
('Eparc…a Qr®khj, ½goun EÙrèphj· ØpÕ konsilar…wn, toutšsti bouleutîn,
pÒleij id· EÙdoxioÚpolij, `Hr£kleia, 'ArkadioÚpolij, BizÚh, P£nion, ”Ornoi,
G£noj, Kall…polij, M»rizoj, Saltik», SaÚada, 'Afrodis…a, ”Aproj, Koil…a)
предлагали толковать из семитского gan и шумерского gannun ‘огороженный
сад’, ‘парк, парадиз’.
Основа *gesila- в составе Gesilafoss©ton – крепость в Гемимонте
(Prokop. aed. IV 11) толкуется либо как производное с суф. -il- от корня
(основы) фрак. этнонима Gesihnoj ¹rwj [Salaliorum, Pulpudeva] (Detschew
1976: 103), либо герм. диал. *gesil- ‘заложник’, ср. др.-англ. gisel, gysel, др.-
норв. gisl, нем. Geissel. Вторая часть двусложного топонима – провинц. лат.
fossatum ‘ров’.
Основу *gesti- в составе Gestistyrum – вилла в 12 милях от
Адрианополя у Гебра (XII m.p. Hadrianopoli ad Hebri oram. In villa quae
sermone patrio Gestistyrum [Getystyrum, Getistirum] interpretatione vero Latine
linguae locus possessorum vocatur; ea possessio et fontibus habundat et nemore,
ornate messibus et vineis (Acta SS. Oct. 9, 555, 22 oct. a. 304)) следует толковать
как антропоним или этноним *Gest-, однокоренной лат. gestus ‘жест, поза,
позиция’.
Основа *getrin- в составе Getr…naj – крепость в Гемимонте (Prokop. aed.
IV 11) является производным с суф. -in- от ИС женского рода *Getra? См.
след.
Форма род. п. *gētris или основа *gētri- в составе Ghtrist£ouj
Ghtrist£oie – крепость в Гемимонте (Prokop. aed. IV 11) не получила
убедительной этимологии. Ср. лит. gintarìnis ‘янтарный’. Функционально –
антропоним или этноним
Основа *gis(s)a- ‘камень’ в составе 'Asg…zouj крепость в Гемимонте
(Prokop. aed. IV 11) сопоставима с фрак. глоссой , gizsa, gisoj, gisa,
g…ssa: l…qoj ‘камень’ (Detschew 1976: 30, 106), не имеющей убедительной
этимологии.
Основа *dala- в составе Dal£tarba – крепость в Гемимонте (Prokop.
aed. IV 11) получила различные этимологии. Предложено толковать как
сложение *dala- ‘зелёный’ и *tarba ‘село’ (Георгиев 1977). Очень
сомнительная этимология. Можно усматривать в первой части топонима
теоним Dala-, Dalai-, Dale-, Dalh- (Георгиев 1977: 38), а во второй – ИС
Tarboj, Terboj – имя династа в области, пограничной с Дакией (Detschew
1976: 490). Настораживает вокализм топонима, похожий на индоиранский.
Обращу внимание на осет. первую часть сложных слов dæl(æ)- (< алан. *dălă-
< **adari- ‘под, подо-’) типа ср. dælbazyr ‘под защитой, под крылышком’
(Абаев 1962: 183, 622; ИЭСОЯ I, 352; Шапошников 2007а: 291), и на сущ.
tærf ‘впадина, котловина’, ‘долина, русло реки’, ‘лесная чаща в котловине’
(Абаев 1962: 365). Последнее слово получило внутреннюю реконструкцию
*tarpa- (ИЭСОЯ III, 267). Возможно, перед нами цельное аланское
словосложение с первичным значением «нижняя долина».
Основу *damā в составе топонимов Uscudama, (Detschew
1976: 349) толковали из др.-инд. dhāmam ‘жилище, обитель’, dh man ‘место
пребывания, жилище, владение, место’ или dáma- ‘дом, жилище’ (Георгиев,
Дуриданов, Дечев), или из др.-инд. -dā ‘дающий, податель’, dāma-, dāman-
‘дар’ (Шапошников 2005, 2007). Первая часть словосложения – кельтское
uisc ‘вода’;
основа *daunia- в составе топонимов в Пропонтиде и Фракии
[Detschew 1976, 122], Dauniotechnitae
, Daïn (XIII в.) – нене Sultan-köy, Marmara Ereglisi, Tekirdag Ili
сопоставимы с лтш. Dauniskis [Топоров 1973];
основа *debeltós ‘сильный, крепкий (город)’ или *deu
elton ‘мутный
водоворот’ в составе топонима: Astice regio habuit… oppida Thunias,
Halmydessos, Develton cum stagno, quod nunc Deultum vocatur veteranorum
(Plin. NH 4, 45), colonia Flavia Pacis Deultensium… in colonia Deultum… [82 г.
н. э.] (IGBulg. III, 2, 204–205), Deult… [138–161 гг. н. э.],
(Ptol. 3, 11, 7),
[II в. н. э.], COLFLPACDEULT [монеты II-III
вв. н. э.], Divelli… Develto… [294 г. н. э.] (Cod. Just. 6, 35, 6; 8, 50, 17),
Debelco IV (TP 4, 229, 3), Dibaltum, a Dibalto (Amm. Marcel. 31, 8, 9; 31, 12,
15), [416 г. н. э.] (Prop. ad Acta SS. Nov. 416), [431 г. н. э.]
(Concil. Ephes. 431), [451 г. н. э.] (Concil. Chalced. 451) DebeltÒj,
Debeltoà kolwn…aj thj Qr®khj ™p…skopoj (Euseb.), Debellion [VII–VIII вв. ~
VI–VII вв.] (Ravenn. Anonym 4, 6) (Detschew 1976: 122–123) – фрак.
поселение и колония римских ветеранов, руины у Мандренского озера,
связанного протокой с Черным морем, ныне Дебелт (Балболова-Иванова
2003: 79–84). Скорее всего, перед нами субстантивированная форма прич.
сврш. прош. на -tó-s от гл. *debel-, производного с суф. -l- от и.-е. корня
*dheb- ‘толстый, крепкий’, ср. особенно праслав. *debelъ (ЭССЯ 4 1977: 200–
203), *doblь(jь) ‘fortis, силен’ (ЭССЯ 5 1978: 40) и тохар. А tpär, В tappre,
täpre- ‘высокий’ (Pokorny I 1959: 239). Предполагается слабая смычка
скифского интервокального -b-. Или, если лат. формы отражают точнее
архетип, производное от и.-е. гл. *dh(e)uel- ‘aufwirbeln, trüben (Wasser);
вздымать, поднимать (пыль), кружить (вихрем); вздыматься, кружиться
вихрем; мутить (воду)’, ср. др.-греч. ‘буря, шум ветра и волн,
волнение’, ‘бушевание огня (о вулканах)’ (Pokorny I 1959:
265). Этимология Di-baltum ‘два болота’ (Todorov 1980: 199–204) не
выдержала критики (Калужская 2001: 93).
Основа *debrē ‘крепкая; высокая’ в составе Dšbrh и Zdebr»n – крепости
в Гемимонте (Prokop. aed. IV 11; Detschew 1976: 123) толкуется на базе того
же и.-е. корня *dheb- ‘толстый, крепкий’, ср. праслав. *dobrъ (ЭССЯ 5 1978:
45–46) и тохар. А tpär, В tappre, täpre- ‘высокий’ (Pokorny I 1959: 239).
Основа *díza- или *digza ‘городище, стена’ (?) в составе De…xaj –
крепость в Гемимонте (Prokop. aed. IV 11; Detschew 1976: 123)
этимологизируется на базе и.-е. *dheig’
h- ‘стена, укрепление, город, ограда’,
ср. фрак. формы и авест. daeza, др.-инд. dehi (Pokorny I
1959: 244). Кажется, скифо-фракийск. корень имеет сигматическое
наращение -s-. Альтернативная этимология в связи с лит. ИС Dižas
[Басанавичюс; Duridanov 1969, 77], лит. ИС Dìdžius [Zinkevičius 1977, 114;
Откупщиков 2001, 303]. Ср. греч. AÙla…ou te‹coj.
Основа *dorda- ‘?’ в составе Dord©j – крепость в Гемимонте (Prokop.
aed. IV 11) не получило убедительного толкования, м. б., вариант
антропонимов Dorzaj, Dorsaj, Dorsas, Dorsus (Detschew 1976: 149; Георгиев
1960: 86, 104) или сродни первой части сложного топонима
(Prokop. aed. IV 4, 5; Георгиев 1958: 95). Может оказаться и апеллятивом.
Едва ли имеет отношение к алб. dardhë ‘груша’ (Калужская 2001: 9).
Основа *dridi- ‘?’ в составе топонима в провинции Европа (Epiphan.)
la, ™parc…aj EÙrèphj Ð Dridhp£rwn· не получила удовлетворительной
этимологии, но ее фракийская природа очевидна. Формально, перед нами
основа антропонима или этнонима *Drid-.
Основа *ergin- в составе гидронимов Erginos
, Erginos, Erginus, Ergino fl., Erginus fl.[umen] =
Ergene Nehri, Ergene-Dere, Saray и Ergino fl. Ostio устье реки у Sizopoli
представляется производным с суф. -in- от корня *eregu- представленного в
эллинском , лин. писм. В e-re-qo- ‘тьма’, арм. erek ‘вечер’, гот.
riqis. Гидроним был мотивирован восприятием цвета воды?
Основа *iura- в составе Iuras – flumen in Thynias (Detschew 1976: 216;
Georgiev 1984: 211) справедливо толкуется в сопоставлении с лит., лтш. jûra
‘See, Teich; озеро, пруд’.
Основа *kabo- в составе KabotoÚmba – крепость в Гемимонте (Procop.
aed. IV 11), скорее всего, является этнонимом или эпонимом в сочетании с
провинц. лат. tumba ‘могила, курган’, ср. Голямата Могила – гора с
мегалитическим герооном в М. Търново.
Основа *kabūlē в составе – город в Гемимонте, ныне Ямбол,
толкуется как гомогенное словообразование праслав. *kobylja производным
от *kobyla ‘кобыла’.
Основа *kal- в составе Kall£bon – городок в Гемимонте (Eutropius
Hist.) и Calabaeus rivus близ Histria, может оказаться сродни праслав. *kalъ,
внешне напоминает индоарийское словосложение прилаг. kāla- ‘чёрный,
тёмный; тёмно-синий’ + и.-е. ab-/ap- ‘вода’.
Основа *karber- ‘пятнистый’ (?) в составе K£rberoj – крепость в
Гемимонте (Prokop. aed. IV 11) толкуется как производное с суф. -er- от
корня karb-/kerb- ‘?’, ср. (Деспотово, Пазарджик) и старое
назвние Kerbatis, Kerbetis = Kallatis. Известно, что комиссия от фракийского
царя Котиса и комиссия от Одесситов размежевала спорную территорию
между Дионисополем и Калатией, граница прошла от до ,
, , , [I в. н. э.] (Банев, Димитров 1985: 34–
38). Ср. скиф. *kerberio-, *kerberia ‘(город) бессильных, обессиленных’: город
на Боспоре Киммерийском – Cerberion, , возможно, еще
– городок в 40 милях к востоку от Кафы (DAI 53: 224). Вероятно толкование
на основе скифской глоссы ‘бессильные, обессиленные
(проказой?)’. Восходит к и.-е. *kerberos, *k’erberos ‘пятнистый, пегий’
[Pokorny II 1959: 578].
Основа *kardi- в составе топонима Cardia и этнонима
на Херсонесе Фрак. [Detschew 1976, 228] сопоставима
с лтш. Kardi, Kardes [Топоров 1973];
Корень *kas- в составе KasibÒnwn – крепость в Гемимонте (Prokop. aed.
IV 11; Detschew 1976: 234) толкуется как ‘(гора/хижина) Касия’, как фрак.
словосложение с соединительным -i- этнонима / антропонима *Kas- (ср.
топоним в Родопах, антропонимы
) и сущ. *bonō, предположительно
родственного алб. bun, bunë ‘Hütte; хижина’ (Detschew 1976: 75). Греческая
графическая форма позволяет трактовать название объекта как ‘(крепость)
Касибонов’.
Основа *kēri- в составе Khrip£rwn – крепость в Гемимонте (Procop. aed.
IV 11), скорее всего, является фрак. ИС.
Основа *ksai-, *ksi- в составе скифских ИС
и гетск. – и.-е. диал. (вовсе не
исключительно индоиранское!) *ksai-, *ksi- ‘обитатель, обладатель, владыка’
продолжает трудно отделимые друг от друга и.-е. архетипы *k’þei- ‘населять,
поселяться, основывать поселение’ и *kþē[i]-, *kþә[i]- ‘приобретать,
добывать, овладевать, получать в распоряжение’ (Pokorny 1949: II, 626), ср.
др.-инд. kşi ‘проживать, обитать, жить’, ‘владеть, обладать’, ‘иметь власть,
править’, иран. xšay- (Абаев 1988: IV 234, 235, 236, 242);
Основа *kūla- ‘род, семья, дом’ в составе топонима KÚlaj, Koil…a
('Eparc…a Qr®khj, ½goun EÙrèphj· ØpÕ konsilar…wn, toutšsti bouleutîn,
pÒleij id· EÙdoxioÚpolij, `Hr£kleia, 'ArkadioÚpolij, BizÚh, P£nion, ”Ornoi,
G£noj, Kall…polij, M»rizoj, Saltik», SaÚada, 'Afrodis…a, ”Aproj, Koil…a. \
™parc…a EÙrèphj Qr®khj, mhtrÒpolij `Hrakle…aj, œcei Øp' aÙt¾n pÒleij ½toi
™piskÒpouj e, oŒon tÕn toà Pan…ou, tÕn KalipÒlewj, tÕn Cerwn»sou, tÕn
KÚlaj, tÕn `Raidestoà) имеет др.-инд. соответствие kula-.
Основу *kups’al- фрак. топонима Cypsela, Cypsala, Chympsala, Gypsala,
Gipsila, [Detschew 1976, 272]
справедливо сопоставляли с лит. МН Kupㅹねliai, сущ. kupsēlis ‘кучка, холмик’
[Дуриданов 1976, 128; Duridanov 1987а, 76; Откупщиков 2001, 301];
Основа *kuri- в составе Kur…dana – крепость в Гемимонте (Procop. aed.
IV 11), скорее всего, является фрак. этнонимом, эпонимом в сложении с сущ.
со знач. ‘дар, данное’, если не описка вместо ‘ночлег, место для
ночевки, сна’.
Основа *madūto- в составе , Madytus, Madit (XIII в.) –
портовый город во Фракийском Херсонесе, лежавший напротив Абидоса, не
получила внятной этимологии.
Основа *markerōt- в составе Markšrwta – крепость в Гемимонте
(Procop. aed. IV 11) не получила удовлетворительной этимологии. Detschew
1976: 288, похоже, сложение *mar- ‘большой’ (Detschew 1976: 289) и *kerōta
‘рог’ (?), ср. фрак. антропоним Markenqioj, топоним Perkèth.
Основа *mesē- ~ *mes’ā- в составе толкуется
как имя основателя Месембрии, или греч. анемоним м. р. Mšsaj, Mšshj ‘сев.-
вост. ветер между Бореем и Каикием’ (Папе 1911: 905) или на худой конец,
фрак. антропоним Mesacus (Detschew 1976: 295). Этот топоним характерен
исходом первой части словосложения на -m- перед -bria. В
словообразовательном ряду или ,
очевиден исход первых частей на носовой
сонорный: , которые являются
некими падежными (словоизменительными) формами имен основателей Kwj
(Detschew 1976: 273: фрак. -kwshj, -kwsij, -koshj), Mšsaj, Mšshj (Detcshew
1976: 295), Все они могут оказаться и догреческого происхождения:
, Mšshj,
(Pape 1911: 754, 905, 1221, 1376).
Исход на носовой (окончание вин. п.?) первой части данных словосложений
позволяет предположить, что определение и определяемое были связаны в
них особым типом управления. Похоже, перед нами не двусоставные слова, а
падежные словосочетания, в которых первая (падежная) форма подобна лат.
ad urbem, ad castrum, ad rivum, ad silvam etc. Отсюда вытекает реконструкция
модели (ad) Mesēn bria ‘край у Месея’.
Основа *mēriz- в составе топонима M»rizoj ('Eparc…a Qr®khj, ½goun
EÙrèphj· ØpÕ konsilar…wn, toutšsti bouleutîn, pÒleij id· EÙdoxioÚpolij,
`Hr£kleia, 'ArkadioÚpolij, BizÚh, P£nion, ”Ornoi, G£noj, Kall…polij, M»rizoj,
Saltik», SaÚada, 'Afrodis…a, ”Aproj, Koil…a) не получила внятной
этимологии.
Основа *orno- в составе топонима ”Ornoi ('Eparc…a Qr®khj, ½goun
EÙrèphj· ØpÕ konsilar…wn, toutšsti bouleutîn, pÒleij id· EÙdoxioÚpolij,
`Hr£kleia, 'ArkadioÚpolij, BizÚh, P£nion, ”Ornoi, G£noj, Kall…polij, M»rizoj,
Saltik», SaÚada, 'Afrodis…a, ”Aproj, Koil…a) не получила внятной
этимологии. Походит на однокоренное греч. ‘птица’.
Основа *ost- в составе Ostudizo, Ostodizo, Ostidizo [Detschew 1976, 346]
(позднее N…kh крепость Гемимонта [Prokop. aed. IV 11], mansion
, Nequise = Havsa, Edirne Ili), вероятно,
передает аналог слав. устье, лат. Ostia.
Основа *ouko- в составе – крепость в Гемимонте (Prokop. aed.
IV 11), формы род. п. мужского ИС , сопоставимо с праслав. *ûkъ <
*aukas (ученый, наука, навык), но с другой стороны фрак. oikoui-,oik-,uko-
, ucco, ucus в составе сложных ИС Oikouizerij (Топузларе, Ямбол), Oikwrsij
(Томы) (Detschew 1976: 339) предполагают этимологическое ū.
Основа *panio- в составе Panium (= Aibkoy, Barbaros, Tekirdag
Ili? Constantin VII De thematibus Europ 1:49: 'Eparc…a Qr®khj, ½goun EÙrèphj·
ØpÕ konsilar…wn, toutšsti bouleutîn, pÒleij id· EÙdoxioÚpolij, `Hr£kleia,
'ArkadioÚpolij, BizÚh, P£nion, ”Ornoi, G£noj, Kall…polij, M»rizoj, Saltik»,
SaÚada, 'Afrodis…a, ”Aproj, Koil…a) справедливо возводится к и.-е. *ponio-
‘мокрое место, болото’, ср. ст.-прус. pannean ‘болото’, гот. fani ‘тина’
(Георгиев 1958: 105–106; Георгиев 1960: 59, 99, 101, 150).
Основа в составе гидронима Panisas, Panisa, Panissa, Panisos – река в
Thynias (Plin. NH 4, 45; v. 1; Detschew 1976: 355) и этникона ,
Pannysis, а также – река в стране Кробюзов, Pannisos (mutatio),
возводится к и.-е. *ponio- ‘мокрое место, болото’, ср. ст.-прус. pannean
‘болото’, гот. fani ‘тина’ (Георгиев 1958: 105–106; Георгиев 1960: 59, 99, 101,
150). Как правило, словообразовательная модель не уточняется. Между тем,
при относительной ясности корневой части *pan- (*pen-, *pen-ko-, pon-io-)
(Pokorny III, 807), суффиксальное наращение -is(s)- делает данное слово
изолированным в кругу близкородственных и.-е. языков. Подобный суффикс
*-’ais- был в до-славянском предковом языке, в праславянском -iχ-.
Топоформант *para в составе нескольких ойконимов Гемимонта и
Европы ('Auqip£rou, Dridhp£rwn, Khrip£rwn), как уже говорилось,
может оказаться этимологически тождественным др.-егип. pr ‘дом’. См. Бел.
Основа *perinth- в составе топонима Perinthus = Heraclea = Marmara
Ereglisi, Tekidag Ili, скорее всего, является производной с суф. -inth- от корня
*per- со значением какого-то вида растительности (дуба?), ср. этимологию
хоронима Апсинтия. Возможно, однокоренное праслав. *Perunъ < *P’araunas
< *Kueraunos и алб. Perëndi – бог Перун.
Основа *perkuaun- в составе фрак. теонима (дат. падеж)
из эпиграфики Гемимонта [Detschew 1976, 364] сопоставима с лит. Perkunas,
лтш. Perkons; Perkune [Топоров 1977];
Основа *perontik- в составе – городок на берегу между
Аполлонией и Тиниадой (Ptol. 3: 11, 4) представляется мне производным с
суф. -ik- от основы *peronti-, напоминающей архетип алб. Perëndi – бог
Перун.
Корень *peu- в составе , Peutace (XIII в.) – замок в
окрестностях Адрианополя может иметь значение «малый», ср. лат. paucis.
Основа *phrugia в составе топонима , Phrygia (¢pÕ d•
Salmudhssoà e„j Frug…an st£dioi tri£konta kaˆ triakÒsioi. ™nqšnde ™pˆ
Kuanšaj e‡kosi kaˆ triakÒsioi [Arrianus]), позднее Fila,, Filea,
filia, fillea, если это не эллинское наименование, отвлеченное от этнонима
фригийцев, оно может отражать некое «финеидское» словообразование с
этимологическим слабым p/φ-. Пересчет стадий на км (330 x 0,186 = 61, 38
km, 320х0.186 = 59.84) позволяет поместить искомую Фригию-Филею где-то
в окрестностях Орманлы, Караджакёй, а Салмидесс – в Кыйыкёй.
Основа *poleg- ‘военное ополчение, войско, полк, толпа, народ’ в
составе Tzonpolšgwn – крепость в Гемимонте (Prokop. aed. IV 11; Detschew
1976, 498), как и алб. plogu ‘толпа’, продолжает и.-е. *pㅚgo-, pelego, plēgo
‘Kriegshaufe, Heer, Haufe, Schar, Volk; военное ополчение, войско, толпа,
народ’ по глаг. *pel-, pele-, plē- (Pokorny III, 798–799), ср. праслав. *pъlkъ,
прагерм. *fulkaz ‘толпа, народ, народное ополчение’, гот. fulks. Весь топоним
значил нечто подобное ‘(крепость) та, куда военное ополчение (сходится)’.
Основа *polo- в составе топонима Polos – ныне Yoğuntaş (Polos)
Kalesi, Kirklareli Ili, circum 350 AD castrum, выглядит как эллинское слово.
Основа *poltu- в составе , фрак. антропонима (Pape
1911: 1221) или апеллятива
(Detschew 1976: 273–274; Pape 1911: 1221), , ср.
праслав. *poltno, производному с суф. -no от основы *polt-, восходящей к и.-
е. *pelt-: *polt-: *plot- ‘ткань’, ирл. lotnā ‘полотно’ из *plotnā.
Основа *puli в составе , Pouille – ныне Alpullu Höyük Tepe,
Babaeski, Kirklareli Ili, руины в 11 км к ю-в. от Babaeski, не имеет надежной
этимологии. Если перед нами испорченная форма топонима, то возможно
сопоставление с дакийскими гидронимами и топонимами Apilas flumen,
Apoulon, Apulum, Apula, colonia Apulensis, (сюда ли италийская Apulia?)
[Detschew 1976, 19], сопоставимы с др.-прус. Appol, Apellowe;
Основа *raidesto- в составе фрак. топонима
, Redesto, Rodesto, Redosto, Rodosto,
Resisthos, Resistos (Tekir-dağ) [Detschew 1976, 388, 391] сопоставима с лит.
radastà, radãstas, radostas, redẽstas ‘Hecke, Dorn, Rose; живая изгородь, тёрн,
слива колючая, колючий кустарник, шиповник’ [Fraenkel III 683; Топоров
1977]. Любопытно отметить семантическую близость и эллинистической
этимологии этого топонима; Galenus Med. De succedaneis liber 19.727.2: 'Antˆ
gentianÁj, ˜lšnion À petrosel…nou r…za. ¢ntˆ gentianÁj r…zhj, sel…nou
¢rwmatikoà r…za, Øp£rcei d• tÕ petrosšlinon À ra…don, œsti d• tÕ ˜lšnion.;
Hesych. R 51.1: *raide‹tai· skèptei;
Основа *rakulē ~ *rakul’ā в составе `RakoÚlh – крепость в Гемимонте
(Prokop. aed. IV 11; Detschew 1976: 389) и фрак.
(Detschew 1976: 235, 389),
вероятно, уменьшительное производное с суф. -ulē (слав. -уля) от *rak-
‘раковина’ (?), ср. Бекули, или словосложение некоего *ra- (?) и *kul, ср. др.-
инд. sura-kula- ‘жилище богов’?
Основа *rēba- ~ *r’āba- в составе гидронима Вифинии ,
Rebas, Rheba и производного этнонима, ИС Rabocetus,
(Detschew 1976: 392) сопоставимо с др.-инд. rábhas ‘сила, мощь’,
rabhasá- ‘бурный, стремительный, сильный’;
Основа *rēs- ~ *r’ās- в составе ИС , Rhesus, Resus, Rhesa
и, видимо, производный топоним (Detschew 1976: 393, 395), скорее
всего, сопоставимо с др.-инд. rasa- ‘жидкость, вода’ и ras ‘жидкость, влага,
земля, страна’, восходящими в свою очередь к глаголу arşati ‘течь’;
основа -sad- в составе «фракийских» и «скифских» мужских ИС
(Detschew
1976: 57, 353) тождественна др.-инд. -sád в сложных словах со значением
‘находящийся, живущий в ...’ (Кочергина 1996: 682).
основа sadama в составе , Sadame, Sadamia – место в области
Asticae, ныне Umur-Fakih (Detschew 1976: 409), Sadama (Gerardus Mercator
1634; Joan van der Bruggen 1737), Sadaina (Giacomo de Rossi 1684; S’Sanson
1691). То ли аналог др.-инд. sadhana- ‘богатый’, то ли производное с суф. -ma
от аналога др.-инд. sada- ‘сидящий на, живущий в’, то ли сигиннск. (индоар.)
словосложение *saṅ- ‘с, вместе с’ и *dama(n) ‘дом’ или *dāma(n) ‘дающая
(воды), впадающая’, ср. фрак. топоним Uscudama – ныне Эдирне (Detschew
1976: 349), синдо-меот. *dama(n), др.-инд. dhaman (как в ) ‘home;
дом’ или *dāmá(n) ‘дающий, донор; a giver, donor’ (Corakanda –
).
Основа *salm- ‘солёный’ в составе Salmud[hss]wi [Hipponax],
Salmudhssw [Strab.], Salmudhssoj, kÒlpoj toà PÒntou, tÕ ™qnikÒn
Salmud»ssioj kaˆ Salmudhss…a kaˆ Salmudhsshno…, À apÕ tÒpou scšsij
Salmudhssoqen [Stephan. Byz.] – предположительно Мидие, Kiyikoy
(Detschew 1976: 414) сопоставимо с греч. ‘морская вода, солёность’ и
алб. njelm ‘быть солёным’ (Pokorny III, 878). Вторая часть производящей
сложной основы – *ud- ‘вода’ (краткостная ступень огласовки *ued-n-, *ued-
r-, *uod-).
Основа *saltika в составе топонима Saltik» ('Eparc…a Qr®khj, ½goun
EÙrèphj· ØpÕ konsilar…wn, toutšsti bouleutîn, pÒleij id· EÙdoxioÚpolij,
`Hr£kleia, 'ArkadioÚpolij, BizÚh, P£nion, ”Ornoi, G£noj, Kall…polij, M»rizoj,
Saltik», SaÚada, 'Afrodis…a, ”Aproj, Koil…a.) не получила убедительной
этимологии, хотя имеет вид балтийского словообразования.
Основа *sarmath- в составе – крепость в Гемимонте (Prokop.
aed. IV 11) с известной долей вероятности толкуется как производное с суф. -
at(h)- от *sarma- как в . Корневая часть – вариант и.-е. *sermos
‘течение, струя, река, поток’, ср. др.-инд. sárma- ‘течение’ и фрак. , лит.
Sérmas, польск. Śrem, болг. Стряма (Георгиев 1958, 101; Он же 1960: 24–25,
42, 53, 65, 80, 83, 100, 123, 138), представлено еще в дакийск. Sarmategte,
Sarmazege, Sarmizegetusa. В таком случае, первичное знач. Sarmathモn
предположительно реконструируется как ‘обильный струями’ (Шапошников
2009). Альтернативное толкование – форма этнонима сарматы;
Основа *sauada в составе топонима SaÚada ('Eparc…a Qr®khj, ½goun
EÙrèphj· ØpÕ konsilar…wn, toutšsti bouleutîn, pÒleij id· EÙdoxioÚpolij,
`Hr£kleia, 'ArkadioÚpolij, BizÚh, P£nion, ”Ornoi, G£noj, Kall…polij, M»rizoj,
Saltik», SaÚada, 'Afrodis…a, ”Aproj, Koil…a.) может иметь индоиранскую
природу.
Основа *serio- в составе топонима Seriotechnitae
Seriotechnitae = Gaziköy, Şarköy, Tekirdag с неясным этимоном.
Основа *sēlu- ~ *s’ālu- в составе
толкуется как ИС в вин. пад. фрак.
антропонима (Detschew 1976: 438), (Pape
1911: 1376). Исход на носовой (окончание вин. п.?) первой части данных
словосложений позволяет предположить, что определение и определяемое
были связаны в них особым типом управления. Похоже, перед нами не
двусоставные слова, а падежные словосочетания, в которых первая
(падежная) форма подобна лат. ad urbem, ad castrum, ad rivum, ad silvam etc.
Основа *sēsto- в составе , Sestos, Sestus – топоним на Херсонесе
(Eceabat, Çanakkale Ili) и антропоним [Detschew 1976, 439] сопоставим
с др.-прус. Sestin, Seestin [Топоров 1977];
Основа *sira- в составе этнонимов у Нипсы на реке Эргин,
(Detschew 1976: 448) толковали на основе др.-
инд. формы sir ‘поток, река, водосток’;
Основа *skopo- в составе топонима и гидронима Scopos –
крепость в Гемимонте, ныне Üsküp Hisarlik Kalesi, Üsküpdere, Kırklareli Ili,
скорее всего, греч. происхождения с первичным знач. «наблюдательный
пункт».
Основа *skurmia- в составе этнонима – народ в местности,
примыкающей к Месембрии, Анхиалу, Аполлонии, скорее всего, греч.
производное от имени родоначальника, ср. – город в области
долионов близ Кизика (Detschew 1976: 463). Skurmiádai – ‘потомки Скюрмия
или Скюрма’. Этимология корневой части не имеет ономасилогического
обоснования. М. б., этноним тотемического происхождения от варианта и.-е.
*kuㅳmi- ‘(красный) червь’, праслав. *čьrmъ, *čьrmь, *čьrmьnъ (ЭССЯ 4, 149–
150).
Основа *staua в составе Ghtrist£ouj Ghtrist£oie – крепость в
Гемимонте (Prokop. aed. IV 11) напоминает слав. za-stava ‘застава’. В таком
случае первичное значение топонима – «застава Гетриев»
Основа *stūr-a, -as, -os, -om ‘locus possessorum, недвижимое имущество,
родовое владение, дом и земля’ имеет ближайшее цельно-лексемное
соответствие в др.-инд. прилаг. sthāvará- ‘неподвижный, постоянный,
недвижимый (об имуществе)’, сущ. sthāvaráh м. р. ‘гора’, sthāvarám ср. р.
‘любой неподвижный объект, недвижимое имущество, дом и земля, семейное
владение, которое долго сохранялась в семье и не должно продаваться’
(Monier-Williams 1963: 1264). Варианты *storo- [, Durostorus] и
*stolo- [Durostolon, ] также соотносимы с др.-инд. вариантами
sthūrá-, sthūlá-, sthaura- ‘прочный, сильный, массивный, крепкий, могучий,
толстый’ (Monier-Williams 1963: 1265). Известны древние топонимы
Gestistyrum – XII m.p. Hadrianopoli ad Hebri oram. In villa quae sermone patrio
Gestistyrum [Getystyrum, Getistirum] interpretatione vero Latine linguae locus
possessorum vocatur; ea possessio et fontibus habundat et nemore, ornate messibus
et vineis (Acta SS. Oct. 9, 555, 22 oct. a. 304), (Proc. Aed. IV 11)
«родовое владение царя» – Дъскотна (?), (EG) «родовое
владение Сикинюя» – Трапоклово, Сливенско, (Proc. IV 11)
castellum ad Scaidava где-то в Добрудже, (Ptol. III, 10, 5),
Durostorus (Amm. Marc. 27, 4, 12), Durostolon (GR 186, 17), (Proc.
IV 11) – Силистра (Георгиев 1958: 167–168; Шапошников 2007: 77);
Основа *sura- в составе SoÚraj – крепость в Гемимонте (Prokop. aed. IV
11; Detschew 1976: 470–471), согласно одному толкованию – вариант *zura
‘вода’, ср. арм. ĵur ‘вода’ (Георгиев 1958: 100–101, 111). Выпущено из виду
и.-е. слово *sūro-, *souro- ‘кислый, горький, солёный’, ср. лит. sㄢras, лтш. sũrs
‘salzig, bitter; солёный, горький’, ст.-прусск. МН Sure, лтш. МН
Sūrupe,праслав. *surovъ(jь), *syrъ(jь), кельт. Sūra, др.-исл. saurr (Pokorny IV,
1039). Первичное знач. ‘суровая’ или ‘горькая (вода)’ (?). Крепость могла
быть названа по качеству местной воды (Шапошников 2009).
Основа *suro-ter- ‘богатырь’ в составе Suroterhj – теоним из
эпиграфики Гёктепе (Звездец, М. Търново), первая часть двусоставного
теонима, похоже, действительно фрак. -, , -, Sure-,
-, - в двусоставных ИС Souratralis, (Detschew 1976:
486–487), вероятно, сопоставимо с авест. sūra- ‘герой, предводитель,
геройство’, др.-инд. śūra- ‘герой, воин’ (ср. śūra-patnī ‘супруга героя’, śūra-
putrā ‘имеющая сына-героя’, śūra-sena ИС) (Detschew 1976: 472; Georgiev
1984: 209) или с др.-инд. sura- ‘бог, божество’. Вторая часть теонима
предположительно, и.-е. *ter-, tere-, tㅳ-, trā-, teru- ‘преодолевать, одерживать
верх, побеждать’, ср. др.-инд. tára- ‘преодолевающий, спасающий’, -tara-
‘побеждающий’ (Pokorny IV 1074; Кочергина 1996: 236). Структура фрак.
теонима имеет многочисленные аналоги в др.-инд. двусоставных
образованиях типа sura-kula ‘жилище богов’, sura-gaja- ‘божественный слон’,
sura-dvipa ‘материк богов’, sura-dviş ‘враг богов’, sura-dhanuş ‘радуга’, sura-
pura ‘город богов’, sura-purodhas ‘домашний жрец богов’, sura-rşi
‘божественный мудрец’, sura-loka ‘мир богов’, sura-sarit ‘божественная река’,
sura-suta ‘сын богов’, sura-sundarī ‘божественная красавица’, sura-strī
‘божественная апсара’, surādhipa ‘владыка богов’. Т. о., Surotérēs –
‘победитель богов’. Невольно приходит на ум и структура слав. *bogatyrь,
предполагаемого заимствования из тохарских или индоиранских диалектов
Таримского бассейна (Иванов 1998: 327). Примечательная
словообразовательная и семантическая параллель.
Основа *çalmo- в составе антропонима ,
Zalmoxis (Detschew 1976: 173) сопоставима с др.-инд. словосложением carma-
‘кожа, шкура’ и kşī- ‘владелец, обладатель’ подобно др.-инд. композитам
carmakasa, carmacakşus; ср. иран. *carman-, осет. carm (Абаев 1958: I, 290);
Основа *takē в составе Peutace, Peutace (XIII в.) – замок в
окрестностях Адрианополя, ср. лит. istaka ‘исток, источник’.
Основа *tarp- ‘мостик, трап’ или *tarpa- ‘впадина, котловина’ (?) в
составе топонима Tarpodizus , Tarpodizus, Tarpudizos, Tarpudision
– mutatio в 13 км. к северу от Кирклесе (Detschew 1976: 492; Георгиев 1958:
99, 111; Геогриев 1960: 100, 104) Tarpodiſus (Gerardus Mercator 1634),
Tarpadiso (Giacomo de Rossi 1684; S’Sanson 1691), Tarpodizus (Joan van der
Bruggen 1737) = Kovya Kalesi, Kuzulu köyü, Kırklareli Ili, castrum III–IV AD.
Kuzulu // Koruköy (едва ли существовавшая крепость в XVII–XVIII вв.).
Первую часть двусложного фрак. мн сопоставляли с лит. tárpas
‘промежуток, пустота’, с цслав. трапъ ‘трап’, с тохар. tarp ‘болото, озеро’
[Дуриданов 1976, 129]. С другой стороны, привлекательно сопоставление с
осет. сущ. tærf ‘впадина, котловина’, ‘долина, русло реки’, ‘лесная чаща в
котловине’ (Абаев 1962: 365). Последнее слово получило внутреннюю
реконструкцию *tarpa- (ИЭСОЯ III, 267), которая совпадает с фрак.
рефлексом.
Основа *tearo- в составе Tearus flumen,
= Ambarkaya sepulcrum, 5 km off Vize, -
100-50 BC остается без убедительной этимологии.
Основа *tēesi- в составе ThesimÒnth – крепость в Гемимонте (Prokop.
aed. IV 11; пропущено в Detschew 1976: 498), явное фрак. сложное слово с
соед. -i- некоего ИС Thesoj и сущ. ж. р. *montē ‘выступ’, сопоставимое с
*montos (м. р.) во фрак. Haemimontus, ср. лат. mentum ‘подбородок’.
Основа *tirizi- в составе T…rizij akra, cwr…on ™rumnon, Ð pote kaˆ
Lus…macoj ™cr»sato gazofulak…J [Strabwn] = Синеморец (Каланджа),
Царево) без убедительной этимологии. Археологический объект обнаружен и
исследуется французскими археологами.
Основа *tiro в составе топонима Tirodiza, = Şarköy, Tekirdag
Ili, vide Trislasis agora остается без убедительной этимологии.
Основа *thōkuodi- в составе QwkÚwdij – крепость в Гемимонте (Prokop.
aed. IV 11) не получила удовлетворительной этимологии. Словосложение thō
+ kuōdis ‘?’ или thōk+uōdis ‘ток воды’?
Основа *tri- в составе топонимаTrislasis Agora, =
Şarköy, Tekirdag Ili, vide Tirodiza, вероятно является падежной формой
числительного три (*tris?).
Основа *tundzio- в составе гидронима и ойконима , Tonzus –
долина Тунджи (Detschew 1976: 511), гидронима Tonzi (Peter van der Aa
1714), ойконима Tonzi [portus] (Ortelij 1585), оронима Tonzi chersoneſus,
Tonzo (Spiridonov 1980: 252) – порт и полуостров где-то между Созополем и
Девелтом, ИС ж. р. – в надписи из Таушан-тепе близ Ямбола,
сопоставима с лат. tunsio, -onis ‘биение, удары’, tundo, tutudi, tunsum, tusum,
tundere : litus tunditur unda ‘волна плещется о берег’, tunsae pectoral palmis.
Скорее всего, именное производное от фрак. глаг. *tundiō ‘бить, ударять с
шумом’. Мотивом номинации мог быть шумный морской прибой у мыса
(Георгиев 1958: 62–63; Георгиев 1960: 27–28, 53, 65).
Основа *tzimb- в составе топонима – ныне Eceabat на
Херсонесе Фракийском, вероятно, восходит к *tiimp- ‘?’.
Основа *tzit[t]a- в составе Tzitaetoàj – крепость в Гемимонте (Prokop.
aed. IV 11; Detschew 1976: 497), двусоставного топонима, сложения фрак. ИС
(Дакия), (Ниш) или (Detschew 1976: 192) <
*tiitta-. Целиком: Tzitaetoûs ‘доля (рода) Чита’.
Наречная форма *tzon ‘сюда’ в составе Tzonpolšgwn – крепость в
Гемимонте (Prokop. aed. IV 11; Detschew 1976, 498), скорее всего, – форма
вин. пад. ж. р. ед. ч. *tzo- ‘сюда’, фрак. ti-, tia-, zio-, ср. ИС
(Detschew 1976: 189, 502), продолжение и.-е. *tio- (*tā-, *to-), ср. лит. čiõn
‘сюда’, čià ‘здесь, тут’, алб. së (род., дат. пп., ед. ч. ж. р.), др.-инд. tyá ‘тот, тот
который’, др.-перс. tya ‘тот который’ (Pokorny IV 1086–1087). Второе слово –
форма вин. пад. ж. р. ед. ч. *polegō, вероятного продолжения и.-е. *pㅚgo-,
pelego, plēgo ‘Kriegshaufe, Heer, Haufe, Schar, Volk; военное ополчение,
войско, толпа, народ’ по глаг. *pel-, pele-, plē- (Pokorny III, 798–799). Весь
топоним значил нечто подобное ‘(крепость) та, куда военное ополчение
(сходится)’.
Основа *tzōida в составе Tzueidèn– крепость в Гемимонте (Prokop. aed.
IV 11; Detschew 1976, 498), епископство , Tzue…dwn, TzwЏda, TzwЏdwn
™parc…aj = Saray, Tekirdag Ili. 'Eparc…a AƒmimÒntou· MhtrÒpolij 'Adrianoà œcei
Øp' aÙt¾n pÒleij ½toi ™piskop¦j e, oŒon tÕn Meshmbr…aj, tÕn SwzopÒlewj, tÕn
PloutinoupÒlewj, tÕn 'AnastasioupÒlewj, tÕn Tzw•dwn 'Eparc…a tÁj aÙtÁj·
(Epiphanius Scr. Eccl. Notitiae episcopatuum, w. 27, line 450)
этимологизируется в связи с скифо-таврическим топонимом на портоланах
XIV–XVII вв. пятый порт после Воспро zauida (LIV, LVIII), ㈤auida (LV,
LXIV, LXV), çauida (LX), zauda (LIX), cauda (LXII), ㈤auidi (LXVIII, LXIX) –
ныне мыс Чауда < *tiāuida ‘?’. Так как перед нами сознательный перенос
скифами привычного топонима, то он еще функционировал в речи как
апеллатив.
Основа *tzorol[l]-, *tzurul[l]- в составе
(VI–VII saec. AD) (Ãn d• oátoj ¢n¾r basilšwj m•n 'Ioustinianoà dorufÒroj,
™peˆ ™j toÝj Kandid£touj kaloumšnouj telîn œtuce, tîn d• ƒppikîn katalÒgwn
Ãrcen, o‰ ™n Tzouroulù tù ™n Qr®kV frour…J ™k palaioà †druntai, pollo… te
kaˆ ¥ristoi Ôntej. kaˆ aÙtoÝj oƒ Sklabhnoˆ trey£menoi oÙdenˆ pÒnJ ple…stouj
m•n a„scrÒtata feÚgontaj œkteinan, ”Asbadon d• katalabÒntej ™n m•n tù
paraut…ka ™zègrhsan (Procop. De bellis 7:38:5:4); q. “Opwj e„j TzouroulÕn t¾n
pÒlin `Rwma‹oi sugkleisqšntej ØpÕ toà Cag£nou poliorkoàntai. (Thephylactus
Simoc. W.3:6:1:15); TzorollÒj: pÒlij Qrvkik», ¹ par¦ pollo‹j TzouroullÕj
legomšnh (Suda T 450, line 1); Churlot (XIII saec. AD), Chierloch, Chiorloch
Chiorloch (Vissocher XVII) = Çorlu Kalesi, Tekirdag Ili) восходит, скорее к
*tioraul-, нежели к аналогу арм. ĵur ‘вода’.
Основа *upa (высокочастотный топоэлемент -) в составе
двусложных гидронимов типа ‘Черна вода’, ‘Розовая вода’
справедливо сопоставляется с лит. Aise-upė, лтш. Aisa-upe, ср. др.-инд. ap-
‘вода’ в словах ap-as, ap-saras, ap-tya-, со значением ‘вода, река’;
Основа *uerdouiza в составе Uerduizo, Urdoviza – ныне Китен,
Приморско, Бургасско не получила внятного толкования, но имеет признаки
двусоставности: словосложение апеллатива типа др.-инд. vŕdhā ‘river, sea’ (к
прим. Marud-vŕdhā ‘river Indes’) + индоиранск. viç- ‘родовой поселок; вьсь;
; vicus’ с соединительным -о-.
Основа *ūsku- или *uisku- в составе топонима Uscudame –
Адрианополь (Kaˆ qriambeÚousin ˜k£teroi LoÚkoulloi, pÒlewj aÙtoÝj tÁj
OÙskoud£mhj· eŒle d• kaˆ t¾n KabÚlhn,..) и гидрониме –
Искър сопоставима с кельтскими аналогами, др.-ирл. uisc.
приставка *z- в составе Zdebr»n – крепость в Гемимонте (Prokop. aed.
IV 11; Detschew 1976: 178) и во многих фрак. реликтах типа
, Zburulus,
, Zcambu, (Detschew 1976:
177–178, 192) восходит к и.-е. eg’hs-, ср. ст.-лит. iž, лтш. iz, праслав. jьz-. А
фрак. *debrē, производное с суф. -r- от рефлекса и.-е. *dheb- ‘толстый,
крепкий’, ср. тохар. А tpär, В tappre, täpre- ‘высокий’ (Pokorny I, 239),
праслав. dobrъ (ЭССЯ 5, 45-46). Графическая передача может отражать фрак.
окончание вин. п. -, что позволяет усматривать в данном топониме
предложно-падежное словосочетание *z debrēn с предполагаемым знач. ‘из
крепости’ (?), в отличие от лат. ex, фрак. z управляет вин. пад. См. Debre.
Основа *zenthē-, частотный компонент имен собственных во Фракии
(Detschew 1976: 181), сопоставим как с др.-иран. zanta ‘род;
родом’ zanti, zantu (Абаев 1989: IV, 297, 314), др.-инд. jātá- ‘сын’, ‘рождение’,
‘род, вид’ (Кочергина 1996: 222), так и c праслав. *zętь ‘зять’ (Шапошников
2011).
Из более сотни топонимов Гемимонта и Европы, имеющих внятную
этимологию, отмечу небольшую группу оскско-кельтских изоглосс (7%),
включая такие важные и частотные топоосновы как bria, представленная
обильно в Галлии, и uiscu, которая как бы указывает на западный предел
Финеид. Остается гадать, что перед нами – след галатского государства Тиле
или гораздо более раннее языковое наследие первых и.-е. поселенцев региона
в -2800-2500 или -2350-2200 гг.
Столь же малочисленна и группа германо-дарданских изоглосс (6%), из
которых львиная доля по всем признакам является наследием готской
поселенческой кампании 370-х гг. н. э. Из архаичных достоин особого
упоминания лишь гидроним Тунджа, который доносит действительно
древний корень *tund- звукоподражательной природы, ср. эллин. ,
лат. tundere, англ. thunder. Этот гидроним, имея все признаки «фракийской»
фонетической адаптации, также находится у западного предела древнего
распространения Финеидов.
Из 100 сопоставлений с выясненной этимологией на индоиранские
языки приходится 33%, включая изоглоссы, общие для индоиранских, балто-
славянских и прочих и.-е. языков. Эти слова могли попасть в местные говоры
из говоров проникающих во Фракию древне- и средне-иранских этнических
групп (персов, сарматов, туранцев). Но такие, предположительно
апеллятивные заимствования типа diza ‘стена’ немногочисленны – 8%.
Много труднее объяснить большое количество (25%) изоглосс с др.-инд.
языком. Остается предположить, что это – лексический вклад сигиннов, тем
более что цепочка некоторых топофооснов (к прим., styra) тянется от Дуная
до Марицы. Но многие лексемы могли быть заимствованы в диалект Финея
еще из общего индоиранского диалекта кефенов Иоппы. См Кефей и
индоиранцы.
Лексемы албанского вида составляют 6%, они нередко имеют и балто-
славянские соответствия.
Лексемы армянского вида составляют 3%, к тому же, некоторые из
топонимов могли появиться в конце античности в связи со всякого рода
внутренними миграциями населения в Римской империи.
Лексика балтийского вида составляет 21%, славянского – 25% (вместе
– 46%). К ним следует прибавить 12% основ и корней, которые определяются
как «фракийские» или «скифские», так как это эндогенная лексика,
преимущественно имена собственные (эпонимы и этнонимы), которые тоже
могут со временем получить балто-славянские сопоставления. См. Скиф и
скифы.
В результате, приходим к выводу, что указанный мифологией регион
является ареалом преимущественно скифо-балто-славянских языковых
реликтов, шире, языковых форм языкового состояния Агеноридов. См.
Агенор и хайк.
Более того, это уже балто-славянские формы вполне развитого
состояния диалектов этой группы, со многими чертами фонетики,
присущими даже историческим идиомам, к прим. мутация ti- > c (как в
скифском, литовском и восточнославянских), чередования ia ~ ē (как и болг.
вариативность). Скорее всего, это позднее состояние диалектной
дивергенции, когда уже существовали скифский, гелонский и агафирский
диалекты, т. е., с первой половины – середины I тыс. до н. э. Уже ясно
проступают фонетические инновации: «восстановление» четырёх- или
пятирядного вокализма, далеко зашедшая палатализация консонантизма. Но
их общий предковый вид также находился в этой части Балканского п-ова, и
оставил языковые реликты более архаичного фономорфологического облика
(трехрядный вокализм, аканье, сохранность этимологических -sk-, -ks-).
И этот предковый вид должен был быть армяно-албано-скифо-балто-
славянской группы, т. е., тяготел к языку Агеноридов. См. Агенор и хайк. Но
характерной чертой этой группы была заметная гибридизация с
индоиранской группой, с языком Белидов, манавов, предкового вида
индоиранских и митаннийского языков и диалектов. См. Бел и белиды,
Кефей и индоиранцы.
Эти характеристики очень хорошо согласуются с мифологическими
указаниями на родственные связи и периоды совместного проживания на
Ближнем Востоке Агеноридов и Белидов. А фратрия Фойника, как следует из
мифов, в прямом смысле роднила эти две древние общности восточных
индоевропейцев.
Достигнув некоторой ясности в вопросе атрибуции языка Таргитая и
Финеидов на ономастическом материале, можно присмотреться теперь и к
свидетельствам лингвистики.
2б свидетельства лингвистики
Восточно-индоевропейские языковые реликты известны именно во
Фракии:
глосса ‘зерна полбы, Emmerkorn’ (Detschew 1976: 87)
сопоставима с др.-иран. диал. vrīzi-, vrīδi-, vrīji-, др.-инд. vrīhí мн. ч. ‘зёрна
риса’, примечательна слабая смычка β- (произносилось как современные исп.
b-, v-?);
глосса , gizsa, gisoj, gisa, g…ssa: l…qoj ‘камень’ (Detschew 1976: 30,
106), ср. 'Asg…zouj крепость в Гемимонте (Prokop. aed. IV 11);
глосса ‘крепость, замок, укрепление’
(Detschew 1976: 132) сродни др.-иран. *daiza- ‘глинобитная стена’, др.-инд.
dehī- ‘насыпь’, ‘плотина’, праслав. *zьdъ (с метатезой);
глосса ‘винопийца, пьяница’ (Detschew 1976: 420)
толкуется как словосложение аналогов др.-инд. çaṇa- ‘конопляный напиток’
и -pā ‘пьющий’;
глосса ‘шкура медведя’ (Detschew 1976: 175)
сопоставима с др.-инд. carma-, carman ‘кожа, шкура’, осет. царм. Буква ζ
передает звук [ç], а τζ – [č];
Примечателен набор предлогов и приставок, хорошо известных из
скифо-фракийского языкового материала: фрак. bi- ~ праслав. *obi- < *abhi-,
фрак. au- ~ праслав. û- < *au-, фрак. z- ~ лит. ìš, праслав. *jьz- (ЭССЯ 9, 6–8 и
след. приставочные производные).
Совпадают падежные формы фрак. tzon ~ лит. čiõn ‘сюда’ < и.-е. *tio-.
Реальное восточно-индоевропейское языковое состояние
реконструируется в следующем виде:
вокализм
ī ’ā ā ā ū i ’a a a u ’āi āi āi ’ai ai ai ’āu āu āu ’au au au (Pohl 1979: 122–132;
Pohl 1980: 369–370);
консонантизм
j v m n l r s b b/β p/φ d d/δ t/θ g g/γ k/χ z z ç g g/γ k/χ (Шапошников 2011:
160); смычные согласные и аффрикаты имели вялую смычку, что как
тенденция полностью реализовалось в центре диалектного ареала (скифский
язык, см. Скиф и скифы) и было преодолено на периферии (праславянский и
прабалтийский языки, см. Агафирс, Гелон); весьма вероятна позиционная
палатализация зубных: dj > dz (*gardzos, *tundzos), tj > tz (tzon-) также с
ослабленной смычкой в центре ареала и сильной смычкой в периферийных
диалектах.
Ассимиляция bz/ps > s(s) (Apsinthia), dz/ts > s(s) (?), gz/ks > s(s) (Axine,
Kolaxais, Zalmoxis) еще не наступила; в этимологическом стечении sk не
произошла еще метатеза ks и дальнейшая мутация в χ (Scordisci, Uscudama).
Анализ фрако-скифского языкового материала позволяет сделать
некоторые выводы об основных тенденциях развития восточно-
индоевропейского языкового состояния. На уровне фонологии:
В области вокализма заметна тенденция мутации ’ā, ’a > ’
к историческим написаниям в виде . Вариативность ’a ~’e с тех пор стала
отличительной чертой Балкан, ср. «ятова граница» в современной болгарской
диалектологии.
Фракийско-скифские реликты дают примеры мутации ū > œ, которая
отразилась на письме в чередованиях и : ~ . Ср. раннепраслав.
мутацию ū > y [ы].
Заметна тенденция вариативности в.-и.-е. *а: е ~ а ~ о, особенно в
неударных слогах.
Заметна тенденция стяжения в.-и.-е. дифтонгов ’āi āi āi > ē, ’ai > ệ, ai ai
> ệ, ’āu > , āu āu > ộ, ’au > œ, au au > ộ. См. Агафирс и славяне.
В области консонантизма
/b, /d, /g соответствуют как и.-е. bh, d
h, g
h, так и и.-е. b, d, g,
прогрессирует ослабление смычки;
φ/p, θ/t, χ/k соответствуют как и.-е. ph, t
h, k
h, так и и.-е. p, t, k,
прогрессирует ослабление смычки;
tz-, z- часто передают звук č-, восходящий к и.-е. ti- (как в лит. c-).
На уровне словообразования отмечу разнообразие флексий:
имена ж. р. на -ā, -ī, -ū
имена м. р. на -as, -ās (+ -), -us
имена ср. р. на -an, -un
высокочастотные соединительные гласные при словосложении -а- и -i-
На уровне именного словоизменения выяснена форма вин. п. ед. ч.: -n,
иногда -m (позиционно и ассимилятивно), имена м. и ж. р. на -h имели форму
вин. пад. -hn.
Предполагается развитие формы род.-дат. пад. на -í.
Можно выделить также употребительные аффиксы: префиксы ana-, bi-,
au-, z- и суффиксы -ai-, -ak-/-iak-, -an-/-ian-/-ēn-, -at[h]-, -er-, -ik-, -in-, -i-, -oul-,
-tr-, -uo- (Vlahov 1968).
Среди двусоставных существительных (Бояджиев 1980: 93–96) обращу
внимание на фракийско-дакийскую модель с соединительным -i-. Приметная
парадигма «дакийского» словосложения с “соединительным” -i-
двусоставных топонимов с -dava на конце присуща в равной мере и
фракийскому словообразованию с -para. Большинство первых элементов при
словосложении оканчиваются на -i- (иногда передаётся графически как --),
ср. , Kur…daua и т. п.
Если подыскивать аналог подобного словосложения, то приходят на ум
архаичные греческие формы типа , при
‘белый, блестящий’, ( + ), которые возникли
на основе словосочетаний (определение + определяемое). При этом
определение оканчивается на гласный, отличный от тематического гласного
его основы или, возможно, рассматривается как основа на согласный (без
тематического гласного). Это – первая словобразовательная модель с
соединительным -i-.
Правда, имеются и примеры словосложения типа (гл. +
сущ. ), в котором глагольная часть выступает в роли предшествующего
определения. Славянские сложные имена типа *Xoti-borъ, *Xoti-mirъ, *Xoti-
slavъ, *Obręti-slavъ образованы на базе словосочетаний «хотеть, домагаться
чего-н.» с глагольной частью, предшествующей определяемому. Считается,
что первая часть – форма повелительного наклонения глагола.
Эти две парадигмы отличаются не только порядком следования
именных и глагольных частей, но и различной природой «соединительного» -
i-: в праславянском – от глагольных окончаний.
Для языковых реликтов Гемимонта ближе первый эллинский тип
словосложения, так как определение перед топоформантами -buna, -diza, -
para есть либо прилагательное, либо имя собственное, к примеру, этноним
(родоплеменное наименование) или антропоним. В таком случае, исход
первой основы на -i- есть нечто подобное показателю родительного падежа.
Поэтому Kasibona, Dridipara – буквально «Касиева хижина», «Дридиев дом»
(Шапошников 2007: 75).
Словосложения с соединительным -a- (Bel-a-styras, Burz-a-ona), как и в
дакийской ономастике, имеют соответствие в «догреческой» модели типа
.
Случаи словосложений с соединительным -o- (греко-римская модель),
похоже, является результатом эллинистического и римского переосмысления
и переоформления субстратной ономастики по греко-римским моделям.
На уровне семантики также обнаруживаются примечательные явления.
Отмечу семантические параллели фракийской и современной ономастики
ареала: Basibounon – Каргуйското кале, Syroteres – Богатырь, Kabotoumba –
Голямата могила.
Примечательны топонимы, обозначавшие некие особые строительные
и фортификационные приёмы типа обшивки доской (Burdepto), окружения
рвами, окопами (Beros, Gesilafossaton), возведения стен (Deixas, Kleisoura,
teichos), а также некоторые проприальные термины (aetos, oikou, styras),
обозначающие особые виды фракийского землевладения и недвижимой
собственности.
А в целом, лингвистический анализ подтвердил схему языкового
родства:
1 степень – скифские, славянские и балтийские языки между собой
2 степень – скифо-балто-славянская и албано-армяно-хеттская группы
3 степень – скифо-балто-славяно-албано-хетто-армянская и
индоиранская группы.
3 свидетельства ДНК-генеалогии
Кого же могли застать Финей и его фратрия на европейских берегах в
последней четверти XVI в. до н. э.? Как это подробно обсуждается в разделе
Девкалион, в юго-восточной Фракии реальными в то время были только
следующие гаплогруппы:
Предковая гаплогруппа I-M170 составляет совокупно от 9.8 – до 29.8%
населения Греции (Эллады и Македонии соответственно), потомки
неиндоевропейских спутников неких древних и.-е. общностей.
Гаплогруппа I2a1*-M423 составляет 6.5% греков Эллады и 17.5%
греков Македонии, далматинского происхождения, стародавние
неиндоевропейские спутники иллиров и кельтов. Проникали в Македонию и
Элладу на протяжении тысячелетий, в эпоху великого переселения народов и
в раннее средневековье. Очень осторожно можно предположить, что древние
субклады этой гаплогруппы были тюрсенами (тюрренами) и мосюнойками
(строителями деревянных башен – Herodian.: mÒsun mÒsunoj (shma…nei d� tÕn
xÚlinon pÚrgon); mÒsun, ¹ xÚlinoj o„k…a, kaˆ kl…netai mÒsunoj·). Ср. тюрсены
г. Крестон в Македонии, тюрсены на Лемносе, город Мосинополь
где-то в Родопской епархии (Anna Comnena Hist.: Alexias
VI:3:3:1-2).
Гаплогруппа I2a2-М26 составляющая ныне всего 1.6% албанцев
БЮРМ, близкородственная сардинцам (40-50%), каталонцам (5-10%), баскам
(5-10%), бретонцам (15-20%), кимрам (5-10%) представляет собой дилемму:
то ли перед нами предковая группа для спутников галаической и.-е.
общности, то ли основа васконской неиндоевропейской общности.
Предковая гаплогруппа R1а*-SRY 10831.2 составляет всего 1.8%
греков Македонии. Это интересное свидетельство того, что именно
Македония (южные ее области?) являются промежуточной прародиной этой
индоевропейской гаплогруппы на Балканах.
В частности, особенно интересующая нас гаплгоруппа R1a1*-M17
составляет 16.3% населения Эллады, до 25% в Фессалониках, 10.5% в
среднем по Македонии, 6.8–10.3% в Румелии. Это не только славяне,
поселившиеся в Македонии и Элладе в правление императора Маврикия и
проникавшие позднее с территории славянских Болгарии и Сербии, но и
потомки древнего населения, настоящих эллинов и македонцев. Эта
гаплогруппа имела несколько ответвлений, одно с общим предком, жившим
11425±1780 или даже 11650±1550 лет тому назад, другое с общим предком
4350±680 лет тому назад (близок гаплогруппе на Русской равнине), третье с
общим предком 1850±530 лет тому назад (Klyosov 2009, 238). Относительно
небольшая доля этой гаплогруппы в населении Греции объясняется древним
исходом эллинов-индоевропейцев в колонии классического и
эллинистического времени. В результате значительного оттока аборигенного
и.-е. населения опустевшие территории заняли другие, пришлые
неиндоевропейские гаплогруппы (Е-М78, Е-М123; I2a1*-M423; R1b1b2-
M269).
Гаплогруппа R1a1-M17 в Румелии составляет ныне всего 6–10%
населения, частотность повышается к востоку (!), ближайшие родственные
ветви этой гаплогруппы обнаруживаются в Греции (Klyosov 2009), Анатолии
(Weale et al. 2001; Cinnioğlu et al. 2004, 127–148) и Армении (Nasidze et al.
2004, 205–221, 208).
Как уже говорилось, общий предок субклада гаплогруппы Армянского
нагорья жил около 4500±1040 лет тому назад, т. е. раньше родственного
субклада гаплогруппы в Анатолии.
Общий предок субклада гаплогрупп Эллады жил около 4350± 680 лет
тому назад и был близок предку гаплогруппы на Русской равнине (Klyosov
2009, 238).
Общий предок субклада гаплогруппы в Анатолии жил около 3700 лет
тому назад, то есть, как раз в интересующую нас эпоху. Видимо, это и есть
общий предок финеидов, фюнов, вифинов, мариандинов, скифов, агафирсов
и гелонов.
Гаплогруппа R1b1c(R1b1b2)-M269 составляет 17.4% населения Эллады
и 14.0% населения Македонии, что сопоставимо с 18.2 – 18.8% албанцев
Албании и БЮРМ, 15.1% венгров, 18.2% поляков, 21.3% словенцев, 41.8%
итальянцев (сев.-восток Италии). Возраст общего предка этой гаплогруппы
R1b1b2 около 4450 лет, базовый гаплотип R1b1c10 чуть моложе – 4375 лет. К
тому же, это западная подгруппа R1b-M269 DYS393-12/DYS A7.2-12 STR
имеет характерные отличительные признаки, свидетельствующие об ее
давнем обособлении от восточной (анатолийской подгруппы). Эта
гаплогруппа осваивала Европу позже индоевропейской гаплогруппы, после -
1625-1600 гг. достигла Испании. Из Испании переправилась на Сардинию
(после -1300) и Сицилию. Время появления этой гаплогруппы на Сицилии –
вторая половина II тыс. до н. э. Эта гаплогруппа, вероятно, была издавна
спутником индоевропейской гаплогруппы кельтиберов (см. Полифем и
кельты). Время максимального распространения этой неиндоевропейской
гаплогруппы в Западном Средиземноморье коррелирует с временем
существования центра индоевропейского ареала в Элладе. Но маршрут входа
этой гаплогруппы в Грецию остается неясным, скорее всего, из Албании
через Эпир или с моря и архипелага Кефалления. Не удается указать никаких
иных семиотических маркеров этой гаплогруппы кроме баскского языка.
Анатолийская ветвь гаплогруппы R1b имеет в качестве семиотического
маркера собирательное наименование «киклопы», кузнечное ремесло и
возведение циклопических кладок (см. анатолийские гаплогруппы в разделе
Килик и хетты). Но этот субклад не переправился в Европу и не обосновался
там до сих пор, наибольшая концентрация анатолийского субклада, как
известно, Пафлагония и Вифиния (14–15% современного населения!).
Поэтому перенос общего наименования «киклопы» на европейскую
подгруппу имеет мало оснований.
Таким образом, прибывшая в XVI в. до н. э. фратрия Финея
(гаплогруппа R1a1 с возрастом общего предка в 3700 лет тому назад) могла
встретить на Финеидских побережьях древнюю кровнородственную фратрию
(гаплогруппа R1a1) с возрастом общего предка 4350 лет тому назад. См.
Инах. Что делает вполне возможным схождение двух языковых состояний и.-
е. праязыка: языка инахидов и языка их далёких потомков агеноридов
(интервал – 650 лет параллельной языковой эволюции).
Кроме того, там могла присутствовать еще более древняя и.-е. фратрия
(гаплогруппа R1a1) с общим предком, жившим еще в мезолите, которая
также могла быть носителем некоего крайне архаичного и.-е. языка («диалект
фратрии Крия»), обособившегося в юго-восточной Фракии около первой
половины III тыс. до н. э. В данном случае интервал параллельной языковой
эволюции превышает тысячелетие. См. Уран и ранние индоевропейцы.
Есть некоторая вероятность того, что восточно-индоевропейская
фратрия Финея встретилась и с неиндоевропейскими фратриями
(гаплогруппами I2 и R1b), которые двигались в юго-восточном направлении.
4 свидетельства археологии
Интересующий нас регион (Гемимонт) остается плохо исследованным
археологами. В рассматриваемую эпоху он был почти полностью покрыт
густыми девственными лесами, что создавало известные препятствия и
затруднения для развития скотоводства и земледелия, вообще, производящей
экономики.
Для второй половины II тыс. до н. э. практически нет археологических
данных. Неизвестно, насколько археологические культуры Нижнего
Подунавья влияли на Финеидские берега. Не ясно также, проникали ли
носители западно-анатолийских культур поздней бронзы на европейский
берег. См. карту.
С конца II тыс. до н. э. на большой территории от Пропонтиды до
Стримона, от Родопы до Тираса и Тисы складывается единая
археологическая культура фракийского гальштатта. Это и есть Старая
Скифия, которая помимо отеческих Финеид и Малой Скифии включала в
свой состав всю остальную Фракию до хребта Гема и реки Стримона, а также
Трансильванию и Потисье. Эта археологическая культура представляет
собой изрядное единство на протяжении добрых 500 лет.
Завершается этот славный период единых Финеид около 600 г. до н. э.,
когда в Трансильвании обосабливается общность агафирсов-травсов (См.
Агафирс и славяне), а гелоны обосабливаются в ново-освоенной лесостепи к
северо-востоку от Тираса (См. Гелон и балты). Единый культурный ареал
Малой Скифии и Фракии распадается на несколько региональных
археологических культур.
Опыт согласования свидетельств
В результате сведения воедино всех доступных свидетельств
получается следующая реконструкция этногенеза финеидов.
Во второй половине XVIII в. в Финикии обособилась фратрия Агенора
и Фойника, которая, будучи многочисленной, перенесла в новое место
жительства и возраст общего предка этого рода, который жил еще в середине
III тыс. до н. э.
В XVII в. уже существовала фратрия Финея-Тиргутава в нижнем
течении реки Оронт, предковая фратрия для скифов, славян и балтов. Общий
предок этой фратрии жил около -1700 г. по расчетам ДНК-генеалогов.
200-летнее проживание этой фратрии в Ориенте, по соседству с
другими и.-е. фратриями привело к некоторой гибридизации диалектов
агеноридов и белидов, к обособлению диалекта фратрии Фойника и Финея-
Тиргутава. Кроме того, этот диалект испытал воздействие
неиндоевропейских языков и диалектов: ливийско-египетского и шумеро-
семитского языковых ареалов.
Около последней четверти XVI в. фратрия Финея-Тиргутава
мигрировала по морю вдоль азиатского побережья Киликии и Анатолии
(каботажное плавание на трех/шести пентеконтерах?) и, пройдя проливы,
достигла берегов Пафлагонии, где поселилась на небольшом острове,
основав городок Сесам. Видимо, место поселения оказалось неудобным.
По каким-то причинам и при неизвестных обстоятельствах фратрия
Финея-Тиргутава оставила свой городок Сесам в Пафлагонии и переселилась
на европейский берег Понта Евксинского, вероятно, в идеально
расположенный на взморье Салмидесс. Местность была чрезвычайно удобна
для рыболовства и других морских занятий, но для сельского хозяйства
практически непригодна из-за маломощных почв и девственных
непроходимых лесов, многоводных рек и заболоченных долин. В таких
природных условиях началось становление новой этнической общности.
Девственные леса Гемимонта долгое время препятствовали расселению
фратрий Фенеидов в западном направлении. Более доступным оказался
выход на юго-восток к Византию.
Поэтому финеиды освоили сначала п-ов Финия (Тюния), затем
переправились на азиатский берег и освоили Вифинию, дав начало еще двум
дочерним филам (финам и мариандинам). Эти филы расселились юго-
востоку от отцовского удела (старших финеидов) к северо-востоку от
материнского удела (дарданцев).
Весьма вероятно, что уже при переселении в Салмидесс племя Финея-
Таргитава состояло из трех фратрий, давших начало трем великим
этническим общностям позднейших времен: скифам, агафирсам
(праславянам) и гелоно-будинам (прабалтам). Этносы финов и мариандинов
– младшие фратрии, были ассимилированы в эпоху эллинизма.
Язык этого племени был предковым видом для скифского,
праславянского и прабалтийского. Несмотря на раннюю дивергенцию
фратрий, диалектная дивергенция наступила спустя добрых 900 лет. Это
значительный временной период для языковой эволюции.
Через 250 лет после водворения в Салмидессе финеиды (три старших
фратрии Колаксая, Липоксая и Арпоксая) приняли своими царями сыновей
Геракла и общее наименование по наиболее харизматичному из них, Скифу.
Номинально и формально – это конец эры Финея-Таргитая, начало эры
Скифа. См. Скиф и скифы. Но фактически единая общность финеидов
продолжала существовать и развиваться после этого еще около 625 лет.
За эти годы финеиды под руководством трех царей освоили новый
регион, вероятно, выйдя через Девелт в Малую Скифию, заселение которой
растянулось на 200 лет, и достигли северо-восточного предела, реки Тюрас
(Днестр). Судя по всему, колонисты трёх старых фратрий покинули
побережья Финеиды при жизни молодых царей Скифа, Гелона и Агафирса,
которых Геракл и другие аргонавты не застали уже в 1275 г. до н. э. Миф
повествует о напасти хищных гарпий на дом Финея, что может быть
иносказанием о каких-то реальных природных бедствиях, побудивших
старшие фратрии Финеидов выселиться в более благоприятные области. И
они действительно обрели прекрасные земли для ведения земледелия и
скотоводства в расширенном масштабе. Лессовые почвы Малой Скифии
несравненно плодороднее тощих земель Финеид.
Все же Финеиды принимали некоторое участие в Троянской войне
около 1220–1210 гг. до н. э., после которой во всем регионе начался
многовековой упадок цивилизации. Но именно в эти времена финеиды
начали осваивать более плодородные местности Астики и долины Тунжи и
Гебра, предгорья восточных Родоп.
В XII–XI вв. до н. э. три старших фратрии финеидов освоили
плодородные земли Малой Скифии от черноморских берегов до предгорий
Гема и Железных Ворот. Видимо, по долине реки Олт достигли
Трансильвании, а в северо-восточном направлении освоили не менее
плодородную Молдову, достигнув реки Тюраса от устья до истоков.
Повсюду финеиды-скифы заставали малочисленное местное население,
говорившее как на индоевропейских, так и на неизвестных нам
неиндоевропейских языках. Это население, похоже, было быстро
ассимилировано скифами в языковом и культурном отношении.
На огромных просторах Скифской державы от Боспора и Херсонеса
Фракийского до Стримона, от Родопы до Тираса и Тисы сложилась единая
культурная, и, видимо, языковая общность поздних финеидов или ранних
скифов. Примечателен циклический факт – через 1800 лет эти же территории
будут интегрированы болгарским государством 670-970 гг.
Этот период процветания продолжался около 400 лет и завершился к
600 г. до н. э. дезинтеграцией единой культуры, выделением региональных
культур и языков в Трансильвании (см. Агафирс и славяне), в лесостепи
между Тирасом (Днестр) и Вингрисом (Северский Донец) (см. Гелон и
балты), в Малой Скифии и Великой Скифии (см. Скиф и скифы), в долинах
Тунджи и Гебра (Одрисы). Собственно отеческие Финеиды обезлюдели,
запустели и погрузились в череду «тёмных веков».
Языковое и культурное состояние финеидов, таким образом,
охватывает период между -1525 и -600 гг., почти 1000 лет. Эта эра Финея-
Таргитая – важный период в эволюции предкового языкового вида
современных славянских и балтийских языков. Многие пережитки этого
предкового языкового состояния заметны и в современных языках, даже
весьма удаленных ныне от своей промежуточной прародины – побережья
Финеидов.
Использованная литература
Aygül Süel // Sedat Alp. Hethitische Briefe aus Maşat-Höyük. Türk tarih
kurumu başimevi. Ankara, 1991, 362.
Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio. Ed. Gy.
Moravczik. Wash., 1967.
Dečev D. Charakteristik der thrakischen Sprache. Sofia, 1952;
Dečev D. Charakteristik der thrakischen Sprache. Zweite Auflage //
Linguistique Balkanique, II, 1960.
Detschew D. Die Thrakischen Sprachreste 2 Auflage mit Bibliographie
1955–1974. Von Živka Velkova. Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften. Wien, 1976.
Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957.
Duridanov I. Thrakisch-dakische Studien. I. Die thrakisch- und dakisch-
baltischen Sprachbeziehungen. Sofia, 1969, 77.
Hind J. G. F. Anchors, crayfish and facingheads: Silver coins of Apollonia
on the Euxine Sea, 89–104;
Knobloch, Johann. Homerische Helden und christliche Heilige in der
kaukasischen Nartenepik. 1. der Sonnenheld 2. Religiöse Volkskunde der Osseten
(Stichwörter zur Volkskunde und Religionsgeschichte aus V. I. Abaevs Historisch-
etymologischem Wörterbuch der ossetischen Sprache). Heidelberg, 1991, 66–67.
Laroch E. Hittite -ima: indo-européen -mo- // Bulletin de la Société de
Linguistique. Paris, 52, 1956, 78–79.
Marcellus Empiricus. De medicmentis liber, V в.
Mayer Anton. Die Sprache der alten Illyrier. Bd I: Einleitung; Wörterbuch
der illyrischen Sprachreste (29–363). Wien, 1957.
Mayer Anton. Die Sprache der alten Illyrier. Bd II:Etymologisches
Wörterbuch des Illyrischen (1–127). Illyrischer Grammatik den illyrischen Sprache
(128– 300). Wien, 1959.
Mayerhofer A. Iranisches Personennamenbuch. Bd. I Die altiranischen
Namen. Wien, 1979. I/105.
Mihailow G. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. Vol. II (1958); III 1
(1961); III, 2 (1964); IV (1966), Sofia;
Monier-Williams M. A Sanskrit-English dictionary etymologically and
philologically arranged with special reference to cognate Indo-European
languages. New edition, greatly enlarged and improved. Oxford, 1964.
Mǖlenbach K. Latviešu valodas vārdnīca, red. J. Endzelīns. Rīgā, 1923, I,
267.
Pohl, Heinz Dieter: Zum phonematischen Status der sogenannten
Halbvokale (Jers) im Ur- und Gemeinslavischen // Lautgesghichte und
Etymologie. Akten der VI. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft. Wien,
24. – 29. September 1978. Herausgegeben von Manfred Mayrhofer, Martin Peters,
Oskar E. Pfeiffer. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1980 – 580 SS. (367–
376)
Pohl, Heinz Dieter: Zur Vorgeschichte des slavischen Vokalsystems // GLS
9 (1979) 122–132.
Petit D. Le participe du verbe “être” en vieux prussien // Hㅳd〢 mánasā.
Сборник статей к 70-летию со дня рождения профессора Л. Г Герценберга.
Отв. ред. Н. Н. Казанский. СПб., 2005.
Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern, 1949–
1950.
Schmid W. P. Das sprachgeschichtliche Problem Alteuropa //
Sprachwissenschaft. Bd. 8. Heft 2, 1983;
Schmid W. P. Indogermanische Modelle und osteuropäische Frühgeschichte
// Ak. d. Wissn. u. der Lit. r. Mainz. Abh. n. der Geistes-u. sozialwiss. n. Kl. Jg.
1978, № 1. Wiesbaden, 1978;
Schramm G. Alteuropas nordpontische Namenlandschaft // Indogermanische
Forschungen, Bd. 84. 1979;
Schramm G. Nordpontische Ströme. Namenphilologische Zugänge zur
Frühzeit des europäischen Ostens. Göttingen, 1973.
Skardžius P. ArchPhilK 3, 49.
Szemerenyi, Oswald KZ (Zeitschrift für vergleichende Sprachfoschung auf
dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, begründet von A. Kuhn, Berlin,
1852 seq.), № 70, 65.
Vasmer M. Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I. Die
Iranier in Südrussland. Leipzig, 1923.
Vlahov K. Das thrakisches Wort para und seine Deutung // ŽA, 1966, № 2,
302, 304;
Vlahov K. Die L- und K-Suffixe in der thrakischen Personennamenbildung
// Ann. de l’Univ. de Sofia, Fac.des letters, T. LXII, 1968, № 1;
Vlahov K. Die Vertretung der indoeuropäischen und im Thrakischen //
Ann. de l’Univ. de Sofia, Fac. des letters. T. LX, 1966;
Vlahov K. Nachträge und Berichtigungen zu den thrakischen Sprachresten
und Rückwörterbuch // Annuaire de l’Université de Sofia, Faculté philologique, t.
57, 2, Sofia, 1963;
Vlahov K. Spuren thrakisch-slawischer Sprachbeziehungen vor unserer
Zeitrechnung (bulgarisch.) // Nationale Konferenz uber Ethnogenesis und das
kulturerbe des bulgarischen Volkes, Ende Mai 1968, Sofia, 1971, 21–25;
Vlahov K. Thrakische Sprachreste im Bulgarischen. Einleitung // Thracia V.
Problemes Ethno-culturels de la Thrace antique. Serdicae, 1980, 53–92.
Vlahov K. Thrakische Sprachreste im Bulgarischen. Einleitung // Thracia V.
Problèmes Ethno-culturels de la Thrace antique. Serdicae, 1980, 81.
Vlahov K. Thrakisch-slawische Parallelen (bulgarisch.) // Godisnik Sof.
Univ., Filolog. Fak., Bd. 63, 1969, 1, 171–233.
Z. Ivanov, D. Dimov, Chr. Pimpirev, N. Kouneva. Les Resultats
preliminaires de l’analyse petrographique des ancres en pierre et des jas du littoral
bulgare de la mer Noire, 135–150 // Thracia Pontica II Deuxième Simposium
international. Thème général “Le Littoral Thrace et son role dans le monde
ancien”. Sozopol, 4–7 octobre 1982. Jambol, 1985.
Zgusta L. Kleinasiatische Personennamen. Prag, 1964; Idem 1984: 539;
Vanagas 290. Zinkevičius 1977, 114;
Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т.
I. М.-Л., 1958; Т. II. Л., 1973; Т. III. Л., 1979; Т. IV. Л., 1989.
Бояджиев Д. Некоторые аспекты деления двусоставных фракийских
личных имен // Thracia V. Problèmes Ethno-culturels de la Thrace antique.
Serdicae, 1980, 95.
Вербич С. О. Капратські топоніми з основою желемен-, зелемен-
/зелемін- у давньоєвропейському онімному контексті // Международная
конференция «Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры» (V
Чтения памяти академика О. Н. Трубачёва), Алупка, 25–30 сентября 2008 г. /
материалы конференции. Киев; М., 2008, 29–32.
Влахов К. Тракийски лични имена. Фонетико-морфологични
проучвания // Studia Thracica, 2, София, 1976;
Георгиев Вл. Въпроси на българската етимология. София: издание на
БАН, 1958.
Дуриданов И. Езикът на траките. София, 1976.
Етимологiчниï словник лiтописних географiчних назв Пiвденноï Русi.
Киïв, 1985.
Журавлев А. Ф. К уточнению представлений о славянских изоглоссах.
М., 1990, II, 52.
Иванов В. В., Топоров В. Н. Карпаты в связи с проблемами расселения
древних индоевропейских племен // Симпозиум по проблемам карпатского
языкознания (24–26 апреля 1973 г.) Тезисы докладов и сообщений. М., 1973,
22–25.
Калужская И. А. Палеобалканские реликты в современных балканских
языках (К проблеме румыно-албанских лексических параллелей). М., 2001,
28.
Калыгин В. П. Этимологический словарь кельтских теонимов. М.,
2006, 91–92.
КБН – Корпус боспорских надписей. М.-Л., Наука, 1965
Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь. М.,1996.
Осетинско-русский словарь. 2-е дополненное издание. Орджоникидзе,
1962.
Откупщиков Ю. В. Догреческий Субстрат. У истоков европейской
цивилизации. Л., 1988, 157.
Откупщиков Ю. В. Очерки по этимологии. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-
та, 2001.
Охманьский Е. Участие западных балтов в развитии средневековой
Литвы // конф. 1978, М., 1978, 112–113.
Петренко В. Г. Локальные группы скифо-образной культуры лесостепи
Восточной Европы // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское
время. М., 1989, 74–75.
Подосинов А. В. Еще раз о происхождении имени города Керчь //
Античный мир. Византия: К 70-летию профессора В. И. Фадеева (сб. науч.
трудов). Харьков, 1997, 156.
Соболевский А. И. Русско-скифские этюды. 8. Пантикап – Керчь //
Известия Отделения русского языка и словесности Российской академии
наук. СПб, 1921, Т. 26, 39.
Топоров В. Н. К фракийско-балтийским языковым параллелям //
Балканское языкознание. М., 1973, 30–51;
Топоров В. Н. Древнебалканские связи в области языка и мифологии /
Балканский лингвистический сборник. М., 1977, 40–seq.
Топоров В. Н. Еще раз о древних западно-балканско-балтийских
языковых связях в ареальном аспекте // Славянское и балканское
языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984, 10–25.
Топоров В. Н. Из индоевропейской этимологии II (3); Фрак.
ΣΠΆΡΤΑΚΟΣ в индоевропейском контексте // Исследования по этимологии и
семантике. Т. 2: Индоевропейские языки и индоевропеистика. Кн. 1. М.,
2006, 89–94; 283–296.
Топоров В. Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. 1: Теория и
некоторые частные ее приложения. М., 2005.
Топоров В. Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. 2:
Индоевропейские языки и индоевропеистика. Кн. 1. М., 2006.
Топоров В. Н. Карпаты в связи с проблемами расселения древних
индоевропейских племен // Симпозиум по проблемам карпатского
языкознания (24–26 апреля 1973 г.) Тезисы докладов и сообщений. М., 1973,
22–25;
Топоров В. Н. Несколько иллирийско-балтийских параллелей из
области топономастики // Проблемы индоевропейского языкознания. М,
1964;
Топоров В. Н. Этимологические исследования по русскому языку. I.
М., 1960.
Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов
Верхнего Поднепровья. М., 1962.
Трубачев О. Н. Indoarica в Северном Причерноморье. М., 1999.
Трубачев О. Н. Дополнения ко 2-му изд-ю Фасмер М.
Этимологический словарь русского языка, T. II, 1986, 226.
Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины:
Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация. М., 1968.
Трубачев О. Н. Таврские и синдомеотские этимологии // Этимология,
1977. М., 1979, 127–144;
Трубачев О. Н. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по
данным этимологии и ономастики // Славянское языкознание: IX Междунар.
съезд славистов, Киев, сент. 1983 г.: Докл. сов. делегации. М., 1983. 243.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 3 (Муза
– Свят) / Пер. с нем. и доп.О. Н. Трубачёва. 3-е изд., стер. СПб., 1996.
Шапошников А. К. Νοτισαρύη – «Нимфа Морской Влаги»
(этимологические наблюдения) // Проблемы археологии и истории Боспора.
К 170-летию Керченского музея древностей. Тезисы докладов юбилейной
конференции 25–27 июля 1996 г. Керчь, 1996, 77–82.
Шапошников А. К. Древнейшая ономастика Таврического
полуострова. Боспор Киммерийский // Студiï з ономастики та етимологiï.
2007 / НАН Украïни. Iн-т укр. мови. Ред. кол.: В. П. Шульгач (вiдп. ред.) та
iн. К., 2007, 316–326;
Шапошников А. К. Древнейшая ономастика Таврического
полуострова. Боспор Киммерийский (европейская часть) // Вопросы
ономастики – 2008, № 6, 25.
Шапошников А. К. Индоевропейский этногенез – свидетельствует
мифология, лингвистика, ономастика и ДНК-генеалогия // Индоевропейская
история в свете новых исследований: сборник научных статей // М.: МГОУ,
2010. – 394 с. – СС. 251–262.
Шапошников А. К. Най-древната ономастика на историко-културната
област Хемимонт // Състояние и проблеми на българската ономастика 10.
Материали от международна конференция «Славянска и балканска
ономастика» (Велико Търново, 25–26 септември 2009 г.).
Шапошников А. К. Праславянское *čędo, čętъ и фракийское ΚΕΝΘΟΣ //
Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Велико
Търново, 2011. – 431–437.
Шапошников А. К. Проблема праславянских соответствий x ~ sk ~ sc //
Русский язык в его истории и современном состоянии, русская
диалектология и ономастика. Сб. научн. статей. – М.: Отделение историко-
филологических наук РАН, 2009.
Шапошников А. К. Производные праславянского глагола *kyti // Ad
fontes verborum. М., 2005, 432–444.
Шапошников А. К. Славянский глоттогенез, этногенез и ДНК-
генеалогия (опыт согласования свидетельств гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин). // Научный журнал «Вопросы филологии»
– спецвыпуск: VI Международная научная конференция «Язык, культура,
общество» Москва, 22–25 сентября 2011 г. Т. 2. Пленарные доклады (148–
163).
Шапошников А. К. Финеиды и восточно-индоевропейское языковое
состояние // Езикът и културата в съвременния свят. Материали от
Международната научна конференция, проведена в Университет «Проф. д-р
Асен Златаров» – Бургас на 22 и 23 юни 2012 г. – 560 с. – сс. 546–552;
Шапошников А. К. Этимологические наблюдения \\ Этимология. 1997–
1999. М., 2000, 192–199.
Шапошников А. К. Этимология языковых реликтов фракийского вида в
Северном Причерноморье // Международная конференция «Северное
Причерноморье: к истокам славянской культуры» (5 Чтения памяти
академика О. Н. Трубачева), Алупка, 25–30 сентября 2008 г. / материалы
конференции. – Киев; М., 2008. – СС. 187–192.
Шапошников А. К. Этимология языковых реликтов фракийского вида в
Северном Причерноморье // Київська старовина. – № 5 (383). – Київ, 2008.
Шапошников А. К. Языковые реликты фракийского облика в Северном
Причерноморье // Этимология 2009–2011. Отв. ред. Ж. Ж. Варбот. М.: 2012.
Шапошников О. К. Найдавнiша ономастика Малоï Скiфiï // Науковий
вiсник Чернiвецького унiверситету: Збiрник наукових праць. Випуск 354–
355. Слов’янська фiлологiя. – Чернiвцi: Рута, 2007. – 281 с. – сс. 74–83.
Яйленко В. П. Всесоюзный симпозиум «Античная балканистика-4» //
ВДИ 1982, № 3.
Яйленко В. П. Фрако-дакийская и иллирийская топонимика
Европейской Сарматки и Скифии // Античная балканистика. Карпато-
балканский регион в диахронии. Предв. материалы к международному
симпозиуму. М., 1984.