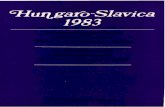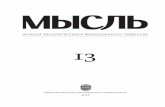О некоторых проблемах периодизации сербского средневекового зодчества. Термин «Моравская школа».
Г. Бабаяров, А. Кубатин К вопросу о некоторых...
Transcript of Г. Бабаяров, А. Кубатин К вопросу о некоторых...
�аза�стан Республикасыны� М�дениет ж�не спорт министрлігі
�аза� �ылыми зерттеу-м�дениет инстиуты
�АЗА�СТАН ЖНЕ ОРТАЛЫ� АЗИЯ ХАЛЫ�ТАРЫНЫ� МАТЕРИАЛДЫ� ЕМЕС МДЕНИ М�РАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ
МСЕЛЕЛЕРІ:ТОПОНИМИКА, ЭПИГРАФИКА, �НЕР
Халы�аралы� �ылыми конференция материалдарыны� жина�ы
Астана �аласы
18–19 �араша, 2014 ж.
EVO PRESS баспасы
Алматы
2014
ОК 930.85КБК 63.3 П 78
Кітап �аза%стан Республикасы Білім ж;не <ылым министрлігіні? нысаналы ба<дарламалар бойынша %аржыландырылды ж;не М;дениет ж;не спорт министрлігіні?
«КDшпенділерді? тарихын, архелогиясын, этнографиясын, м;дениетін ж;не Dнеріне Iйренуге %атысты %олданбалы <ылыми зерттеу жIргізу» атты <ылыми-зерттеу жобасын
жIзеге асыру ше?берінде орындалды.
Редакция ал�асы:
А. Р. Хазбулатов (т%ра�а), И. В. Ерофеева (жауапты ред.), А. Е. Рогожинский, Н. Б. Базылхан
П 78 �аза%стан ж;не Орталы% Азия халы%тарыны? материалды% емес м;дени мK-раларын зерттеу м;селелері: топонимика, эпиграфика, Dнер. Халы�аралы� �ылы ми
конференция материалдарыны� жина�ы. – Алматы: «EVO PRESS» баспасы, 2014. – 292 б.
+ 32 б.
ISBN 978-601-230-050-5
Б;л жина�та, �аза�стан ж�не Орталы� Азия к%шпелі халы�тарыны� ежелгі д�уірден жа�а
заманны� cо�ына дейінгі материалды� емес м�дени м;раларын зерттеуді� %зекті м�селелеріне
арнал�ан (Астана �аласында 2014 ж. �арашаны� 18–19 к=ндері %ткізілген) халы�аралы� �ылыми
конференция�а �атысушыларды� хабарламалары мен �ылыми ма�алалары топтастырылды.
Жарияланып отыр�ан материалдарда, Еуразиялы� номадтарды� алуан т=рлі кезе�деріндегі
тарихи топонимикасы, эпиграфикасы, ку�лендіруші та�ба-белгілері, %нері жайында отанды�
ж�не шетелдік �алым мамандарды� жа�а �ылыми зерттеу н�тижелері �амтылды. Сондай-а�,
аны�талын�ан топонимдік обьектілерді� �ызметтік м�н-жайы, к%шпелі халы�тарды� т;рмыс-
тіршілігінде к%рініс тап�ан сан-�илы м�тіндер мен бейнелер ха�ында талдау жасалын�ан.
Оларды� аума�ты� к%лемдегі номадтарды� рухани м�дениеті ескерткіштері бола алатын
�;ндылы�ы к%рсетілді, ма�ыздылы�ы ай�ындалды.
УДК 930.85ББК 63.3
ISBN 978-601-230-050-5© �аза� �ылыми зерттеу-м�дениет
инстиуты, 2014
© «EVO PRESS» ЖШС баспасы, 2014
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Казахский научно-исследовательский институт культуры
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯНЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯНАРОДОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ТОПОНИМИКА, ЭПИГРАФИКА, ИСКУССТВО
Сборник материалов международной научной конференции
г. Астана,
18–19 ноября 2014 г.
Издательство EVO PRESS
Алматы
2014
УДК 930.85ББК 63.3 П 78
Издание осуществлено в рамках реализации научно-исследовательского проекта «Проведение прикладных научных исследований по изучению истории, археологии,
этнографии, культуры и искусства номадов» Министерства культуры и спорта и оплачено за счет программно-целевого финансирования Министерства образования и науки
Республики Казахстан
Редакционная коллегия:
А. Р. Хазбулатов (председатель), И. В. Ерофеева (отв. ред.), А. Е. Рогожинский, Н. Б. Базылхан
П 78 Проблемы изучения нематериального культурного наследия народов Казахстана и Центральной Азии: топонимика, эпиграфика, искусство. Сб. мат-лов межд.
науч. конф. – Алматы: Издательство EVO PRESS, 2014. – 292 с. + 32 с. вкл.
ISBN 978-601-230-050-5
В сборник вошли статьи и сообщения участников международной научной конференции
(г. Астана, 18–19 ноября 2014 г.), посвященной актуальным проблемам нематериального куль-
турного наследия кочевых народов Казахстана и Центральной Азии от эпохи античности до кон-
ца нового времени.
В публикуемых материалах отражаются результаты новейших научных исследований от-
ечественных и зарубежных специалистов по исторической топонимике, эпиграфике, удостове-
рительным знакам-тамгам и искусству евразийских кочевников разных эпох, рассмотрено функ-
циональное назначение выявленных топонимических объектов, изображений и текстов в разных
сферах жизни кочевых народов; раскрыто их значение как памятников духовной культуры нома-
дов региона.
УДК 930.85ББК 63.3
ISBN 978-601-230-050-5© Казахский научно-исследовательский
институт культуры, 2014
© ТОО «Издательство EVO PRESS», 2014
5
СОДЕРЖАНИЕ
От редакционной коллегии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ЧАСТЬ 1
З. А. Джандосова, И. В. ЕрофееваИмя страны: история макротопонима �аза�стан/Казахстан . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Г. АбжановаОсновные проблемы топонимики Казахстана.
Топонимика Восточно-Казахстанской области.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Т. Т. АршабековБ;�ар жырау ауданы бойынша тарихи топонимдеріні� ерекшеліктері. . . . . . . . . . . .33
А. А. БурыкинГидронимы Западной и Средней Сибири. Иртыш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
А. П. ГорбуновОсобенности формирования некоторых топонимов Казахстана . . . . . . . . . . . . . . . . .46
З. А. ДжандосоваДесять Туркестанов: разные значения одного топонима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
И. В. ЕрофееваИсторическая топонимика Казахстана
как составная часть культурного наследия номадов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
С. Т. КожахметоваЭтимология топонима Казалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Е. Ж. ОразбекНекоторые топонимы центральной Сарыарки
(по материалам этнографо-топонимической экспедиции 2014 г.) . . . . . . . . . . . . . . .87
М. К. СембиТюркский фольклор как основа этимологизации топонимов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Т. Д. СкрынниковаОтражение деятельности Чингис-хана в топонимике бурят . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
6
ЧАСТЬ 2
А. Р. ХазбулатовМир кочевников и мир искусства: зверинный стиль в системе
мировоззренческих координат древних номадов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
С. Боранбаева
К%кше %�іріні� �азіргі заман музыкалы� фольклоры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
И. В. КульганекМонгольский поэтический фольклор: жанровый состав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
М. Муканов, М. СулейменовТехнология «Гибкого Чия» в искусстве современного казахского гобелена. . . . . . .137
Б. Е. Оспанов, Ж. Н. Шайгозова, М. Э. СултановаКульт священных деревьев и домбра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
�. . ТDленСыбыз�ы жайлы сыр шертсек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Н. С. ЯхонтоваРукописное наследие ойратов в собрании
Института восточных рукописей РАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
ЧАСТЬ 3
Г. Бабаяров, А. КубатинК вопросу о некоторых доисламских монетах Отрара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Н. БазылханРеконструкция и этимология некоторых названий тамг
тюрко-монгольских этносов VIII–XIV вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Д. Ж. Ерботина
Малоизвестные материалы И. М. Казанцева по родословию Абулхаир-хана . . . . . 207
А. Курумбаев, Ж. КурумбаеваКулпытасы как памятники истории и эпиграфики букеевской орды . . . . . . . . . . . 218
А. К. Муминов, А. Ш. Нурманова, Д. Е. МедероваЭпиграфические памятники Западно-Казахстанской области
как источник по общественно-политической
и духовной истории Казахстана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
7
А. Н. МухареваИзображения тамг на памятниках наскального искусства
севера Минусинской котловины. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Г. С. МырзагалиеваИзучение надгробных памятников некрополя Хан зираты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
А. Е. РогожинскийСословно-династические знаки казахских торе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Е. А. Смагулов, С. А. ЯценкоНовые находки серий доисламских знаков/тамга/нишан
в Туркестанском оазисе (городища Культобе и Сидак):
связь с кочевым миром. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
А. К. ТаласбаеваРодоплеменные тамги найманов по архивным источникам XVIII–XIX вв. . . . . . . . 283
Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
8
ЧАСТЬ 1
ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
На протяжении последних тысячелетий Казахстан и смежные с ним регио-
ны внутренней части континента представляли собой самый большой по террито-
риальному охвату ареал номадизма в Евразии. На этом пространстве одни коче-
вые племена и народы сменялись во времени другими кочевыми объединениями,
что во многом предопределило своеобразный историко-культурный облик страны
до новейшего времени.
Номады Казахстана оставили богатое и разнообразное культурное наследие.
Его узнаваемыми символами стали золотые доспехи сакского воина из кургана «Ис-
сык» и сокровища берельских курганов, явившие миру прекрасные образцы ориги-
нального изобразительного искусства ранних кочевников – дальних предков казах-
ского народа. Менее известны кочевнические культурные феномены более поздне-
го времени – от XV в. до конца первой четверти ХХ века. Для музейных коллекций
материальных предметов, относящихся к этому обширному хронологическому пе-
риоду, характерны немногочисленность, фрагментарность и территориальная раз-
бросанность артефактов, в результате чего многие важные проблемы мировоззре-
ния и духовной культуры степных номадов региона позднего средневековья и по-
следующих эпох остаются до сих пор нерешенными в науке.
К числу крупнейших из них следует отнести пространственно-ориентаци-
онную систему кочевников, которая нашла отражение в сохранившейся до нашего
времени системе народных географических названий. Историческая топонимика
Казахстана является важной составной частью нематериального культурного на-
следия казахского народа и одним из наиболее информативных источников для из-
учения исторического опыта природопользования, экологии и военной истории ко-
чевничества. Однако в этих тематических контекстах она должным образом пока
еще не рассматривалась в научной литературе.
Другой сложной и нерешенной проблемой исторической науки Казахстана
и соседних стран Евразии сегодня остается изучение генезиса, семантики и соци-
окультурной функции удостоверительных знаков-тамг, издревле существовавших
у различных родов и племен кочевого населения центральноазиатского региона.
Специфические условия естественной среды обитания, исторически сложившиеся
механизмы регулирования отношений собственности среди разных социально-тер-
риториальных групп кочевников и прочие обстоятельства обусловили возникно-
вение и развитие в кочевых обществах Центральной Азии особой системы обозна-
чения своих личных и кланово-корпоративных прав на скот и прочие виды мате-
риального имущества – родовых и родоплеменных тамг. Зародившись еще в эпоху
9
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ранних кочевников (I тыс. до н.э.) и получив наибольшее развитие в среде тюрко-
монгольс ких народов средневековья, система знакового маркирования семейно-ро-
довой собственности и правовой защищенности индивидуума традиционно сохра-
няла свое значение у казахов вплоть до новейшего периода.
В новое время регистрация казахских тамг проводилась исследователями бес-
системно и эпизодически. В советский период она почти не затрагивалась в этногра-
фической науке по идеологическим причинам. Но в наши дни, когда перед специ-
алистами со всей очевидностью встала проблема утраты устной народной памяти
о родовых удостоверительных знаках казахов-кочевников, научное изучение этих
традиционных символов, как объектов традиционной культуры и одного из основ-
ных источников по многовековой истории социальной жизни номадов региона, при-
обрело особую актуальность в историко-этнографических исследованиях.
С вышеуказанными проблемами предметно и логически связана необходи-
мость более глубокого и многостороннего изучения различных объектов степной
эпиграфики, тюркского фольклора и декоративно-прикладного искусства евразий-
ских кочевников, которые сегодня по-прежнему остаются недостаточно исследо-
ванными и мало использованными историческими источниками. Между тем, они
имеют важное дополняющее и уточняющее значение для разработки социально-по-
литической истории Казахстана и соседних стран Центральной Азии, выяснения
генеалогии и хронологии общественной деятельности отдельных исторических
личностей и по другим аспектам истории традиционного кочевого общества.
Все эти проблемы определили содержание завершенного в 2014 г. в Казах-
ском научно-исследовательском институте культуры Министерства культуры
и спорта Республики Казахстан большого проекта «Проведение прикладных науч-
ных исследований по изучению истории, археологии, этнографии, культуры и ис-
кусства номадов», конкретные результаты которого были изложены его исполните-
лями на международной научной конференции, состоявшейся 18–19 ноября 2014 г.
в г. Астана. Наряду с ними в работе конференции приняли участие видные специ-
алисты по исторической топонимике, эпиграфике и искусству Казахской степи
и других регионов внутренней Евразии из России (Санкт-Петербург, Москва, Кеме-
рово), Узбекистана и разных областей Казахстана.
На конференции были представлены содержательные доклады и сообщения
по вышеуказанным проблемам, основанные на новейших материалах проведенных
научных исследований в течение последних трех–пяти лет. Большинство заслушан-
ных докладов вошли в виде научных статей в состав настоящего издания и, думает-
ся, вызовут определенный интерес у научной общественности государств Централь-
ной Азии и специалистов-номадоведов других европейских и азиатских стран.
А. Р. Хазбулатов,
доктор философии (Ph.D.)
10
ЧАСТЬ 1
З. А. ДЖАНДОСОВА, И. В. ЕРОФЕЕВА
ИМЯ СТРАНЫ:ИСТОРИЯ МАКРОТОПОНИМА �АЗА�СТАН/КАЗАХСТАН
Имя нашей страны – �аза�стан/Казахстан – связано с названием, точнее,
с самоназванием казахского этноса – �аза�/qazāq/казах – и образовано по модели,
роднящей его с целым рядом других «станов» Евразии и напоминающей о суще-
ствовавшем когда-то в былые времена незримом континенте иранской письменной
культуры. Заимствованное из персидских письменных источников, это слово сме-
шанного тюрко-иранского происхождения (qazāq – ‘казах’ плюс перс. stān – ‘стойби-
ще’, ‘место обитания’, ‘страна’) в настоящее время твердо закрепилось за этнической
и государственной территорией казахов, став в сочетании со словом «республика»
с 16 декабря 1991 года официальным названием независимого государства – Рес-
публики Казахстан. Но не все так было просто с момента появления этого макро-
топонима в персидских летописях и евразийском политическом лексиконе средних
веков. Слишком много внутренних и внешних факторов накладывалось на простую,
казалось бы, дефиницию, означающую этническую территорию и возникшее на ней
государство. К внутренним факторам относится специфика кочевого скотоводства
и кочевой государственности, родоплеменная организация казахского общества
и связанные с нею стремление к сегментации отдельных социальных групп каза-
хов-степняков, замедленный характер консолидации этноса, а также «открытость»
его территории для массового проникновения извне в силу отсутствия на этом гео-
графическом пространстве четких естественных рубежей (специфика «азиатской
границы»). К внешним факторам относятся, прежде всего, долговременный экс-
пансионизм соседних государств, да и ход геополитической истории континента
в целом.
Происхождение топонима связано с историческими событиями, ставшими
началом формирования в Степи, называвшейся в персидских источниках (основных
для этого времени) Кипчакской степью (Дашт-и Кипчак), нового государства – Ка-
захского ханства как политического объединения этнической общности казахов.
Для того, чтобы появилось слово �аза�стан, необходимо было, чтобы возникло
и обрело значение этнонима слово �аза�, и чтобы после этого сложились политиче-
ские условия для переноса нового этнонима на название целой страны. И такое сло-
во в монгольскую эпоху появилось. Оно, вероятно, существовало еще в древнетюрк-
ском языке, однако было зафиксировано в мусульманских источниках лишь в XIII в.
11
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Слово, ставшее впоследствии этнонимом �аза�, долгое время бытовало в качестве
соционима, означавшего в тюркском обществе послемонгольского времени опре-
деленную социальную группу, а также определенный тип социального поведения.
Пос ле этого оно употреблялось в качестве этнополитонима, означавшего принад-
лежность к определенному государственному образованию и постепенно превра-
тилось в чистый этноним. Соционим �аза� при этом уцелел, но в своем первона-
чальном значении стал относиться к другой общности (или к другим общностям),
не имеющим прямого отношения к этнической общности казахов.
Этимология слова �аза� (qazāq) до конца неясна. В анонимном половецко-
арабском (кипчакско-арабском) словаре, составленном в Египте или Сирии для об-
щения с рабами-мамлюками, взятыми в плен в Западном Дашт-и Кипчаке и опубли-
кованном в 1894 г. Мартином Хоутсма в Лейдене по рукописи 1245 года, слово qazāq
переведено на арабский как al-mujarrad со значением ‘свободный’ (другие значения
‘бесприютный’, ‘скиталец’, ‘изгнанник’) [Pritsak, 2006. P. 238]. Если не упоминать со-
всем фантастические идеи, то в разное время предлагались версии происхождения
qazāq от таких глаголов, как qaz – ‘рыть’, qez – ‘скитаться’, ‘бежать, спасаться’. Одна-
ко наиболее убедительной выглядит версия Аннемари фон Габен (1960), согласно
которой глагол qaz в языке орхонских надписей имел то же значение, что и глагол
qaza an–‘собираться’, ‘завоевывать’. По мнению О. Прицака, слово это не было вклю-
чено в словарь Махмуда Кашгари (XI в.), потому что относилось к лексике кочев-
ников, которую не принимали и которой не пользовались оседлые тюрки [там же].
Второе упоминание слова встречается в Codex Cumanicus (1303): в форме Cosac оно
включено в первый текст сборника, написанный в 1294/95 году и представляющий
собой латинско-персидско-половецкий словарь. Копия 1303 г. была переписана
в 1303 г., по всей вероятности, в монастыре Св. Иоанна в столице Золотой Орды –
Сарае. Латинская глосса guayta – ‘страж’ переведена персидским naobat – ‘часовой’
и половецким GhazalCosac, где Ghazal – определение, семантика которого пока
не установлена. В персидских источниках qazāq появляется в тимуридскую эпоху
со значением ‘вольный скиталец’. Появляется и производное от qazāq–qazāqī – ‘ка-
зачество’, но не в значении ‘казачья общность’ или ‘общность казаков’, а в значении
‘образ жизни казака’. Отсюда появлялись выражения со значением ‘вести себя как
казак (по-казацки)’, ‘казаковать’. Например, у Натанзи (1412): darannavāhī basurat-
iqazāqī megardad (‘по той области [он] по-казацки скитался’). Все три случая свиде-
тельствуют о том, что в XIII – начале XV в. слово �аза�/qazāq было в тюркской кип-
чакской среде не этнонимом, а соционимом, обозначением некоего социального
института [там же. С. 239].
Как считает Т. И. Султанов, «каково бы ни было происхождение слова «ка-
зак»,… первоначально оно имело нарицательное значение, в смысле – свободный,
бездомный, скиталец, изгнанник, а также человек удалой, храбрый…, обознача-
ло всякого вольного человека, отколовшегося от своего народа и племени, своего
12
ЧАСТЬ 1
сеньора и законного государя и призванного вести жизнь искателя приключений»
[Кляшторный, Султанов, 2004. C. 249]. В своей «Бабур-наме» ведущий тюркский
писатель того времени – Бабур многократно употребляет слово qazāq: «Мы послали
в набег Монгол Тулуна с двумя-тремя сотнями молодых казаков (или казакующих
джигитов) (ekiuč jüz qazāq jigitlar)»; «С теми, кто страдал вместе со мной, и кому
нужны были средства к существованию, мы совершили несколько казацких набе-
гов»; «тем принцам и воинам, кто участвовал со мной в казацких набегах, были
розданы города и имущество» (цит. по: Pritsak, 2006. P. 239). По словам Т. И. Сул-
танова, исходное значение термина – социальное: «Это состояние… лица… по от-
ношению к правителю, обществу, государству. Так, изгой, который бродит по раз-
ным местам, прокармливая себя мечом своим, – казак; человек, который пускается
в дальний и опасный путь один, без товарищей, – казак; удалой молодец, по выра-
жению Бабура, «неутомимо, с отвагой угоняющий табуны врага, – тоже казак. … Ка-
заком мог стать любой человек, будь он тюрок или перс, рядовой кочевник-скотовод
или принц крови в десятом поколении» [Кляшторный, Султанов, 2004. C. 249–250].
Казаком нельзя было родиться, казаками становились, делались, причем только
на какое-то время (возможно, это считалось своего рода инициацией). Период пре-
бывания в казаках назывался казакованием (казачеством): тюрк. qazaqlyq, перс. –
qazāqī. Наречие qazāqāna, как и выражение basurat-iqazāqī, означало 'по-казацки’
(в т.ч. ‘по-спартански’, ‘скромно’), а словом qazāqdash называли товарища по воль-
ной казацкой жизни. Часто складывались группы, сообщества казаков, совершав-
ших совместные набеги или даже поступавших (в качестве своего рода кондотье-
ров?) на службу к другим правителям. Так, в XV в., после распада Золотой Орды,
в Степи появилось много вольных людей, казаков, поступавших на службу Русскому
государству. Формирование русского казачества началось со степняков, говоривших
по-тюркски.
Когда часть кочевников даштского (степного) государства Абу-л-Хайра, ко-
торое еще называют Государством кочевых узбеков, или Узбекским улусом, в 1459–
1460 гг. ушла во главе с султанами-чингизидами Жанибеком и Кереем (Кираем) из-
под власти Абу-л-Хайра и направилась далеко на восток, в Семиречье, чтобы либо
кочевать там вольно и независимо, либо найти себе другого покровителя, к откоче-
вавшим (и прежде всего к их лидерам-султанам) был естественным образом приме-
нен социальный термин �аза�/qazāq. Дальше произошла эволюция этого термина.
Социальный термин ‘вольные люди’ превратился в политический, распространил-
ся на всех тех, кто находился под властью ‘вольных людей’ и стал означать: ‘под-
данные (тех) вольных султанов, султанов-�аза�ов’, ‘подданные хана-�аза�а’. Затем
последовали и самоидентификация, и самоопределение: «Мы – �аза�и», «мы – ка-
захи». Впервые за всю историю Дашт-и Кипчака созданная казаками «вольница»
не распалась, а окрепла в своей обособленности. Через полвека социальное значе-
ние термина (для этой общности) полностью нивелировалось, а этническое начало
13
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
актуализировалось с помощью политического движка. Созданное Жанибеком и Ке-
реем Казахское ханство давно уже существовало независимо. Политический тер-
мин стал приобретать этнический характер. И в Та’рūх-и Рашūдū Мирзы Мухаммад-
Хайдара Дуглата, которая является главным источником по начальному периоду
формирования Казахского ханства, кочевники названы как казаками (qazāq), так
и узбек-казаками (uzbaqqazāq – ‘казакующими узбеками’) только для того, чтобы на-
помнить об их происхождении из Узбекского улуса. К тому времени, когда писалась
Та’рūх-и Рашūдū, т.е. к тридцатым годам XVI в., казахи были уже этнической груп-
пой с отчетливо выраженной идентичностью, намного более сильной и многочис-
ленной по сравнению со временем откочевки [МИКХ. С. 185–236; Пищулина, 1997.
С. 280–295].
В более раннем источнике – мемуарном сочинении Бадāи ал-Вакāи Зайн
ад-Дūна Васифи, написанном в первой половине XVI в., содержатся не только два
упоминания о �аза�ах, но и, возможно, первое в письменных источниках упоми-
нание названия страны – Казахстан (�аза�стан). В «Реляции о победе над казаха-
ми» при описании совместного похода бухарского хана Шибанида nУбайдаллāх-хана
и хана Могулии Чагатаида nАбд ар-Рашūд-хана против казахов в одном пассаже,
в частности, сказано: «[Они] обратились к снаряжению и вооружению для отра-
жения казахов, и в день четверг двадцать шестого священного месяца мухаррама
[5 июля 1537 г.] с огромным, устрашающим горы и ужасающим моря войском зна-
мена прибежища победы двинулись с берега реки Сайрам [левый приток Арыси]
в сторону �аза�стана, и местность Никин [Янги?=Тараз], что из числа древних го-
родов и который сейчас разрушен, стала местом, где были раскинуты победоносные
шатры» [МИКХ. С. 180]. Топоним «�аза�стан» в данном случае означал территорию,
подконтрольную казахскому хану, т.е. Казахское ханство. А власть казахского хана
между тем распространилась с Семиречья на весь Туркестан и на весь Восточный
Дашт-и Кипчак.
Источники середины XV – начала XVI в. рассказывали о борьбе чингизидов
разных ветвей за власть над населением Восточного Дашт-и Кипчака и Туркестана,
называя его и узбеками, и казаками, и узбек-казаками. Источники первой половины
XVI в. чаще говорят о казаках (казахах), однако, очевидно, что речь идет о том же
самом населении. С одной стороны, это свидетельствует о переходе власти к другой
линии чингизидов, а с другой стороны – о формировании казахской народности,
пока в рамках Среднего жуза. Кыпчакское ханство, а в послемонгольское время Ак-
Орда и Моголистан, бывшие непосредственными предшественниками Казахского
ханства, создали условия для будущего объединения племен, но они же и заложили
основу деления на жузы. Государственное объединение казахов во второй половине
XV–XVI в. помогло объединить близкие по образу жизни родовые группы и племена,
из которых складывалась казахская народность – практически все население Вос-
точного Дашт-и Кипчака, Туркестана и Жетысу. Принципиальное значение имело
14
ЧАСТЬ 1
объединение в одном государстве кыпчакского союза Дашта и усуньского союза Се-
миречья, а с ним и объединение формирующихся Среднего и Старшего жузов в одну
народность. Это постепенно расширило значение понятия �аза�стан до масштаба
этнической территории.
Уход большого числа кочевых узбеков из Дашт-и Кипчака в Мавераннахр
и создание там двух узбекских ханств – Бухарского и Хивинского – изменили ситу-
ацию с понятиями «узбек» и «Узбекистан». Эти термины перестали употребляться
в отношении Дашт-и Кипчака, переместившись на юг, а население Дашт-и Кипчака
стало называть себя �аза�ами (казахами).
Начиная с XVII в., этноним �аза� уже постоянно употреблялся кочевым на-
селением трех жузов для лексического оформления занимаемой им территории,
что нашло отражение в казахских письменных источниках XVIII – первой четверти
XIX в., составленных на бывшем общем литературном языке татар, башкир, узбеков,
казахов и других тюркских народов – чагатайском (среднеазиатском) тюрки. Са-
мой многочисленной группой этих исторических памятников являются письма вер-
ховных правителей казахов главам и чиновникам соседних государств, в которых
они при обозначении своего полного монархического титула, как правило, указы-
вали название подконтрольной им страны. Так, в письмах казахских старших ханов
Абулхаира (1710–1748) и Абылая (1768–1780) 1718–1779 гг., адресованных россий-
ским монархам и оренбургским пограничным властям, по отношению ко всему аре-
алу расселения казахов трех жузов использовались три группы собственных имен:
�аза�ж7ртi (йурт) – ‘казахский журт’ и �ыр8ыз-�аза�ж7ртi (йурт)– ‘кыргыз-
казахский журт’, т.е.‘казахская страна’ и ‘кыргыз-казахская страна’;
9ш Алашты �аза�ж7ртi (�аза� уч-алачйурт) – ‘казахская страна трех ала-
шей’, Алашж7ртi (алачйурт) – ‘страна алашей’, 9ш Алаштыж7ртi (уч-алачйурт) –
‘страна трех алашей’;
Арка – Степь, иногда с разными определениями [РГАДА. Ф. 248. Кн. 1167.
Л. 726 и об.; АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1.1748 г. Д. 4. Л. 29 и об.; Оп. 3. 1776 г. Д. 1. Л. 4,
47–48 об.; ГАОрО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 176. Л. 53–54 об.; 60–61 об.; МИКССР-2. Док. №72.
С. 196–198; №85. С. 224–225, 393–397].
Системообразующим элементом всех вышеприведенных ономастических
формул выступает древнетюркское слово йурт, или журт (каз. – ж7рт, рус. – юрт) –
‘дом’, ‘владение’, ‘земля’, ‘страна’ [Древнетюркский словарь, 1969. С. 282], которое
широко использовалось начиная с XIII в. тюркоязычными народами Центральной
Азии для обозначения постоянных мест кочевания своих этнических групп [Мурза-
ев, 1996. С. 160]. В этом смысле термин журт многократно упоминается в письмах
разных казахских ханов, султанов и старшин XVIII – первой четверти XIX в. россий-
ским и другим иностранным государям [МИКССР–2. Док. № 2, 20, 43, 46, 97, 113;
МИКССР–4. Док. № 4, 41, 42, 50, 55, 80, 110, 114, 127]. В качестве уточняющего
прилагательного к этому понятию в обеих группах собственных имен присутствуют
15
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
определения «казахская», или «кыргыз-казахская», образованные на основе этнони-
мов �аза� и �ыр8ыз, и алаш (алач) или =шалаш (учалач), этимология которых вос-
ходит к этногенетическому мифу казахского народа.
Значение употребленного в письмах ханов Абулхаира и Абылая макротопо-
нима Кыргыз-Казахский журт (Кыргыз-Казахская страна) пока еще не поддается
точному объяснению. Поскольку в этом варианте названий страны фигурируют два
этнонима: кыргыз и казах, то, возможно, поименованные выше степные правители
распространяли сферу своего влияния не только на казахские жузы, но и на какую-
то часть родственных им кыргызских родов и племен, и поэтому терминологи-
чески оформляли территорию расселения обеих соседних этнических групп общим
для этих народов двусоставным именем. В данном контексте обращает на себя
внимание такой примечательный факт, как насильственное переселение джунгар-
ским хунтайджи Цэван-Рабданом (1697–1727) в 1703 и 1706 гг. из бассейнов рек
Белый и Черный Юс, Абакан и верховьев Енисея зависимой от него большой группы
местных кыргызов в количестве около 15 тыс. человек (скорее даже семей!) в Чу-
Таласское междуречье, на границу Джунгарского ханства со Старшим жузом ка-
захов и тяньшанскими кыргызами [Бутанаев, Абдыкалыков, 1995. С. 21; Моисеев,
1998. С. 12–13; Боронин, 2004. С. 111–114]. В течение нескольких лет или даже бли-
жайших десятилетий переселенные на юго-восточную границу Казахского ханства
енисейские кыргызы тесно взаимодействовали здесь с местными тюркоязычными
кочевниками и западными монголами-ойратами, однако последующая этноистори-
ческая судьба этих вынужденных мигрантов сколько-нибудь конкретно не просле-
жена в научной литературе.
Характерно, что именно к этому историческому периоду восходит фабула
казахского народного предания, приведенного М. Тынышпаевым в «Исторической
справке» о коренном населении Ташкентского уезда в марте 1924 г., о якобы суще-
ствовавшей в годы правления старшего казахского хана Тауке (1672–1715) «федера-
ции казаков (казахов – авт.) из 6-ти частей, известных под именем Алтыалаш (союз
шести алашей)». В состав этой федерации, согласно преданию, входили наряду с ка-
захами трех жузов, каракалпаками, катаганами и кыятами, среднеазиатские кыргы-
зы во главе с неким Кокым-бием [Тынышпаев, 1993. С. 180].
В сочинениях мусульманских авторов и российских архивных документах
двух последних десятилетий правления Тауке и более поздних исторических эпох,
изученных современными историками, содержится немало фактических сведений
о совместной борьбе казахов, кыргызов и других этнических групп тюркоязычного
населения Центральной Азии против завоевательной политики Джунгарского хан-
ства в первой половине XVIII в., а также о попытках создания лидерами казахских
жузов и соседних мусульманских государств единой антицинской коалиции в 1760-е
годы [Сулейменов, Моисеев, 1998. С. 102–114; Моисеев, 1991. С. 55–173; Сапарали-
ев, 1995. С. 37–60, 86–100; Сапаралиев, 1999. С. 7–44; Мокеев, 2012. С. 235–241].
16
ЧАСТЬ 1
Однако приведенные в письменных источниках начала – середины XVIII в. лако-
ничные данные по истории казахско-кыргызских отношений того периода носят
в целом малоинформативный и дискретный характер, не создавая сколько-нибудь
четкой и детальной картины. Поэтому вопрос о политической интеграции крупных
родоплеменных группировок казахов с отдельными социально-территориальными
либо локальными группами тяньшанских кыргызов под патронатом казахских пра-
вителей-чингизидов сегодня остается открытым в исторической науке.
Употребление в письмах Абулхаира и Абылая понятия Кыргыз-Казахский журт
по отношению к этнотерриториальным владениям обоих старших ханов можно
объяснить также буквальным соблюдением их личными секретарями официальной
российской ономастической традиции, согласно которой в имперском делопроиз-
водстве казахи обычно обозначались экзоэтнонимом кыргызы, а не их собственным
этническим именем. Однако эта этимологическая версия является маловероятной
по определению, если иметь в виду, что термин Кыргыз-Казахский журт упомина-
ется в оригинальных письменных текстах казахских ханов, султанов и старшин се-
редины XVIII – первой половины XIX в. параллельно с топонимом Казахский журт
и другими вариантами обозначения всей подконтрольной им территории казах-
станско-среднеазиатского региона, хотя в российских официальных документах
того времени казахи по-прежнему именовались кирзиз-кайсаками и киргизами,
а их страна – Киргиз-Казацкой (Киргиз-Кайсацкой) или Киргизской ордой.
Этимология второй группы вариантов обозначения страны – Казахский уш-
алашжурт, Алашжурт, Уш-алашжурт и т.п. – тесно связана с народной мифо-
логией казахов. Под термином УшАлаш – ‘три алаша’ казахи в XVII–XVIII вв., как
и в более позднее время, имели в виду три этнотерриториальные части своего на-
рода – жузы, занимавшие три смежные друг с другом историко-географические
области региона – Южный, Центральный и Западный Казахстан. К тому времени
казахское общество имело сложную и разветвленную родоплеменную структуру
и подразделялось на Старший, Средний и Младший жузы. В российских документах
XVIII – середины XIX в. они обычно назывались Большой, Средней и Малой, или Мень-
шей, ордами. Каждый жуз, в свою очередь, делился на несколько крупных племен (в
Старшем и Среднем жузах) и поколений (в Младшем жузе), а те и другие – на роды,
их отделения и более мелкие ответвления, связанные традицией единого генеалоги-
ческого древа [подробную информацию об исторической номенклатуре казахских
племен, поколений, родов и существующих в науке разных точках зрения на про-
блему происхождения трех жузов и составляющих их родоплеменных групп кочев-
ников-казахов см.: Масанов, 2011. С. 93–276].
Происхождение трех жузов традиционно осмысливалось в массовом созна-
нии казахов-кочевников посредством категорий первородства, родства и старшин-
ства, что нашло отражение в широко расхожей в их среде генеалогической леген-
де о мифическом родоначальнике своего народа Алаша-хане, у которого было три
17
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
сына, ставшие прародителями казахских жузов. Миф об Алаша-хане и его сыновьях,
возглавивших три сотни храбрых и удалых казакующих скитальцев, существовал
в казахском кочевом обществе и передавался на протяжении трех-четырех веков
от одного поколения к другому в нескольких взаимно различающихся вариантах
[Шангин, 2009. С. 67–71; Левшин, 2009. С. 146–147; @лжанов, 2004. С. 123–139;
ИКРИ–9. С. 119–120, 299–300]. По этому поводу Ч. Ч. Валиханов в середине XIX в.
писал: «Все три орды, составляющие союз Казах (так называют себя киргизы), счи-
тают своим родоначальником некоего Алача, что значит чужеземец, или, букваль-
но, не наш… Кто такой был Алача, откуда он взялся, народное предание повествует
различно» [Валиханов, 1985. Т. 2. С. 308]. Основываясь на общей фабуле разных ва-
риантов этой генеалогической легенды, казахи нарицательно именовали три жуза
термином ушалаш – ‘три алаша’, то есть потомками трех сыновей своего родона-
чальника Алаша-хана. Отсюда этническая территория казахского народа и кочевого
государства казахов обозначалась в письмах степных ханов иностранным государям
как «казахский журт трех алашей».
В начале XX в. понятие Алаш как самоназвание страны казахов было полити-
зировано лидерами одноименного казахского национального движения (А. Букей-
ханов, А. Байтурсынов), целью которого было создание Алашской автономии – ка-
захской автономии внутри России. Характерно, что газета, главный орган движения
«Алаш», носила название «�аза�».
Параллельно с распространением в казахском обществе двух первых групп
топонимических понятий территория расселения трех жузов нередко терминологи-
чески оформлялась правителями кочевников в непосредственном общении и дипло-
матической переписке с иноземными соседями емким и выразительным названием
Арка – ‘Степь’. Несмотря на то что этот термин впервые встречается в казахских пись-
менных источниках 40-х гг. XVIII в. [АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1745 г. Д. 3. Л. 114–115],
он, вероятно, употреблялся казахами и в более ранний исторический период, так
как уже ко времени вступления Младшего и Среднего жузов под патронат русской
императрицы топоним Степь был широко расхожим в политическом лексиконе
имперских чиновников на юго-восточных окраинах и в столице России. Вероятна
и связь топонима с более ранним названием страны в персидских письменных ис-
точниках – Дашт-и Кипчак (Кыпчакская степь).
В России с 1508 г. до начала XVIII в., а вслед за ней и в Европе казахи обознача-
лись в посольской документации и печатных произведениях разных авторов их эт-
ническим самоназванием, а страна, населяемая народом казак – Казацкой, или Ка-
затцкой, ордой [Посольская книга, 1984. С. 80; Исин, 2002. С. 57, 63, 67; см. также:
ИКРИ–1]. Так, в «Трактате о двух Сарматиях» Матвея Меховского 1517 г. Казахское
ханство упоминается в форме Казахская орда [Меховский, 1996.С. 63, 144]. На кар-
те английского путешественника во внутреннюю часть Евразии А. Дженкинсона
1562 г. она поименована как «Казакия» (Cassackia) [Труды, 1890. Т. 14. С. 227].
18
ЧАСТЬ 1
В статейных списках русских посланников в степной город Туркестан
80–90-х гг. XVII в. страна казахов, как и в предшествующий период, по-прежнему
называлась Казацкой, или Казачьей ордой, а сами казахи – их собственным истори-
ческим именем [СПбФ. АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 12, 14; ИКРИ–1. С. 407–432]. Под тем
же этнонимом (казаки тартары) различные группы казахских родов и племен фи-
гурируют на соответствующих страницах трехтомного труда «Северная и Восточная
Тартария» голландского бургомистра и путешественника конца XVII в. Николааса
Корнелиуссона Витсена, опубликованного в Амстердаме в 1697 г. и переизданного
там же в 1705 и 1785 годах [Витсен, 2010. С. 464–466].
В XVII – начале XVIII в. кочевьями казахов заполнялось все территориально-
географическое пространство между местами кочевания енисейских и тяньшанских
кыргызов, и по своему образу жизни, языку и внешнему облику они мало отлича-
лись от этих кочевых соседей, что, впрочем, не мешало в то время тобольским во-
еводам и столичным российским властям фактически и терминологически разгра-
ничивать казахов, енисейских и тяньшанских кыргызов. Однако до начала эпохи
массированных вторжений ойратов в южные казахские степи основная масса степ-
ных родов и племен концентрировалась в центральной и южной частях Казахстана,
расположенных на дальнем расстоянии от русских городов и селений Западной Си-
бири, поэтому казахи тогда практически были неизвестны местным русским людям,
а упоминания о них в служебных документах сибирских воевод и их подчиненных
носили в целом эпизодический и дискретный характер.
Этногеографическая ситуация в Волжско-Уральском регионе и на юге Сибири
существенно изменилась в начале XVIII в. в связи с целым рядом военных вторже-
ний джунгарских войск во главе с хунтайджи Цэван-Рабданом (1697–1727) в южные
кочевья казахов и смещением казахских кочевий в северную часть региона. В ходе
этих миграций перед казахскими племенами и родами остро встала проблема освое-
ния плодородных пастбищ и крупных водоемов на границе с русскими земельными
владениями на Южном Урале и в Западной Сибири, в результате чего они были вы-
нуждены вступать в более тесные контакты с пограничными российскими властями.
После внезапного исчезновения основной массы енисейских кыргызов
из районов их давнего обитания, появления на сибирских границах России боль-
ших групп внешне похожих на них казахов-кочевников и организации правителями
Младшего и Среднего жузов в первой четверти XVIII в. целой серии вооруженных
нападений казахских воинов на приграничные русские города и селения Западной
Сибири малоизвестные местным «служилым людям» казахи стали отождествляться
ими с былыми самыми беспокойными и воинственными кочевыми соседями – ени-
сейскими кыргызами, которых джунгарский хунтайджи переселил в 1703 и 1706 гг.
на юго-восточную границу ареала расселения казахских племен. В результате этой
поверхностной идентификации в документах Казанской и Сибирской губернских
канцелярий с 1715 г. до начала 30-х гг. XVIII в. по отношению к казахам параллельно
19
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
употреблялись этнонимы казак и киргиз [КРО–1. С. 28, 30–31; ИКРИ–2. С. 267–300;
Левшин, 2009. С. 144]. Тогда же в образованных кругах сибирского общества, тес-
но связанных с Петербургской Академией наук, возникла умозрительная версия
об их общих этногенетических корнях с енисейскими кыргызами и о бассейне
Енисея как исторической прародине обоих народов [Примечания на Ведомости.
Ч. 28–31. Спб., 1734. С. 111–116].
Питательной почвой для создания теории о происхождении казахов от ени-
сейских кыргызов явилась история приобретения пленным шведским офицером
Ф. И. Страленбергом во втором десятилетии XVIII в. рукописи сочинения хивин-
ского хана и историка Абу-л-Гази-Бахадур-хана (1603–1664) Шаджара-и тюрк[и] –
«Родословная тюрок», переводов ее с чагатайского тюрки на немецкий, француз-
ский и русский языки и комментирования переведенных текстов. Купив в 1720 г.
рукопись «Родословной тюрок» в Тобольске у одного приезжего бухарского купца,
Ф. И. Страленберг передал ее находившимся в то время здесь двум пленным шве-
дам – Петеру Шенстрему (P. Schvnstrvm) и Бентинку (Bentinck), которые со слов
тобольских татар-переводчиков перевели этот рукописный труд на немецкий язык,
а с него – на французский язык. Французский перевод был издан в 1726 г. в Лейде-
не под названием «Histoire genėalogique des Tatars». Позднее этот перевод послужил
оригиналом для перевода «Родословной тюрок» на русский (1768 г.) и английский
(1780 г.) языки.
В 20–30-х гг. XVIII в. труд Абу-л-Гази-Бахадур-хана частично либо полностью
переводился на европейские языки Г. З. Байером, Г. Е. Кером, Ф. И. Страленбергом
и другими исследователями, которые широко пользовались им в своих историче-
ских изысканиях. В дальнейшем изучение сочинения хивинского историка шло
не менее энергично; этот памятник на протяжении XVIII–XIX вв. привлекал к себе
внимание многих ученых [Кононов, 1982. С. 71–83].
Французский перевод «Родословной тюрок», опубликованный в Лейдене
в 1726 г., вышел в свет с примечаниями шведа Бентинка. Внимание этого автора,
как и позднее его последователей, привлекли в сочинении Абу-л-Гази разделы, по-
священные древнему происхождению енисейских кыргызов и их родственным вза-
имосвязям с «татарами» («Поколение киргизов и кемкемчутов», «Поколение татар»)
[Абу-л-Гази-Бахадур-хан, 1996. С. 33–34], из содержания которых Бентинк, а вслед
за ним и другие европейские и русские комментаторы «Родословной тюрок» сдела-
ли вывод об этногенетическом родстве казахов с енисейскими кыргызами.
Исходя из этого заблуждения, а также ввиду внешнего, антропологического
сходства двух соседних народов, российские столичные и провинциальные чинов-
ники с 20-х гг. XVIII в. стали рассматривать казахов как одну из отделившихся в про-
шлом ветвей енисейских кыргызов и потому начали именовать их киргиз-казаками,
или киргизами. По поводу возникшей в ту эпоху терминологической путаницы в рос-
сийском политическом лексиконе известный казахстанский этнограф Э. А. Масанов
20
ЧАСТЬ 1
писал, что ее основной причиной стали «предположения русских людей» о том,
что енисейские кыргызы после насильственного переселения их Жунгарс ким хун-
тайджи в Чу-Таласское междуречье «слились с казахами. Имело значение также вли-
яние иностранной литературы, считавшей казахов потомками енисейских кирги-
зов» [Масанов, 1966. С. 42].
Начиная с середины 30-х гг. XVIII в., в связи с принятием ханом Абулхаиром
российского подданства, приездом его полномочных посланников в Петербург к им-
ператорскому двору и утверждением к тому времени в среде столичной имперской
бюрократии ошибочной «енисейской гипотезы» происхождения казахского народа
казахи в России повсеместно стали именоваться киргиз-казаками, или киргиз-кай-
саками, и киргизами, а их страна – Киргиз-Кайсацкой, Киргиз-Казацкой и Киргизской
степью или ордой.
Еще в середине XVIII в. действительный член Петербургской академии наук
Г.-Ф. Миллер указал на ошибочность отождествления енисейских кыргызов с «кир-
гиз-кайсаками, живущими на бухарской границе к востоку от реки Яик» [Миллер,
1999. С. 307]. Автор рукописной «Киргизской, или Казацкой хорографии», состав-
ленной в 1771 г., российский путешественник Х. Барданес отметил, в свою очередь,
несоответствие этнонимов «киргиз» и «киргиз-казак» действительному самоназва-
нию казахского этноса, указав, что сами казахи никогда не называют себя «киргиза-
ми» или сложным именем «киргиз-кайсаки», а единственно называют себя «казак»
[ИКРИ–4. С. 93]. Позднее «Геродот» истории казахского народа А. И. Левшин уделил
в своем фундаментальном труде особое внимание проблеме ошибочной идентифи-
кации казахов с кыргызами и дал конкретное объяснение причинам сложившегося
в науке заблуждения по поводу происхождения этой этнической группы кочевников
центральноазиатского региона [Левшин, 2009. С. 135–144]. Впоследствии об оши-
бочности смешения казахов с бывшими енисейскими кыргызами писали В. В. Велья-
минов-Зернов, Н. И. Веселовский, А. Вамбери, В. В. Радлов, В. В. Бартольд и другие
видные русские и иностранные ученые, но их выводы не привлекли внимания рос-
сийского правительства.
На общей карте Российской империи, входящей в Атлас 1792 г., территория
Казахстана уже значится как «Степь кочующих киргис-кайсаков», и в том же Атласе
есть отдельная карта Киргис-Кайсацкой степи. Киргизской степью (часто с уточнени-
ями типа «Киргизская степь Оренбургского края» или «Киргизская степь Западной
Сибири») именуется степная казахская территория на картах и в документах сере-
дины XIX в. (при этом Южный и Юго-Восточный Казахстан входят в Туркестанский
военный округ, а затем – в Туркестанское генерал-губернаторство). В 1882–1917 гг.
на территории Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областей на ос-
нове бытовавшего и в XVIII в. макротопонима Степь было создано Степное гене-
рал-губернаторство (Степной край), ставшее еще одним эвфемистическим названи-
ем для значительной территории Казахстана (русское название Степи фактически
21
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
совпадало (как калька) с бытовавшим в восточной среде (через персидскую пись-
менную традицию) названием Дашт(-и Кипчак).
Но переименование Киргизской степи в Степной край имело и другую сторо-
ну. Следует иметь в виду, что колониальными властями Российской империи, а так-
же учеными империи Казахстан с определенного времени (присоединения Средне-
го жуза к России и ликвидации в нем ханской власти, присоединения Центрального
и Восточного Казахстана к Западной Сибири в административном отношении) стал
рассматриваться не иначе как окраина Сибири под соответствующими названия-
ми: «Степные окраины» или «Киргизско-Степная окраина». Д. И. Менделеев включал
в Сибирь «Южно-Сибирский или Киргизский край» (Уральская, Тургайская, Семире-
ченская, Семипалатинская и Акмолинская области – т.е. практически весь Казахстан
без Сырдарьи и Мангышлака). П. П. Семенов-Тян-Шанский делил Сибирь на пять
географических областей. При этом Западную и Восточную Сибирь он именовал
«коренной» Сибирью, к которой примыкала помимо прочих «Киргизско-степная
окраина». В «Сибирском торгово-промышленном календаре» на 1911 г. описывались
«Степные окраины» (Казахстан) и «Средне-Азиатские владения» (Туркестанский
край). Этой ономастической линии чиновники Российской империи придержива-
лись в официальном делопроизводстве и законодательстве вплоть до революцион-
ных событий 1917 г.
На II Общекиргизском (Общеказахском) съезде, состоявшемся в Оренбурге
5–13 декабря 1917 г. и представлявшем казахов, «разбросанных» по разным админи-
стративным регионам России – Киргизскому краю, Степному краю, Туркестанскому
краю, Букеевской губернии, была провозглашена Алашская автономия (Алаш-Ор-
да) – государственное образование, впервые со времен Казахского ханства объе-
динившего всех казахов. Столицей Алаш-Орды был избран Семипалатинск, позже
переименованный в Алаш-калу, а глава ее правительства именовался по-русски
Председателем всекиргизского (читай: всеказахского) народного совета. С точки
зрения темы нашей статьи любопытно, что единственным (хотя и гораздо более
слабым) соперником и противником партии Алаш на вышеупомянутом съезде ста-
ла «Казахская социалистическая партия «Ушжуз» (действовала преимущественно
в Пет ропавловске и Акмолинске) (К. Тогусов, С. Сейфуллин). Идеалом этой партии,
вероятно, было создание социалистической автономии трех казахских жузов.
Заняв антисоветскую позицию, Алаш-Орда неминуемо оказалась вовлече-
на в Гражданскую войну в России и весной 1920 г. была ликвидирована Советской
властью. Ей на смену пришла советская автономия: Киргизская Автономная Совет-
ская Социалистическая Республика (Киргизская АССР) в составе РСФСР, со столицей
в Оренбурге. Она существовала с 16 июля 1920 г. по 19 апреля 1925 г. В названии
автономии использован этноним киргиз, которым и при Советах, как и в Россий-
ской империи, традиционно (и ошибочно) продолжали называть казахов. В эту ав-
тономию вошли Уральская, Тургайская и Семипалатинская области, Адаевский уезд
22
ЧАСТЬ 1
Закаспийской области, Букеевская губерния и южная часть Оренбургской губернии.
В начале 1921 г. в состав Киргизской АССР была введена Акмолинская губерния,
составленная из казахских уездов Омской губернии. В 1924 г. в состав Киргизской
АССР вошли два кантона Башкирской АССР, а также северные (населенные преиму-
щественно казахами) части Семиреченской (Джетысуйской), Сырдарьинской и Са-
маркандской областей, выделенные из состава бывшей Туркестанской АССР в ходе
национально-территориального размежевания Средней Азии. Были образованы
Джетысуйская и Самаркандская губернии. Следует обратить внимание, что хотя
в документах на русском языке в этот период употреблялись неправильные назва-
ния этноса и территории, в документах и устной речи на казахском языке использо-
вались слова �аза� и �аза�стан.
В 1925 г. на V Съезде Советов Казахстана образованная после распада им-
перии национальная автономия казахов – Киргизская АССР была переименована
в Казакскую АССР. Таким образом, было восстановлено правильное самоназвание
казахов и их страны. Казакская АССР в составе РСФСР появилась на карте в апре-
ле 1925 г. благодаря переименованию Киргизской АССР. Существовала с 15 апреля
1925 г. по 5 декабря 1936 г. В 1925–1927 гг. административным центром республики
была Кызыл-Орда, затем – Алма-Ата. Одновременно произошло переименование Ка-
ра-Киргизской автономной области в Киргизскую автономную область. Переимено-
вание республик стало восстановлением исторической справедливости и устране-
нием неверных и обидных наименований (киргиз вместо казак, кара-киргиз вместо
киргиз), являвшихся наследием колониальных времен. В литературе и в массовой
печати широко употреблялись сокращения – Казакстан и Советский Казакстан. На-
звание республики писалось с двумя К, на латинице – Qazaqstan. Впоследствии в со-
ветской историографии произошла подмена и о Казакской АССР стали писать как
о Казахской АССР, русифицировав это название. В 1928 г. в Казакской АССР были
ликвидированы все губернии и принято новое административное деление на окру-
га и районы. В 1932 г. округа были ликвидированы, и республика была поделена
на шесть областей: Карагандинская (Петропавловск), Восточно-Казакстанская (Се-
мипалатинск), Алма-Атинская (Алма-Ата), Актюбинская (Актюбинск), Западно-Ка-
закстанская (Уральск), Южно-Казакстанская (Чимкент) и Каркаралинский округ.
С принятием новой конституции СССР в 1936 г. статус Казакстана был повышен
до уровня союзной республики, однако республика получила более русифицирован-
ное название (Казахстан, Казахская ССР), во избежание путаницы между казахским
этносом и казачеством.
С 1991 года имя �аза�стан/Казахстан полноправно принадлежит Республике
Казахстан, с чего мы и начали нашу статью.
23
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Абуль-Гази-Багадур-хан. Родословное древо тюрков. Иакинф. История первых
четырех ханов дома Чингисова. Лэн-Пуль Стэнли. Мусульманские династии. М.; Т.;
Б.: Изд-во «КФМЦ «Ткисо»», 1996. 544 с.
АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи Историко-докумен-
тального департамента Министерства иностранных дел Российской федерации
(г. Москва).
@лжанов О. Шы�армалар, �осымшалар. Алматы: «Алаш», 2004. 123–129 б.
Боронин А. В. Двоеданничество в Сибири в XVII–60-е гг. XIX в. Изд. 2-е. Барна-
ул, 2004.
Бутанаев В. Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории Хакасии XVII – начало
XVIII вв. Абакан, 1995.
Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. Изд. 2-е. Алма-Ата:
Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985.
Витсен Н.-К. Северная и Восточная Тартария, включающая области, располо-
женные в северной и восточной частях Европы и Азии. В трех томах. / Пер. с гол-
ландского В. Г. Трисман. Т. 1. Амстердам, 2010.
ГАОрО – Государственный архив Оренбургской области.
Древнетюркский словарь. Л.: «Наука», 1969.
ИКРИ–2. – История Казахстана в русских источниках ХVІ–ХХ вв. Т. 2. Русские
летописи и официальные материалы ХVІ – первой трети ХVІІІ в. о народах Казахста-
на. Алматы: Дайк-Пресс, 2005.
ИКРИ–3. – История Казахстана в русских источниках ХVІ–ХХ вв. Т. 3. Журна-
лы и служебные записки дипломата А. И. Тевкелева по истории и этнографии Казах-
стана (1731–1759). Алматы: Дайк-Пресс, 2005.
ИКРИ–4 – История Казахстана в русских источниках ХVІ–ХХ вв. Т. 4. Первые
историко-этнографические описания казахских земель. ХVІІІ век. Алматы, 2007.
ИКРИ–9. –История Казахстана в русских источниках XVI–XX вв. Т. 9. Народ-
ные предания об исторических событиях и выдающихся людях Казахской степи
(XIX–XX вв.). Алматы: Дайк-Пресс, 2007.
Исин А. Казахское ханство и Ногайская орда во второй половине XV – XVI в.
Семипалатинск, 2002.
КРО–1. – Казахско-русские отношения в ХVІ–ХVІІІ веках. Сборник документов
и материалов / Сост.: Ф. Н. Киреев, А. К. Алейникова, Г. И. Семенюк, Т. Ж. Шоинбаев /
Под ред. В. Ф. Шахматова, Ф. Н. Киреева, Т. Ж. Шоинбаева. Алма-Ата: «Наука», 1961.
Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Государства и народы евразийских степей.
Древность и средневековье. СПб, 2004.
Кононов А. Н. История изучения тюрских языков в России. Дооктябрьский пе-
риод. Изд. 2-е. Л.: «Наука», 1962.
Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей.
Изд. 2-е. Алматы, 1996; Изд. 3-е. Алматы, 2009.
24
ЧАСТЬ 1
МИКССР–2 – Материалы по истории Казахской ССР (1740–1751) / Под ред.
М. П. Вяткина. Т. 2. Ч. 2. Алма-Ата, 1948.
МИКССР–4 – Материалы по истории Казахской ССР (1785–1828) / Отв. ред.
В. И. Лебедев. Т. 4. М.; Л., 1940.
МИКХ – Материалы по истории казахских ханств XV–XVIII веков (извлечения
из персидских и тюркских сочинений) / Отв. ред. Б. Сулейменов. Сост.: С. К. Ибра-
гимов, Н. Н. Мингулов, К. А. Пищулина, В. П. Юдин. Алма-Ата, 1969.
Масанов Н. Э. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности но-
мадного общества. Изд. 2-е, дополненное. Алматы, Print-S, 2011. 740 с.
Масанов Э. А. Очерк истории этнографического изучения казахского народа
в СССР. Алма-Ата: «Наука», 1966.
Меховский М. Трактат о двух Сарматиях. М.-Л., 1936.
Миллер Г. Ф. История Сибири. Изд. 2-е дополненное. Т. 1. М.: «Восточная ли-
тература» РАН, 1999.
Моисеев В. А. Джунгарское ханство и казахи. XVII–XVIII вв. Алма-Ата: Гылым, 1991.
Моисеев В. А. Россия и Джунгарское ханство в XVIII веке (Очерк внешнеполи-
тических отношений). Барнаул, 1998.
Мокеев А. Кыргызы на Алтае и на Тянь-Шане (этапы этнической и политиче-
ской истории кыргызского народа во второй половине IX – сер. XVIII в.). Бишкек,
2010.
Мурзаев Э. М. Тюркские географические названия. М.: Восточная литература
РАН, 1996.
Пищулина К. А. Сложение казахской народности // История Казахстана
(с древнейших времен до наших дней). В пяти томах. Т. 2. Алматы, 1997. С. 280–295.
Посольская книга по связям России с Ногайской ордой: 1489–1508 гг. М., 1984.
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва).
Сапаралиев Д. Взаимоотношения кыргызского народа с русскими и соседни-
ми народами в XVIII в. Бишкек, 1995.
Сапаралиев Д. Этнополитическая история Оша и его окрестностей в XVIII
до середины XIX в. Бишкек, 1999.
Сулейменов Р. Б., Моисеев В. А. Из истории Казахстана XVIII века (о внешней
и внутренней политике Аблая). Алма-Ата, 1988.
Труды Московского археологического общества. Т. 14. М., 1890.
Тынышпаев М. История казахского народа. / Сост. и авторы предисловия
А. С. Такенов и Б. Байгалиев. Алма-Ата, 1993.
Шангин И. П. Дневные записки в Канцелярию Колывано-Воскресенского гор-
ного начальства о путешествии по Киргиз-кайсацкой степи. Барнаул, 2003.
Pritzak Omeljan. The Turkic Etymology of the Word Qazaq ‘Cossack’ // Harvard
Ukranian Studies 28 № 1–4 (2006): 236–243.
25
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Г. АБЖАНОВА
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОПОНИМИКИ КАЗАХСТАНА. ТОПОНИМИКА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Как и все слова языка, имена нарицательные подчиняются закономерности
называть предмет по какому-либо признаку, но имеют ряд собственных особен-
ностей. Неравномерность рельефа земли, особенности каждого этноса в названии
предмета, номинационные типы имеют влияние на имена нарицательные и их спо-
собности и готовности изменяться в зависимости от экстралингвистических
условий.
Национальные особенности отражаются на всех языковых уровнях: апел-
лятивном, словообразовательном, синтаксическом, а также в номинационных,
т.е. группируются вокруг закона ономастической универсалии языка. Показателем
закона ономастической универсалии является то, что особенности создания топо-
нимов, содержание языковых моделей народов мира обособляются, но имеют об-
щие методы исследования онимных материалов с номинационными типами, общие
мотивы, служащие основной для создания тюркоязычных топонимов. Например,
при рассмотрении тюркской топонимии замечаем, что апеллятивы, послужившие
основой для создания топонима, названия органов человека и животных, основные
астрономические названия, рельеф и явления природы, виды-цвета и часто исполь-
зуемые числительные почти одинаковы. При исследованиях в объемах определен-
ной республики, области, явно определяется то, что в создании топонимических
названий участвует лишь небольшая часть всей лексики. Закономерно наличие
общего сходства при группировании с лексико-семантической точки зрения. Так-
же закономерны многочисленные параллели и сходства в традиционной культуре,
этнографических традициях, языках, топонимических названиях многих соседних
географических условий. Поэтому в ономастике топонимические названия группи-
руются по лексико-семантической характеристике.
Топонимика наших дней – это результат долговременных культурных и язы-
ковых взаимодействий людей. Даже последнее новое название является плодом
эволюционно развитой системы нарицательных имен. Они не появляются сами
по себе. И. Замов, говоря о том, что любое название, будет оно новое или ста-
рое, – есть значимая частица языка, пишет: «Имена возникают из готовых языко-
вых элементов, ясных в момент их создания, поскольку с их помощью необходимо
26
ЧАСТЬ 1
обозначить нечто, например, географический объект, служащий для ориентирова-
ния в пространстве».
Актуальность и своевременность работы по настоящей теме определяет-
ся большим спросом в республике на различные нормативные документы и поло-
жения по топонимике, словари и каталоги географических названий Казахстана
и подтверждается следующим:
Указом Президента РК «О государственной программе функционирования
и развития языков» от 5 октября 1998 г., №4106, где ставиться задача про-
должить работы по восстановлению историко-географической топонимики,
разработать проект концепции усовершенствования ономастических работ
в республике обеспечить подготовку и выпуск административно-террито-
риальных карт страны и областей Казахстана на государственном языке.
Интервью Президента РК в газете «Ана тілі» от 11 мая 2006 г., №19(804),
«Будущее Казахстана – в казахском языке». В нем перед Государственной
ономастической комиссией поставлены три основополагающие задачи, ко-
торые заключаются в следующем: первое – восстановить исчезнувшие гео-
графические названия с учетом времени и истории их возникновения, вто-
рое – провести исправления искаженных названий природных объектов
и населенных пунктов в соответствие с требованиями Закона о языках, тре-
тье – осуществлять номинацию вновь образованных и безыменных геогра-
фических комиссий.
Казахстан, занимающий 5% территории Евразии по площади, является одной
из крупнейших мировых держав и по этому показателю занимает 9 место в мире,
уступая только России, Канаде, Китаю, США, Бразилии, Австралии, Индии, Арген-
тине. Благодаря народной памяти на этой обширной территории создавались, на-
капливались и дошли до наших дней миллионы эндогенных топонимов.
Как известно, до издания каталога многие исторические названия Казахста-
на на русском языке использовались с большими транслитерационными ошибками
и искажениями. Основные виды широко распространенных искажений эндонимных,
т.е. исторических народных гидрографических названий Казахстана, следующие:
1) переименование древних эндонимных гидрографических названий на рус-
ский язык;
2) ненаучная транслитерация и транскрипция исконных казахских названий
на русском языке;
3) прибавление русских определений к эндонимным, чисто казахским названиям;
4) прибавление русских окончаний, несвойственных казахскому языку, к казах-
ским географическим названиям;
5) превращение одного цельного географического названия в парное слово че-
рез дефис ( например, Бет-Пак-Дала, Кызыл-Агаш и т.д)
27
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
6)наличие большого количества русских названий, появившихся на основе пере-
именования казахских названий во всех областях Казахстана, не характери-
зующих ни природные условия, ни историю, ни культуру казахского народа.
Таблица 1. Количество географических названий на русском языке по областям Казахстана
ОбластьОбщее количество
географическихназваний
В том числе на русском языке %
Акмолинская 5190 787 15,2
Актюбинская 10420 238 2,3
Алматинская 10616 441 4,2
Атырауская 5181 200 3,8
Восточно-Казахстанская 19792 4255 21,5
Жамбылская 6418 91 1,4
Западно-Казахстанская 8500 910 10,7
Карагандинская 16470 838 2,3
Костанайская 7830 1414 18,1
Кызылординская 6826 30 0,4
Мангистауская 3412 40 1,1
Павлодарская 5739 533 9,3
Северо-Казахстанская 4148 1844 44,5
Южно-Казахстанская 7858 93 1,2
Итого 118400 11259 9,5
В «Государственном каталоге географических названий Республики Ка-
захстан», охватывающим около 91,7 тысячи названий, многие транслитераци-
онные ошибки казахских названий, допущенные при передаче на русский язык,
исправлены, а многим географическим объектам возвращены древние истори-
ческие названия. Однако в СМИ некоторые высказываются против таких изме-
нений, якобы первые искаженные и вторые когда-то переименованные названия
28
ЧАСТЬ 1
стали «традиционными», и зачем их менять. Такое мнение несостоятельно и не-
верно. Они не учитывают, что Казахстан с 1991 г. стал суверенным государством,
а с 1992 г. – полноправным членом ООН и ведет, как этого требует ООН, самостоя-
тельную топонимическую политику.
В Казахстане из 34,4 тыс. народных оронимов, учтенных в ГКГН РК, на рус-
ском языке искажены 7,7 тыс. (или 23,9%), из 25,9 тыс. гидронимов искажены
8,0 тыс. (31,0%). Естественно, правительство республики по каждому искаженному
названию не может принять решение. Поэтому для своевременного решения этой
проблемы необходимо широко рекламировать «Государственный каталог географи-
ческих названий Республики Казахстан», изданный на русском и казахском языках
в 32-х томах по всем областям республики, который содержит около 120 тыс. наз-
ваний макро-, мезо- и микро-физико-географических объектов. В этих томах все
транслитерационные ошибки и искажения казахских названий на русском языке
исправлены, многие исторические названия крупных географических объектов
восстановлены. Кроме того, все тома утверждены Ономастической комиссией при
Правительстве Республики Казахстан для обязательного использования всеми за-
конодательными и исполнительными органами, министерствами, ведомствами,
учреждениями и физическими лицами Республики Казахстан в качестве норматив-
ного издания.
Однако ГКГН РК для многих республиканских, областных, районных орга-
низаций и ведомств до сих пор не стал нормативным документом из-за малого ти-
ража издания (всего 500 экз.) и особенно из-за отсутствия рекламы и презентации
со стороны Агентства РК по управлению земельными ресурсами как основного за-
казчика данный работы.
Искаженные гидронимы Восточного Казахстана
В Восточно-Казахстанской области из 15 638 самостоятельных географиче-
ских объектов 4647, или 29,7%, представлены гидронимами. Среди них с искажен-
ными названиями имеются 894 гидронима, или 19,2% от их общего количества.
Так, искажены на русском языке названия 600 рек, 13 проток, 1 старицы, 95 озер,
88 родников, 5 водохранилищ, 2 каналов, 16 арыков, 1 болота, 4 солончаков, 1 за-
лива, 66 колодцев и 2 ледников.
Как показывает анализ, искажение казахских названий гидрографических
объектов, как и орографических, имеет глубокую историю. По нашему мнению,
на территории современной Восточно-Казахстанской области основная часть ис-
кажений происходила со времени прихода сюда в Алтайские горы русских рас-
кольников-старообрядцев (кержаков) в конце XVI в., спасавшихся от преследова-
ний православной церкви, и крепостных рабочих Алтайских заводов, бежавших
29
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
от непосильного каторжного труда. Они, притеснив казахское население, прожи-
вавшее здесь испокон веков, присвоили всем природным объектам свои названия
взамен казахских. По этой причине любой из этих переселенцев в связи с незна-
нием местного казахского языка каждый встреченный гидрообъект называл пона-
слышке, не придавая значения настоящей сути этого названия, ибо его не инте-
ресовало точное название этих объектов на казахском языке. Поэтому основным
видом искажений названий гидрографических объектов явился транслитерацион-
ный. Причем искаженное название на русском языке пришельцами было присвоено
главной вод ной артерии области – р. Ертис и его крупным правым притокам, таким
как Буктырма, Куршим, Нарын, Калжыр, Оба, которые стали называться Бухтарма,
Курчум, Нарым, Калжир, Убинка и т.д.
В дальнейшем, особенно в периоды военной (казачьей) колонизации терри-
тории Восточного Казахстана в начале XVIII в., которая продлилась до 70-х годов
XIX в., и массового переселения сюда крестьян из России и Украины в конце XIX
и начале XX в., искажение в области казахских названий гидронимов еще больше
усилилось. При этом оно коснулось теперь всех левых притоков р. Ертиса; р. Шаган
стала Чаганом, р. Шар – Чаром, р. Улан – Уланской; род. Акшора (геногидриум) –
род. Андобай, Алтыапан (шесть старых засыпанных колодцев) – Алтопан, род. Бал-
тахан (антрогидроним) – Болтакан.
Как видно из приведенных примеров, к транслитерационно искаженным от-
носятся, по существу, все названия рек, родников и озер, потому что они искажены
неправдоподобно, лишены всякого смысла и ни о чем не говорят. Это утверждение
касается всех транслитерационно искаженных названий.
Второй вид искажений казахский названий – это калькированная передача
их на русский язык. Так, река Ак Берель (белая здешняя река) на картах передается
как Белая Берель, Рахман Кайнары – Рахмановские Кайнары, Сакалдын Жырасайы
(лог по названию рода Сакал) – как Сакалкин Лог и т.д.
Третьем видом искажений казахских названий является сопровождение мно-
гих эндонимных водных объектов русскими определениями, которые представ-
ляют, по существу, один из видов калькирования – переводов с казахского языка
на русский язык, хотя такой вид искажений в области не так уж часто встречается.
Например, оз. Екинши Барын (от монг. барун – правая сторона) передан на русском
языке как Вторая Барынка, арык Екинши Бурган (по названию реки) – как Бурган
второй и то с искажением самого арыка.
Что касается этимологии названия р. Ертис, то изучением и выяснением
ее занимался ряд ученых и топонимистов. Среди них заслуживает внимания ут-
верждение Э. М. Мурзаева. Он, подытоживая мнения таких ученых, как В. В. Бар-
тольд, писал, что орхонская форма названия «Aptis» совпадает с названиями по-
монгольски Эргис, по-калмыцки Эртеш и по-казахски Ертис, и, приведя к примеру
запись Махмуда Кашгари (XI в.) о том, что «Ертис (эртиш) – или реки, протекающий
30
ЧАСТЬ 1
по степи», В. В. Иконов и А. П. Дульзон утверждают, что Иртыш по своей структуре –
двусложное название, основа: ир-индоевропейское слово со значением «бурный,
стремительный поток», цис и чис по-кетски «река», т.е. означает «река с бурным те-
чением», которое характерно для ее верховья Кара Ертис. На мой взгляд, этимоло-
гию р. Ертис можно объяснить казахскими словами «ер» – следовать за кем-либо,
«ертіс» – сопровождать кого-нибудь. В данном случае р. Ертис следует за р. Обью
и сопровождает реки Есиль и Тобыл. Таким образом, смысл названия этой реки оз-
начает «следуемая» и «сопровождаемая».
Искаженные оронимы Восточного Казахстана
В 2011 г. проанализирована этимология топонимов Восточного Казахстана
и написан заключительный отчет за 2010–2011 годы по проекту «Проблемы восста-
новления исторических названий природных объектов, способствующих устойчи-
вому развитию Казахстана».
Первый вид искажений в Восточно-Казахстанской области – перевод древних
эндонимных географических названий на русский язык. Так, название бугра Жана
Аулие Матабайм (новый святой Матабай) на топографических картах переведено
с ошибкой на Матобай Святой Новый. Урочища Жолдыбайдын Силемдери (умень-
шительная форма) Орман Саяжайы переведено Каракобинская Лесная Дача.
Топонимической ошибкой является переименование в советское время исто-
рического эндонимного названия самой высокой вершины Алтая – пика Музтау
(4506) (ледовая или ледниковая гора) в Белуху.
Вторым видом искажений орографических объектов в Восточно-Казахстан-
ской, как и в других областях Казахстана, является несоблюдение правил транс-
литерации и транскрипции при передаче исконных казахских названий на русском
языке. Область отличается преобладанием горно-сопочно-бугристого рельефа.
Так, хребет Бала Кусмурын, превратился в Бала-Космурын, Даулыжал в Даулижал,
Жантас актасы в Актас-Жантас, Кожаннын Каратасы в Кужаный Каратас.
Как было показано выше, изменение хотя бы одной буквы в казахских назва-
ниях при транслитерации на русский язык изменяет их смысл или иногда делает
их совсем непонятными. Например, если названия хребта Ушкирмынкыр означает
«тысяча острых гребней», то Ушкырмынкыр означает «три гребня, тысяча гребней».
В результате замены буквы и во втором слоге на ы при обратном переводе с иска-
женного русского варианта на казахский язык дает совсем другую характеристику
и форму хребта. Естественно, нет смысла анализировать этимологию каждого ис-
каженного на русском языке казахского названия.
31
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Русские названия Восточно-Казахстанской области стали появляться со вре-
мен Петра Первого в связи с освоением долины р. Ертис и появлением в этих краях
старообрядных кержаков.
Таким образом, приведенные искаженные на русском языке названия гидро-
графических и орографических объектов всех областей Казахстана исправлены,
как этого требует Президент Н. А. Назарбаев в «Государственном каталоге геогра-
фических названий республики Казахстан» по всем областям, выпущенном в свет
в 2003–2010 гг. на русском и казахском языках. Несмотря на то что этот процесс
сопряжен с определенными трудностями политического, психологического и эко-
номического характера, до 2009 г., до объявления моратория на переименования,
в Казахстане этот процесс шел более или менее активно и на законных основани-
ях по двум направлениям: исправление и замена экзонимов на эндомины. Одна-
ко этот процесс касался в основном названий областей, районов, городов, поселков
и сельских населенных пунктов. Названия физико-географических объектов оста-
вались в стороне от законодательных решений. Наконец, настало время принять
в Казахстане закон о географических названиях, как это было осуществлено в Рос-
сии, Украине и в других республиках СНГ.
После объявления суверенитета в Казахстане создана научная база переиме-
нования и транслитерации географических названий. Новая «Инструкция по рус-
ской передаче казахских и казахской передаче русских географических названий
Республики Казахстан» и созданный и изданный на ее основе 32-томный «Госу-
дарственный каталог географических названий Республики Казахстан» позволяют
любые географические казахские названия передавать и писать на русском языке
без искажения и ошибок.
Топонимы Восточного Казахстана различны. Они составлены из одного, двух-
трех слов. Многие из них названы названиями животных, растений или сравнени-
ем какого-либо объекта. При изучении их выяснялось, что топонимов, касающих-
ся мира растений или животных по численности больше, чем в других регионах.
В богатом древесными ресурсами Катон-Карайском районе существует топонимы
Карагайлы, Карагай, Шыбарагаш. Есть множество топонимов, названных по назва-
нию животных. К примеру, Жыланды, Аркалы (в Тарбагатайском Районе), Маралды
(в Курумском районе), Карасуыр, Таутекели и т.д. То, что многие топонимы области
связаны с географическими названиями и с растительным и животным миром, яв-
ляется показателем хозяйственных особенностей региона.
32
ЧАСТЬ 1
Абдрахманов А. А. Топонимика и этимология. Алма-Ата: Наука, 1975.
Государственный каталог географических названий РК. Т. 5. Восточно-Казах-
станская область. Алматы, 2004.
Конкашпаев Г. К. Словарь казахских географических названий. Алматы, 1963.
Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные
экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. Зай-
санский уезд. Т. 8. СПб, 1909.
Электронный ресурс: http://www.viaevrasia.com/
Электронный ресурс: http://www.familii.ru/
33
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Т. Т. АРШАБЕКОВ
Б��АР ЖЫРАУ АУДАНЫ БОЙЫНША ТАРИХИ ТОПОНИМДЕРІНІ� ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
�азіргі кезе�де �о�амды� пікірде «тарихи ес» (тарихи жады – ред.) м�селесіне
айры�ша м�н беріліп, жіті назар аударылып келеді. Осы т;р�ыдан �оз�ау салып,
пікір таратар тол�а�ы жеткен м�селені� бірі – хал�ымызды� кіндік �аны там�ан
жері, ата-мекені жер атаулары жайында болма�. Себебі географиялы� жер атаула-
ры �асырлар бойы ;рпа�тан-;рпа��а ауысып, жал�аса т;ра�тан�ан топонимдерді�
“жер тарихы – ел тарихы“ деп, таныл�ан тарихи есіні� бір к%рінісіне жатады.
Б;�ар жырау ауданы аума�ында�ы Семізб;�ы, Далба, Бота�ара-Н;ра %�ірі –
Сары-ар�аны� жон ортасында орналас�ан %лкелерді� бірі. Осы %�ірде орналас�ан
�кімшілік-аума�ты� аудан Б;�ар жырау баба есімін бекерге иеленіп отыр�ан жо�.
Себебі, Б;�ар жырау кесенесі осы ауданны� Далба тауыны� етегінде орналас�ан.
Бота�ара-Н;ра %�іріні� �азіргі жерлері т%�керіске дейін орнап бол�ан пат-
ша %кіметі билігіні� т;сында, д�лірек айт�анда 1882–1917 жж. аралы�ында бол�ан
Дала генерал-губернаторлы�ына �ара�ан А�мола облысы (1854–1919 жж.) мен Се-
мей облысыны� (1854–1920 жж.) �;рамында�ы Павлодар, �ар�аралы ж�не А�мола
оязды�тарын �;ра�ан болыс аума�тары болды. Осы орайда Баянауыл, �ар�аралы
мен А�мола�а �ара�ан болысты�тарды� рулы� �;рамы мен оларды� к=зеу-�ыстау,
жайлау жерлері, негізгі �оныс орындары бол�ан айма�тар туралы шолу жасау
�ажет.
Бота�ара %�іріні� бір б%лігі %з кезінде 1826 жылдан, �уелі Баянауыл дуаны-
на, одан кейін 1853 жылы жа�а �;рыл�ан Павлодар оязды�ыны� А�келін болы-
сына �арасты бол�ан. Павлодар оязды�ын мекендейтін �аза�тар негізінен ар�ын
руы %кілдерінен болды. Б;л туралы деректер «К%не К%ктау, байыр�ы Баянауыл
байта�ыны� тарихы» атты зерттеуде баяндал�ан [Алпысбес, Аршабек, 2013].
1841 жыл�ы м�ліметтер бойынша Бота�ара, Шешен�ара, Елто� Шат,
�ызылжар аума�тарында А�мола уезі Мойын-Алтай болысы �аза�тарыны�
жаз�ы жайлауы бол�ан. Белгілі �алым Ш. У�лиханов %зіні� ХІХ �асырды�
30-шы жылдарда�ы ресми сана� �;жаттары негізінде жаз�ан «�ар�аралы окру-
гы болыстарыны� �ыс�ы жайылым жерлері» е�бегінде �ш�атын, Семізб;�ы,
Шешен�ара, Бота�ара, �ткелсіз, Жылант%бе, �ызылк%л айма�тарында К%шім-
Байб%рі, Жа�албайлы-Байб%рі болыстарыны� �аза�тары жазда �ана к%шіп �он�ан
деп к%рсетеді [УRлиханов, 2010].
34
ЧАСТЬ 1
1883 жылы жазыл�ан �ар�аралы уезіні� топографиялы� сипаттамасы-
нан сол жылдарда�ы аума�тарды� шекарасын к%руге болады. Семей облысына
�арасты �ар�аралы мен Павлодар уездеріні� шекарасы былай бол�ан: Шилі %зені
ойпатынан Н;ра %зеніне шы�ып, Сары-Оба, А�%ре сайы ар�ылы шекара шегі
Бела�аштан %тіп, Жартас-�арасу %зенін кесіп %тіп, Айнаб;ла� б;ла�ына жетіп,
Семізб;�ы �арасу %зенінен %тіп, Ащысу %зеніні� жо�ары жа�ынан т%менгі а�ысы
бойымен �ожамбет моласына дейін жеткен. Осы жерден �арауыл шо�ы т%бесін
айналып %тіп, шекара Шал�ар к%ліне жеткен. Ал, Ке�дік т%бесі Павлодар уезінде,
К%ктас т%бесі �ар�аралы уезі аума�ында �ал�ан.
Сонымен �оса, XIX �асырда�ы �ар�аралы, Павлодар, А�мола уездеріні� ше-
карасына келетін болса�, А�мола уезіне Шаршек тауынан Шола��ара %зеніне дейін
ж�не Шилі %зеніні� Н;ра�а �;ятын ке�істігі енген. �ш уезді� жерлері �иылыс�ан
аума� жаз�ы жайылымды� оты бай жерлерімен белгілі болып, б;л жерлер т=рлі
руларды� шо�ырланатын орнына айнал�ан. Ш%бі ш=йгін, балы�ы мол Бота�ара
к%лі Орта ж=з �аза�тары арасында б;рыннан-а� белгілі еді.
1891 жылы 25 наурызда Семей, Жетісу, Орал ж�не Тор�ай облыстарын
бас�ару туралы Ереже �абылданды. 1868 жылы �абылдан�ан Уа�ытша Ережені�
баптары негізінен са�талынды. �згерістер тек �ана облыстарды� �кімшілік-
аума�ты� б%лінуіне, шекараларына, уездерді� атауларына енгізілді. Б;л Ереже
бойынша болысты�тарды� шекарасын %згерту Облысты� бас�арма ;й�арымы
бойынша, ал облыс пен оязды�тарды� шекараларын %згерту �;�ы�ы Ішкі Істер
Министрлігіні� �;зырына �арады.
1867–68 жж. реформа бойынша �;рыл�ан А�мола облысыны� ояз,
болысты�тарыны� �аза�ты� жаз жайлауы мен �ыс�ы �оныстары туралы м�-
лiметтері [�Р ОМА �-369. Т-1. I-2021. 54 об.-60 об.] бойынша Спасск болысыны�
�ыстау жерлері: Шерубай-Н;ра %зенiнде – Баймырза моласы, �ызылмола,
Бек�ожа �он�ан мекенiнде, Н;ра %зенiнде – �анды �араоба, Нарш%кен, Семiз�ыз
шо�ыларында, �ос�;ды� мекенiнде, �ара�анды %зенiнде – Байатар шо�ысы мен
Шилi мекенiнде, �ткен су %зенi, А�т%бе тауында, Бабатай, К%птам, Жаманш;бар
мекендерiнде, Мейiрман шаты мекенiнде, Жауыр шо�ысында, Н;ра бойында –
Байд�улет, �араадыр ж�не �арабиiк шо�ыларында деп к%рсетілген.
XX �асыр басында�ы статистикалы� жина� материалында Акмола оязды�ы
Шерубай-Н;ра болысты�ында�ы № 13-�кімшілік ауыл�а �арасты 9 шаруашылы�
ауылдарында тек �ана байбуралар болатын, оларды� саны – 595 адам�а жеткен
[�Р ОММ, Ф-345. Д-1.].
XX �асыр басында�ы А�мола оязды�ы бойынша ж=ргізілген зерттеу
ж;мыстарыны� материалдарында Спасск болысты�ыны� № 4 – �кімшілік ауы-
лына �арайтын 30, № 5 – �кімшілік ауыл�а �арайтын 33 шаруашылы� ауылдар
бол�ан. Оларды� к%пшілігінде �лм�мбет тарма�ыны� – Бегайдар, С�лия, �ожа�;л,
�ожамсейіт, Бояу, Елібай атты ру аталары мен �улеттеріне жататын отбасылар %мір
35
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
с=рген. Б;л жерде С�лия мен Бояу – Бегайдарды� екінші ж�не =шінші �йелдерінен
тара�ан ;рпа�тарды� жалпы атауы екенін а��ару �иын емес.
�ткен �асыр басында ж=рген А�мола оязды�ын зерттеу �;жаттарында
Спасск болысты�ына (;лысына) �атысты �;жаттар тарихты� ма�ызды дерек к%зі
саналады. Б;л деректерден біз, жер-су аттарына �атысты �;нды м�лімет ала ала-
мыз, сондай-а� б;л жерлерді� на�ты �андай аталар�а тиесілі мирас бол�анды�ын
бай�ай аламыз, ол м�ліметтер 1907 жылы ж=ргізілген халы� сана� есебі бойынша
берілген.
Руларды� аталмыш жер-суы туралы �лихан Б%кейханов �атыс�ан Щербина
экспедициясы жаса�ан сана�тарды� �орытынды – сынап к%ре аламыз. [Букейха-
нов, 1995].
Тобыл губерниясында ж=ргізілген сана� ж;мыстарына �атысып мол
т�жірибе жина�ан �. Б%кейханов, 1896–1901 жылдары А�мола мен Семей облыста-
ры жерін зерттеуге шы��ан Ф. Щербина баста�ан экспедициясы �;рамында болып,
12 оязды�ын зерттеуге �атысты. Ол ал�ашында статист �ызметкері, кейін жеке
зерттеу тобыны� басшысы болды. Аталмыш Ф. Щербина экспедициясы �;рамында
болуы �. Б%кейхановты� �аза� шежірелері, ;лт тарихын зерттеуіне, ізденіс етуіне
о� �сер етті. �. Б%кейханов �аза� жерлеріні� �рбір руды� %з мекені – �ыстау-
жайлауы, %зен-суы, �;ды�тары, я�ни ол жерлер ежелден �оныс тепкен �аза�ты�
ата ж;рты екенін аны� к%рсетіп, карта�а белгілеп, рубасыларыны� есімімен �атар
оларды� жеке шаруашылы�ыны� жа�дайын сипаттап к%рсете білді, сол негізінде
�аза�тарда иесіз жер жо�, �рбір жер-суды� т;ра�ты иесі бар екенін атап к%рсетеді.
�аза� даласына тіршілік іздеп келгендерді� жалпы саны бір жарым мил-
лион келімсектер �;рады. Оны� бір миллион адамы �аза� даласына 1906–1914
жылдары келген еді. С%йтіп, 1906–1911 жылдар аралы�ында м;жы�тарды� �аза�
жеріне �оныс аудару ау�ымы �ар�ынды болды. К%ші-�он �оз�алыстарыны�
осы кезе�дердегі шыр�ау шегі �оныс�а �олайлы за� актілеріні� �абылдауына,
=кімет тарапынан =гіт-насихатты� к=шеюіне, Столыпинны� реформалары берген
�олдауымен ты�ыз байланысты болды.
ХІХ �асыр со�ында б;л жерлер к%ші-�он орнына айнала баста�аны еді.
Осы А�моланы� т%�ірегінен Ерейментауды айнала жылжи отырып �оныстана
�оз�алып, енді Б=йректал, Шола� �арасу, Хан С=йегі, Жуант%бе, Бота�ара,
Шешен�ара, Бела�аш, Семізб;�ы, Керней �арасу, бір с%збен айт�анда Есіл мен
Н;ра %зен бойларын жо�ары %рлей кете берді. Ресей империясы отарлау саяса-
тын �ар�ынды ж=ргізу барысында �аза�тарды� ата-мекен жерлерін тартып алуды
ма�сат т;тты, солай жасады-да.
А�мола облысы – «переселендер» саны жа�ынан е� к%п шо�ырлан�ан %л-
ке ретінде к%зге т=седі. 1906–1911 жылдар аралы�ында сырттан келу к%штер
ау�ымы е� жо�ар�ы де�гейге жетті. Осы уа�ытта отаршыл билік мекемелері
36
ЧАСТЬ 1
=лкен �;нарлы ал�аптарды орыс-казак пен �оныстанушы крестьяндарды� =лесіне
м=дделі т=рде %ткізіп, істі �арап, �ада�алап отырды.
Патша офицерлері, помещиктер, к%пестер ірі-ірі жер телімдеріне ие бо-
лып, оларды� ортасынан нары�пен тікелей байланысы бар =лкен жыл�ы, �ой
шаруашылы�тарыны� иелері шы�ты. Ал, жергілікті �аза�тар б;л ж=йеден
тыс �алдырылып отырды. Кен игерген ірі капитал иелері аренданы желеу етіп
�аза�ты� жерін тау-кен орындарын ашу ма�саттармен жерлерді тартып алу�а
к%шті. �аза� хал�ыны� жер байлы�ы орыс т=гіл �лемдік капиталистерін аш к%зіне
іліге бастады. 1906–1909 жылдар аралы�ында Б;�ар жырау ауданына бірнеше
келімсектерді� �оныстануы болды. Б;л тек �ана, �оныстану емес жергілікті елді
мекендерді� байыр�ы атаулары енді �оныстанушыларды� атауымен аталу�а
басты себеп болды.
М;ра�ат �;жаттарында осы елді мекендерді� на�ты %згерістері баяндал�ан.
Мысалы«Зеленая Балка селосыны� на�тылы �;рылуы ж%нінде «Акмолинское об-
ластное ведомости» газетіні� 1911 жыл�ы №52 санында былай деп к%рсетілген:
«А�мола облысты� бас�армасыны� �аулысы бойынша 1911 жылды� 10 �араша ай-
ында �ызыл-�;ды� учаскесінде селолы� �о�амды� бас�арма �;рылсын, �кімшілік
тарапынан Больше-Михайлов болысты�ына �арайтын болсын ж�не б;л мекен «Зе-
леная Балка» деп аталсын» [�ОМА �-596. Т-1. І-37.].
М;ра�ат �орында�ы м�тін: «Поселок Дубовский. Входил в состав Больше-
Михайловской волости Акмолинского уезда. Образован как самостоятельный на-
селенный пункт 10 февраля 1909 г. на переселенческом участке Караколь. Крес-
тьянам отвели 5094,95 десятины земли».
1927 жылды� ая�ында �аза�станда жа�а �кімшілік-территориялы�
�;рылым жасау басталды. Жа�а �кімшілік – территориялы� �;рылым�а с�йкес
б;рын�ы губерния, уезд, болысты�тарды� орнына =ш буынды ж=йе енгізілді:
округ – аудан – �ала.
Отызыншы жылдары бастал�ан �ызыл империяны� �анды терроры КСРО
хал�ыны� барлы�ыны� басына бірдей т=скенімен, д�л �аза� хал�ына �олдан�ан
жазалаулары ерекше �ата� сипатта болды. Осы с;р�ия, �анды �ол саясатты�
к%ріністері Карлаг �;рылуымен айры�ша к%рінді. �ара�андыны� е�бекпен т=зеу
лагері КСРО Халы� Комиссарлар Ке�есіні� 1930 жыл�ы мамырда�ы �аулысымен
ашылды.
Лагерь шаруашылы�ы �ара�анды облысыны� Н;ра, Тельман, �ара�анды,
Шет ж�не Жа�аар�а сия�ты бес �кімшілік ауданыны� торабында, оларды� негізгі
сілеміні� =штен екі б%лігіні� басым к%пшілігі Тельман ауданыны� жерінде орна-
ласты. Карлаг жеріне Тельман ауданынан �аражар, Дубов, Ростов сия�ты мекен-
дер б%лінді.
Ворошилов ауданы 1938 жылды� 14 а�пан к=нгі �азКСР Жо�ары Ке�есі Пре-
зидиумы �аулысымен �;рылды. Ауданны� орталы�ы «Колхозное селосы». Оны�
37
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
�;рамына Баянауыл ауданыны� Далба, �ызыл-�о�ам, Сары�амыс, Шал�ар село
ке�естері; �ар�аралы ауданыны� Ворошилов, Дмитриев, Жана-�ала, �лгі село
ке�естері; Тельман ауданыны� Колхозный мен Сенокосный; �ара�анды �ала
ке�есіне �арасты – А�жар, Елтай ж�не Миньковский елді мекендері кірді [Караган-
да, 2006].
1938 жылды� 29 наурыз к=нгі �азКСР Жо�ары Ке�есі Президиумы
Жарлы�ымен Больше-Михайловский, Компанейский ж�не Новоузенский е�бек
поселкелері �ара�анды �алалы� Ке�есіне �арады. 1939 жылы ж=ргізілген халы�
сана�ы бойынша елді мекендер тізімінде аудан �;рамында Далба, �ызыл-�о�ам,
Сары�амыс село ке�естері к%рсетілмеген. �зге м�ліметтер бойынша б;лар Баянау-
ыл ауданыны� �;рамына 1939 жылы �айтарыл�аны белгілі болды.
1940 жылы статистикалы� есеп бойынша Ворошилов ауданы 8,5 мы� шар-
шы километр жерді алып жатты, хал�ыны� саны 17 637 адам болды. Ауданда 11
поселкелік ж�не ауыл ке�естері бар.
�аза� ССР-і Жо�ар�ы Ке�есіні� �аулысы бойынша 1954 жылды� 30 маусым
айында осы �аулымен Ворошилов ауданыны� Жа�а-�ала ж�не Пушкин селолы�
ке�естері Пушкин селолы� ке�есі болып бірікті.
1961 жылды� 22 шілдесінде �ара�анды ат�ару облке�есіні� шешімімен
ауданны� біршама селолы� ке�естеріні� �кімшілік-территориялы� %згерістер
енгізілді. Ворошилов селолы� ке�есіні� территориясы біршама ;л�айтылды. Осы
жылы аудан Ульянов ауданы болып �;рылды.
�аз. ССР Жо�ар�ы Ке�есі Президиумыны� 1963 жыл�ы 2 �а�тарында
�аулымен Ульянов ауданы таратылды. Оны� селолы� ке�естері – Бабаев, Дми-
триев, Калинин, Кузнецк, Пушкин, Ульяновск ж�не Хорошевск Тельман ауданына
берілді. Семіз б;�ы поске�есі �ара�анды �алалы� �кімшілік ке�есіні� �арама�ына
берілді. Осы жылды� 31 желто�санында �аза� ССР Жо�ар�ы Ке�есіні�
�аулысымен Ульянов ауданы �айта �;рылды. Аудан �;рамына Тельман ауданына
берілген 11 селолы� ке�ес �айта берілді.
1997 жылды� 23 мамыр к=нгі �аза�стан Республикасыны� Президентіні�
№3528 Жарлы�ымен Ульянов ауданыны� аты Б;�ар жырау болып %згертілді [Ар-
шабеков, Ж7мабеков, Жетпісов, 2014].
�азіргі кезе�де Б;�ар жырау ауданы 30 �кімшілік селолы� бірліктен
�;рал�ан. Тек �ана со��ы айларда Б;�ар жырау ауданы бойынша 21 к%шеге тари-
хи атаулар �айтарылып берілді.
38
ЧАСТЬ 1
Алпысбес М., Аршабек Т. Т. К%не К%ктау, байыр�ы Баянаула байта�ыны� та-
рихы. �ара�анды: Гласир, 2013.
Аршабеков Т. Т, Ж7мабеков Ж. А., Жетпісов С. О. Б;�ар жырау ауданыны� то-
понимикасы. �ара�анды: Гласир, 2014.
Букейханов А. Та�дамалы (Избранное) /Глав. ред. Р. Нургалиев. Алматы:
�аза� энциклопедиясы, 1995.
Караганда. Справочник по истории административно-территориального
устройства Карагандинской области (29 июля 1936 г. – 1 января 2006 г.) / Отв. ре-
дактор У. А. Амантаев. Караганда: Отдел архивов и документации Карагандинской
области.2006.
УRлиханов Ш. Та�дамалы шы�армалар жина�ы. Алматы. 4 т. 2010.
39
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
А. А. БУРЫКИН
ГИДРОНИМЫ ЗАПАДНОЙ И СРЕДНЕЙ СИБИРИ.ИРТЫШ.
Происхождение названия реки Иртыш, несмотря на длительную историю изу-
чения топонимии Западной Сибири, ее отдельных территорий и административных
регионов, остается невыясненным. Поиски объяснения этого названия в тюркских
языках не дали результата и, совершенно очевидно, являются бесперспективными,
так как на сегодня в применении к топонимии и географической терминологии
очень хорошо изучены не только общетюркский лексический фонд, но и словар-
ный состав отдельных тюркских языков, и становится ясным, что гидроним Иртыш
не может иметь тюркского происхождения.
Название реки Иртыш встречается в «Сокровенном сказании»: «Наиман-
ский Кучулук-хан, потеряв свой улус, решил присоединиться к Меркитскому Тохтоа
в то время, когда тот сошелся с ним на пути своего бегства с небольшим отрядом
людей. Подойдя к ним, Чингис-хан завязал бой, и тут же Тохтоа пал, пораженный
метательной стрелой-шибайн-сумун. Сыновья его, не имея возможности ни похо-
ронить отца на месте боя, ни увезти его прах с собою, отрезали его голову и спеш-
но отошли. Тут уж было не до общего отпора, и Найманы вместе с Меркитами об-
ратились в бегство. При переправе через Эрдыш они потеряли утонувшими в реке
большую часть людей. Закончив переправу через Эрдыш, Найманы и Меркиты с не-
большим числом спасшихся пошли далее разными дорогами, а именно Наиманский
Кучулук-хан пошел на соединение с Хаара-Китадским Гур-ханом на реку Чуй, в стра-
ну Сартаульскую, следуя через землю Уйгурских Хурлуудов» [Сокровенное сказание,
1941. § 198].
«Сказал Чингис-хан Хорчию: „Ты предсказал мне будущее, с юности моей
и по сей день в мокроть мок со мною, в стужу – коченел. Ты, Хорчи, помнишь, го-
ворил: „Когда сбудется мое предсказание, когда Небо осуществит твои мечты, дай
мне тридцать жен“. А так как ныне все сбылось, то я и жалую тебя: выбирай себе
тридцать жен среди первых красавиц этих покорившихся народов“. И он повелел:
„Пусть Хорчи ведает не только тремя тысячами Бааринцев, но также и пополнен-
ными до тьмы Адаркинцами, Чиносцами, Тоолесами и Теленгутами, совместно,
однако, с (тысячниками) Тахаем и Ашихом. Пусть он невозбранно кочует по всем
кочевьям вплоть до при-Эрдышских Лесных народов, пусть он также начальствует
над тьмою Лесных народов. Без разрешения Хорчи Лесные народы не должны иметь
40
ЧАСТЬ 1
права свободных передвижений. По поводу самовольных переходов – нечего заду-
мываться!“» [там же. § 207].
Наиболее ранние упоминания о реке Иртыш присутствуют в «Сборнике лето-
писей» Рашид-ад-Дина. «Распределение юртов найманов таково. Летние кочевья: Та-
лак – юрт их государя; Джаджиэ-наур – место его ставки [орда]. Зимовки: гора Ада-
ри-Эбкэ, Бакрас-олум; Ачирик-наур и река Ала-Етрин. Эти племена [найманов] были
кочевыми, некоторые обитали в сильно гористых местах, а некоторые – в равнинах.
Места, на которых они сидели, как упомянуто [?], таковы: Большой [Екэ] Алтай, Ка-
ракорум, где Угедей-каан, в тамошней равнине, построил величественный дворец,
горы: Элуй-Сирас и Кок-Ирдыш [Синий Иртыш], – в этих пределах обитало также
племя канлы, – Ирдыш-мурэн, который есть река Иртыш, горы, лежащие между той
рекой и областью киргизов и соприкасающиеся с пределами той страны, до мест-
ностей земель Могулистана, до области, в которой живал Он-хан» [Рашид-ад-Дин,
1952. Кн. 1, ч. 1. С. 136–137].
«Когда Чингис-хан разбил найманов и убил Таян-хана, он в год барса, в пре-
делах течения реки Онона, водрузил девятиконечный белый бунчук [туг], устро-
ил великое собрание и великий пир; и [там] дали ему имя Чингис-хан. После это-
го [Чингис-хан] выступил с намерением захватить Буюрук-хана, брата Таян-хана;
тот же был занят [в это время] охотой на птиц; [Чингис-хан] неожиданно захватил
его во время охоты и убил. Кушлук и его брат, оба были с [Буюрук-ханом]; убежав,
они ушли к реке Ирдышу» [там же. С. 138].
«[Когда-то] его <Чингис-хана> племянник по брату, Кушлук-хан, в то время,
когда убивали его отца, Таян хана, бежал к своему дяде Буюрук-хану. Токтай-беки,
государь меркитов, также, как это было раньше изложено, прибыл к нему. Они оба
укрылись в местности, название которой Ирдыш, на рубеже области найманов»
[Рашид-ад-Дин, 1952. Кн. 1, ч. 2. С. 150–151].
«В год дракона, начинающийся [с месяца] раджаба 604 г. х. [январь–февраль
1208 г. н. э.], когда Чингис-хан вернулся после завоевания областей Тангут и кир-
гизов и эмиры этих областей [ему] подчинились, – он расположился в своих жили-
щах [ханаха]. Там он провел конец лета и зимой счастливо выступил для отражения
Токтай-беки и Кушлука, которые оба бежали после битвы к Буюрук-хану и прибыли
в область [реки] Ирдыша. В пути патрульный дозор и передовые [пишрав] части во-
йска неожиданно наткнулись на племя ойрат, предводителем которого был Кутукэ-
беки» [там же. С. 151–152].
«Год Лу, год дракона, приходящийся началом на [месяц] зул-хидджэ 616 г. х.
[7 февраля–7 марта 1220 г. н. э.]. В этом году Чингис-хан был в пути на страну тази-
ков и провел лето в долине реки Ирдыша, чтобы лошади откормились; осенью он со-
изволил двинуться оттуда и захватил города и области, которые лежали на пути»
[там же. С. 256].
41
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
«Все области и улус, находившиеся в пределах реки Ирдыш и Алтайских гор,
летние и зимние кочевья тех окрестностей Чингис-хан пожаловал в управление
Джучи-хану и издал беспрекословный указ, чтобы [Джучи-хан] завоевал и включал
в свои владения области Дашт-и Кипчак и находящиеся в тех краях государства.
Его юрт был в пределах Ирдыша, и там была столица его государства. Вот и все!»
[Рашид-ад-Дин, 1952. Кн. 2. С. 78].
Река с названием Эрцес Бумба встречается в текстах калмыцкого героиче-
ского эпоса «Джангар», представляющих версию Ээлян Овла, правда всего однаж-
ды, в XI песни «Джангара» «Победа Алого Хонгора и Савара Тяжелорукого над се-
мью богатырями Замбал-Хана»: «Подданные самого владыки Джангара, Говорящие
на семидесяти языках, Отняли владения У сорока тысяч ханов, живших У ста тысяч
истоков реки Эрцес Бумбы» [Джангар, 1990. С. 341]. Комментаторы эпоса склонны
считать, что речь идет о реке Иртыш (cм.: [там же. С. 458, 462]).
Приведем полностью статью «Иртыш» из энциклопедии «Югория»: «Иртыш,
река. Этимология названия Иртыш (тюрк. – Эртиш, монг. – Эрчис, манс. – Ени-Ас
(точнее, видимо, Яныг-Ас, что, собственно, и значит ‘большая река’, см. далее 2.4,
3.2.1. – А. Б.), хант. – Тангат, Лангал) остаётся дискуссионной. Версия о связи на-
звания реки Иртыш с казахским ир – земля, тыш – рыть (ср. таш: Ыртыш – рвущий,
разрывающий), высказанная в „Сибирской советской энциклопедии“ [Сибирская
советская энциклопедия, 1931. Т. 2. С. 336], ввиду логического несоответствия (Ир-
тыш – равнинная, спокойная река) находит всё меньше сторонников. Заслуживает
внимания точка зрения А. П. Дульзона, поддержанная В. Н. Поповой, которые выде-
ляют в ониме Иртыш сегмент -тыш/-тиш, восходящий к кетским диалектам с огла-
совкой -чеш, -шеш, -сес, -сис с общим значением ‘река’ [Попова, 1970. С. 12–16; По-
пова, 2000. С. 51–52]. Индивидуальный сегмент -ир этими авторами связывается
с докетским (иранским)1 корнем со значением ‘бурный’, ‘стремительный’, что согла-
суется с характером водотока реки в её верхнем течении. Другие авторы считают,
что в гидронимии автохтонного населения Западной Сибири – селькупов, угров,
тюрков, кетов – речные названия с финалью -ас (варианты -су, -сы, -сос, -сас, -сес,
-сис, -цыс, -ники, -чис) относятся к числу достаточно распространённых, что даёт
возможность предполагать их генетическое родство (??? – А. Б. ), как и позднее –
иранско-кетскую модификацию ирсес (ирчес) ирцис – в тюрконизированный эртыш
(иртяш) иртыш» [Калинин, Фролов, 2000. Т. 1. С. 381–382].
В. А. Никонов отвергал возможность тюркской этимологии этого гидронима,
приведенной выше по «Сибирской советской энциклопедии», при этом отмечая:
«Не исследована общность начального Ир- (гидронимы Ирбит, Иргиз, Иркут и др.)»
[Никонов, 1966. С. 160–161]; стоит заметить, что это едва ли не единственный
1 Почему иранцы должны быть более древним населением в бассейне Иртыша, нежели
кеты, относимые к палеоазиатским народам, – в этом вопросе понять авторов статьи трудно.
42
ЧАСТЬ 1
в практике В. А. Никонова случай, когда топонимический формант, привлекающий
исследователя, располагается на месте корня гидронима, что делает все сопоставле-
ния почти невероятными. Е. М. Поспелов пишет в своем словаре – наиболее позднем
по времени из обобщающих топонимических словарей России: «Из ряда о6ьяснений
этого гидронима наиболее убедительно то, где в качестве исходной формы предла-
гается тюрк. Ertis в значении ‘строптивый, бурный’, т. е. ‘бурное течение, поток’. Рас-
пространена также версия, принимающая за исходную форму Ирцис, где иран. ir
‘бурный, стремительный поток’ сочетается с кетск. сис (‘река’) в тюркизированной
форме цис [Поспелов, 2008. С. 206]1.
Э. М. Мурзаев писал: «Очевидно, что народная этимология была свойствен-
на топонимике в течение всех исторических эпох. Это видно хотя бы из „Дивана...“
Махмуда Кашгари, который объяснял гидроним Иртыш из эртишмак – кто быстрее
перейдет. Странная и неоправданная этимология» [Мурзаев, 1969. С. 103]. Для нас
упоминание об Иртыше в словаре Махмуда Кашгарского интересно, конечно,
не с этимологической, а с источниковедческой стороны, как факт ранней докумен-
тации гидронима.
Любопытная и совсем забытая версия о происхождении гидронима Иртыш
представлена в «Лексиконе» В. Н. Татищева: «Иртыш, река великая в Сибири, начало
ея за горами Алтау, из озера Зайсан, имя тат., Мужня гора, течения ее до реки Оби,
в которую она впадает, более 1500 верст» [Татищев, 1793]. Понятно, что В. Н. Тати-
щев видел здесь корни татарских слов ир ‘мужчина’, ‘муж’ и таш ‘камень’, однако же
такая этимологическая раскладка интересна только для истории науки.
Попробуем рассмотреть, как варьирует по отдельным известным нам енисей-
ским языкам вид гидронимического форманта, восходящего к слову со значением
«река» в известных нам на конец XVIII в. енисейских языках, согласно данным сло-
варя П. С. Палласа.
Согласно материалам этого словаря «река» – по-арински сать, по-ассански
и по-коттски («котовски») шеть, по-кетски («инбацки») сесь, дюево, дюгално, по-
пумпокольски томь, татанг [Паллас, 1787. Т. 1. С. 315–316, ст. «река», № 148–152]2.
В коттском языке, кроме того, есть форма кемь, к которой, без сомнения, восходит
тувинское хем ‘река’ (обратное направление заимствования предполагать почти не-
возможно), в ассанском – уль, что в других енисейских языках имеет значение ‘вода’.
1 Ранее то же высказывал Н. К. Фролов: [Фролов, 1994. С. 97–98]
2 См. об этом (без детализации лингвистических данных): [Воробьева, 1973]. Пумпо-
кольская форма татанг, скорее всего, является формой дательного падежа, и она должна чле-
ниться как тат-танг, то есть само название реки в этом языке должно было иметь вид **тат,
что без осложнений сравнивается со словами других енисейских языков.
43
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Итак, мы имеем ряд соответствий сат/шет/сесь, к которому можно добавить
зафиксированные в топонимике формы Тесь (гидроним), Шиш – правый приток Ир-
тыша и чес, зас (форманты, встречающиеся в топонимах, чаще всего гидронимах
Южной Сибири, для которых предполагается енисейское происхождение). Вероят-
но, слово чась ‘море’, зафиксированное в южноселькупских диалектах тем же сло-
варем Палласа [там же. С. 312, ст. «море», № 127–129], восходит к этому же слову
«река», пришедшему из какого-то енисейского языка. Возможно, этот список впо-
следствии будет расширен и тем самым мы получим возможность выявить следы
еще каких-то енисейских языков, которые не были документированы даже в виде
списков слов и от которых осталась только субстратная топонимика.
Нельзя исключать того, что гидроним Кеть восходит к тому же общеенисей-
скому корню в виде **хет, с изменением *с > *x, и тогда мы получим возможность
не только этимологизировать данный гидроним, но и объяснить междиалектные
эвенкийские соответствия согласных с/ш/x (ср.: эвенк. Саман/хаман/шаман ‘ша-
ман’, вошедшее в русский язык как раз из «шекающих» диалектов эвенкийского
языка), так и не получившие интерпретации в тунгусо-маньчжурском языкознании,
как последствия контактов эвенков с носителями разных енисейских языков. Тогда
у нас открывается возможность видеть тот же самый корень со значением «река»
в гидронимах Хета и Катанга (название Нижней Тунгуски у эвенков).
Возвращаясь к поискам объяснения гидронима Иртыш из енисейских язы-
ков и обращаясь к данным наиболее изученного из них – кетского, мы высказыва-
ем предположение, что в этом гидрониме представлен кетский корень эрь – ‘соболь’
[Вернер, 2002. C. 118, 211]. Тогда получается, что Иртыш по своему значению –
это «соболиная река». Предполагаемая форма Эрьсесь могла превратиться в Иртыш
при заимствовании ее татарским языком, или, что нельзя исключать, она восходит
к какому-то енисейскому языку, в котором слово «река» имело вид **тэш. Енисей-
ское население даже на Среднем Иртыше было более ранним, чем ханты и манси
[Юнаковская, 2013. С. 26–27]. Монгольские формы названия Иртыш специаль-
но не комментировались, хотя в словаре П. П. Семенова-Тян-Шанского отмечено,
что у калмыков эта река именуется Эрцис [Семенов-Тян-Шанский, 1865. Т. 2. С. 360]3.
Форма Эрдыш, как она дана в «Сокровенном сказании», и форма Ирдыш
у Рашид-ад-Дина несколько отличаются по внешнему облику и от современной
формы Иртыш, и от формы Эрцес, представленной в «Джангаре». Для этого могут
быть разные причины. Возможно, что формы с согласным д отражают несколько
3 В. А. Никонов прямо сетовал на то, что в монгольских языках слово Эрцис как апел-
лятив «река» не найдено [Никонов, 1966. С. 160], что лишний раз акцентирует своеобразие
методов географической топонимики, согласно которым при наличии непонятного назва-
ния непременно в каком-то языке должно отыскаться похожее слово со значением «река»
или «вода».
44
ЧАСТЬ 1
иной источник, возможно, какой-то другой енисейский язык, близкий к кетскому,
но не тождественный ему, поскольку они не во всем укладываются в наши пред-
ставления об исторической эволюции тюркских и монгольских языков. Можно ду-
мать также, что тюркские и монгольские формы этого топонима имеют разные ис-
токи и были восприняты из разных диалектов какого-то языка енисейской группы.
Так или иначе, происхождение гидронима Иртыш/Эрцес из енисейских языков ныне
представляет собой наиболее убедительную этимологию этого эпического и одно-
временно исторического названия реки.
Сказанное здесь заставляет предполагать наличие других гидронимов с ени-
сейской языковой основой во всем бассейне этой реки. Форма слова «вода» в ени-
сейских языках – кетск. уль позволяет искать енисейские гидронимы по соответ-
ствующему форманту от Барнаула по крайней мере до Тобола. Наличие в енисей-
ских языках лексемы Том «река», позволяет относить к енисейским по происхожде-
нию топонимы Тым, Сым и другие, которые могут быть выявлены в бассейнах Оби
и Енисея, поскольку из известных нам языков (тюркских, самодийских, тунгусо-
маньчжурских) они не объясняются.
Если высказываемые здесь предположения верны, мы можем, руководствуясь
данными топонимики и истории енисейских языков, существенно уточнить рас-
селение енисейских народов по территории Западной Сибири в междуречье Оби
и Енисея и по обоим берегам Енисея. Эта задача довольно сложна, поскольку та-
кие топонимы весьма трудно извлечь из континуума обско-угорских (хантыйских
и мансийских) и самодийских (ненецких, селькупских, и, возможно, принадлежа-
щих еще не известным самодийским языкам) топонимов бассейна Оби (cм.: [Исла-
мова, 2009]).
Вернер Г. К. Словарь кетско-русский и русско-кетский. 2-е изд., СПб., 2002.
Воробьева И. А. Язык Земли. О местных географических названиях Западной
Сибири. Новосибирск, 1973.
Джангар. Калмыцкий народный героический эпос. М., 1990.
Исламова Ю. В. Субстратная топонимия Нижне-Среднего Приобья: Автореф.
дис. … канд. филол. наук. Тюмень, 2009.
Калинин В. М., Фролов Н. К. Обь // Югория. Энциклопедия Ханты-Мансийско-
го автономного округа. 2000. Т. 1. С. 290–291.
45
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Мурзаев Э. М. Географическая семантика некоторых тюркских топонимов //
Ономастика Поволжья. Вып. 1. Ульяновск, 1969. С. 101–104.
Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М., 1966.
Паллас П. С. Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные дес-
ницею высочайшей особы. Т. I. СПб., 1787.
Попова В. Н. К этимологии гидронима Иртыш // Языки и топонимия Сибири.
Вып. III. Томск, 1970. С. 12–19.
Попова В. Н. Ареально-ретрогрессивный метод А. П. Дульзона в исследовании
субстратной топонимии // Вопросы языкознания. 2000. № 3. С. 50–54.
Поспелов Е. М. Географические названия России. Топонимический словарь.
М., 2008.
Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Кн. 1–2. М.; Л., 1952.
Семенов-Тян-Шанский П. П. Географическо-статистический словарь Россий-
ской империи. Т. 2. СПб., 1865.
Сибирская советская энциклопедия. Т. 2. Новосибирск, 1931.
Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под названием Mongγol-
un Niγuca tobčiyan. Юань Чао Би Ши. Монгольский обыденный изборник. М.; Л., 1941.
Татищев В. Н. Лексикон российской исторической, географической, полити-
ческой и гражданской. Т. 1–3. СПб., 1793 (Электронное издание).
Фролов Н. К. Иртыш // Русская ономастика и ономастика России. М., 1994.
Юнаковская А. А. Ugristarum в Среднем Прииртышье // Вестник Удмуртского
ун-та. 2013. Серия 5. «История и филология». Вып. 2. С. 23–30.
46
ЧАСТЬ 1
А. П. ГОРБУНОВ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ КАЗАХСТАНА
Равнинные пространства Казахстана являются естественными «воротами»
Центральной Азии. Через них с давних пор следовали из Китая и Монголии в Турке-
стан, на Ближний Восток и в Европу торговые караваны, мигрирующие этносы, вой-
ска многих завоевателей и путешественники. По Казахстану проходили пути из Цен-
тральной Азии в Сибирь. Все это определенным образом повлияло на формирование
топонимии страны. Она весьма динамична и сложна во многих отношениях.
Естественно, что некоторые географические имена Казахстана до сих пор вы-
зывают спорные толкования, а иногда вообще не поддаются сколько-нибудь при-
емлемому объяснению. Разгадка их смысла и происхождения требует углубленного
исторического, географического и лингвистического анализа. Наиболее надежны-
ми источниками являются старинные географические карты и путевые дневники
различных путешественников далекого прошлого. Топонимическую информацию
по крупицам приходится извлекать из исторических хроник, которые публиковались
в основном на персидском, арабском и китайском языках. Беда в том, что в них гео-
графические названия сообразно с особенностями произношения и написания слов
существенно искажались. В этом отношении наиболее трудными для прочтения яв-
ляются китайские тексты, которые, кстати, еще очень слабо использованы для топо-
нимического осмысливания. Определенную трудность вызывают даже российские
публикации. Авторы их, незнакомые в должной мере с тюркскими языками, часто
до не узнаваемости искажали многие топонимы Центральной Азии.
С обретением Казахстаном независимости появилась необходимость пере-
смотра, изменения, уточнения и дополнения многих топонимов суверенной Респуб-
лики. В 2009 г. была завершена большая и очень полезная работа по составлению
Государственного каталога географических названий Республики Казахстан в 14-
ти томах. В нем помещены материалы по правописанию, семантике и этимологии
многих топонимов Республики.
Как всякий пионерный труд, изданный каталог, естественно, нуждается в об-
суждении, некоторых дополнениях и уточнениях. Известно, что наука топонимика
обладает уникальными особенностями. Например, то или иное объяснение сущ-
ности топонима не всегда однозначно. Обычно приводится несколько версий, ко-
торые поясняют смысл и происхождение данного топонима. Те из версий, которые
47
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
представляются наиболее приемлемыми на сегодняшний день, со временем уступа-
ют свое место другим трактовками, так как появляются новые факты и суждения.
Семантика и этимология некоторых топонимов Казахстана нуждается в осо-
бом подходе. Их можно отнести к «трудным» и спорным топонимам. Они могут быть
сгруппированы в зависимости от их специфики.
К первой группе относятся те из них, которые нанесены на топографическую
основу с существенными ошибками. Представим себе следующую ситуацию: рус-
скоязычный топограф, составляющий карту какой-то территории, узнает у местного
жителя название конкретного географического объекта, но записывает его с ошиб-
кой из-за незнания казахского языка или по другой причине. Так, в 10 км к востоку
от Павлодара находится небольшое соленое озеро Мойылды (так на карте), т.е. Че-
ремуховое. Но по берегам озера черемуха отсутствует, да она, по свидетельству гео-
ботаников, и не может произрастать на засоленных почвах. На самом деле местные
жители именуют озеро Майлы – засаленное или маслянистое. Действительно, очень
соленая вода, на ощупь масленая.
К востоку от Алматы есть город, река и озеро Иссык. Эти прежние топонимы
ныне заменены на Есик. В письменных материалах одно из первых упоминаний то-
понима в форме Ишик появилось в 1771 г. Затем в середине XIX в. вошел в обиход
топоним Иссык. Видимо, топографы перенесли сюда часть географического назва-
ния знакомого им озера Иссык-Куль, на слух ошибочно восприняв местное название
Есик.
На крайнем юго-востоке Алматинской области, в горах Терскей Алатау, нахо-
дятся два ущелья Улкен Какпак и Орта Какпак. Есть здесь перевал и поселок Какпак.
Это видоизмененный топоним Какпа, т.е. ворота (каз., кирг.) на высокогорные паст-
бища Сарыжаза. Действительно, в истоках названых рек находятся удобные перева-
лы – проходы или ворота на эти обширные жайлау. Кстати, в древнетюркском языке
ворота, или горный проход, назывались капаг [Древнетюркский словарь, 1969. С.
420]. Итак, бессмысленная семантика Какпака (крышка, покрышка, клапан – каз.
и кирг.) нуждается в переименовании топонима на Какпа или Какпасы.
Еще более значительные искажения топонимов происходят при переходе зву-
ков и букв из тюркских и монгольских устных и текстовых материалов в русский
язык. Такое иногда наблюдается в случае перехода U в о. Например. в казахском язы-
ке слово «ор» означает канаву, ров, яму, а «%р» осмысливается как небольшая возвы-
шенность или подъем. В русском алфавите такая буква отсутствует, поэтому в рос-
сийских письменных и картографических источниках ее обычно заменяли буквой
«о» по сходству. Такая замена искажала смысл топонима: возвышенность (Uр) пре-
вращалась в яму или канаву (ор). Явное топонимическое недоразумение.
В районе известного урочища Медеу, что в долине Малой Алматинки, есть пе-
ревал Кимасар. Бытующая его семантика – «кто может пройти» – какая-то бессмыс-
ленная. Не исключено, что первичное название перевала – Киынасар, т.е. трудный
48
ЧАСТЬ 1
перевал. Можно возразить: проход здесь легкий, ведь по долине к перевалу ведет
колесная дорога. Это так. Но спуск с перевала в Бутаковское ущелье очень крут и не-
удобен для верхового, и всадник должен спешиться и везти лошадь под уздцы, спу-
скаясь вниз. А ведь в прошлые времена по горам пешком не ходили, а передвигались
только верхом на низкорослых горных лошадках. Здесь опять присутствует эффект
«испорченного телефона».
Приведу еще два предположения. Не исключено, что топонимы Каргалы (Во-
ронье) и Кыргауылтар (Фазанье) по сходству звучания иногда ошибочно превраща-
лись в географическое название Каркаралы. Весьма возможно, что в ряде случаев
происходит смешение топонимов Жосалы (Охристое) и Жасыл (Зеленое). Заметим,
что эффекту «испорченного телефона» способствует путаница звуковых пар: а-о, о-е,
у-о, и-е, д-т, к-г, б-в и т.п.
Ко второй группе относятся топонимы диалектного происхождения. В по-
следнее время в Казахстане появилась тенденция замены диалектных географиче-
ских названий на литературные формы. Это в основном коснулось южных областей
республики.Известно, что в южном диалекте казахского языка присутствует звук ч [Аман-
жолов, 2001]. Естественно, что некоторые топонимы содержат этот звук, чуждый ли-
тературному языку. В качестве примера С. Аманжолов привел топоним Шакпак. По-
этому такие географические названия, как Чакпак, Чарын, Чилик, Чунжа, Чолак, Чу,
Чардара и некоторые другие следует сохранить в обиходе. Они свидетели истории
казахского языка, первичной их семантики и этимологии, а поэтому имеют право
на существование. Кроме того, исправление диалектных топонимов порождает ряд
неудобств и трудностей при работе с прежними историческими или географически-
ми материалами и при знакомстве с литературными памятниками.
В одних случаях такое исправление географического названия требует выяс-
нения, разные ли это топонимы или нет. Например, Чу–Шу, Чакпак–Шакпак, Чарда-
ра–Шардара. В других случаях перевод диалектного топонима в систему литератур-
ного языка ведет к потере его первичной семантики и этимологии. Приведем при-
меры, которые убедительно подтверждают сказанное выше.
Чилик – левый многоводный приток Или в пределах Алматинской области,
берет начало на ледниках Кунгей и Заилийского Алатау. Одноименный поселок на-
ходится в 120 км к востоку от Алматы.
Формирование этого топонима шло последовательно от названия урочища
к наименованию реки и поселка. Но смысл и происхождение упомянутого топо-
нима нуждаются в детальном рассмотрении. На новой карте Алматинской облас-
ти 2009 г. читаем названия реки – Шилик, а поселка – Шелек. Связано это с тем,
что два топонимиста в одном случае сошлись, а в другом – разошлись во мнениях.
Поясню суть этих заблуждений. Оба они решили заменить звук «ч», отсутствующий
в казахском литературном языке, на «ш». Однако известно, что в южном диалекте
49
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
казахского языка широко используется первый звук [Мурзаев, 1996]. Любое преоб-
разование диалектных топонимов – нонсенс. Суть расхождений реформаторов топо-
нимики в том, что один исходил из того, что шилик – казахское название разновид-
ности ивы, которая якобы произрастает в дельте реки Чилик. Но по свидетельству
авторитетных геоботаников, она здесь отсутствует. Автор топонима Челек связывает
его с древнетюркским словом чел, т.е. ветер. Оно явно не подходит к наименованию
урочища. Сильные и продолжительные ветры в Казахстане и Киргизии называются
по имени поселения, урочища, перевала, горы, озера. Примеры: сайкан, эбе, чакпак,
санташ, улан и т. п., а не наоборот.
Чилик по-киргизски означает чащу, густые заросли. Действительно, даже
в наше время в дельте реки непроходимая чащоба, состоящая в основном из ивня-
ка, облепихи, лоха, барбариса, шиповника и тамариска (гребенщика). Она занимает
площадь в несколько сотен гектаров. Нигде более в бассейне Или не встречаются
столь грандиозные по размерам массивы древесно-кустарниковой растительности.
Таким образом, замена одной буквы другой исказила смысл топонима, утрачена
его первоначальная семантика и этимология. Интересно, что русское слово «чили-
га» или «дереза» означает некоторые небольшие деревья, кустарники и высокие тра-
вы типа полыней. Оно явно тюркского происхождения.
Заметим, что киргизские топонимы встречаются не только в Алматинской об-
ласти. Они известны в Таджикистане, Узбекистане и даже в Синьцзяне, в Китае.
Следующий пример связан с рекой Чарын. Река и ее каньоны находятся
в 200 км к востоку от Алматы. Гидроним восходит к древнетюркскому слову Жа-
рун [ал-Кашгари, 2005]. Так в XI в. именовался реликтовый или реколюбивый ясень.
Это необыкновенное дерево, оно в возрасте около 300 лет достигает в высоту 35 м,
а его ствол – нескольких обхватов. У него огромная крона. Внешне ясень во многом
сходен с платаном, т.е. с чинарой. У него очень ценная древесина, она легко обра-
батывается. Поэтому из нее можно изготавливать деревянную посуду и различные
емкости для воды или сыпучих материалов. Вероятно, из стволов ясеня делали чёл-
ны. Древесина его весьма пригодна для производства струнных музыкальных ин-
струментов. Естественно, что с давних пор уникальный приречный лес из гигант-
ских деревьев-ясеней привлекал к себе внимание и поражал воображение местных
жителей. Больше нигде поблизости и даже на большом удалении от долины Чарына
подобных тогайных лесов нет. Поэтому можно уверенно говорить, что именно на-
звание ясеня – жарун легло в основу гидронима Чарын [там же].
Есть другие семантические версии этого гидронима. Например, по-киргизски
шар – река с быстрым течением, не встречающая преграды. Киргизское слово чар оз-
начает разнолесье по берегу реки. Обе эти характеристики присущи многим рекам
Семиречья и не отражают индивидуальные особенности каньонов Чарына. Река,
конечно, названа по урочищу Жарун, которое ныне именуется Сарытогай. Одно
из первых письменных упоминаний Чарына в форме Джарун или Чарун относится
50
ЧАСТЬ 1
к XV в. [Материалы, 1973]. В такой же форме именуется эта река и в XVI столетии
[Мирза Хайдар, 1998]. На карте И. Г. Рената [Большой Атлас, 2009. С. 415] Чарын на-
зван Зарун (Zarun).
Чардара – протока Сырдарьи, Чардаринское водохранилище, город. Топоним
осмысливается как Обрывистая долина (тюрк., тадж.). Перевод названия в систему
казахского литературного языка – Шардара – превращает его первую часть в мон-
гольское слово «желтая». В итоге, появляется ошибочное толкование топонима –
Желтая долина. Явный алогизм, т.к. здесь, в пустыне, все желтое: пески, такыры,
глинистые и лессовые почвы, да и воды реки часто мутно-желтые.
Нами рассмотрена лишь часть диалектных топонимов, в действительности
их насчитывается намного больше. Однако в редких случаях необходимо отличать
диалектные топонимы от неверной передачи местных наименований на русский
язык. Так, например, правильное географическое название Шамалган в русской
форме искажается в Чемолган.
К третьей группе мы относим так называемые книжные топонимы. Сущ-
ность и происхождение их менялась со временем. В древнем мире, в средневеко-
вье и еще в XIX столетии они привносились, как правило, чужестранцами в устной
и в письменной форме. В XX в. и ныне творцами книжных топонимов становятся
местные источники.
В обозримом прошлом Казахстана внедрение книжных топонимов происхо-
дило всегда. Чаще всего это были арабские, персидские, монгольские, калмыцкие,
китайские и русские топонимы.
Наиболее древним книжным топонимом является название Каспийского
моря. Оно представлено письменно в классическом сочинении Геродота. В древ-
ности топоним связывали с наименованием ближайшего к Греции народа, обитав-
шего на западном берегу Каспия. В те далекие времена у других народов, населяв-
ших Прикаспий, несомненно, были свои названия моря, но они не стали книжными
и общепризнанными.Другим древним книжным топонимом является Бишкек, нынешняя столица
Кыргызстана. Крупнейший кыргызский топонимист С. Умурзаков [Атлас Киргиз-
ской ССР, 1987. С. 22–24, 29–30] считает, что название города восходит к ирано-со-
гдийскому понятию Пишгах – «местность под горами или перед преградой». Топо-
ним был занесен согдийскими переселенцами в Чуйскую долину в V–VI вв.
Своеобразным «книжно-каменным» топонимом является древнетюркское
наименование Алтая – Алтун-Йыш (Алтунская чернь или Золотая чернь). Оно при-
ведено в орхонских письменах раннего средневековья [Мурзаев, 1996]. Чернью на-
зывают в Западной Сибири густой непроходимый хвойный лес.
Начиная с VIII в., особенно плотный поток книжных топонимов был свя-
зан с проникновением ислама в Центральную Азию. Часть из них арабского про-
исхождения, часть – персидского. Как правило, эти топонимы были приурочены
51
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
к караванным дорогам. Например, во времена Тимура горы Каратау часто именова-
лись по-персидски Шавгар.
Одни книжные топонимы средневековья использовались в течение долгого
времени, нескольких веков, другие – только несколько десятилетий. Топонимы та-
кого происхождения нуждаются в специальных и детальных исследованиях.
Классическим китайским книжным топонимом является Тянь-Шань. Заме-
тим, что до сих пор нет общепринятого определения понятия этой горной страны.
Одни исследователи включают в нее систему хребтов Гиссаро-Алая, называя ее Юж-
ным Тянь-Шанем. Другие относят сюда же Джунгарский (Жетысу) Алатау. Но в по-
следнее время чаще под Тянь-Шанем понимают горную территорию, ограниченную
с юга Ферганской и Таримской впадинами, а с севера – долиной реки Или. На запад
горная страна протягивается до 69º вост. долготы, на восток – до 95º. Граница между
Жетысу Алатау и Восточным Тянь-Шанем проходит по меридиану озера Сайрамнор
(81º вост. долготы).
В Западной Европе топоним Тянь-Шань получил распространение в начале
XIX в. Он был введен в обращение выдающимися немецкими географами А. Гумболь-
дтом и К. Риттером. В России впервые топоним появился на карте 1831 г. Г. Фролова
и А. И. Левшина [Левшин, 1996, С. 655] в форме Тiань-Шань. Ныне он входит в сис-
тему мировых географических названий. Но до появления устойчивого общепри-
знанного топонима Тянь-Шань названия горной системы или ее части многократно
менялась. Среди них преобладали, как правило, книжные топонимы, неизвестные
местному населению.
Хунну (сюнну) еще до нашей эры именовали эти горы Чинли или Цилянь,
т.е. Небесные. Но территориально они не определялись. У древних тюрков горы на-
зывались Тенгритаг (Тенритаг). На китайских картах около 2 000 лет назад они на-
зывались по-монгольски Богдо-Ула. Особенно многочисленны средневековые наи-
менования рассматриваемых гор. Вот их некоторые названия: Байшан – Белые горы,
Цунлин (VII в.) – Луковые горы, Суëшань – Снежные горы, Линьшань, или Линшань,
Бода (VIII в.) – Ледяные горы, Инь-Шань – Северные горы.
Топоним Тянь-Шань использовался китайцами уже в I в. н.э. Так называли
только самую восточную его часть – относительно небольшие горные массивы Кар-
лыктаг и Баркультаг [Умурзаков, 1983]. Тянь-Шань впервые был употреблен для наи-
менования большей части рассматриваемых гор у китайцев в VII в. Во времена Тан-
ской империи (618–907) Тянь-Шань называли Богдошань. Ныне так именуют гор-
ный массив к востоку от города Урумчи.
Во времена Идриси (XII в.) в арабских источниках Тянь-Шань называли Аска-
руз [Агаджанов, 1969]. По-киргизски аскар – высокие снежные горы, по-казахски –
очень высокие и неприступные. Уз, видимо, измененное слово куз – скала или рас-
щелина (каз. и кирг.). Топоним осмысливается как снежные высокие скалистые
горы. В XIV–XV вв. Тянь-Шань именовался Могольскими горами.
52
ЧАСТЬ 1
В российских публикациях XVIII в. Тянь-Шань обычно назывался Мусарт
или Музарт. Одно их первых таких упоминаний в виде «камень Мусарт» находим
в начале XVIII в. на карте П. Чичагова [Греков, 1960]. В трудах И. Фалька Тянь-Шань
назывался Алек Аула и Алак. Это искаженные топонимы Ала Улл и Алатау [Фальк,
1825. С. 28–59].
Есть сведения, что в древности киргизы именовали эти горы Кепме-Тоо [Умур-
заков, 1983]. Позднее они стали называть их Оло-тоо или Ала-тоо. Не исключено,
что это не книжные топонимы.
Тянь-Шань – Небесные горы. Это перевод на китайский древнетюркского то-
понима Тенгритаг, имеющего тот же смысл, что и Тянь-Шань. Название «небесные»
имеет религиозный оттенок, т.е. божественные. Казахи и киргизы до сих пор имену-
ют эти горы – Алатау или Алатоо.
С XVII в. начинается новая волна книжных топонимов. Она была обусловлена
возникновением российских поселений. В дельте Урала на рубеже XVI–XVII столе-
тий появился рыбацкий поселок Гурьев. Затем в XVIII в. вошли в письменный оби-
ход Усть-Каменогорск и Семипалатинск, а несколько позднее по политическим со-
ображениям местный гидроним Яик (Жаик) заменен Уралом, а Яицкий городок –
Уральском.
В XVIII–XIX вв. другая волна книжных топонимов была обусловлена картогра-
фическими работами. Появилась необходимость конкретизировать географические
названия. Например, некоторые хребты на юге Казахстана именовались просто
Алатау. Но на составляемых картах их следовало отличать друг от друга. Так появи-
лись во второй половине XIX в. топонимы Семиреченский, Джунгарский, Заилийский
и Таласский Алатау. Они, как правило, были незнакомы местному населению.
Одновременно на юге Казахстана появились книжные названия новых горо-
дов и казачьих станиц: Верный, Софийская, Надежденская и другие станицы.
Нескончаемый и невиданный ранее поток книжных топонимов обрушился
на Казахстан в советское время. Это сотни названий колхозов, совхозов, новых по-
селков и переименование прежних местных и бывших книжных топонимов.
Среди них особое место занял топоним Алма-Ата. Он был введен в обраще-
ние городскими властями в 1921 г. Этимология и семантика его весьма сомнитель-
ны, однако он был в ходу в течение почти 70 лет.
Последняя волна книжных топонимов обусловлена обретением Казахстаном
независимости. В этот период в одних случаях отмечается замена некоторых книж-
ных топонимов местными названиями. Например, город Панфилов опять стал на-
зываться Жаркенд. В других случаях старое книжное название заменялось новым.
Так, большое село Георгиевское, расположенное на тракте Алматы – Бишкек, было
переименовано в Кордай, а поселок Абакумовский – сначала в Джансугуров, а за-
тем в Жансугиров. Проводилось также уточнение некоторых книжных топонимов,
например, Талды-Курган – Талдыкорган.
53
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Не всегда такая замена проводится разумно. Например, книжное название
Заилийского Алатау преобразовано в Иле Алатау. Логичнее было бы возродить
прежнее наименование хребта – Алматинский Алатау или Усюнь-Таг (Алатау) [Ва-
лиханов, 1985; Левшин, 1996, С. 655].
Иногда встречаются совершенно несуразное переименование топонимов.
Например, название Большого Алматинского озера просто переведено на казах-
ский язык – Улкен Алматы кол. А его прежнее некнижное наименование Жосалыкол
не возрождено [Государственный каталог, 2005].
Также левый приток Малой Алматинки близ урочища Медео именовался
в прошлые голы Казачкой. Ныне топоним трансформирован в название реки Казаш-
ка, т.е. русское произношение названия заменили казахским [там же]. И тот, и дру-
гой топоним игнорирует прежний казахский топоним Тiк, до сих пор не возрожден-
ный, а весьма информативный. Дело в том, что эта небольшая речка, скорее, ручей,
стекает с плато Кокжайлау по очень крутому, почти отвесному скальному склону.
Казахское слово тiк означает что-то отвесное или вертикальное, и прежний топо-
ним очень точно передавал эту особенность реки.
До сих пор река Орта Алматы именуется Проходной, хотя с давних времен,
по крайней мере с XVII в., она наряду с Улкен и Киши Алматы определяла топоним
Уш (Уч) или Гурбан Алматы. Так называлась центральная часть Заилийского Алатау
[Валиханов, 1984. С. 173–180; Горбунов, 2010. С. 71–74]. Не возвращено и прежнее
наименование озера Есик – Жасылколь.
В четвертую группу топонимов, которые нуждаются в рассмотрении, пред-
лагается включить географические названия ойратского происхождения. Во време-
на Джунгарского ханства, т.е. в течение XVII–XVIII вв., в восточной части Казахстана
появилось много новых топонимов. В последующие века большая их часть исчезла,
но очень редкие сохранились до наших дней. Необходимость их рассмотрения про-
диктована следующими причинами. В письменных материалах упомянутых столе-
тий при описании каких-либо событий могут упоминаться забытые ойратские топо-
нимы. Поэтому необходимо знать их местоположение.
Все ойратские топонимы могут быть разделены на несколько разновидностей.
Одни сохранились почти в неизмененной форме (Зайсан, Боро-Худжир), другие пред-
ставляют собой несколько измененные доойратские топонимы. Они легко узнаваемы
(Лепсы – Лэпши, Коксу – Куку-Усун). Третьи изменены до неузнаваемости (Чарын –
Зари). Четвертые – перевод на ойратский тюркских названий (Аксу – Цаган-Усун).
Пятые совершенно новые, чисто ойратские географические названия: Джунгарский
Алатау – Алтан Тэбши, озеро Сасыкколь – Кокурийн-нуур [Норбо, 1999].
В пятую группу входят гибридные топонимы. Они слагаются обычно двумя
разноязычными элементами. Большей частью в них сочетаются тюркские и мон-
гольские слова. Примеры: Доланкара (монг. далан – гряда, увал; каз. кара – скалистая
54
ЧАСТЬ 1
возвышенность ), Тургенаксу (монг. турген –быстрая, каз. аксу – белая или текущая
вода, т.е. река).
Случаются сочетания тюркских и согдийских или тунгусо-маньчжурских
слов – Лепсы от Лепсу, Жаркенд и Баскан. Есть основание предположить, что топо-
ним Алатау состоит из сочетания арабского элемента «ала» (высокие) и казахского –
«тау» (гора). Здесь приведена лишь небольшая часть гибридных топонимов, их мно-
го больше в Казахстане и Киргизии.
Приведенные выше суждения о некоторых топонимах Казахстана позволяют
констатировать, что на этом поприще сделано еще немного. Предстоят углубленные
и всесторонние исследования этимологии и семантики географических названий.
Видимо, в качестве образца таких работ можно принять недавнюю монографию
М. К. Семби [Семби, 2013].
Агаджанов С. Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX–XIII вв. Аш-
хабад: Ылым, 1969.
ал-Кашгари М. Диван Лугат ат-Турк. Перевод, предисловие и комментарии З.-
А. М. Ауэзовой. Алматы: Дайк-Пресс, 2005.
Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Алматы:
«Санат», 2001.
Атлас Киргизской ССР. Природные условия и ресурсы. Т. 1. М.: Изд-во ГУГК, 1987.
Большой Атлас истории и культуры Казахстана. Алматы, 2009.
Валиханов Ч. Ч. Географический очерк Заилийского края / Собрание сочине-
ний в пяти томах. Т. I. Алма-Ата: Главная редакция Казахской советской энциклопе-
дии, 1984.
Валиханов Ч. Ч. Географический очерк Тянь-Шаня и бассейна оз. Иссык-Куль /
Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. Алма-Ата: Главная редакция Казахской со-
ветской энциклопедии, 1985.
Горбунов А. П. Юго-восток Казахстана в очерках Ч. Ч. Валиханова // Вопросы
географии и геоэкологии. 2010. № 1. С. 71–74.
Государственный каталог географических названий Республики Казахстан.
Т. 4. Алматы: РГКП «НКГФ», 2005.
Греков В. И. Очерки по истории русских географических исследований
в 1725–1765 гг. М., 1960.
Древнетюркский словарь. Л., 1969.
55
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсакских орд и степей.
Алматы, 1996.
Материалы по истории киргизов и Киргизии. М.: Наука, 1973.
Мирза Мухаммед Хайдар. Тарих-и Рашиди. Ташкент: Фан, 1996.
Мурзаев Э. М. Тюркские географические названия. М., 1996.
Норбо Ш. Зая-Пандита (материалы к биографии). Элиста: Калмыцкое книжное
издательство, 1999.
Семби М. К. Память земли тюрко-монгольской: истоки и символика топони-
мов. Труды КазНИИК. Алматы, 2013.
Умурзаков С. С четырех сторон горизонта. Фрунзе: Мектеп, 1983.
Фальк И. П. Известия академика Фалька о Киргизской и Зюнгорской степи //
Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорскою Акаде-
мией Наук, по предложению ее президента. Т. 7. СПб., 1825.
56
ЧАСТЬ 1
З. А. ДЖАНДОСОВА
ДЕСЯТЬ ТУРКЕСТАНОВ: РАЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОДНОГО ТОПОНИМА
Проезжая в сегодняшней Астане по улице Туркестан, расположенной рядом
с улицами, носящими названия разных городов Казахстана, я отдаю себе отчет
в том, что данный нанотопоним (название улицы) есть тихий отголосок когда-то
очень громкого и очень многозначного макротопонима, распространявшегося в бы-
лые времена на бескрайние просторы Евразии. Для большинства наших современ-
ников Туркестан – это в первую, а, скорее всего, и в последнюю очередь, – это город
Туркестан в Южно-Казахстанской области, город, прославленный мусульманской
святыней, мавзолеем суфийского мудреца Хваджи Ахмада Йасави. И улица в Астане,
конечно, названа в честь этого города, важного центра паломничества верующих
мусульман не только Казахстана, но и всей Средней Азии, а можно сказать, – и всего
Туркестана: Туркестан – центр паломничества всего Туркестана.
Ничего удивительного: топоним Туркестан имел совершенно разное напол-
нение в разные исторические периоды. В первые века ислама, в очень широком
значении и преимущественно с точки зрения иранских народов и историографов,
Туркестаном назывались все области, населенные тюркскими народами, а к этим
областям относилась и территория нынешнего Казахстана. Это и были обширные
«просторы Евразии» между Сибирью на севере (какая часть Сибири входила при
этом в Туркестан, определить невозможно), Тибетом, Северной Индией, Гиндуку-
шем и Хорасаном на юге, пустыней Гоби на востоке и Каспийским морем на запа-
де. В таком широком значении этот этногенный макротопоним описывал страны,
занятые тюркскими народами, выдвинувшимися из глубин Центральной Азии к се-
редине первого тысячелетия, но, конечно, не учитывал, что в этих землях прожива-
ло и многочисленное нетюркское население, прежде всего, иранское (хорезмийцы,
согдийцы и бактрийцы, а затем таджики), веками составлявшее основную массу
оседло-земледельческого населения региона. В то же время многие тюркские племе-
на и народы (те, что ушли на запад от Каспийского моря, севернее или южнее его)
не попадали в рамки описываемой территории.
В более узком значении топоним означал в домонгольское время населенные
тюрками и постепенно исламизировавшиеся области, примыкавшие к Мавераннах-
ру с севера и востока: это область среднего течения Сырдарьи, Тараз, Семиречье,
горные районы Тянь-Шаня. В послемонгольское время Туркестаном стали называть
57
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
лишь территорию среднего и нижнего течения Сырдарьи – Область присырдарьинс-
ких городов.
Слово Туркистāн (Turkistān) буквально означает «Страна тюрков». Будучи
тюрко-иранским по происхождению (turk в значении ‘тюрк’, -istān– суффикс для обо-
значения топонимов, образованный от слова индоевропейского происхождения stān
в значении ‘место стоянки’, ‘стойбище’ и, в конечном счете, ‘страна’), он возник
в ираноязычной среде не позже VII в., был воспринят арабами и постепенно рас-
пространился на всем пространстве арабско-персидской книжной традиции через
арабскую и персидскую географическую и историческую литературу. Иранское на-
селение как Средней Азии, так и собственно Ирана, а также народы, соседствовав-
шие с иранцами на западе, стали называть Туркестаном области, занятые тюрками,
с момента появления последних в Средней Азии и распространения их господства
вплоть до Амударьи. Самым ранним упоминанием топонима считается согдийский
документ, датируемый 639 г. Документ был найден в 1969 г. около Турфана и пред-
ставляет собой письмо о продаже в рабство самаркандской девушки. Он был переве-
ден и введен в научный оборот В. А. Лившицем. Также к VII в. относится упоминание
армянского историка Себеоса о реке «Вехрот, которая вытекает из Туркестана»; реку
эту отождествляют с Амударьей. Изложение в сочинении доведено до 661 года [Бар-
тольд, 1965. С. 518].
С момента появления тюрков на границах иранского мира топоним Туркестан
стал накладываться на традиционно существовавшее в иранской среде понятие Ту-
ран, под которым в сознании оседлых иранцев древности понимались степные об-
ласти, занятые иранцами кочевыми. Поскольку между оседлыми и кочевыми иран-
скими цивилизациями издревле существовал известный антагонизм, он понимался
как «противостояние Ирана и Турана». Не будучи привязан ни к какой конкретной
территории, топоним Туран мог относиться к областям, далеко отстоящим от степ-
ных просторов Казахстана, например, к Систану (область на границе современных
Ирана, Афганистана и Пакистана). Однако, с появлением в степи тюрков и резком
сокращении числа кочевых иранцев (большая часть иранских кочевников была ас-
симилирована, часть перешла на оседлость, а часть давно мигрировала на юг) эпи-
ческое противостояние Ирана и Турана стало осмысливаться как противостояние
Ирана и Туркестана, иранцев и тюрков. В VI–VII вв., при Западном Тюркском ка-
ганате и после его распада, тюрки владели и Средней Азией вплоть до Амударьи,
что на время сделало эту реку границей Турана как Туркестана и Ирана.
Однако арабские географы и историки IX–XI вв., а также персоязычные ав-
торы, следовавшие арабской традиции, считали Туркестаном уже не область
за Амударьей (ставшую у них Мавераннахром), а более северные и восточные
территории, точнее, территории за Сырдарьей, куда были оттеснены тюрки в ре-
зультате арабско-персидского завоевания в середине VIII столетия. Их представле-
ние о «стране тюрков» весьма расплывчато и отражает, прежде всего, этническое
58
ЧАСТЬ 1
(или этнолингвистическое) наполнение термина. Важно, что арабы, вслед за пер-
сами, относили термин тюрк (turk) не к какому-то одному племени, а ко всей груп-
пе народов, говоривших на тюркских языках. Например, у ал-Истахри упоминание
о Туркестане приводит к перечислению крупных тюркских племенных объединений
и их расположению на местности относительно друг друга (а также других наро-
дов): «А что касается Туркестана, то у тогузгузов, хырхызов, кимаков, гузов и хаз-
ладжей – один и тот же язык, и все они [происходят] один от другого. Земли тюрков
обособлены. Что касается земли гузов, то пределы их земель – от хазар до кимаков,
до земли хазладжей и булгар...» [ал-Истахри, 1973. С. 25]. В то же время у Истахри
к Туркестану относятся и оседлые области, например, Чач, при том что та же об-
ласть чуть ранее в тексте была отнесена к Мавераннахру [там же]. Противопостав-
ление Туркестана и Мавераннахра мы видим у того же автора: «И рабов из Турке-
стана приводят сначала в Мавераннахр, [откуда] большинство их попадает в другие
страны», а также выделяет «Внутренний Туркестан», находящийся за пределами
и Мавераннахра, и Чача, и страны киргизов [там же. С. 26]. В области Чача, находя-
щейся между оседло-мусульманской территорией Мавераннахра и Туркестаном как
зоной обитания кочевых племен тюрков-язычников, была возведена особая стена
[там же. С. 29]. Другой границей Туркестана Истахри называет Тараз: «Тараз – это
рубеж между тюрками и мусульманами, и вокруг него укреплены стены, которые
также носят название Тараз. Граница распространения ислама доходит до этого ме-
ста, а оттуда до шатров харлухов. Это [одновременно] граница Чача» [там же. С. 30].
В анонимном географическом сочинении X в. «Худуд ал-Алам» (на персидском язы-
ке) Туркестан также упоминается в значении «территория, занятая тюркскими пле-
менами», «область, населенная тюрками». Например, в рассказе о стране тогузгузов
говорится: «Эта страна – наибольшая из стран тюрков, и изначально тогузгузы были
самым многочисленным племенем. В прежние дни властители всего Туркистана
были из тогузгузов».
Термин Туркестан оказывался одновременно и очень удобным, так как был
всеохватным, и неудобным, так как допускал множество толкований. Это было свя-
зано с двумя факторами: во-первых, с тем, что тюркские племена в эпоху, последо-
вавшую за распадом Западного Тюркского каганата, не были объединены в общее
государство, а либо подчинялись разным кочевым или оседлым правителям, либо
кочевали независимо, в том числе независимо друг от друга; во-вторых, с прак-
тическим отсутствием естественных границ в аридных зонах Центральной Азии.
В то же время Мавераннахр как часть мусульманской империи (Арабского халифа-
та), а затем самостоятельное мусульманское владение (в эпоху Саманидов) обладал
и политической обособленностью, и признаками особой физико-географической
области (Среднеазиатское междуречье, т.е. область, расположенная между реками
Сырдарья и Амударья).
59
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Впоследствии значение термина то сужалось, то расширялось. Так, в несо-
хранившейся «Истории Туркестана» Маджд ад-Дина Мухаммада б. Аднана (1201)
говорилось о «тюркских народах и чудесах Туркестана» (т.е. сохранялось этнолинг-
вистическое понимание термина). Однако, в обобщившем достижения арабской ге-
ографической науки энциклопедическом труде Йакута ал-Хамави Муджам ал-Булдан
(XIII в.) Туркестан неоднократно упоминается как область в среднем и нижнем те-
чении Сырдарьи или севернее этой реки, без противопоставления тюрков мусульма-
нам. Это говорит об изменении значения термина после исламизации населенных
тюрками районов современного Южного Казахстана. В персидских источниках по-
слемонгольского времени также присутствует более узкое или, точнее, конкретное
значение топонима: Туркестан как отдельная область к северо-западу от Маверан-
нахра (среднее течение Сырдарьи, Область присырдарьинских городов [см.: Пищу-
лина, 1969. С. 11–12)]. У Натанзи говорится о пожаловании Тимуром Тохтамышу
(в конце 1370-х гг.) городов Отрар, Сауран и Сыгнак, а дальше по тексту это же
пожалование названо Туркестаном [СМИЗО, 1941. С. 131, 135]. В географическом
описании Хафиз-и Абру (XV в.) Туркестан наряду со «страной узбеков» (diyār-iuzbak,
государством Абу-л-Хайра) и Дашт-и Кипчаком, назван северо-западной границей
Мавераннахра, то есть отделен от названных территорий. При этом сохранялось по-
нимание того, что Туркестан как область присырдарьинских городов – это не весь
Туркестан как страна тюрков: назвав северной границей Алмалык и Баласагун, ав-
тор добавляет, что все это – область тюрков (bilād-iturk) [Бартольд, 1973. С. 84–85].
В этих источниках, содержащих массу данных по истории присырдарьинских горо-
дов и Казахского ханства, Туркестан упоминается именно в этом значении, иногда
с уточнением «вилайет Туркестана» (vilāyat-iTurkistān или diyār-iTurkistān) т.е. ‘Турке-
станская область (провинция)’. В таком же значении употребляется топоним Турке-
стан и в таком важном источнике по истории Казахстана, как Тā’рūх-и Рашūдū Мир-
зы Мухаммад-Хайдар Дуглāта [МИКХ, 1969. С. 195, 198, 206, 213 и др.]. Поскольку же
эта «провинция» не была отдельным государством, а, скорее, совокупностью отдель-
ных городов-крепостей и оазисов («вилайатов»), за которые с конца XV в. по конец
XVI в. шла упорная борьба между казахскими ханами и Шибанидами, иногда исполь-
зуется выражение «области (владения) Туркестана» (mamālik-iTurkistān). Например,
в Шайбāнü-нāма Камал ад-Дина Бинā’ū говорится, что Мухаммад Шайбани-хан «ов-
ладел всеми странами Туркестана и Мавераннахра» [там же. С. 127]. У Рузбехана
Исфахани (Mihmān-nāma-yiBuxārā) четко расписываются пределы сырдарьинского
Туркестана от Аркука до Сыгнака, за которым «кончается Туркестан и начинается
Узбекистан [т.е. государство Абу-л-Хайра]» [цит. по: Пищулина, 1969. С. 11].
Вхождение населенных тюрками степных зон в PaxIslamica, захват тюрка-
ми политической власти в Мавераннахре и начавшийся процесс оседания тюрков
в Средней Азии привели к некоторому смешению понятий Туркестан и Мавераннахр
у мусульманских историков более дальних стран и к новому расширению понятия
60
ЧАСТЬ 1
Туркестан. Так, в иранских источниках сафевидского времени XVI – нач. XVIII в. при-
нято относить термин Туркестан и к Мавераннахру, находившемуся во владении
Шибанидской, а затем Аштарханидской династий. В это время (XVI–XVII вв.) усили-
лись процессы оседания исламизированных тюркских и отюреченных монгольских
племен, включая узбекские племена Дашт-и Кипчака (с конца XV в.), на территории
Мавераннахра. Ускоренная седентаризация узбеков после утраты ими пастбищных
зон Хорасана (в сражениях с Сафавидами) и Семиречья (Могулистан и Казахское
ханство) сделала более тюркским лицо самого Мавераннахра в глазах их ираноя-
зычных современников. Кроме того, в шибанидское время было логичным называть
Туркестаном Мавераннахр, противопоставляя его «монгольскому» Могулистану
и затем Могулии. Название Туркестан в отношении Мавераннахра было распростра-
нено и в Сефевидском Иране, и в Индии Великих Моголов, что объясняет его заим-
ствование англичанами в конце XVIII в. В этот же период слово Туркестан широко
употреблялось в отношении Средней Азии и в разговорном языке южных соседей
среднеазиатских народов, о чем свидетельствует В. В. Бартольд в своей статье о Тур-
кестане для Энциклопедии ислама [Бартольд, 1965. С. 518].
В то же время сохранялось и раннее «широкое» значение макротопонима
как совокупности все стран, в которых обитают тюрки. В сочинении «Хафт иклим»
(XVI в.) мы встречаем употребление термина Туркестан почти во всех его значени-
ях, бытовавших на мусульманском Востоке. В начале описания т.н. Шестого клима-
та «Большая часть Туркестана лежит в этом климате. Туркестан – это обобщающее
название разных стран, в которых проживают тюрки, и расположенных во всех кли-
матах с первого по седьмой. Большинство тюрков – кочевники, и от других племен
отличаются многочисленностью, храбростью и отвагой» [Рази, 1378. 1645]; в дру-
гом месте того же сочинения Туркестан противопоставляется Мавераннахру, остав-
ляя возможность толкования Мавераннхара как части Туркестана [там же. 1643].
В тех же случаях, когда источник перечисляет Туркестан наряду с другими относи-
тельно небольшими областями («Монголы захватили Туркестан, Фергану, Шаш»,
[там же. 1653]), речь, конечно, идет о более узком значении топонима – о районах
Южного Казахстана в среднем и нижнем течении Сырдарьи.
В новое время, с конца XVIII в., в английской литературе о Средней Азии по-
явился термин Туркестан, заимствованный англичанами у иранцев, афганцев и ин-
дийцев (которые с момента появления Бухарского ханства предпочитали это обо-
значение топониму Мавераннахр), который затем попал в немецкую (А. Гумбольдт
и К. Риттер) и русскую (Н. Я. Бичурин, В. В. Григорьев) научную литературу и к се-
редине XIX в. вошел в европейский научный, политический и публицистический
обиход. Топоним Туркестан использовался европейцами наряду с физико-географи-
ческим термином Средняя Азия (нем. Mittelasien в противоположность Zentralasien –
Центральная Азия, к которой относились области Внутренней Азии – Монголии, За-
падного Китая и Тибета), а также выходящим из употребления термином Бухария
61
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
с подразделением на Большую (Великую, иногда Нижнюю) Бухарию и Малую (ино-
гда Верхнюю) Бухарию. При использовании термина Туркестан пользовались уточ-
нениями: Бухарский Туркестан (т.е. Большая Бухария) и Китайский Туркестан (речь
идет об историко-культурной области в бассейне Тарима, известной также как Ма-
лая Бухария, Кашгария, ныне – кит. Синьцзян). В 1819 г. Н. Я. Бичурин издал труд
под названием «Описание Чжуньгарии и Восточного Туркестана в древнем и ны-
нешнем его состоянии», где заявил: «Здесь приличнее было бы называть Бухарский
Туркестан Западным, а Китайский Туркестан Восточным. Принимаемое у нас назва-
ние Китайского Туркестана подлежит изменению» [цит. по: Восточный Туркестан,
1988. С. 3]. Термин Западный Туркестан заменял понятия Бухарский Туркестан,
Бухария, Мавераннахр и не подразумевал Киргизскую (Казахскую) степь (бывший
Дашт-и Кипчак), несмотря на то, что степь тоже была населена тюрками. Бичурин
написал историю Восточного Туркестана на основании китайских источников. Пос-
ле выхода в 1873 г. книги В. В. Григорьева «Восточный или Китайский Туркестан»
термин Восточный Туркестан закрепился в русской научной литературе и вскоре
распространился и в западном, особенно немецком, востоковедении (Ostturkestan).
Таким образом, благодаря восприятию и активному внедрению терми-
на русской и европейской (прежде всего, немецкой) наукой, для топонима Турке-
стан началась в девятнадцатом веке новая история. Для российских географов,
а также политиков и военных, Туркестан был областью, лежавшей южнее Киргиз-
ской степи (приблизительно совпадавшей со средневековым иранским термином
Дашт-и Кипчак), и завоевание этой области называлось в русской литературе
как «завоеванием Средней Азии», так и «завоеванием Туркестана». После образова-
ния в 1867 г. Туркестанского генерал-губернаторства «Туркестан» впервые получил
политико-административные границы, столицу (Ташкент) и в узком смысле (как
Туркестанское генерал-губернаторство, Туркестанский край, Русский Туркестан)
включал в себя Сырдарьинскую, Ферганскую и Самаркандскую области. С 1898 года
к Русскому Туркестану была присоединена Туркмения в качестве Закаспийской об-
ласти; Семиречье входило в состав края в 1867–1882 и вновь с 1898 г.
В более широком смысле (как Западный Туркестан) дореволюционный Тур-
кестан включал всю территорию Средней Азии, включая Туркмению и Семиречье.
В течение более чем пятидесяти лет русского господства термин широко применял-
ся в научной литературе, включая физико-географическую и историческую (фун-
даментальные труды И. В. Мушкетова и В. В. Бартольда, например). Вместе с тем
предложение Мушкетова назвать Туркестаном или «Туркестанским бассейном» все
области между Памиро-Гиндукушским узлом, Иранским нагорьем, Каспийским мо-
рем и бассейном Ледовитого океана, было отвергнуто научным сообществом как
не учитывающее «ни этимологического значения слова «Туркестан», ни вообще
каких бы то ни было этнографических условий» [Бартольд, 1965. С. 219]. Таким
62
ЧАСТЬ 1
образом, попытка полностью заменить макротопоним Средняя Азия термином Тур-
кестан, придав последнему физико-географический характер, не удалась.
Тем не менее, с момента завоевания Средней Азии Российской империей то-
поним Туркестан (также Русский Туркестан, Туркестанский край) стал полуофици-
альным названием региона, синонимом Туркестанского генерал-губернаторства –
военно-административного образования, объединявшего присоединенные к России
территории Средней Азии (т.е. всей Средней Азии без Хивинского ханства и Бухар-
ского эмирата). В состав Туркестанского генерал-губернаторства входили Сырда-
рьинская и (не всегда) Семиреченская области, в значительной степени охватывав-
шие территории Южного и Юго-Восточного Казахстана. Академик В. В. Бартольд,
крупнейший знаток истории Средней Азии, самым широким образом пользовался
словом Туркестан, доказывая, что термин не был «изобретен» русскими. В его со-
чинениях этот макротопоним, в зависимости от контекста, был синонимичен то ма-
кротопонимам Средняя Азия, Мавераннахр (в широком смысле) и Западный Турке-
стан, то понятию Русский Туркестан.
В последнем значении (Туркестан как Средняя Азия без Бухары и Хивы) тер-
мин сохранялся и после двух революций 1917 года. В первые годы советской власти
макротопоним Туркестан оставался в широком употреблении. У большинства по-
литических деятелей по обе стороны баррикад сохранялось представление о един-
стве народов Туркестана и возможности их совместного существования в рамках
одного государства. Проводились краевые туркестанские съезды – как съезды Со-
ветов, так и мусульманские съезды. Короткое время в конце 1917 – начале 1918 г.
существовало непризнанное государство Туркестанская (Кокандская) автономия
(Turkistānīmuxtārīat), которая была ликвидирована Советской властью. Параллель-
но на месте бывшего Туркестанского генерал-губернаторства была образована
Туркестанская АССР в составе РСФСР, со столицей в Ташкенте: возник Советский
Туркестан. Он исчез после национально-территориального размежевания Средней
Азии 1924 г., будучи заменен последним термином. Важной причиной замены эт-
ногенного термина физико-географическим, наряду, разумеется, с причинами, вы-
звавшими необходимость самого «размежевания», было создание Таджикской АССР
(с 1929 г. – ССР) в составе макрорегиона (поскольку таджики – не тюрки, термин
был признан неточным и устаревшим). После национально-территориального раз-
деления Средней Азии в 1924 г. термин Туркестан сохранился, однако, в названии
Туркестанского военного округа.
Англичане в конце девятнадцатого века выдвинули также подхваченный рус-
ской наукой и практикой термин Афганский Туркестан, которым стали называть
узбекские и туркменские области к северу от Гиндукуша, вошедшие в состав Афга-
нистана после территориального разграничения между этой страной и Бухарским
эмиратом (1873). Иногда этот термин (с уточнением Афганский или Южный Турке-
стан) включал в себя и частично населенные тюрками (туркменами и др.) районы
63
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
северо-восточной Персии (Хорасан). Это области смешанного расселения тюркских
и иранских народов. Термин Афганский Туркестан не употреблялся в самом Афга-
нистане, где ему соответствовало местное название Чар-Вилайат (‘Четыре провин-
ции’). В настоящее время в афганской и западной науке и политике термин заменен
топонимом Северный Афганистан.
После создания Туркестанского генерал-губернаторства и появления терми-
на Русский Туркестан, топоним Восточный Туркестан, а после 1877 г. (восстанов-
ление власти Цинов в Синьцзяне) и топоним Китайский Туркестан, актуализиро-
вались. Топоним Восточный Туркестан стал использоваться в русской и западной
науке и политике в качестве синонима понятия Синьцзян (‘новая граница’ или ‘но-
вая территория’), относящегося к Восточному Туркестану и Джунгарии вместе, т.е.
к Западному Китаю XIX–XXI вв. Термин Восточный Туркестан в отношении Синь-
цзяна (нынешнего СУАР КНР) употреблялся в советской литературе и остается
употребительным в российской литературе, хотя китайскими учеными по полити-
ческим причинам считается неприемлемым, потому что, в качестве политическо-
го термина, он используется с начала XX в. уйгурскими сепаратистами Синьцзяна
применительно ко всему Синьцзяну или к предполагаемому государству на месте
СУАР. По этой причине и западная наука отказалась употреблять этот топоним, счи-
тая его искусственным и связанным с колониальными устремлениями Российской
империи. Китайские и западные ученые предпочитают рассматривать Таримский
бассейн как часть Центральной (=Внутренней) Азии, органически связанную с дру-
гими районами Внутренней Азии и Китаем.
Таким образом, еще в начале двадцатого века существовали, как минимум,
три макро-Туркестана: Русский (Западный), Восточный и Афганский. Из них в на-
стоящее время употребляется лишь термин Восточный Туркестан. Макротопоним
Туркестан сохраняет историческое значение, однако иногда применяется отдельны-
ми авторами для описания областей Центральной Евразии, от Монголии и Южной
Сибири до Гиндукуша, населенных тюрками.
Резюмируя, перечислим заявленные в названии нашей статьи «Десять Турке-
станов»:
Туркестан – город и оазис в Южно-Казахстанской области, получивший
название по титулованию святого Хваджи Ахмада Йасави – Хазрат-и Туркестан
(«Туркестанский святой»); при этом «Туркестан» в титуле святого употребляется во
втором значении термина;
2) Туркестан – область в среднем течении Сырдарьи, она же Область при-
сырдарьинских городов, объединяющая оседло-земледельческие оазисы на границе
Степи (Дашт-и Кипчака) и Мавераннахра (Среднеазиатского междуречья);
3) Туркестан – страна тюрков-кочевников, включающая Дашт-и Кип-
чак и уходящая за его физико-географические границы; максимально широкий
64
ЧАСТЬ 1
и расплывчатый термин, способный актуализироваться даже в наши дни (напри-
мер, в политических или культурных проектах, объединяющих тюркские народы);
4) Туркестан – Туран. Несет на себе печать географической неопределенно-
сти понятия Туран как мифической страны, противостоящей Ирану; как Туран мог
начинаться сразу за Амударьей, так и Туркестан, как Туран мог начинаться за Сыр-
дарьей, так и Туркестан; в первом случае Туркестан «невольно» оказывается Маве-
раннахром;
5) Туркестан – страна тюрков-немусульман, фронтир. Термин охватывал
ближайшие в Мавераннахру районы «Туркестана» в третьем значении, заостряя
внимание на воинственности/миролюбии тюрков-язычников, и утратил значение
по мере исламизации тюрков;
6) Туркестан – Мавераннахр; термин обретал все больший смысл по мере
тюркизации Среднеазиатского междуречья и необходимости противопоставления
этого региона не столько Ирану, сколько Могулистану/Могулии;
7) Туркестан – Бухара и Туркестан – Кашгария; тюркизация и Мавераннах-
ра, и Могулии привела к необходимости фиксации этого факта, а захват Кашгарии
китайцами – и к различению двух схожих в системном и культурном отношении об-
ластей через определения Бухарский Туркестан и Китайский Туркестан;
8) Туркестан – Западный и Туркестан – Восточный; эволюция предыдущей
пары; Западный Туркестан – понятие более широкое, чем Бухарский Туркестан,
так как охватывает и Хорезм, и Коканд, и Туркмению, т.е. всю физико-географиче-
скую Среднюю Азию; точно так же и Восточный Туркестан охватывает и Кашгарию,
и Джунгарию, распространяясь на весь Синьцзян;
9) Два Туркестана эпохи «Большой игры» – Русский и Афганский; Русский
Туркестан меньше Западного Туркестана, так как охватывает лишь области, фор-
мально вошедшие в состав Туркестанского генерал-губернаторства Российской им-
перии и не включает буферные Хивинское ханство и Бухарский эмират; название
Афганский Туркестан хотя и отражает этническую ситуацию, наследие тех времен,
когда Северное Пригиндукушье и Мавераннахр находились в составе одних и тех же
государств (из поздних – империя Тимура, Бухарское ханство), оказалось неприем-
лемым для пуштунского шовинизма конца XIX в. – эпохи, в которую происходило
формирование современных границ афганского государства;
10) Туркестан – Автономный и Туркестан – Советский; оба проекта придать
новое лицо «единой» Средней Азии революционного времени потерпели неудачу;
Туркестанская автономия рухнула из-за несоответствия желаний правительства чая-
ниям масс; Советский Туркестан пал жертвой национального размежевания и наци-
онального строительства, не только перекроивших карту Средней Азии, но и реши-
тельно изменивших судьбы народов региона.
65
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана // Сочинения. Т. 2.
Часть 1. М., 1963. С. 169–433.
Бартольд В. В. Туркестан // Сочинения. Т. 3. М., 1965. С. 518–520.
Бартольд В. В. Хафиз-и Абру и его сочинения // Сочинения. Т. 8. М., 1973.
С. 74–97.
Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Очерк истории.
М., 1988.
ал-Истахри. [Китаб] масалик ал-мамалик (пер. с персидского З. Н. Ворожей-
киной) // Материалы по истории киргизов и Киргизии. М., 1973.
Костенко Л. Ф. Туркестанский край. Опыт военно-статистического обозрения
Туркестанского военного округа. Т. 1–3. СПб., 1880.
МИКХ – Материалы по истории казахских ханств XV–XVIII веков (извлечения
из персидских и тюркских сочинений). Алма-Ата, 1969.
Мушкетов И. В. Туркестан. Геологическое и орографическое описание по дан-
ным, собранным в путешествиях с 1874 г. по 1881 г. СПб., 1886.
Пищулина К. А. Присырдарьинские города и их значение в истории казахских
ханств в XV–XVII вв. // Казахстан в XV–XVIII вв. Алма-Ата, 1969. С. 5–49.
Рази, Амин Ахмад. Хафт иклим / Ред. и коммент. Мухаммада Риза Тахири. Те-
геран, 1378.
СМИЗО – Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. II.
Извлечения из персидских сочинений собранные В. Г. Тизенгаузеном и обработан-
ные А. А. Ромаскевичем и С. Л. Волиным. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941.
Худуд ал-Алам – Hududal-Alam. The Regions of the World. A Persian Geography,
372 A. H. – 982 A. D. / Tr. and expl. by V. Minorsky (Oxford UP, London, 1937) // http://
www.kroraina.com/hudud/index.html
66
ЧАСТЬ 1
И. В. ЕРОФЕЕВА
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНАКАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОМАДОВ
Изучение различных аспектов культуры кочевников Казахстана и Централь-
ной Азии является одной из актуальных и наиболее значимых проблем их много-
вековой истории, так как еще в относительно недавнем историческом прошлом
наша страна представляла собой ареал самого большого по территориальным мас-
штабам номадизма в Евразии. На протяжении нескольких тысячелетий аграрное
население постоянно занималось здесь пастбищным скотоводством и вело кочевой
образ жизни. Кочевые народы внесли огромный вклад в хозяйственно-культурное
освоение этой обширной аридной зоны и оказали существенное влияние на разви-
тие цивилизационных процессов на всем пространстве евразийского континента.
Контролируя транзитные сухопутные коммуникации в центральной его части, они
обеспечивали передачу информации на огромные расстояния, объединяли разные
географические регионы, культурные миры и цивилизации, ретранслировали ма-
териальные и духовные ценности, способствовали транзиту товаров и инноваци-
онных технологий. В течение трех последних тысячелетий вся история и культура
Казахстана была связана преимущественно с номадизмом. Кочевничество лежало
в основе жизнеобеспечения и природопользования коренного населения страны,
его психологии и мировоззрения, культурных традиций.
Приспособление человека к особым условиям среды обитания осуществля-
ется соответствующим механизмом адаптации – специфическим типом культуры.
Специфика материального производства и кочевого образа жизни способствовали
формированию и развитию у номадов многих присущих им черт материальной
и духовной культуры. Закономерным итогом этих взаимосвязанных явлений и про-
цессов стало возникновение в далеком прошлом и развитие у них уникальной моде-
ли ориентации в географическом пространстве.
Традиционная пространственно-ориентационная система казахов как сос-
тавная часть их нематериального культурного наследия складывалась на протя-
жении огромного исторического периода, еще задолго до возникновения самой
этнической группы под названием казах. Она основывалась на точном знании
многими поколениями номадов Казахстана больших и мелких элементов рельефа
на территории своего историко-культурного и этнического ареала и прагматич-
ной оценке качества осваиваемых природных ландшафтов в целях самовыживания
67
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
и продуктивного ведения хозяйственно-культурной деятельности. Это эмпириче-
ское знание емко фокусировалось в лаконичных словесных формулах-понятиях,
или топонимах, которые передавались вертикальным путем от одного поколения
к другому и со временем стали письменно фиксироваться любознательными ино-
странцами в их географо-этнографических трудах и топографических картах вну-
тренней части Евразии.
В историко-топонимической номенклатуре бесчисленного множества гео-
графических объектов Казахстана тесно переплелись между собой рационально ос-
мысленный степняками многовековой опыт хозяйственно-культурной утилизации
природных ресурсов среды обитания и характерные черты мировоззрения и по-
знавательной культуры человека доиндустриальной эпохи, а также коллективная
устная память степных кочевников о воинских подвигах дальних и относительно
близких предков и знаменитых в той или иной местности исторических героях,
их религиозно-культовые символы, эстетические предпочтения и групповые иде-
алы. Благодаря присутствию всех этих компонентов в казахской народной топони-
мии прошлых веков ее можно рассматривать как сложную по своей структуре мно-
гоуровневую ономастическую систему, которая выполняла информационно-уведо-
мительную, опознавательную, предупредительную, охранительную, запретитель-
ную и многие другие функции в сфере природопользования и внутрирегиональных
миграциях номадов и представляла собой своеобразную модель ориентации людей
в географическом пространстве.
Для всех народов и племен естественной является ориентация по Солнцу,
живительную силу которого ощущал каждый человек. Поэтому неудивительно,
что современный казахский язык сохранил в своей структуре одну из древнейших
ориентаций человека в пространстве – солярную, связанную с положением солнца
на небосклоне.
Такая ориентация в чистом виде сохранилась в казахских терминах, опреде-
ляющих восток и запад: куншыгыс/шыгыс переводятся буквально как «солнечный
восход/восход», а кунбатыс/батыс – «солнечный закат/закат» (кун «солнце», шы-
гыс – «восход», батыс – «закат»).
В казахском языке сохранились также реликты линейной системы ориента-
ций. Как части (элементы) они содержатся в названиях юга и севера: онтустик – юг
и солтустик – север, где он (правая сторона) – юг, а сол (левая сторона) – север. Из-
вестный тюрколог А. Н. Кононов считал, что общий компонент терминов юга и се-
вера – тустик, означающий «полуденное время» (солнце в зените), корень которо-
го – тус – «полдень», приобретает номенклатурное значение части света, уточняе-
мое линейными маркерами (он, сол) [Кононов, 1978. С. 80–81]. А. Н. Кононов прида-
ет слову тустик номенклатурное значение части света и тем самым необоснованно
расширяет рамки этого термина, фактически определяющего лишь южную часть
небосклона (юг). При таком подходе разрешается противоречие, содержащееся
68
ЧАСТЬ 1
в указателе севера (солтустик), где сол – «левая», то есть «северная» сторона. Дру-
гая же составляющая – тустик – как самостоятельный термин, определяющий,
как принято считать, «южное направление», не нуждается в линейном дубликате
он («правый»), являясь самодостаточным и неспособным по своему внутреннему со-
держанию быть частью сложного определения севера [Семби, 2013. С. 90]. В указа-
теле северной части небосклона (севера) логичнее было бы видеть функционирую-
щий термин тундык с корнем тун («ночь», «полночь») в значении «север» [Аманжо-
лов, 1959. С. 413] или по аналогии с онтустик («правая, полуденная часть небоскло-
на») – солтустик («левая, полуночная часть небосклона»). В этом случае для обоих
терминов (тустик – «юг» и тундик – «север») дополнительный дубляж линейны-
ми маркерами является совершенно излишним: нарушается порядок, появляются
двойные, иногда несовместимые значения.
Рассматриваемое противоречие возникло при фонетическом изменении (ис-
кажении) слова «тус», означающего сторону, направление [Махмудов, Мусабаев,
1995. С. 338]. Твердое слово «тус» («сторона») стало произносится мягко «тус» («пол-
день»). В свое время на это обратил внимание писатель Г. Мусрепов. Слово «тус»
(сторона, направление), произносимое как мягкое тус (полдень), привело к проти-
воречиям, которые толковались А. Н. Кононовым на основании неверной трактовки
термина «тус» как южной стороны неба, юга в качестве номенклатуры «части света».
Таким образом, современная казахская пространственно-ориентационная
система, сохраняя свою принадлежность к солярной (древнетюркской), при ко-
торой стороны света определяются с позиции человека, стоящего лицом к восхо-
ду солнца (востоку), где левая сторона соответствует северу, а правая – югу, вмес-
те с тем имеет все признаки линейного отсчета: он тус – «юг (правая сторона)»;
сол тус – «север (левая сторона)».
После монгольского завоевания степного пояса Евразии культ юга, по мне-
нию В. В. Бартольда, начал распространяться по всей Степи, подчинившейся монго-
лам, в том числе – и на территории современного Казахстана. Поэтому, термин арка
(спина) в древнетюркское время означавший запад, в послемонгольское время стал
маркировать север (арка – спина, задняя сторона – север).
При наречении географических терминов в казахской топонимии зачастую
применяются слова «жаман» (плохой) и «жаксы» (хороший). Употребление этих
определений в названиях рек и озер привело некоторых исследователей к мысли
о том, что это связано с качеством воды – наблюдение, не лишенное некоторого
основания. Тем не менее, существование наименования гор и других топонимов
с компонентом «жаман» и «жаксы» указывает на ошибочность этого вывода. Анализ
топонимов, имеющих в своем составе определения «жаман» и «жаксы», выявляет
закономерность, при которой взаиморасположение парных географических объек-
тов с указанными компонентами связано со сторонами света. Так, например, север-
ным продолжением гор Улытау в Карагандинской области являются горы Арганаты,
69
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
в свою очередь разделяющиеся на Жаксы Арганаты (южные) и Жаман Арганаты
(северные) [см.: Семби. 2013. С. 95]. Имеются и другие, достаточно многочисленные
аналоги, подтверждающие это открытие.
Система словесной маркировки земной поверхности была в аграрных обще-
ствах средневековья и нового времени самая разнообразная. Помечая окружающий
рельеф, люди давали названия различным по величине горам, сопкам, рекам, озе-
рам и урочищам, привязывая их то к самым характерным чертам внешнего облика,
то к естественным препятствиям для передвижения путников, то к определенному
качеству воды или почвенного слоя обозреваемых местностей, либо к наиболее со-
циально значимым историческим событиям, связанным с этими географическими
объектами. Например, по одинаковой схеме-логике азербайджанцы, алтайцы и ка-
захи давали названия рекам, оценивая их с точки зрения возможности переправы
людей и скота. Так, «непреодолимую для джейранов» реку азербайджанцы назвали
Джейран кечмес; алтайцы, оценив трудность переправы через аналогичную по мор-
фологическим признакам долину для медведей, назвали ее Айу-Кечпес – «непреодо-
лимая для медведей»; казахи же именовали труднопроходимую реку «непреодоли-
мой для куланов» – Кулан отпес. Подобные географические наименования относят-
ся к таким структурным единицам, как топонимы с отрицанием, широко распро-
страненным во всем тюркском мире Евразии. География таких имен собственных
достаточно широка. В казахском гидрониме Итишпес содержится значение вредо-
носного для человека и домашних животных качества воды в озере – «такой водой
и собака побрезгует» (ит-собака; ышпес-не выпьет), то есть, этот топоним «пред-
упредительный» – не пей! Опасно! [Тынышпаев, 1993. С. 193–194; Ерофеева, 2011.
С. 353].
Особую разновидность казахских топонимов составляют так называемые
клионимы (от греч. клио – муза истории), то есть имена собственные географиче-
ских объектов, привязанные к крупнейшим историческим событиям. К ним отно-
сятся лексические формулы Калмак-кырган – «место гибели калмаков», Сумкайты –
«злейший враг ушел обратно» и некоторые другие географические названия, в том
числе отдельные антропонимы (например, Абилькайыр), возникшие в центральном,
северо-восточном и южном регионах Казахстана в период освободительной борьбы
казахского народа против завоевателей-ойратов [Диваев, 1905. С. 40–43; Тыныш-
паев, 1993. С. 194; Свод, 2002. С. 292, 312; История Казахстана, 2012. С. 265–268,
273–275 (комментарии И. В. Ерофеевой)]. По поводу вышеупомянутых топонимов
известный казахский исследователь первой трети прошлого века М. Тынышпаев
в свое время очень точно заметил, что «у кочевников, особенно у казаков и кир-
гизов, есть прекрасная черта – давать урочищам названия по крупным событиям,
когда-либо там случившимся» [Тынышпаев, 1993. С. 194].
Географические названия этого типа очень информативны по содержанию,
так как, во-первых, констатируют факт временного присутствия в маркированных
70
ЧАСТЬ 1
ими районах «калмаков», либо неких безымянных иноземных врагов местных каза-
хов; во-вторых, прозрачно намекают на какие-то случившиеся там важные истори-
ческие события, которые имели непосредственное отношение к чуждым пришель-
цам; и, в-третьих, конкретно указывают на основные результаты подразумеваемых
событий: «гибель калмаков», вынужденное «возвращение злейшего врага обратно»
и т.п. На протяжении около двух веков эти и подобные им клионимы играли важ-
ную коммуникативную роль в традиционной системе вертикальных информацион-
ных связей номадов и, постоянно напоминая сыновьям, внукам, правнукам и пра-
правнукам победителей грозных калмаков о судьбоносной битве их прямых пред-
ков и сородичей с сильными врагами, являлись в бывших районах боевых действий
главными хранителями устной памяти многих поколений казахов о героической
эпохе истории их родных мест.
С народными топонимами тесно связаны многочисленные казахские преда-
ния, мифы и легенды, имеющие глубокие корни в традиционной духовной культу-
ре тюрко- и монголоязычных племен. Являясь наряду с эпосом одной из основных
частей устного народного творчества казахов, тяньшанских кыргызов и ойратов,
они ярко и образно отражают характерные особенности восприятия ими взаимо-
отношений человека и природы, реликтовые анималистические, космогонические
и другие культы кочевников (обожествление диких животных, гор, воды, деревьев,
молнии, грома, звезд, луны и т.п.), их соционормативные установки, этические цен-
ности и эстетические вкусы [ИКРИ–9. С. 21–106]. Показательны в этом отношении
казахские легенды, посвященные ойконимам Калматологой, Жалгызагаш, Жасы-
бай, Емыш, Мустагата, Или, Ерейментау, Бурабай, Сайрамнур и другим топони-
мическим объектам, которые во многом проясняют народную этимологию и смыс-
ловое значение колоритно прорисованных в них собственных имен. Созданные
богатым воображением степных творцов сюжетные сцены и человеческие образы
некоторых из них, как, например, давно известные по письменным источникам
легендарные народные версии происхождения топонима «Жалгызагаш», носят на-
столько глубокий, многозначный и эмоционально-трогательный характер, что в се-
редине XVIII в. стали темой поэтического посвящения «Одинокому дереву» в Ка-
захской степи цинского императора Цяньлуна (1735–1795), а полвека спустя после
того – этимологической фабулой одного из лучших стихотворений знаменитого
кобзаря Тараса Шевченко «Топор был спрятан за дверью у господа Бога» [Санчиров,
2011. С. 67–73; Хафизова, 2001; Шевченко, 1949; Шевченко, 1952; Шевченко, 1972].
С топонимами Каракум и Кокшетау, в свою очередь, опосредованно связа-
ны красивые и оригинальные по содержанию казахские легенды о «деревце сакса-
уле» и бурых медведях, записанные со слов казахов российским путешественни-
ком Х. Барданесом, который в 1771 г. побывал в Центральном Казахстане [ИКРИ–4.
С. 135, 138 –139]. Посредством антропоморфных образов невысокого деревца
в приаральской пустыне и могучего «хана» леса в горах Северного Казахстана они
71
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
раскрывают самые примечательные черты флоры и фауны этих объектов природы,
придавая тем самым наименованиям последних четко выраженное ландшафтное
значение. Таким образом, топонимические предания и легенды, как и сами темати-
чески и лексически ассоциированные с ними географические названия, представ-
ляют собой одну из форм познавательной культуры казахов-кочевников и составля-
ют важный компонент нематериального культурного наследия казахского народа.
Казахские народные топонимы зафиксированы во многих письменных ис-
точниках средневекового периода, нового и новейшего времени. Они широко пред-
ставлены в дипломатической переписке казахских ханов и султанов с оренбург-
скими и сибирскими пограничными властями, главным образом в эпистолярном
наследии ханов Абулхаира и Абылая 1737–1780 гг.; российских исторических доку-
ментах, мусульманских, ойратских и китайских хрониках позднего средневековья
и двух последующих столетий, географических картах конца XVI – начала ХХ в.,
а также в современных топокартах всех регионов Казахстана и многотомном спра-
вочно-информационном издании «Государственный каталог географических назва-
ний Республики Казахстан» [Т. 1–18. Алматы, 2004–2014].
Среди аутентичных нарративных источников дореволюционной эпохи осо-
бенно большую научно-познавательную значимость для современных историков
имеют путевые дневники и записки российских путешественников в казахские сте-
пи: И. Унковского, Л. Угримова, К. Миллера, Х. Барданеса, Г. Волошанина, Я. П. Га-
вердовского, А. Т. Путинцева, Бубенного, Лещева, Г. Ф. Генса и многих других иссле-
дователей, в которых приводятся не только казахские топонимы, но и записанная
со слов степняков семантика этих географических названий, а также посвященные
им исторические предания и легенды [ИКРИ–2. С. 318–340; ИКРИ–4. С. 93–166;
ИКРИ–5; ИКРИ–6. С. 32–55, 101–135; Путевые дневники, 2012. С. 12–62, 82–431].
Важным документальным свидетельством глубокой укорененности многих
народных топонимов в истории и культуре казахских кочевых племен являются
русские и европейские географические карты XVII – первой четверти XIX в., со-
держащие множество собственных имен различных объектов природы Казахстана
и локализующие место расположения этих названий в территориальном простран-
стве. В настоящее время специалистам известны более 100 печатных и рукописных
карт того исторического периода, которые хранятся в фондах столичных россий-
ских архивов (Москва, Санкт-Петербург) и фундаментальных российских и евро-
пейских библиотек. Среди доступных современным исследователям картографиче-
ских материалов XVII – первой четверти XIX в. наибольший научно-познавательный
интерес в топонимическом отношении представляют такие географические карты,
как: «Чертеж всей малопроходной каменной степи» С. У. Ремезова 1696 г., «Carta
af songarski-kalmϋckit hwar under cottonerne hörer» Й.-Г. Рената 1738 г.; «Ландкарта
пограничных мест Оренбургской и Сибирской губерний» оренбургских топогра-
фов 1758 г.; «Карта, представляющая часть Российской империи и лежащих к оной
72
ЧАСТЬ 1
соседственных мест» И. Шпрингера 1765 г.; «Карта, учиненная в 1771 г. казацким
атаманом Волошаниным примерным описанием следованию ево от крепости Усть-
Каменогорской чрез степь кочующих киргисских кайсаков до озера Балкаш, подле
оного чрез пещаные и гористые места и разные реки до реки Ильли и вверх по оной
чрез пещаную и бескормную степь … до крепостей Тунчи, Седунчи и до города Ба-
янды и оттоль обратно до Усть-Каменогорской крепости»; «Карта, представляющая
… части Российской империи: степи кочующих киргиз-кайсаков, Большой Бухарии
и бывшего Зенгорского владения» майора Зейферта 1771 г., «Карта реки Иртыша,
южную часть Сибирской губернии протекающей и бывших зенгорских калмык
владений» картографа Географического департамента Петербургской Академии
наук И. И. Исленьева 1777; «Карта, собранная полуденной и восточной части, с по-
казанием степи кочующих киргиз-кайсаков, Большей и Малой Бухарей, бывшего
Зенгорского владения и Китайского государства» офицеров Сибирского корпуса
1784 г., «Карта, представляющая путь коллежского регистратора Путинцева от Бух-
тарминской крепости до пограничного города Кульджи и обратно» 1812 г., «Карта
земель, принадлежащих киргиз-кайсакам и Туркестана» Г. Н. Фролова 1831 г. и дру-
гие картографические источники [Ерофеева, 2011. С. 334–354; Путевые дневники,
2012. С. 752, 753, 754; Левшин, 2009 (Приложение)]. Все они имеют достаточно боль-
шую информационную нагрузку и при сопоставлении их данных со сведениями ге-
ографических карт более раннего хронологического периода позволяют установить
приблизительный возраст некоторых топонимов.
Существенным дополнением к географическим картам Казахстана и смеж-
ных территорий конца XVIII – середины XIX в. являются топографические описа-
ния этих земель, составленные российскими военными топографами того времени.
С 1841 по 1845 гг. геодезические съемки проводились во многих регионах Западно-
го, Центрального и Восточного Казахстана, а также в Юго-Восточном Прибалхашье.
Так, в 1841 г. юго-западную часть Бетпакдалы обследовал урядник Лобанов, ее за-
падную и южную части в 1843 г. – топограф Т. Ф. Нифантьев, а восточную часть
в 1851 и 1852 гг. – поручик Яковлев [СПбФ АРАН. Ф. 317. Оп. 1. д. 47, 48; РГВИА.
Ф. 846. Д. 19259]. Во второй половине XIX в. геодезические съемки на территории
Казахстана носили более детальный и крупномасштабный характер, что нашло со-
ответствующее отражение в опубликованных трудах российских военных топогра-
фов И. Ф. Бларамберга, Н. И. Красовского, Л. Л. Мейера, Л. Ф. Костенко и других ис-
следователей региона [История Казахстана, 2012. С. 174–179].
Составленные ими «Топографические описания» разных территорий казах-
ских кочевий содержат ценные сведения о многих географических объектах Ка-
захстана и их народных названиях, а также несут в себе оригинальную информа-
цию об особенностях взаимодействия человека и природы в аридной зоне и опре-
деленных механизмах адаптации людей к суровым природно-климатическим
условиям пустынных ландшафтов обследованных районов, в чем заключается
73
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
их большая познавательная значимость для изучения образа жизни и культуры
кочевников-казахов.
Большинство сохранившихся до нашего времени и утраченных в течение
прошлого столетия казахских топонимов впервые были более или менее точно ло-
кализованы в географическом пространстве Казахстана на рубеже XIX–XX вв. в ре-
зультате проведения первых сплошных топографо-геодезических исследований
в азиатской части Российской империи. Выявленные в ходе этого обследования на-
звания географических объектов казахских степей нанесены на крупномасштаб-
ные карты юго-восточных регионов России: «Специальную карту Омского военного
округа» (80–90-е гг. XIX в., 57 л.), «Специальную десятиверстную карту Западной
Сибири» (нач. ХХ в., 81 л.), две «Десятиверстные карты Туркестанского военного
округа» (1893–1912 гг., 7 л.; 1924–1936 гг. – 81 л.) и десятиверстные карты отдель-
ных степных областей (Тургайской, Семиреченской и др.). Все эти картографиче-
ские материалы являются ценнейшими источниками по традиционной топоними-
ческой системе степных кочевников Центральной Азии, так как содержат основной
массив казахских географических названий доиндустриальной эпохи, четко лока-
лизованных в территориальном пространстве всего ареала кочевания степных ро-
дов и племен и благодаря этому создают необходимую фактографическую основу
для комплексного изучения народной топонимии казахов.
Общая совокупность доступных сегодня для научного изучения историче-
ских топонимов неоднородна по своему составу. Значительная часть их имеет глу-
бокие корни в традиционной культуре казахских родов и племен и сложную семан-
тическую структуру. Другие группы названий появились в устном лексиконе кочев-
ников-казахов только в эпоху позднего средневековья и начале нового времени. Не-
которые же относительно удревленные топонимы, напротив, хотя и на протяжении
многих веков постоянно употреблялись кочевниками для обозначения различных
элементов рельефа, сухопутных коммуникаций и водоемов, но еще задолго до ХХ в.
либо в советское время были вытеснены из степной ономастики географических
объектов другими знаковыми именами, в том числе антропонимами.
Изучение исторической топонимии кочевников – чрезвычайно сложная на-
учная проблема, требующая применения комплексного междисциплинарного ме-
тода, основанного на тесном взаимодействии специалистов смежных гуманитар-
ных наук – историков, лингвистов, филологов, этнографов, а также ученых есте-
ственнонаучного цикла – географов, геологов, биологов и проч. Целенаправленное
сотрудничество представителей разных научных дисциплин позволит глубже из-
учить историческое прошлое, материальную и духовную культуру степных племен
юго-восточной части Евразии, точно локализовать в географическом простран-
стве важнейшие военные и политические события давно ушедших времен и вер-
нуть казахскому народу из исторического небытия давно забытые географические
термины и определения, емко характеризующие главные достопримечательности
74
ЧАСТЬ 1
разнообразных объектов природы Казахстана. Изучение этой проблемы являет-
ся давно назревшей задачей профессиональных исследователей, которая в полной
мере соответствует государственным и общественным потребностям многонацио-
нального населения нашей страны.
Происхождение и значение большого количества укорененных в традици-
онной ономастической системе кочевников-казахов топонимов нашло отражение
во многих информационно-справочных и специальных научных изданиях по то-
понимии Казахстана и соседних стран Евразии. К ним следует отнести в первую
очередь топонимические словари и другие труды М. С. Боднарского, В. И. Абаева,
О. Т. Молчановой, Э. М. Мурзаева, Э. В. Севортяна, Б. Сюлбэ, В. Я. Бутанаева, Е. М. По-
спелова, А. А. Бурыкина и другие [Боднарский, 1954; Абаев, 1958; Молчанова, 1979;
Мурзаев, 1974; Мурзаев, 1984; Мурзаев, 1996; Мурзаев, 1999; Севортян, 1974; Севор-
тян, 1978; Севортян, 1980; Сюлбэ, 2004; Бутанаев, 1995; Поспелов, 2001; Бурыкин,
2013 и др.], объектами научного анализа которых стали собственные имена тюрко-
и монголоязычного происхождения на территории бывшего СССР.
Непосредственно географическим названиям Казахстана посвящены топони-
мические справочники и тесно связанные с ними по тематике циклы статей казах-
станских ученых: Е. Койчубаева, Г. К. Конкашпаева, А. А. Абдрахманова, Т. Д. Жа-
нузака (Джанузакова), А. П. Горбунова, М. К. Семби, В. Н. Яворской, кыргызского
исследователя С. У. Умурзакова и других авторов [Койчубаев, 1974; Конкашпаев,
1951; Конкашпаев, 1959; Конкашпаев, 1963; Абдрахманов, 1962; @бдірахманов, 1975;
@бдірахманов, 1979; Джанузаков, 1982; Жан7за�, 2007; Горбунов, 2006; Семби, 2013;
Яворская, 2002; Умурзаков, 1959]. Этими авторами охвачен большой круг истори-
ческих топонимов, возникших в историко-культурном ареале казахов, их более
отдаленных предков и ближайших иноэтничных соседей; приведены конкретная
информация о языковых корнях различных казахских терминов и ценные сообра-
жения о семантике целого ряда собственных имен.
Однако до настоящего времени историческая топонимия кочевников-казахов
как составная часть их традиционной познавательной культуры и пространствен-
но-ориентационной системы не рассматривалась в научной литературе. В связи
с этим многие необходимые для полноценного изучения истории Казахстана гео-
графические названия либо вообще были обойдены вниманием специалистов, либо
освещены в их трудах в самом поверхностном, усеченном и дискретном виде. Более
того, вне поля зрения исследователей-ономастов оказалась большая группа исчез-
нувших из устного лексикона казахов и их ближайших соседей во второй половине
XIX – середине ХХ в. топонимических понятий, которые на протяжении прошлых
пяти-шести веков словесно маркировали крупные элементы рельефа, реки, доро-
ги, объекты антропогенного происхождения (исторические памятники) и целые
историко-географические области. Наличие этих пробелов не позволяет истори-
кам полноценно использовать относящиеся к давно забытым топонимам сведения
75
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
письменных источников XVI–XVIII вв. о многих сторонах жизни казахов в ту исто-
рическую эпоху, поскольку неизвестна локализация их местоположения на терри-
тории Казахстана. В результате этого позднесредневековая история всех отдельно
взятых географических регионов страны освещена в современных научных трудах
очень фрагментарно и неравномерно, и в реконструированных картинах прошлого
составляющих ее административно-территориальных единиц по-прежнему остает-
ся немало «белых пятен».
Все вышеуказанные обстоятельства обусловили необходимость проведения
специальных научных исследований по исторической топонимии кочевников-каза-
хов, являющейся одним из важнейших элементов их традиционной когнитивной
и духовной культуры.
Цель проведенного исследования заключалась в комплексном междисципли-
нарном изучении наиболее репрезентативной группы исторических топонимов Ка-
захстана как составной части культурного наследия казахского народа. При этом
под понятием исторические топонимы имеются ввиду глубоко укорененные в исто-
рии и традиционной культуре казахов-кочевников собственные имена различных
элементов земной поверхности на освоенной ими территории, которые сохрани-
лись в современной топонимической номенклатуре географических объектов Ка-
захстана, либо исчезли из нее по разным причинам в относительно недавний пери-
од времени.
Достижение поставленной цели осуществлялось посредством последователь-
ного решения нескольких взаимосвязанных задач:
– определения референтной группы топонимов для специального исследова-
ния методом репрезентативной выборки самых значимых в традиционной системе
природопользования степных номадов географических объектов Казахстана и со-
ставления словника будущих научных статей;
– выявления, сбора и системного анализа сведений письменных и картогра-
фических источников об истории происхождения и смысловом содержании этих
понятий;
– проведения полевых научно-исследовательских работ в недостаточно из-
ученных регионах Казахстана, натурного обследования маркированных выбранны-
ми именами объектов природы, опроса информаторов об исторической топонимии
в местах их проживания и изучения собранных материалов;
– установления возраста географических названий, хронологических дат
их самой ранней письменной фиксации в документальных и картографических
источниках и времени исчезновения либо замены отдельных собственных имен
в лексиконе кочевников-казахов и их южных юго-восточных соседей другими на-
званиями;
– выяснения этимологии и семантики топонимов, требующих более углуб-
ленного изучения в науке;
76
ЧАСТЬ 1
– исследования историко-культурного контекста функционирования этих
имен в системе пространственных ориентаций степных номадов и их роли и места
в устной исторической памяти казахского народа;
– написания серии унифицированных по форме подачи информации науч-
ных статей, посвященных изученным народным топонимам и составления обобща-
ющего труда.
Работа по проекту была начата в 2010 г. и целенаправленно велась на про-
тяжении двух лет до конца 2011 г., в течение которых был определен основной круг
наиболее репрезентативных топонимов, составлен словник будущих статей, осу-
ществлены комплексные экспедиционные исследования в разных регионах Казах-
стана и эвристические поиски в российских (федеральных и региональных) архивах
необходимых документальных и картографических материалов. В результате всех
этих научных изысканий исполнители проекта к концу 2011 г. собрали, обработа-
ли и проанализировали большой массив исторических источников по топонимии
Казахстана (письменных, фольклорных, картографических и др.) и, изучив значи-
тельную часть выявленной фактографической информации, подготовили тексты 25
научных статей, посвященных конкретным топонимам [НА КазНИИ ПКНН. Ф. 3.
Оп. 1. Д. 53 (Научный отчет Института за 2010 г.), Д. 65 (Научный отчет Института
за первое полугодие 2011 г.)].
В 2012 и 2013 гг. научная работа коллектива Института по целевой програм-
ме прикладных научных исследований в сфере «истории, этнографии, культуры
и искусства номадов» осуществлялась другими руководителями исследовательской
группы и другими исполнителями проекта, в результате чего запланированная
на те годы подготовка справочно-энциклопедического труда по исторической топо-
нимии Казахстана практически не велась. За это время были написаны только две
краткие статьи по топонимам, а упоминания о проведенных исследованиях по вы-
шеобозначенной теме составили в научных отчетах Института за соответствующие
годы менее двух страниц.
Написание научных текстов и составление энциклопедического справочника
было возобновлено первоначальным коллективом исполнителей во главе с автором
проекта с начала 2014 г. и завершилось составлением к концу этого года рукописи
комплексного исследования.
Основным результатом практической реализации поставленных задач яви-
лась подготовка группой исследователей и издание обобщающего справочно-ин-
формационного труда по народной топонимии Казахстана под названием «Краткий
энциклопедический словарь исторических топонимов Казахстана». Он включает
в себя 270 научных авторских статей о конкретных топонимах, которые являлись
в историческом прошлом лексическими знаками-маркерами освоенного степны-
ми номадами географического пространства. Учтенная при составлении «Словаря»
77
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
общая совокупность географических названий включает в себя шесть основных ка-
тегорий собственных имен:
– макротопонимы, представленные употреблявшимися казахами и опосредо-
ванно через них иноязычными соседями казахских племен в разные исторические
эпохи названиями страны Казахстан, ее отдельных историко-географических обла-
стей и смежных регионов (Дашт-и Кипчак, Туран, Туркестан, Могулистан, Маве-
раннахр, Казахстан, Кашгария и др.);
– имена крупных элементов рельефа и водных артерий трансрегионального
значения (Алтай, Тянь-Шань, Бетпакдала, Сарыарка, Каспийское море, Аральское
море, Балхаш, Иртыш, Жайык, Сырдарья, Или, Зайсан и т.п.);
– понятия, маркирующие географические объекты внутрирегионального мас-
штаба и значения: средневысоких гор и мелкосопочных массивов, рек внутреннего
стока, озер, урочищ и т.п. (Сарысу, Белеуитты, Аныракай, Улытау, Алтынемель и др.);
– антропонимы, то есть увековеченные в названиях различных географиче-
ских объектов личные имена конкретных людей (Малайсары, Жасыбай, Бокенбай,
Есет и др.);
– клионимы, или топонимы, привязанные к крупнейшим историческим со-
бытиям (Калмаккырган, Сумкайты);
– исчезнувшие из казахской топонимии в разные хронологические эпохи на-
звания форм земной поверхности, водоемов и сухопутных коммуникаций кочевни-
ков (Шарабель, Аксакалбарби, Итишпес-Алаколь, Великий Шелковый путь, Абы-
лайжол, Ногайжол, Большая калмыцкая дорога и т.п.), а также некоторые урбони-
мы (Сауран, Сыгнак, Жанкент и др.).
В научных статьях подготовленного обобщающего труда исследованные топо-
нимы локализованы в географическом пространстве и историческом времени, дана
их этимология и развернутая семантика, указаны предшествовавшие им географи-
ческие названия, хронология бытования в лексиконе казахов-кочевников прежних
имен и исторические даты самой ранней графической фиксации новых топонимов,
приведены оригинальные историко-топонимические предания и легенды.
Авторские статьи «Словаря» написаны д.г.н. А. П. Горбуновым, к.и.н.
З. А. Джандосовой, к.и.н. И. В. Ерофеевой, д.и.н. М. Б. Кожа, Е. Ж. Оразбеком,
М. К. Семби, д.и.н. Г. С. Султангалиевой. Ценную консультативную помощь авто-
рам при написании отдельных статей оказали ведущий научный сотрудник Отде-
ла Юго-Восточной и Центральной Азии Института восточных рукописей РАН к.и.н.
Н. С. Яхонтова и ведущий научный сотрудник Института востоковедения МОН РК
к.и.н. Т. К. Бейсембиев.
Авторы издания надеются, что оно станет нужным и полезным пособием для
исследователей истории и исторической географии Казахстана и широкого кру-
га любознательных читателей, которые смогут не только почерпнуть в нем кон-
кретную информацию о трудных для понимания народных топонимах, но и более
78
ЧАСТЬ 1
глубоко погрузиться в богатое многообразное наследие духовной культуры многих
поколений степных кочевников евразийского хартланда, а следовательно и обога-
тить свой собственный духовный мир прикосновением к неисчерпаемым кладезям
культурных феноменов большого исторического прошлого.
Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1. М.;
Л., 1958.
Абдрахманов А. Вопросы топонимики Казахстана // Топонимика Востока.
М., 1962.
@бдірахманов А. Топонимика ж�не этимология. Алма-Ата, 1975. 207 б.
@бдірахманов А. �аза�станны� этнотопонимикасы (зерттелу тарихынан). Ал-
маты, 1979. 127 с.
Аманжолов С. А. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Ч. 1.
Алма-Ата, 1959.
Боднарский М. С. Словарь географических названий. М.: Учпедгиз, 1954.
Бурыкин А. А. Имена собственные как исторический источник. По материа-
лам русских документов об открытии и освоении Сибири и Дальнего Востока Рос-
сии XVII–XIX веков. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2013. 536 с.
Бутанаев В. Я. Топонимический словарь Хакасско-Минусинского края. Толы
Хоорайда�ы чир-су аттары. Абакан, 1995.
Горбунов А. П. Горы Центральной Азии. Толковый словарь географических
названий и терминов. Алматы, 2006.
Джанузаков Т. Очерк казахской ономастики. Алма-Ата, 1982.
Диваев А. Мавзолей Кок-Кесене // Протоколы Туркестанского кружка люби-
телей археологии. Год десятый (1904–1905). Ташкент, 1905. С. 40–43.
Ерофеева И. В. Географические карты XVIII века как источник по истории, эт-
нографии и исторической топонимике Казахстана // История Казахстана в доку-
ментах и материалах: Альманах. Вып. 1. Алматы: «LEM», 2011. С. 330–357.
Жан7за� Т. �аза� ономастикасы. Атаулар сырыз. Алматы, 2007.
ИКРИ–2. – История Казахстана в русских источниках XVI–XX вв. Т. 2. Русские
летописи и официальные материалы XVI – первой трети XVIII в. о народах Казахста-
на. Алматы: Дайк-Пресс, 2005.
79
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ИКРИ–4. – История Казахстана в русских источниках XVI–XX вв. Т. 4. Первые
историко-этнографические описания казахских земель. XVIII век. Алматы: Дайк-
Пресс, 2007.
ИКРИ–5. – История Казахстана в русских источниках XVI–XX вв. Т.5. Первые
историко-этнографические описания казахских земель. Первая половина XIX века.
Алматы: Дайк-Пресс, 2007.
ИКРИ–6. – История Казахстана в русских источниках XVI–XX вв. Т.6. Путевые
дневники и служебные записки о поездках по южным казахским степям XVIII – се-
редины XIX в. Алматы: Дайк-Пресс, 2007.
ИКРИ–9. – История Казахстана в русских источниках XVI–XX вв. Т.9. Народ-
ные предания об исторических событиях и выдающихся людях Казахской степи
(XIX–XX вв.). Алматы: Дайк-Пресс, 2007.
История Казахстана в документах и материалах. Альманах. Вып. 1. / Отв.
ред. Б. Т. Жанаев. Алматы, 2011.
История Казахстана в документах и материалах. Альманах. Вып. 2. / Отв.
ред. Б. Т. Жанаев. Астана, 2012.
Койчубаев Е. Краткий толковый словарь топонимов Казахстана. Алма-
Ата, 1974.
Конкашпаев Г. К. Казахские народные географические термины // Известия
АН КазССР. № 99. Серия географическая. Вып. 3. Алма-Ата, 1951. С. 3–47.
Конкашпаев Г. К. Географические названия монгольского происхождения на
территории Казахстана // Известия АН КазССР. Серия филологии и искусствоведе-
ния. Вып. 1. Алма-Ата, 1959. С. 85–98.
Конкашпаев Г. К. Словарь казахских географических названий. Алма-
Ата, 1963.
Кононов А. Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках // Тюрколо-
гический сборник. 1975. М., 1978.
Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и сте-
пей. Изд. 2-е. Алматы, 1996; Изд. 3-е. Алматы, 2009.
Махмудов Х., М7сабаев \. �аза�ша-орысша с%здік. Алматы, 1995.
Молчанова О. Т. Топонимический словарь Горного Алтая. Горно-Ал-
тайск, 1979.
Мурзаев Э. М. Очерки топонимики. М.: Мысль, 1974.
Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М., 1984.
Мурзаев Э. М. Тюркские географические названия. М.: Восточная литерату-
ра, 1996.
Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. Изд. 2-е. М.:
Картгеоцентр – Геодезиздат, 1999.
Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топонимический словарь.
М., 2001.
80
ЧАСТЬ 1
Путевые дневники и записки российских чиновников и исследователей о Ка-
захской степи XVIII – середины XIX в. / Отв. ред. Б. Т. Жанаев. Астана, 2012.
Санчиров В. П. К изучению топонимики ойратов и калмыков (XV–XVII вв.) //
Новый исторический вестник. М., 2011. № 3 (29). С. 67–73.
Свод памятников истории и культуры Республики Казахстан. Жамбылская
область. Алматы, 2002.
Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков (общетюркские и
межтюркские основы на гласные). М., 1974.
Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и
межтюркские основы на «Б». М., 1978.
Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков: общетюркские и
межтюркские основы на буквы «В», «Г» и «Д». М., 1980.
Семби М. К. Память земли тюрко-монгольской: истоки и символика топони-
мов. Алматы: КазНИИК, 2013.
Сюлбэ Б. Топонимика Якутии. Краткий научно-популярный очерк. Изд. 2-е.
Якутск, 2004.
Тынышпаев М. История казахского народа. Алма-Ата: �аза� университеті,
1993; Изд. 2-е. Алматы, 2002.
Умурзаков С. Очерки по истории географических открытий и исследований
Киргизии. Фрунзе, 1959.
Хафизова К. Ш. Установление казахско-китайских отношений в новое время
// Тамыр. Алматы, 2001. № 3 (5).
Шевченко Т. Г. Полное собрание сочинений в 10 томах. Т.4. Киев, 1949.
Шевченко Т. Г. Избранные произведения. Л., 1952.
Шевченко Т. Г. Кобзарь. Стихотворения и поэмы / Пер. с украинского.
М., 1972.
Яворская В. Н. Краткий топонимический словарь казахских географических
названий и русских географических терминов. Петропавловск, 2002.
81
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
С. Т. КОЖАХМЕТОВА
ЭТИМОЛОГИЯ ТОПОНИМА КАЗАЛЫ
Любая топонимическая система испытывает воздействие времени, социально-
экономических, культурных факторов, прямо или косвенно отражающихся в ней.
Поэтому при выявлении, исследовании и этимологизации отдельных топонимов не-
обходимо учитывать не только лингвистические, но и экстралингвистические фак-
торы.
В силу исторических причин процесс формирования и развития оседлых посе-
лений на изучаемой территории периодически нарушался на протяжении ряда сто-
летий. Монгольское нашествие XIII в., междоусобные войны средневековых ханств,
джунгарское нашествие XVIII в., кокандская экспансия XIX в. замедлили культурно-
экономическое развитие региона. На современном этапе положение области не луч-
ше. Устоявшееся мнение об экономической направленности области как аграрной
зоны, истощение посевных земель, снижение урожайности культур, уменьшение
пастбищных площадей, падение уровня воды в Сырдарье и Аральском море – все
это повлияло на жизнедеятельность региона. Многие мелкие и отдаленные населен-
ные места стали покидаться жителями, что привело к их опустению и исчезнове-
нию с карты области.
Улучшение условий жизнедеятельности региона способствует сохранению
историко-культурного наследия и дальнейшему развитию языка и культуры народа,
проживающего здесь.
Анализ изученного материала показывает, что основную часть ойконимов Кы-
зылординской области представляет тюркский пласт, как и на других тюркоязыч-
ных территориях. Тюркский пласт составляют древнетюркские, казахские, каракал-
пакские, киргизские, узбекские названия. Подавляющее большинство ойконимов
Кызылординской области образованы на базе казахского языка. В них отразились
фонетические, грамматические и лексические особенности казахского языка. По се-
мантической прозрачности и продуктивности аффиксов, их образующих, они делят-
ся на ойконимы староказахского и новоказахского языка [Абдрахманов, 1991].
На современной карте Кызылординской области Казахстана, территория ко-
торой охватывает нижние течение реки Сырдарьи и побережье Аральского моря,
указан населенный пункт Казалы (русский вариант – Казалинск). Ойконим Каза-
лы по свидетельствам русских источников, оставшихся со времен создания оборо-
нительных укреплений русскими войсками в период борьбы с кокандскими ханами
82
ЧАСТЬ 1
за установление господства в этом регионе, восходит к названию реки Казалы.
В 1853 г. близ истока реки Казалы был основан форт №1 Казалы, а в 1867 г. при уч-
реждении Туркестанского генерал-губернаторства форт Казалы был переименован
в город Казалинск [Маргулан, 1950].
Существуют различные этимологические версии названия Казалы. А. Абдрах-
манов связывал название с арабским словом газел (антилопа, сайгак) +–лы (аф. про-
изводного прилагательного, образованного от существительного) = сайгачье место,
где много сайгаков. В словаре Е. Койчубаева Казалы рассматривается как парное со-
четание тюркских этнонимов каз и алы. Есть версии, связывающие его со словом
каза – смерть. Но все эти версии звучат не совсем убедительно. По мнению А. Жакы-
пова, название Казалы происходит от слова каза – названия древнего рыболовного
орудия, которое использовалось еще до применения техники плетения рыболовных
сетей и появления железных крючков и трезубцев. Казалы восходит к слову каза
(слова, обозначающее предмет, имя существительное, синоним слова каза/смерть)
+лы – аффикс, образующий имя прилагательное, аффикс множественности. Извест-
ный ономатолог Т. Жанузхаков в своей работе «�аза� ономатикасы. Атаулар сыры»,
перечислив вышеназванные толкования топонима, название Казалы считает этно-
топонимом и связывает с древним этнонимом каз, алы – в значении «хребет, высо-
та» – «хребет, высота казов»: Казбек, Кавказ – гора казов.
В целях обоснования вышеперечисленных версий обратимся к документам,
связанным с археологией, историей и этнографией данного региона. По археоло-
гическим сведениям рассматриваемая территория обживалась человеком начиная
с каменного века. Археологические материалы и литературные источники свиде-
тельствуют, что район среднего и нижнего течения Сырдарьи до монгольского за-
воевания представлял собой цветущий культурный оазис с богатыми и красивыми
городами, последовательно населявшийся полукочевыми и полуоседлыми народно-
стями гузов, кангалы и кипчаков.
Впервые остатки древних поселений были обнаружены Хорезмской археологи-
ческой экспедицией в нижнем течении Сырдарьи и на побережье Аральского моря.
О существовании здесь культурной жизни свидетельствуют обнаруженные много-
численные развалины древних городов и селений с богатыми остатками керами-
ческого производства, земледельческих орудий, монет и фрагментов прикладного
искусства. По мнению С. П. Толстова, города Янгикентской группы существовали
со времен античности, с начала нашей эры до Х–ХІ столетий. В культуре этих го-
родищ отразились три этнографические струи: местная (бронзовый век), культура
степных тюркских племен Монголии и Приалтайских областей, влияние среднеази-
атской цивилизации – Хорезма, Средней Сырдарьи ІІ-ой половины І тыс. нашей эры
[Арты�баев и др., 2006].
Район нижнего течения реки Сырдарьи и побережья Аральского моря в истори-
ческом, культурном, этнографическом плане представлял и продолжает представлять
83
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
интерес для научных исследований. Существует широкий круг письменных источ-
ников, в которых зафиксированы сведения о поселениях на рассматриваемой тер-
ритории. Более древними из источников, в которых есть указания на древние и со-
временные названия населенных пунктов, являются работы арабских географов
и историков ІХ–ХVІ вв. В них содержатся ценные сведения о древних и средневеко-
вых городах, расположенных на территории Казахстана, в том числе на этой терри-
тории. Научная их значимость в том, что по ним можно определить места локализа-
ции, типы поселений, динамику развития названий городов и селений.
В конце ІХ – начале ХІ в. было известно довольно сильное государство огузов.
Центром его был город Янгикент, расположенный в нижнем течении Сырдарьи.
«Кроме Янгикента к городам огузов относились Дженд, Озкент (Огузкала), Баршын-
кент (Кызкала), Суткент, Отрар. Огузы занимались земледелием и частично ското-
водством. О городах огузов сохранились письменные свидетельства арабских геогра-
фов ІХ–ХVІ веков. Например, Янгикент по-арабски назывался ал-Карьят ал-Хадисс,
что значит Новый город. По сведениям Ибн-Хаукаля, Янгикент был «столицей цар-
ства гузов». Он также рассказывает о Дженде и Хоре (двух городах по нижнему те-
чению Сырдарьи), что власть в них тоже принадлежит гузам, о Сабране, – где гузы
собираются для заключения мира и торговли, о Сюткенде, что здесь собираются
тюрки-гузы и что они уже приняли ислам. Ал-Макдиси ко всем этим сведениям до-
бавляет, что Сабран (он его называет Сауран) является пограничной крепостью про-
тив гузов» [Проблемы этимологии, 1990].
О завоевании областей Приаралья кыпчаками в ХІ в. и включении населения
этих областей в состав кыпчакского союза отмечено во многих исторических доку-
ментах. «Во ІІ-ой половине ХІ века кипчаки вытеснили с низовьев Сырдарьи и с по-
бережья Аральского моря живших там огузов. В этнический состав кипчаков вошли
тюркоязычные племена. В свою очередь, кипчаки вошли в состав многих тюркоя-
зычных народов (башкир, узбеков, каракалпаков, киргизов, туркмен, ногаев, волж-
ских, казанских, крымских татар». О роли кимаков/кыпчаков в этнической истории
многих тюркских народов говорится также в известном труде «Народы Средней
Азии и Казахстана»: «Передвижение в тот же исторический период другой части
огузов («узов» или «торков» русских источников) вслед за печенегами в направле-
нии южнорусских степей и приход с Иртыша в Приаралье кыпчаков (западная ветвь
живших на берегах Иртыша тюркоязычных племен кимаков) имели большое значе-
ние в начавшемся процессе формирования каракалпакской народности.
Все эти этнополитические процессы в определенной степени оказали влияние
на развитие этого региона и нашли языковое отражение в топонимических назва-
ниях. Вопрос об огузо-кимакских отношениях и маршруте их движения также мож-
но проследить на примере топонима Казалы.
В статье Ж. Артыкбаева «Огузско-кимакские топонимы на территории Средне-
го Прииртышья» мы находим следующие интересные факты о топониме Казалы.
84
ЧАСТЬ 1
«Казалы название озера и поселка на левом берегу р. Аксу. В свою очередь Аксу яв-
ляется одним из больших рукавов р. Иртыш. В дореволюционное время плодород-
ные участки побережья были отданы казачьим офицерам. Фамилия одного из них,
Грязанова, на некоторое время заменила старое название Казалы. В середине 90-х
годов ХХ века усилиями нескольких аксакалов, помнящих еще старину, исконное
название возвратилось. Но значение этого слова, к сожалению, уже никто не пом-
нил. Первоначальные попытки этимологического анализа не привели нас к положи-
тельным результатам. «Казалы» топоним, постоянно пребывающий в таинственной
загадке. Данное обстоятельство было связано с ошибочными этимологическими
интерпретациями данного топонима нашими лингвистами... На самом же деле то-
поним «казалы» берет начало от «каза» – средство для ловли рыбы». Далее автор
в работе ссылается на исследования С. Аманжолова, где «каза» также объясняется
как «одно из орудий рыболовного хозяйства» и Т. А. Жданко, отмечавшего «каза»
как рыболовную снасть у каракалпаков.
Как раннее, так и позднее средневековье Павлодарского Прииртышья имеет
уникальные автохтонные особенности, сформированные под влиянием местных
природно-климатических условий и ландшафтно-географических условий. Резуль-
таты исследования археолого-этнографического комплекса «Акколь-Жайылма» по-
казали, что в раннем средневековье история и культура региона были связаны с ки-
мако-огузскими племенами.
По мнению казахстанских ученых, особый интерес представляет изготовление
рыболовных орудий, так называемой каза. «Каза» – рыболовная снасть типа мордуш-
ки. От «каза» берет начало средневековый топоним Казалы. Эта снасть изготавлива-
ется из камыша и представляет собой конструкцию, состоящую из длинной (8-10 м)
камышовой, вертикально расположенной линии, называемой желі, заканчивающей-
ся по обоим концам отсеками (коржын), в нее рыба, продвигаясь вдоль желі, попада-
ет через специальный вход (к%мей) [Тюрки таежного Прииртышья, 1991].
Археолого-этнографическое изучение территории Павлодарского Приирты-
шья подтверждает существование исторических и культурных связей с территори-
ей Присырдарьинского региона на примере средневековых топонимов, в том числе
и на примере ойконима Казалы, который отмечен в Казалинском районе Кызылор-
динской области и Аксуском районе Павлодарской области.
Вслед за А. Жакыповым и Ж. Артыкбаевым этимологию топонима Казалы
мы связываем с названием древней рыболовной снасти. Как в Кызылординской,
так и в Павлодарской областях ойконим Казалы производен от гидронима Казалы.
В свою очередь, гидроним мог получить свое название от места, где ставилась каза –
древнее рыболовное приспособление. Каза изготовлялись из высоких стеблей камы-
ша и ставились в речных протоках. Возможно, место, где чаще ставились каза, стало
именоваться казалы: каз/газ камыш+-а=каза – в значении «сделанное из камыша»;
85
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
каза+-лы (аффикс наличия, обладания)=место, где много каза, или место, где ста-
вится каза.
В казахско-русском словаре под редакцией Р. Г. Сыздыковой и К. Ш. Хуса-
ина каза ІІ имеет значение как специальное слово, означает катцы (ловушка для
рыбы, сделанная из тростника): шенгел казы – катцы из осоки; камыс казы – катцы
из камыша; казы сал – поставить катцы. В словаре есть указание и на слово казалы
ІІ – место в водоеме, где сосредоточено много катцов, верш, морд (разновидность
рыболовных снастей). Диалектологический словарь казахского языка значение каза
также связывает с одной из разновидностей средств из камыша для рыбной ловли.
Регионами его применения указаны Иргизский район Актюбинской области, Джан-
гильдинский район Костанайской области. Аральский район Кызылординской об-
ласти. Есть указание на каза как орудие из камыша для ловли рыбы и в этом словаре
казахского языка.
Следует отметить, что каза существовало также у каракалпаков. Об этом име-
ются сведения в двухтомном комплексном труде «Народы Средней Азии и Казахста-
на». В данном труде при описании быта и деятельности каракалпаков дается следу-
ющая информация: «Рыболовство было исконным занятием каракалпаков, живших
в основном в северных районах родоплеменных групп муйтен и колдаулы, живших
на Аральском побережье в урочище Даукара, близ крупных озер Кара-Терень и Кун-
град, а также у ашамайлы и киятов, расселенных в западной части дельты Аму-Да-
рьи. В народной литературе и фольклоре каракалпаков имеются произведения, по-
священные рыболовству и быту рыбаков». Далее там же говорится, что каракалпаки
знали много разнообразных снастей и орудий лова, приспособленных для рыболов-
ства в реке и протоках дельты. Каракалпаки устраивали так называемые каза соору-
жение из высоких стеблей камыша, которым перегораживали протоки. Посредине
этой загородки оставлялось отверстие, через него рыба, шедшая против течения, по-
падала в большую окруженную камышевой изгородью западню, круглую в плане,
откуда уже не могла выбраться, рыбаки доставали ее оттуда острогой или руками.
В каракалпакско-русском словаре (1958) слово каза наряду со значением –
смерть, гибель, известным и в казахском языке, имеет второе значение: �аза ІІ, 1)
морда, силок из прутьев (для ловли рыбы); 2) загородка (для ловли рыбы): ше�гел
�аза – загородка из осоки (для ловли рыбы); �амыс �аза – загородка из камыша (для
ловли рыбы) [Арсланова, 1968].
Исходя из вышесказанного, по археологическим, историко-этнографическим
данным по времени появления название Казалы восходит к раннему средневеко-
вью, к периоду огузо-кимакских отношений; по мотиву номинации связано с древ-
ним приспособлением для рыболовства.
В дополнение к вышесказанному следует также отметить, что в этническом
составе казахов Младшего жуза имеется родовое подразделение казалы (Младший
86
ЧАСТЬ 1
жуз←айулы←алтын←казалы). Однако здесь, по нашему мнению, наблюдается про-
исхождение имени этнической группы от названия места ее локализации.
Таким образом, при топонимическом исследовании необходимо наряду с линг-
вистическими материалами учитывать материалы по археологии, истории, культу-
ре и этнографии народа. При этом задача исследования должна заключаться в том,
чтобы собрать по крупицам и использовать в решении тех или иных проблем.
Абдрахманов А. Историко-этимологическое исследование топонимов Казах-
стана. Науч. докл. по опубл. трудам, предст. к защите д-ра фил. наук. Алма-Ата, 1991.
Маргулан А. Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Ка-
захстана. Алма-Ата, 1950.
Арты�баев Ж. О., Ерманов А. Ж., ДRуенов Е. Н. Орта Ертіс %�іріні�
топонимиялы� м�селелері. Павлодар, 2006.
Проблемы этимологии тюркских языков. Алма-Ата, 1990.
Тюрки таежного Прииртышья. Популяция и этнос. Под ред. В. П. Алексеева.
Томск, 1991.
Арсланова Ф. Х. Памятники Павлодарского Прииртышья (VІІ–ХІІ вв.) // Но-
вое в археологии Казахстана. Алма-Ата, 1968. С. 98–111.
87
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Е. Ж. ОРАЗБЕК
НЕКОТОРЫЕ ТОПОНИМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ САРЫАРКИ(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭТНОГРАФО-ТОПОНИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 2014 Г.)
Историческая топонимика как часть культурного ландшафта Казахстана.
Одной из важнейших составляющих частей культурного наследия любого этноса
и народа наряду с архитектурой, литературой, музыкой является наследие/богат-
ство этнической, территориальной ономастики: топонимии, антропонимии, этно-
нимии и т.п. Топонимы являются графически зримыми и фонетически слышимыми
священными маркерами и знаками, маяками и знаменами нашего многотысяче-
летне-освоенного культурного пространства, «сертификатом-мандатом-брендом»
каждого уголка нашей Родины, культурно-историческим кодом нашей Истории,
символами-графемами национальной Книги культуры. Безусловно, и мы когда-ни-
будь достигнем уровня культуры цивилизованного мира, только останется ли что-
либо на карте нашей страны – не исковерканное, не уничтоженное?
Мы полагаем, что одним из наиболее значимых, информационно-семантиче-
ских, «зримых» (неразрывно связанных в памяти людской с территорией, землей,
почвой страны) элементов национальной культуры и истории являются топонимы.
Топоним есть, с одной стороны, элемент культуры, истории, точно маркиру-
ющий данный, конкретный объект территории, поверхности земли (воды), своего
рода ярлык-указатель, веха. Топоним маркирует пространство-территорию прожи-
вания какого-либо этносоциума, помогает человеку упорядочить хаос-безвестность-
мглу пространства, обжить его, ориентироваться в нем. Посредством других онимов
(антропонимы, зоонимы, фитонимы, космонимы и др.) человек также упорядочива-
ет мир вокруг себя, индивидуализирует себя и окружающих людей, фауну, флору,
небесный мир и т.п.
С другой стороны, топоним, являясь словом (в его фонемном и графемном
вариантах), в концентрированно-кодированном виде хранит этно-окрашенное вос-
приятие человеком-социумом окружающего его мира, части, элемента этого гео-
графо-пространственного мира, удивительным образом фиксирует (как обожжен-
ная керамика, кусок дерева) историческую эпоху, во время которого он (топоним)
появился или был зафиксирован в письменном виде.
Топоним является своего рода пограничным столбом-пунктом, очерчива-
ющим ареал расселения того или иного этноса в пространстве и времени. Цен-
ность топонима (информативная, научная, государственно-стратегическая и иная)
88
ЧАСТЬ 1
для этносоциума, страны, государства, безусловно, много выше, чем иные расхо-
жие, популистско-рекламные знаки-идолы современной национальной культуры.
Пора нам всем уяснить такую очевидную истину, что топонимы не могут быть ви-
дом частной или корпоративной собственности, а являются достоянием всего наро-
да, всей страны и даже всего человечества!
Исследование топонимов в нашей стране до последнего времени велось в ос-
новном силами лингвистов-топонимистов. Историки же часто не могли точно лока-
лизовать в пространстве тот или иной исторический топоним. И если, например,
в России, чуть ли не по каждому значимому топониму имеется внушительная и ча-
сто добротно-профессиональная историография, то в Казахстане в этом отношении
дела обстоят весьма плачевно. Из последних по времени трудов можно упомянуть
лишь две новаторские и фундаментальные работы по комплексному исследованию
топонимов в Казахстане – «Аныракайский треугольник: историко-географический
ареал и хроника великого сражения» [Ерофеева, Аубекеров, Рогожинский и др., 2008]
и книгу М. К. Семби «Память земли тюрко-монгольской» [Семби, 2013].
Статьи готовящегося к изданию в 2014 г. «Краткого энциклопедического сло-
варя исторических топонимов Казахстана» (автор проекта и составитель И. В. Еро-
феева) наглядно демонстрируют духовное единство племен и народов, населявших
территорию Казахстана в разные исторические периоды, и очевидность того, что не
существует отдельной истории и отдельной культуры отдельно взятой страны и на-
рода, что история и культура казахского народа вне контекста сосуществования
и взаимосвязей с родственными тюрко-монгольскими и иными соседними (в про-
шлом и настоящем) этносами не может быть воссоздана, написана и понята адек-
ватно, объективно и профессионально.
В данной статье мы попытались подвергнуть этно-топонимическому анализу
два топонима Сарыарки : озеро Ямышевскоеи горы Кент.
Ямыш
Ямыш (@міш, Еміші, Емші, Т7з�ала) – Ямышевское озеро, Ямышевская кре-
пость, станица Ямышево, село Ямышево – в Лебяжинском районе Павлодарской об-
ласти. Территория Лебяжинского района представляет собой слабоволнистую степь
с ковыльно-типчаковой растительностью, с большим количеством солёных озёр.
В 2014 г. автор данной статьи в ходе полевой этнографо-топонимической экс-
педиции КазНИИ культуры побывал на Ямышевском озере (современное название
Тузкала), в селе Ямышево (Тузкала), осмотрел руины Ямышевской крепости и близ-
лежащую округу. На озере и по сию пору лечатся больные в купальнях с озерной
водой, представляющую собой солевой раствор, принимают грязевые ванны; отды-
хают туристы.
89
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Житель села Ямышево, историк, краевед Руслан Мусин давно занимается
историей своего родного села и округи, его дипломная работа «Ямышево, как круп-
ный социо-культурный центр Прииртышья XVIII–XIX веков». Р. Мусин давно и ак-
тивно публикуется в районной и областной периодике. Работая в акимате села
Ямышево, он всесторонне знает и людей родного села, и историю, и природу отчего
края. Данная статья о топониме «Ямыш» (и его производных) в основном написана
по материалам и исследованиям уроженца ямышевского Прииртышья Р. Мусина.
Этимология топонима Ямыш. Местные жители казахи связывают назва-
ние озера Ямыш/Ямыс с именем человека, якобы жившего когда-то у этого озера.
По другой версии, высказываемой на страницах периодики, название озера Ямыш
происходит от монгольского слова «ям/почта», отсюда «ямыш» – «почтальон»;
по третьей версии – от татарского «ямыш» – «ягодные места».
Ямышевский краевед-историк Р. Мусин приводит свои версии этимологии
топонима Ямыш.
По местным преданиям села Ямышева, в далекие от нас времена в окрест-
ностях его появился совсем юный жигит, оставшийся круглым сиротой. Во вре-
мя набега враждебного соседнего рода все его родичи погибли, и он пошел куда
глаза глядят пока не набрел на небольшую горстку строений, стоявшую в отдале-
нии от озера с красной водой, на которой колыхались огромные и плоские куски
твердого вещества белого цвета. Это была оседлая усадьба, в которой одиноко жил
старыйемши-целитель. Он очень обрадовался, что нашелся преемник, которому
он сможет передать свое искусство. Старик приютил парня, дал ему еду и одежду.
Много месяцев потратил старик на то, чтобы обучить парня своему ремеслу.
Убедившись, что воспитал достойную себе смену, карт-емши утром ясного
дня вышел вместе со своим учеником на просторную площадку перед усадьбой,
подвел к балбалу – каменному изваянию и велел взять колотушку и выбить ею
на барабане-даулпазе выученный ритм вызова сородичей. Несколько раз взмахнул
колотушкой жигит, и даулпаз пророкотал свою таинственную однозвучную песню.
К вечеру со всех сторон к усадьбе съехались кочевники. Был той, и был праздник
по случаю встречи всех родственных аулов («кырык-уй»).
На следующее утро все чинно и торжественно расселись вокруг площадки
с балбалом в центре, и аксакал возгласом «Уа, жамагат!» заставил всех замолкнуть
и навострить слух. Все услышали печальную историю жигита, хором выразили свое
сочувствие и внимательно выслушали последние слова старого целителя, которы-
ми он представил сородичам нового хранителя озера, который полностью соответ-
ствовал требованиям к претендентам: он был одинок, не имел родни и обучился
целительству.
Все выразили свое одобрение. Чтобы принять жигита в родовую общину,
объявили, что любая овдовевшая и потерявшая детей почтенная женщина может
подать свой голос и выразить согласие в том, чтобы стать приемной матерью. Такая
90
ЧАСТЬ 1
нашлась, без промедления был совершен обряд усыновления. А потом постановили:
быть ему новым хранителем озера и дать ему имя Амыш/@міш. От него и озеро ста-
ло называться тем же именем.
До этого озеро и остальные водоемы вокруг него – озера, ручьи, речки – назы-
вались общим словом «Тузкала/Т7з�ала» – «Соляной город/крепость; много соли»;
туз/т7з – «соль», кала/�ала – «город, крепость, скопление чего либо», название Туз-
кала говорит о необычайно большом (множественном) количестве соли. Например,
название Калаколь говорит о множестве озер в этом месте. На арке, при поворо-
те с шоссе в село Ямышево, написано название поселения – «Тузкала», и местное
казахское население озеро называет Тузкала; на современной карте село помечено
как Ямышево, но озеро именовано Тузкала.
Понятно, что для монголов селение недалеко от озера на берегу реки было
вдвойне удобным для размещения в нем ямской/почтовой службы, совмещенной
с целительскими процедурами. В произношении чужаков Емши часто превраща-
лось в Ямыш (ямщик), что дало повод утверждать, что озеро и поселение получили
название от монгольского термина «ям».
Другие варианты этимологий, о которых необходимо упомянуть. Тожде-
ственное по звучанию словосочетание «ем ши» дает понять, что в солонцово-сугли-
нистой пойме озера обильно на широких пространствах рос чий/ши – камышовая
трава, которую часто соотносят по лечебным свойствам с «золотым корнем» (элеу-
терококком), травой того же рода.
Казахско-монгольское название озера «Емиши/Емши» в русских источни-
ках превратилось в «Ямыш» (встречаются русифицированные варианты Йемыш,
Йямыш, Емыш, Яныш, Еныш). Нужно учитывать разный говор русского языка
в XVII–XVIII вв.; тюркские топонимы, например, Елу-Тор русским удобнее было про-
износить как Ялуторовск, Ертыс/Ертiс –Иртыш, Ермен – Ирмень, Кере ку ер – Коря-
ков яр, Ел бай – Ялобай, Ел емес – Яломас и т.д.
Итак, наиболее логичным является версия этимологии топонима «Ямыш»
от казахско-монгольского – «Емичи/Емічі» (монгольский вариант), «Емши/Емші/
Еміші» (казахский вариант), от «ем» – «лечение; целебное, целительное», «Емши/
Емші» – «лекарь, знахарь».
Кент
Кент (Кент) – горно-лесной массив в Центральной части Сарыарки, в Карка-
ралинском районе, на востоке Карагандинской области.
Центральная часть Сарыарки, наряду с бескрайней степью включает в себя
обширную систему «островных» гор, простирающуюся на сотни километров (выс-
шая точка – гора Аксоран, 1565 м, расположена в горном массиве Кызыл-арай).
91
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Протяжённость системы среднегорья с запада на восток 1200 км, с севера на юг 600
км. Горные хребты центральной Сарыарки не образуют сплошного горного массива,
их отделяют друг от друга большие пространства почти плоских равнин. Поэтому
изолированные степями и полупустынями горные массивы Сарыарки / Казахского
мелкосопочника называют горно-лесными оазисами.
Знаменитые горы Каркаралы – это лишь малая часть, северная окраина этой
системы гор. Далее на восток и юго-восток она включает в себя горы Кент, Бакты,
Кошубай, Буртас, Коныртемирши, Кызылтас и Кызыларай. Каждый из этих горно-
лесных оазисов посреди степи, имеет свою неповторимую красоту, свои вершины,
свои речушки, стекающие с этих гор на север и юг. Здесь берут своё начало реки
Нура, Шерубай-Нура, Жарлы, Талды, Токырау.
Кентский горно-лесной массив (в 40 км на юго-восток от г. Каркаралинск) –
второй по площади после Каркаралинского горно-лесного массива. Он вытянулся
дугой на три десятка с лишним километров, и шириной почти на два десятка. С юга
горы Кент выглядят могучей, неприступной стеной, поднявшейся над степью. Гра-
нитные бока скал сверкают на солнце своими отшлифованными округлыми бока-
ми. А на севере горы расчленяются на несколько отрогов с широкими лесостепны-
ми долинами. Склоны гор, а также долины покрыты густыми смешанными лесами.
Среди деревьев преобладают хвойные – сосны и встречающиеся изредка ели. Не-
мало берёзовых рощ.
Необыкновенно живописны и причудливы скалы, которые местами поднима-
ются отвесно вверх, испещрены трещинами, складками. Самая высокая гора носит
одноимённое название (на картах) – Кент, её абсолютная высота 1469 м. Немногим
уступают другие вершины гребней Донгал, Найзатас, Жамантау, Босага. Они разде-
лены между собой глубокими ущельями, логами, где стекают вниз горные речушки
Талды (Большая и Малая), Аккияк, Караагаш, Кызылкент, Кадыр и др. В горах Кент
нередко встречаются чистые родники с прохладной вкусной водой.
«Кызыл-кентский дворец», на самом деле, – буддистский (ламаистский) мо-
настырь. [Усманова, 2011. С. 485–497]. Е. Койчубаев этимологизирует топоним
Кент следующим образом: «Кент – участок пустыни в восточной части Бетпакдалы
и юго-западные ответвления Каркаралинских гор. В пустынных песках Бетпакда-
лы (Жезказганский район) геологи обнаружили остатки древней медеплавильной
печи со следами медной руды. Находка датирована примерно первыми веками
до н.э. Ираноязычность названия рудокопного района тюркских кочевников являет-
ся загадочной. Кент букв. «город, оседлое поселение»» [Койчубаев, 1974. С. 132–133].
Исследователи М. Уали и М. Томпиев, увязывают этимологию топонима
Кент с казахским кен (ископаемое, руда; рудник, копи, залежи руд): «Вообще, на-
звание Кент – странное для Казахстана. Но нигде мы не нашли этому объясне-
ния. Более древнее название этих гор – Кенказган, что означает «Рудокопные».
Под этим названием они фигурируют в известной книге А. И. Левшина «Описание
92
ЧАСТЬ 1
киргиз-кайсацких орд и степей» [Левшин, 1996. С. 47, 106]. Действительно, Кент
и соседние Каркаралы – кладезь полезных ископаемых: медных и железных руд,
полудрагоценных и драгоценных минералов, горного хрусталя. Светло-коричне-
вые, а иногда красноватые оттенки камней свидетельствуют о высоком содержании
железа. Здесь и по соседству полно отвалов и выработок древних рудников. Не зря
местные племена эпохи поздней бронзы и раннего железа устраивали здесь свои
“бронзолитейные и железолитейные цеха”». [Уали, Томпиев, 2013].
Т. Жанузак приходит к выводу, что «Кент – гора. Является частью гор Бес-
казылыктын бели/Бес�азылы�тыf белі. На таджикском, иранском языках означа-
ет «крепость», «стоянка», «город». В некоторых иранских областях кенд – «яма, ре-
зервуар, для хранения воды», «горная вершина», армянское конд «хребет», «холм»,
на южном Урале кент «возвышенность, высокая вершина, отвесная скала». Т.е, по-
лагаем, что значение названия кент “горная вершина, высокая гора”». [Жан7за�,
2011. С. 313].
В 2014 г. автор данной статьи в ходе полевой этнографо-топонимической экс-
педиции побывал в Кентских горах. Слово «кент» действительно иранского проис-
хождения и вошло в лексику казахского языка со своими значениями «крепость,
город, укрепленное, опоясанное стенами поселение». Буддистский монастырь
в Кентских горах казахи называли словом «Кент» – «крепость/город», точнее «Кы-
зыл Кент» – «красная крепость/город». И в трудах русских исследователей XIX в.
за горами закрепилось наименование «Кент, Кентские горы». В легендах местных
казахов буддистский памятник иногда называют Кыз-аулие / Святая дева (отголо-
ски легендарной истории о свадебном караване и калмыкской принцессе [Чермак,
1909]).
Урочище, долинку, в пределах которой расположен монастырь, казахи на-
зывали «Кызыл-Кениш/�ызылкеfіш». В настоящее время переводят поэтически
«Красная сокровищница». На деле же «кен/кеf» означает «широкий, пространный,
просторный, свободный; перен. благодатное место»; «кениш/кеfіш» – уменьшитель-
ное от «кен/кеf», т.е «уютное, благодатное местечко, где чувствуешь себя свободно,
просторно». На наш взгляд, в данном случае слово «кениш» можно перевести как
«урочище» (любая часть местности, отличная от остальных участков окружающей
местности). УрочищеКызыл-кениш представляет собой почти круглую долинку,
окруженную со всех сторон отвесными скалами, со своим микроклиматом.
Надо помнить и о ключе/речушке Кызылсу/�ызылсу (Красная река), на ко-
торой стоит монастырь. Везде в вышеупомянутых топонимах присутствует «цвето-
вой» оттенок, а именно «красный/�ызыл». И это не случайно.
Кентские горы сложены из красноватого гранита и, особенно на восходе
солнца и при его закате, скалы отливают всеми оттенками красно-оранжевого цве-
та. Одна из групп Кентских гор сохранила название «Кызылтас/�ызылтас» («Крас-
ные горы, скалы»); полагаем, что прежнее название Кентских гор было «Кызылтас»
93
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
(к югу от Кентских гор расположен горно-лесной оазис Кызыларай: «арай» означает
«заря /утренняя/, зарево»). И поэтому речка называется Кызылсу/�ызылсу (светло-
коричневые, а иногда красноватые оттенки камней в Кентских горах свидетельству-
ют о высоком содержании железа), урочище Кызыл-кениш, а монастырь/«дворец»
«Кызыл-Кент».
Современное русифицированное название гор (Кент) представляет собой
усеченное название казахского «Кызыл-кент», относившегося только к наименова-
нию буддистского монастыря. Прежнее, забытое, название гор, по нашему мнению,
было «Кызылтас».
Ерофеева И. В., Аубекеров Б. Ж., Рогожинский А. Е. и др. Аныракайский треу-
гольник: историко-географический ареал и хроника великого сражения. Алматы:
Дайк-Пресс, 2008.
Жан7за� Т. Жер-су атаулары (этимологиялы� аны�тамалы�). Алматы:
«�нер», 2011.
Койчубаев Е. Краткий толковый словарь топонимов Казахстана. Алма-Ата:
«Наука», 1974.
Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей.
Алматы, 1996.
Мусин Р. К. Ямышево как крупный социо-культурный центр Прииртышья
XVIII–XIX веков / Дипломная работа (рукопись).
Семби М. К. Память земли тюрко-монгольской: истоки и символика топони-
мов. Труды КазНИИК. Алматы, 2013.
Уали М., Томпиев М. Легенды и факты Кентских гор / Ветер странствий. № 5
(42). 2013. С. 80–85.
Усманова Э. Р. Ламаистский монастырь Кызылкент // От Алтая до Каспия. Ат-
лас памятников и достопримечательностей природы, истории и культуры Казахста-
на. Т. I. Алматы, 2011. С. 485–497.
Чермак Л. К. Кзыл-кенчь (Киргизская легенда) // Записки Русского географи-
ческого общества по отделению этнографии. Том XXXIV. СПб., 1909. С. 211–218.
94
ЧАСТЬ 1
М. К. СЕМБИ
ТЮРКСКИЙ ФОЛЬКЛОР
КАК ОСНОВА ЭТИМОЛОГИЗАЦИИ ТОПОНИМОВ
По мифологии жителей Эллады, на крайнем западе, в подземном царс т ве
мёртвых протекала река Стикс (дочь Океана), воды которой считались ядовитыми.
Подземное царство как «страна мертвых» бытует в фольклоре многих народов
мира, в том числе и у тюркских. У казахов этот универсальный сюжет зафиксировал
Ч. Ч. Валиханов. В своей работе «Следы шаманства у киргизов» (казахов – М. С. )
он приводит легенду о дружбе молодых людей – мертвого и живого. Знаком ство
их происходит во время поиска младшим сыном отца пропавшего табуна кысраков
(лошадей – М. С. ). «На закате солнца...» увидел он кладбище, «на западной стороне»
которого находилась свежая черная могила. Вышедший из могилы молодой человек
приглашает его к себе в подземный дворец, щедро угощает гостя, после чего,
побеседовав по душам, они становятся закадычными друзьями. При расставании,
мертвый друг дал совет: вернувшись домой, «своих ты застанешь в приготовлениях
на войну», тебя будут от говаривать, но ты непременно прими участие в походе.
Во время нападения на врага, «скачи один по западной стороне», когда же после
победы «все бросятся на добычу, ты скачи на запад», где найдешь свою судьбу.
Легенда заканчивается встречей друзей в подземном царстве, мире мёртвых,
где они стали «жить вместе и достигли всех надежд своих» [Валиханов, 1961. С. 488,
490–491].
В азербайджанских волшебных сказках «Сирота Ибрагим и жадный ла воч ник»,
«Гаргаш» героям, направляющимся в царство мёртвых, советуют ехать по западной
дороге, которая быстрее и легче приведет к намеченной цели [Азербайджанские
сказки, 1950. С. 67, 145].
В хакасском героическом эпосе «Алтын-Арыг» указывается сторона, где живут
враги:
Килейiп ч%рче� мал iзi
К=н кiрiзiн к%ре пар�ан.
[Алтын-Арыг, 1988. С. 48]
Следы угнанного скота
В сторону, где заходит солнце, ведут.
[там же. С. 290]
95
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В героических поэмах хакасов захватчики живут там, где заходит солнце,
то есть на западе. Положительные персонажи – бога тыри, трактуются как жители
солнечного мира и представляются жителями востока – стороны, где восходит солнце.
Демонические богатыри, живущие в «низине» (более древнее представление –
подземный мир мёртвых) – исконные враги людей солнечного мира (см.: примечание
В. Е. Майногашевой [Алтын-Арыг, 1988. С. 545]). Установка хакасами на западной
стороне могилы колышка, изображавшего человека, отправляю щегося в страну
мёртвых [Липский, 1966. С. 113], является подтверждением того, что сторона
царства тьмы расположена на западе. Покойного также хоронили головой на запад.
Алтайцы хоронят умершего ногами на запад, считая, что душа человека,
поднявшись, уходит в потусторонний мир в этом направлении. У казахов, запад,
как «страна мертвых», нашел отражение в западной ориентации стел-кулпытасов,
койтасов, устанавливаемых над захоронениями, где «западная ориентации казахских
кулпытасов является проявлением специфики солярного культа в генезисе верований
кочевников региона, взаимосвязи его с образом коня-солнца, как символа смерти»
[Аджигалиев, 1994. С. 165].
Таким образом, в фольклоре, эпосе тюркских народов запад ассоциируется
со страной мертвых, находящейся на стороне за ходящего, «умирающего» солнца,
что отразилось в древнетюркском языке, где QURU (QURI) означает сохнуть,
высыхать, засыхать и является синонимом слова «умереть», а QURUJAQI (QURU +
JAQI) – находящийся на западе, западный, букв. находящийся на засыхающей, т.е.
«умирающей» стороне (jag – сторона) [Древнетюркский словарь, 1969. С. 468–469].
Современный турецкий язык сохранил древнетюркское значение «умира ющего»,
закаты вающегося солнца в форме QURUP – закат, заход. Казахское слово «�;ру»
сохранило смысл древнетюркского «quru» со всеми оттенками, но без значения
его как стороны света.
Общеизвестно, что тюрко-монгольские народы для ориен тации по странам
света становились лицом к восходящему солнцу и из этого положения определяли
стороны света: прямо (вперед) восток; слева – север, справа – юг, назад – запад.
После монгольского завоевания большинство тюркских народов под влиянием
монголов сменили основополагающую ориентацию с востока на юг. Теперь задней,
обратной стороной стал север, а соответственно и «мир мёртвых» переместился
с запада на холодный север. Сохранили базовую ориентацию среди тюрков лишь
долгане, саха и тофы.
Фольклор прореагировал на перемещение «страны мертвых» с востока
на север. К примеру, в кыргызской легенде, приведенной С. М. Абрамзоном, труп
прародительницы племени бугу Мюйюздюу байбиче перед самым погребением
исчезает, по другой версии, когда умерла Олуя (святая) байбиче, останки ее также
загадочно исчезают. Последняя якобы «ушла» в казахские степи Сарыарку к своим
сыновьям, куда они попали и откуда уже не вернулись [Абрамзон, 1990. С. 301]. Cтоль
96
ЧАСТЬ 1
загадочное исчезновение останков Мюйюздюу бай биче и Олуя байбиче проясняет
значение слова Сарыарка, кото рое интерпретируется как «северная сторона» (сары –
направление, сторона; арка – север). В этом свете становится понятным, что святые
женщины и сыновья Олуя байбиче «ушли» не в казахские степи Сарыарка, а в
северную сторону (сары арка), где расположена «страна мёртвых», откуда никогда
не возвращаются.
Материалы археологических исследований подтверждают западный
и северный азимуты в загробный мир. Так, в захоронениях, где покойник ориентирован
по оси запад-восток или север-юг, если устраивается подбой (ляхат), то в абсо-
лютном большинстве он располагается в первом случае – в се верной, а во втором
случае – в западной стороне могильной ямы [Нестеров, 1990. С. 72–73, 75, 77, 79].
Прозрачна, на первый взгляд, этимология гидронима Атасу (ата –
отец, предок). Приведем казахскую легенду, записанную отцом выдающегося
исследователя фольклора тюрко-монгольских народов Г. Н. Потанина – есаулом
Н. И. Потаниным: «Атасу – отцовская вода, отцовские слезы. К этому урочищу при-
надлежит кайсацкое (казахское – М. С. ) предание, что один юноша Чек бежал со своей
любовницей из аула ее отца и был на этом месте догнан (ее) отцом, который выстрелил
в них из лука. Девушка заслонила собой своего любовника и сделалась жертвой своей
любви. Чек удалился на ближайшую гору, а отец подъехал к холодному трупу (дочери)
и стал оплакивать ее. Слезы его были так обильны, что из них составилась целая река,
не иссякающая доселе и названная Атасу. Воды эти понесли труп девушки как раз мимо
горы, на которой стоял Чек, и мёртвая, проплывая мимо него, произнесла в последний раз:
«Будь здоров, Чек!» («Чек, аман!» по-кайсацки). Отсюда произошло (и) название гор
Чекаман (Шокаман)» [Валиханов, 1964. С. 214]. В легенде этой отразились древнейшие
представления человека о местонахождении «страны мертвых» на севере, на что указывает
направление течения реки Атасу (северное); о месте обитания духа предков (ата)
в низовье реки, куда уносит вода тело мертвой девушки.
На берегах рек, текущих в сторону «страны мёртвых» в контексте связи мира
мёртвых, находящегося на западе либо на севе ре, и соответствующим направлением
течения рек следует от метить, что наличие синкретизма в религиозных представлениях
позволяет в обрядах поклонения духу реки (воды) проследить проявление и культа
предков. В частности, в жертвоприношении бычка духу р. Абакан можно увидеть
проявление культа предков (аба – предок; кан – река), так как река те чет на север, в низовьях
которой обитают души умерших. В кыргызском обычае жертвоприношения божеству
Джер-Суу (Земли-Воды), когда молящиеся становятся лицом на запад, т.е. в сторону,
где обитают духи предков, обнаруживаются не только общие с хакасскими элементы
поклонения духу воды, но и почитание духов предков. Указанный аспект объясняет
общность происхождения наименований азербайджанской реки Атачай, казахской
реки Атасу, хакасской реки Абакан, текущих на север.
97
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Древнетюркское поклонение востоку отразилось в турецкой легенде о Меркез-
эфенди, в которой он посылает к султану Селиму I (1512–1520) сватов, чтобы жениться
на его дочери. На что султан выдвинул условие: «Если Меркез-эфенди навьючит
мне верблюдов, что на рав нине, золотом, тогда я выдам за него свою дочь». Меркез-
эфенди нагрузил верблюдов землей с восточной стороны своего подземелья,
где он проводил дни и ночи в молитвах, и послал к султану. Дорогой земля обратилась
в золото [Гордлевский, 1960. С. 327]. Благоговейное отно шение турков к востоку,
по всей вероятности, сказалось и в наречении реки Мутлу (Mutlu) – «счастливая», текущей
строго на восток и впадающей в Черное море (Румелия). Такой же принцип наречения
имел место и в Казахстане. Так, реку, текущую на «счастливый» восток называют
Жаксы Кон (жаксы – хорошая, добрая), что демонстрирует сохранившееся у казахов
почитание востока в противовес наименованию текущей на север реки Жаман (плохая)
Кон, в которую она впадает.
Таким образом, фольклорные и этнографические материалы тюркских
народов, в частности азербайджанские, казахские, кыргызские, турецкие; археоло-
гические (алтайские, хакасские); лингвистические (древнетюркские, азербайджан-
ские, казахские, кыргызские), рассмотренные в совокупности, дают возможность
объяснить наименования рек, текущих вдоль условной оси запад–восток и/или север-
юг в связи с локализацией «страны мертвых». Этот вывод наглядно под твер ж дается
азербайджанскими, казахскими, кыргызскими, кумыкс кими, турецкими, хакасскими
топонимами (гидронимами), где названия рек до сих пор сохранили в своем имени
направление в «страну мертвых» (терс, кайту, кайра).
Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи.
Фрунзе, 1990.
Аджигалиев С. И. Генезис традиционной погребально-культовой архитектуры
Западного Казахстана: (на основе исследования малых форм). Алматы, 1994.
Алтын-Арыг. Хакасский героический эпос. М., 1988.
Азербайджанские сказки. Баку, 1950.
Валиханов Ч. Ч. Следы шаманства у киргизов / Собрание сочинений в пяти
томах. Т. I. Алма-Ата, 1961.
Валиханов Ч. Ч. Несколько маршрутов Потанина (Дороги через Голодную
степь) / Собрание сочинений в пяти томах. Т. III. Алма-Ата, 1964.
Гордлевский В. А. Сказания и легенды / Избранные сочинения. Т. I. М., 1960.
98
ЧАСТЬ 1
Древнетюркский словарь. Л.: «Наука», 1969.
Липский А. К вопросу об использовании этнографии для интерпретации
археологических материалов // Советская этнография. 1966. №1.
Нестеров С. П. Конь в культах тюркоязычных племен Центральной Азии
в эпоху средневековья. Новосибирск, 1990.
99
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Т. Д. СКРЫННИКОВА
ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧИНГИС-ХАНА В ТОПОНИМИКЕ БУРЯТ
В постсоветском пространстве образ Чингис-хана, значительной личности
в мировой истории, становится одной из важнейших парадигм этнонационального
дискурса, т.е. особого языка, в котором в качестве слов выступают символы-марке-
ры этнической коллективной культурной памяти, которые становятся интегратора-
ми пространственно-временного континуума. Хронотоп культурного мира – общие
предки, культурный герой, великая история – в ревитализованных образах этно-
групповой памяти приобретает качества неомифа с имманентно присущими ему
характеристиками современных идеологем о защите общей/своей земли. Это не-
избежно подразумевает сохранение и упрочение этнополитической государствен-
ности.
В моделировании своего пространства, центром которого является Чингис-
хан, участвуют интеллектуальные и творческие элиты. В этом контексте представ-
ляют интерес спектакли, представленные на прошедшем 28 октября – 4 ноября
2005 года в г. Улан-Удэ Первом кочевом международном театральном фестивале
«Желанный берег», тема которого – «Лики Чингисхана». Из тринадцати спекта-
клей этого фестиваля восемь посвящены Монгольской империи и ее основателю:
«Чингисхан» Б. Гаврилова (Бурятский Государственный Академический театр дра-
мы им. Х. Намсараева), «Кто ты, Субедей?» Э. Мижит (Тувинский Государственный
музыкально-драматический театр им. В. Кок-оола), «Любовь Чингисхана» К. Чако
(Хакасский национальный театр им. А. М. Топанова), «Композиция о Чингис-хане»
(Хулэн-Буирский ансамбль песни и танца г. Хайлар, КНР), «Друг мой, Тэмуджин»
П. Дарваева (Калмыцкий Государственный драматический театр им. Б. Басанго-
ва), «Последнее море Чингисхана» Н. Абдыкадырова (Башкирский Академический
драматический театр им. М. Гафури), «Темуужин» С. Жаргалсайхана (Монгольский
государственный театр им. Д. Нацагдоржа), «По велению Чингисхана» Н. Лугинова
(Саха Академический театр им. П. Ойунского).
За год до фестиваля его организатор Андрей Борисов в интервью Валерию
Коровину говорил: «Я предложил провести «кочующий фестиваль», который будет
перемещаться из города в город. …Олонхо – это якутский эпос… Мать Чингиз-Ха-
на была из племени Олонхосутов. Олонхосут – это эпический певец… …всё есть
в Олонхо – опера, балет. Хотя мы всё это фрагментарно берём с Запада. При этом
100
ЧАСТЬ 1
основное отличие в том, что в эпосе есть сакральность, которая в современном ис-
кусстве утрачена, остаётся только форма... Это и есть фундамент для Евразийского
творческого союза» [Борисов, 2004]. Сакральный текст олонхо, исполнение которого
создает пространство своего мира – его исполнитель олонхосут (центральная фигу-
ра) – приписывание генетического родства с ними матери Чингис-хана – Чингис-
хан как центральная идея фестиваля, – вот мифологемы, через которые модели-
руется Евразийское пространство больше чем фестиваля. Так образ Чингис-хана
в современных идентификационных практиках может использоваться как в кон-
струировании якутского этнонационального дискурса, так и в моделировании бо-
лее широких общностей, например, Евразийского пространства, что подтверждает
и география театральных коллективов.
И, конечно, участникам данной конференции хорошо известно значение об-
раза Чингис-хана в казахском этнонациональном дискурсе. Я бы хотела напомнить
о статье Ербола Жумагулова, инспирировавшей появление статьи «Чингис-хан был
бурятом». «По официальным данным, Чингисхан (настоящее имя – Темучин) ро-
дился на территории современной Монголии в 1155 году в роду кият. Как извест-
но, в 1206 году во время курултая (всеобщего собрания правителей родов) Темучи-
на провозгласили ханом и дали ему новое имя – Чингисхан (хан Востока). И беря
во внимание то, что участниками курултая были казахские роды кият, меркит,
жалаир и аргын, ученые утверждают, что Чингисхан был казахом.
При этом вышеперечисленные роды действительно считаются казахскими,
но выходцев из этих племен принято называть “казахами монгольского происхож-
дения”…. “монголы вообще никакого отношения к Чингисхану не имеют, так как
на той территории в это время они не жили, поэтому сам факт деления казахов
на казахов монгольского происхождения и казахского происхождения нонсенс”, –
говорит главный организатор конференции профессор Кайрат Закирьянов. …Еще
одним серьезным доказательством того, что Чингисхан казах, ученые считают то,
что практически все чингисиды (прямые потомки Чингисхана) были казахами,
правившими казахским государством вплоть до начала двадцатого века» [Жумагу-
лов, 2003. С. 5]. И автор статьи предлагает объяснение ситуации: «Если пытаться
вникнуть в суть причин, которые толкают китайских и казахстанских историков
на подобного рода маневры в процессе отбивания у монголов, казалось бы, бесспор-
ного предка, они предельно ясны. Казахстан, как государство молодое, за тринад-
цать лет независимости так ничем и не заполнил идеологическую нишу. Поэтому
чрезвычайно важна фигура именно Чингисхана, ибо она может быть “заложена”
в фундамент евразийства. …в стране этот вопрос грозит приобрести чуть ли не иде-
ологическую основу… Чингисхану приписывается сохранение казахского этноса,
так как именно он, как твердят ученые мужи, собрал всех казахов вместе и пере-
селил с территории современной Монголии туда, где и значится сегодня Казахстан.
Таким образом, выходит, что казахская государственность стала формироваться
101
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
именно по идее Чингисхана в начале XIII века, а не в середине XVI, как считалось
раньше. А это уже не шутки. Иными словами, пока монголы мирно пасут свои стада
и ждут дня священного юбилея, предприимчивые соседи заняты трудом по карди-
нальному изменению исторических фактов. Конференция в Алма-Ате – это очень
показательный и весомый шаг, показывающий, что биться и те, и другие за рыже-
бородого “потрясателя” будут всерьез» [там же].
Для лидеров бурятского национального возрождения постсоветского пери-
ода в конструировании идеологии бурятского национализма наиболее значимой
становится парадигма бурят-монгол/Бурят-Монголия. Требование восстановить
утраченное в 1958 г. название республики (Бурят-Монгольская автономная совет-
ская социалистическая республика) основывается на необходимости ревитализи-
ровать историческую, политическую и культурную память, связывающую бурят
с монгольским миром и его великой историей, а самих бурят – сблизить (и даже
отождествить) с монголами: «Представляется, что восстановление исконного назва-
ния (Бурят-Монголия. – Т. С.) откроет определенные перспективы в возрождении
и углублении национальной основы нашего языка, культуры в целом... Восстановив
название Бурят-Монгольский, мы признаем, что буряты имели древнюю культуру,
созданную совместно с другими монгольскими народами. Этот акт будет способ-
ствовать расширению контактов между ними, укрепит их дружбу и сотрудниче-
ство, прежде всего, в области культуры и языка» [Чимитдоржиев, 1991. С. 50]
В историко-культурном дискурсе соотнесение истории бурят с историей Мон-
гольской империи приобретает все большее значение. Образ Чингис-хана, активно
используемый в современном конструировании национальной идентичности, явля-
ется одним из важнейших для исторического и национального сознания бурят, как
и монголов, «национальных» образов, сохраняющих конституирующее значение.
Под образом Чингис-хана имеются в виду генеральные черты мифа, конструируе-
мого интеллектуальной и творческой элитами в процессе национально-культурно-
го возрождения. Выявление того, какие элементы этого образа «работают» на со-
творение своего мира, и является задачей данной публикации. Когда в 1992 г. в свя-
зи с торжествами, посвященными 830-летию со дня рождении Чингис-хана, демон-
стрировался 4-х серийный монголо-японский фильм «Мунх тэнгрийн хучин дур»
(«Силою вечного Неба»), газета Бурятии писала: «Огромный интерес к фильму объ-
ясним: это интерес к национальной истории (здесь и ниже выделено мною. – Т. С.),
к яркой и противоречивой личности Чингис-хана, “святыне монгольских народов”;
это стремление постичь историческую и неотъемлемую от нее нравственную исти-
ну» [Чимитдоржиев, 2003. С. 131].
Образ Чингис-хана, активно используемый в современном дискурсе нацио-
нальной идентичности, становится одним из важнейших «национальных» образов,
конструируемых интеллектуальной и творческой элитами. В историко-культурном
дискурсе образ Чингис-хана прописывается разносторонне и подробно: с одной
102
ЧАСТЬ 1
стороны, разворачивается характеристика его человеческих черт и качеств, кото-
рые маркируются положительной валентностью, прежде всего его ипостась героя,
воина-полководца. Является знаковым название книги бурятского автора Ялбак
Халбая – «Чингисхан – гений», характеризующего его как личность, сумевшую пра-
вильно понять исторические потребности, условия развития тогдашнего общества.
Автор подчеркивает, что ни один бурят, монгол и калмык не пройдут мимо лично-
сти Чингис-хана [там же. С. 132].
Принадлежность Чингис-хана всему монгольскому миру – одна из главных
черт историко-культурного дискурса национального возрождения. В нем выделя-
ется заслуга Чингис-хана по объединению монгольских племен, составивших ядро
Монгольской империи. С другой стороны, он все больше становится выражением/
воплощением государственности и приобретает черты абстрактного идеального
властителя – вождя и стратега. Наиболее расширенной интерпретации подвергают-
ся знаки и символы Монгольской империи, приобретающие в современном дискур-
се национального возрождения глобализирующие черты, чему способствует и вос-
приятие пространства империи, реально занимавшей значительную часть Евразии.
«Лидер монголов был одержим идеей создания единого царства, где торжествовали
бы закон и справедливость, свобода совести и веротерпимость» [Убеев, 2001. С. 13].
Глобализирующий характер деятельности Чингис-хана подчеркивается в за-
метной части публикаций. Ссылаясь на Эрэнжен Хара-Дабана, С. Ш. Чагдуров пи-
шет, что Чингис-хан стал думать о завоевании мира, «чтобы установить для всего
Человечества эру идеального общемирового порядка и благоденствия, когда “прекра-
тятся взаимные войны и создадутся условия для мирного процветания человече-
ства как в области духовной, так и материальной культуры”» [Чагдуров, 2003. С. 50].
Ему вторит Б. Б. Дашибалов (археолог, доктор исторических наук): «Монголы XIII
века были носителями идеи евразийства, они разрушали замкнутость, косность со-
знания, религиозную нетерпимость и создавали открытое евразийское простран-
ство и планетарное мировоззрение. …Громадное государство Чингисхана просуще-
ствовало более 200 лет потому, что его жители обрели справедливость, закон и по-
рядок» [Махачкеев, 2003. С. 15].
Разрушения, неизбежные при завоевательных войнах, интерпретируется
как подготовка перехода к новому этапу: «В ходе этих вторжений они – предки на-
ших коренных народов республики (бурят-монголы, хамниганы, сойоты. – Т. С. ) –
не только разрушали более высокие, чем у них («более цивилизованные оседлые
земли». – С. Ч. ), центры цивилизаций Ирана, Китая и других христианских, ислам-
ских и буддийских стран, но тут же все восстанавливали, воздвигая на развалинах
разрушенного более эффективное государственное и политическое устройство, бо-
лее устойчивую экономику, более емкую культуру (выделено мной. – Т. С. )» [Чагду-
ров, 2003. С. 48–49]. Естественно, что в этой перспективе период Монгольской им-
перии воспринимается как «Золотой век» истории человечества.
103
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В националистическом историко-культурном дискурсе можно выделить сле-
дующие основные идеи. Прежде всего, это констатация создания обширного еди-
ного пространства, наделяемого качествами евразийского (= планетарного) значе-
ния, под эгидой выдающегося правителя, т.е. нового своего мира. Причем границы
ядра, участвовавшего в его создании, моделируются достаточно широко: как этни-
ческие – монгольские народы (бурят, монгол, калмык), как территориальные – на-
роды, населяющие Прибайкалье (бурят-монголы, хамниганы, сойоты), как цивили-
зационные – кочевые племена. Характерной чертой этого мира является его упоря-
доченность (=космологизированность), что определяет и его цивилизующую функ-
цию, распространяющуюся на весь мир.
Известно, что космологизация пространства начинается с его сакрали-
зации – установления Центра. Согласно традиционным представлениям, чело-
век (социум) располагается в Центре мира – наиболее сакрализованном локусе,
что предполагает проявление какой-либо иерофании, некоего вторжения священ-
ного. Эта тема также широко представлена в бурятском историко-культурном дис-
курсе национального возрождения конца ХХ века, в нем актуализируются черты
сакрального правителя, способного космологизировать пространство. Прежде все-
го, сакрален сам Чингис-хан («священный предок»). Соответственно, космологизи-
рующую функцию выполняет территория, с которой связано его рождение, что яв-
ляется эксплицитным выражением порождающего центра (Axis mundi) – пупа Зем-
ли, откуда происходит благо.
В современном этнонациональном дискурсе обнаруживаются, зачастую
без ссылки на источник, аллюзии, связывающие рождение Чингис-хана с террито-
рией проживания бурят. Именно так моделирует пространство доктор философских
наук И. С. Урбанаева: «Еще одно важное значение Баргуджин-токум как сакральной
территории монголов выявляется в “Тайной истории монголов”, где встречается на-
звание “Колбаргучжин-догум”. …термин кул (гул) или кол (монг.-тюрк.), имевший
широкое распространение в тюрко-монгольском мире, в качестве значений обла-
дал смыслом “центр”… Баргуджин-токум, являвшаяся, как мы полагаем, “центром
страны Баргу”, имела для “коренных монголов” особое значение, потому что кор-
ни Чингисхана по линии Алан-гоа уходили в эти места, в “центр страны Баргу”.
Вся же “страна Баргу” простиралась на Восток вплоть до Онона, где родился Чин-
гисхан» [Урбанаева, 1995. С. 192–193]. Интерпретация автором монгольского слова
гол приобретает знаковый характер, именно передача его значением центр, позво-
ляет ей говорить об особой сакральности территории.
Активно в моделирование своего пространства через помещение в его центр
бурятских территорий участвуют и представители творческой элиты, неудовлет-
воренные результатами работы ученых. «В исторической литературе нет точного
указания географического расположения топонима “Баргуджин-токум”», – пишет
член Союза писателей России А. Гатапов и предлагает свое видение проблемы,
104
ЧАСТЬ 1
не соглашаясь с теми, кто в это понятие включает регион от Саян до Забайкалья.
Он считает местом рождения Алан-Гоа, младшим сыном которой был Бодончар,
предок Чингис-хана, не всю территорию вокруг Байкала, а лишь долину р. Баргузин
[Гатапов, 2003. С. 6].
Поданные как научные гипотезы мифологемы предлагают «повнимательнее
отнестись к Саяно-Байкальскому региону как наиболее вероятному древнейшему
отечеству монголов» [Ангархаев, 2003. С. 70] или рассмотреть вероятность того,
что родиной Чингис-хана является этническая Бурятия [Дамдинов, 2003. С. 72–75].
В частности, Ч. Д. Гомбоин настаивает на том, что Чингис-хан был похоронен «на
реке Онон близ горы Делюн-Болдок, в местности Ихэ-Арал», т.е. на территории
Агинского автономного округа Читинской области, в «тоонто-нютаг», на месте сво-
его рождения [Гомбоин, 2002. С. 49].
Более того, эти мифологемы становятся «бесспорным фактом»: «Чингисхан
родился в октябре 1155 года в урочище Делюн-Болдок на реке Онон…. Это место
и сейчас сохраняет свое название и находится неподалеку от села Цасучей, центра
Ононского района Читинской области» [Доржиев, 2006. С. 6]. Более того, имеет ме-
сто и совершенно явная приватизация образа, что выразил доктор исторических
наук, археолог Б. Б. Дашибалов в одном из опубликованных интервью: «“Сокровен-
ное сказание монголов” начинается с перечисления предков. Прародительница чин-
гисидов Алан-Гоа родилась на хори-туматской земле Баргуджин-Токум, простирав-
шейся вокруг Байкала. Предком Чингисхана по материнской линии был Хорилар-
тай-Мэргэн – хоринский бурят. Следовательно, Чингис-хан родился среди хоринских
монголов, которые издавна кочевали по берегам реки Онон. Член-корреспондент
РАН, археолог С. В. Киселев указывал местом его рождения урочище Делюн-Болдок
в Аге. Такое же урочище есть и по другую сторону границы, в Монголии, где тоже
проживают буряты хоринского происхождения. Эти два места расположены неда-
леко друг от друга, а границы, разделяющей их раньше, не было. Поэтому Чингис-
хана можно с полным правом назвать бурятом» [Махачкеев, 2003. С. 15].
В рамках дискурса национально-культурного возрождения актуализируются
наряду с местом рождения и другие маркеры центра и связанные с ними представ-
ления. Прежде всего выделяются территории, обладающие наивысшей сакрально-
стью, – трон/престол, место захоронения, места, где Чингис-хан побывал. Никто
не оспаривает локализации места, где Чингис-хан был возведен в ханы. Но посколь-
ку престол как сакральный центр общности имел особое значение для ее сохране-
ния, ревитализуются и актуализируются предания, приписывающие природному
объекту на территории Бурятии связь с Чингис-ханом. «Остановимся на одном при-
родно-историческом объекте, называемом в народе “престол Чингис-хана” (“Чингис
хаанай шэрээ”). Это огромный камень… имеет с одной стороны “стул-сиденье”…
Он лежит у самого подножия одной из вершин Саянских гор, называемой Ханда-
гайтын Ундэр, на высоком (метров 10) отвесном берегу реки Баруун Хандагайта
105
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
на довольно ровном месте… Это издревле почитаемое место в Тунке, связанное
с именем Чингисхана и, как утверждают, с его деятельностью. Считается, что он
в самом деле восседал на этом троне, за этим “столом”, исполняя ритуальные дей-
ствия» [Ангархаев, 2003. С. 62–63]. Сакрализованность локуса престола усиливается
и его местоположением – у подножия Саян, которые сами по себе являлись священ-
ными для бурят.
Специфической чертой «изобретаемой традиции» является отсутствие чет-
кой границы между научной интерпретацией (через реконструкцию) прошлого
и его модернизированной версией, обусловленной националистически идеологизи-
рованным дискурсом процесса национально-культурного возрождения. Примером
«изобретения традиции» в статье А. Л. Ангархаева, в которой он присваивает Чин-
гис-хана, связывая его с бурятской почвой, являются его рассуждения об этимоло-
гии Эргунэ-кун, которые приводят его к выводу о том, что Эргунэ-кун – это р. Ир-
кут, что служит доказательством монгольской и бурятской общности «крови и поч-
вы» [там же. С. 69]. В это же время И. С. Урбанаева предлагает считать, что Эргунэ-
кун связана с рекой Селенга, где выше села Ново-Селенгинск находится гора Дош
(«наковальня»), с которой «местные буряты связывают предание о том, что здесь
Чингис-хан ковал железо. Здесь до недавних пор сохранялся кузнечный культ. Не-
трудно увидеть связь этих представлений с древнемонгольским преданием о том,
что предки “коренных монголов” (дарлекинов) вышли из теснины, расплавив гору»
[Урбанаева, 1995. С. 194]. По ее мнению, «гипотеза о мэн-у, переселившихся якобы,
с Амура на запад вплоть до Байкала и сменивших образ жизни и весь этнокуль-
турный облик, положивших начало монгольской истории, выглядит произвольной
и необоснованной» [там же. С. 185].
Сакрализующее значение имеет и пребывание Чингис-хана на территори-
ях современного проживания бурят, что было связано с его военными походами
и нашло отражение в сохранившихся преданиях. «Фольклор в Закамне деталь-
но отражает походы Чингисхана, названия местностей Сагаан Морин и Улекчин
прямо связывают с конем Чингисхана и собакой, встреченной им по пути» [Ан-
гархаев, 2003. С. 62]. Подобные мифологемы становятся элементами возрожден-
ной памяти: «В окрестностях Шанаги (улус в Бичурском районе Бурятии. – Т. С. )
будто бы был утерян не то ковш, не то поварешка величайшего полководца всех
времен и народов, а в соседней Аяге – чашка. Уроженцы тех мест нередко обла-
дали рысьей расцветкой глаз, а также присущей их предкам твердостью духа»
[Цибудеева, 2006. С. 6], когда форма природных объектов определяют их имя, ко-
торое, в свою очередь, связывается с Чингис-ханом.
Продолжает конструирование своего пространства через образ Чингис-хана
в связи с его деятельностью и журналист Ч. Д. Гомбоин, который пишет, что непода-
леку от горы Барисан в месте Сэргэ Обо «на вершине Хамар-Дабана находится зна-
менитое место Обо Чингисхана. И существует версия, что Обо сложено по приказу
106
ЧАСТЬ 1
Великого императора в честь его предков Бурдун Шино» [Гомбоин, 2002. С. 548].
В этом тексте эксплицитно представлен процесс конструирования социокультурно-
го пространства: начав с констатации существования обо как объекта, сооружен-
ного Чингис-ханом, автор, ссылаясь на предание, уже обозначает эту территорию
как символ семейного очага чингисидов. Распространенность образов коновязи
(сэргэ), груды камней (обо) и барисан как символов Axis mundi – Центра Мира, а так-
же обозначение упомянутой территории как родового стойбища позволяет предпо-
ложить, что автор в данном случае локализует родину Чингис-хана и его предков
на Хамар-Дабане.
Одновременно Ч. Д. Гомбоин связывает эту территорию с местом захоро-
нения – Их хориг. «Еще при своей жизни основатель Великой Монгольской им-
перии узаконил своей Ясой заповедность места захоронения своих предков (здесь
и далее выделено мной. – Т. С. ), в том числе и Байкальский регион как земли, где
жили Буртэ-Чино и Гоа-Марал. …Правомерным будет предположить, что заповед-
ная зона Их-Хориг не только Бурхан Халдун, …но и другие места в пределах Ве-
ликой Монгольской империи, в том числе и Байкальский регион, долина Селенги»
[Гомбоин, 2002. С. 547]. «И находится Их-хориг в предгорьях Малого Хамар-Дабана
на территории Республики Бурятия» [там же. С. 551]. Локализация Их хориг на тер-
ритории Бурятии является важным шагом в развитии идеи общности «крови и поч-
вы». Захоронения выдающихся предков (первопредков) имели большое значение
в сакрализации пространства. Именно предки соединяли все части космоса в про-
странстве и во времени, поскольку они находились в центре космологической мо-
дели мира.
Вследствие подобного конструирования пространства сакральный центр
Монгольской империи связывается с территорией Бурятии. Показательным в этом
контексте становится точка зрения Б. Б. Дашибалова: «Можем ли мы говорить,
что Чингисхан был бурятом? Нужно сразу оговориться, что в то время бурятский
народ в его сегодняшнем виде не существовал. А были племена хори-монголов, бу-
лагачинов (булагатов) и керемучинов (эхиритов), которые сейчас стали частью бу-
рятского этноса. Эти факты позволяют ответить на поставленный вопрос утверди-
тельно. Да, он был бурятом!» [Махачкеев, 2003. С. 15], хотя в той же статье говори-
лось о том, что Чингис-хан «был вне этнических рамок».
Достаточно архетипичное для традиционного сознаниия обоснование единс-
тва, в нашем случае бурят с монголами, через общее происхождение («кровное род-
ство») и общую территорию («родная земля»), известные как тема Blut und Boden,
трансформируется, меняет вектор: ведутся достаточно активно поиски доказа-
тельств принадлежности Чингис-хана бурятской земле и бурятской крови. Иссле-
дование современного бурятского неомифа позволяет утверждать, что образ Чин-
гис-хана остается приоритетным в идеологии бурятского национализма, констру-
ирующей коллективные образы истории и границы коллективной идентичности,
107
ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
по-новому очерчивая границы «национального тела». И этнонациональные элиты
достигли успеха в создании националистического проекта посредством конструи-
рования национального текста, близкого, доступного и актуального для каждого.
Ангархаев А. Л. «Престол Чингисхана» (К вопросу о прародине монголов) //
Чингисхан и судьбы народов Евразии. Материалы международной научной кон-
ференции. 3-5 октября 2002 г. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2003.
С. 62–71.
Гатапов А. Алан-Гоа родилась на хори-туматской земле, или Не все Забайка-
лье называлось БАРГУДЖИН-ТОКУМОМ // Бурятия. 12 июля 2003 г. № 126. С. 6.
Гомбоин Ч. Их-хориг – великая заповедная зона древних монголов // Сокро-
вища культуры Бурятии. Наследие народов Российской федерации. М.; Улан-Удэ,
2002. С. 49.
Дамдинов Д. Г. Делюн-Бодок – место рождения великого Чингисхана // Чин-
гисхан и судьбы народов Евразии. Материалы международной научной конфе-
ренции. 3-5 октября 2002 г. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2003.
С. 72–75.
Доржиев А. Тайна великого забайкальца // Регион Культ Инфо. Культурно-ин-
формационный еженедельник. 2006. 29 июня. С. 6.
Жумагулов Е. Кому достанется Чингис-хан. Этническое происхождение вели-
кого полководца поставлено под сомнение // Известия, 4 октября 2003 г. С. 5.
Махачкеев А. Чингисхан был бурятом // ИнформПолис. 15 октября 2003 г.
С. 15.
Убеев Ю. Знаки революций // Правда Бурятии. 18 мая 2001 г. С. 13.
Урбанаева И. С. Человек у Байкала и мир Центральной Азии: философия
истории. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского научного центра, 1995.
Цибудеева Н. Тепло отеческой любви продолжает согревать меня // Бурятия,
2006. С. 6.
Чагдуров С. Ш. «Золотой век» в истории человечества // Чингис-хан и судьбы
народов Евразии. Материалы международной научной конференции. 3-5 октября
2002 г. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2003. С. 50.
Чимитдоржиев Ш. Б. Бурят-монголы: история и современность (очерки).
Раздумья монголоведа. Улан-Удэ, 2000.
Чимитдоржиев Ш. Б. Кто мы – бурят-монголы? Улан-Удэ, 1991. С. 50.
108
Чимитдоржиев Ш. Б. Чингисхан и его эпоха в монголоведной литературе //
Чингисхан и судьбы народов Евразии. Материалы международной научной конфе-
ренции. 3-5 октября 2002 г. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2003.
Борисов А. С. Олонхо – добро против мира победившего зла. 10.11.2004 /
http://evrazia.org/modules.php?name=New&fi le=article&sid=2038.
109
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
А. Р. ХАЗБУЛАТОВ
МИР КОЧЕВНИКОВ И МИР ИСКУССТВА:ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ В СИСТЕМЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ КООРДИНАТ
ДРЕВНИХ НОМАДОВ
Хронотоп в культуре и соответственно в искусстве является одним из фун-
даментальных понятий. Результатом особого синтеза пространственно-временных
концептов видится формирование целостной «модели мира» посредством конкрет-
ных предметных форм. В фокусе этого небольшого исследования находится скифо-
сакский художественный металл как визуальная форма уникальной модели хроно-
топа ранних кочевников Центральной Азии – звериного стиля.
Самобытный образ жизни номадов обусловил сложение специфических ми-
ровоззренческих императивов, сохраняющих свою силу и значение до сих пор. В на-
учном контексте мир кочевья до недавнего времени мерк перед оседлым, потому
что к ним применялся одинаковый подход, несмотря на глобальную разность в си-
стемах. Более того, изучение феномена номадизма часто производилось на фоне
оседлых культур, и не в пользу первых. Также бытовало устойчивое мнение, что эти
миры кардинально изолированы друг от друга без всяких внутренних взаимосвя-
зей, кроме элементарно обусловленных антропологических, географических и т.п.
Современный исследователь номадизма А. М. Хазанов высказывает такую
точку зрения: «главное, кочевники никогда не могли существовать сами по себе,
без внешнего мира, представленного некочевыми обществами с иными системами
хозяйства. Напротив, кочевые общества могли функционировать лишь до тех пор,
пока тот внешний мир не только существовал, но и предоставлял возможности –
социальные, политические, экономические, культурные, словом, всесторонние –
для того, чтобы кочевники оставались кочевниками» [Хазанов, 2008. С. 50].
То есть именно в параллельном гармоничном сосуществовании обоих миров
был залог уникальности каждого из них. Можно сказать, они дополняли друг дру-
га, не противореча своей внутренней природе. Представления некоторых ученых
о кочевниках как о замкнутой закрытой кольцевой структуре, имевшие место еще
в ХХ веке, были весьма пристрастны.
А. Тойнби заявлял относительно кочевников: «В этом всемирном обществе
с его динамичной экономикой нет места для недоразвитой цивилизации и за-
стойной экономики кочевых союзов, повторяющих вечно и неизменно свое дви-
жение по замкнутому кругу, проходя через одни и те же фазы годичных циклов»
110
ЧАСТЬ 2
[Турсунов, 1993. С. 98]. Однако Тойнби изучал только устоявшиеся, на его взгляд,
«проверенные временем» цивилизации, практически все представляющие оседлый
мир, в то время как о номадах сведений было не так много.
Сейчас уникум номадов представляет собой огромную малоисследованную
область, так как его особенность заключается в распространенности практически во
всех частях света, в тесных взаимосвязях с различными обществами и культурами.
Одной из самых интересных черт этого явления видится открытость нома-
дов окружающему их миру, понимание и осознание единства, несмотря на раз-
ность в образе жизни. «Главный феномен номадизма, на мой взгляд, – подчерки-
вает А. М. Хазанов – и заключается в его неразрывной и необходимой (коль скоро
он остается номадизмом) связи с внешним миром, т.е. с иными в экономическом,
культурном и социально-политическом отношениях обществами» [Хазанов, 2008.
С. 50]. Ярким примером тому может служить казахская кочевая культура. Г. К. Ша-
лабаева отмечает, что «казахская цивилизация складывалась на базе уникального
сопряжения, соединения кочевых и земледельческих особенностей» [Шалабаева,
2007. С. 219].
Н. Н. Крадин высказывает сходную точку зрения. Он пишет, что, учитывая
массу фактологических материалов, «ученым давно пора отказаться от устойчивых
стереотипов, сложившихся со времени классического эволюционизма и обобщен-
ных Г. Чайлдом, согласно которым возникновение цивилизации всегда должно со-
провождаться появлением письменности и урбанизации. Кочевые общества служат
наглядным примером необходимости корректировки общепринятых представле-
ний» [Крадин, 2007. С. 82].
Скорее всего, как раз это и объясняет формирование и последующий гене-
зис специфических культурных парадигм, свойственных кочевникам, где наибо-
лее герметичной является звериный стиль. Хазанов отмечает, что звериный стиль
«бесспорно, является одним из выдающихся достижений кочевого мира. И семан-
тика была весьма сложной и отражала как эстетические концепции кочевников,
так и их религиозные воззрения и систему ценностей. Иначе говоря, звериный
стиль отражал их мировоззрение» [Хазанов, 2000. С. 466].
Кочевая культура характеризуется исключительной общей стабильностью,
что не мешает ей внутри быть подвижной, изменчивой. Это своего рода макрокосм,
некое тело, состоящее из живых пульсирующих органов, имеющих разное предна-
значение, строение, жизненный ритм, но объединенных общей формой. Десятки
этносов с их собственными самобытными культурами существуют под единым зна-
менателем – кочевьем.
Основной причиной этого является природно-климатический фактор, обу-
словивший именно такой образ жизни и, следовательно, мышления. Широта вос-
приятия, являющаяся результатом многовековой жизни на огромных территориях,
сформировала особое мировидение, основанное на антитезе времени-пространства,
111
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
макрокосма-микрокосма. Звериный стиль стал единственно адекватным образным
языком, наиболее объективно выражающим все важнейшие космогонические и быто-
вые компоненты философии и социальной жизни кочевников. В самом названии сти-
ля – «звериный» – уже заложены конкретные мыслеформы и их визуальные аналоги.
Это в корне отличается от доминанты геометрических и растительных обра-
зов в искусстве оседлых народов. Чем же это можно объяснить? Р. Генон утверждал,
что «деятельность кочевников осуществляется специальным образом в животном
мире, мобильном, как и они; напротив, именно у оседлых в качестве непосредствен-
ного объекта принимаются фиксированные растительный и минеральный миры»
[Генон, 2003. С. 157]. В глубине этой дифференциации мы обнаружим философский
вариант пространственно-временного континуума, где высшая диалектика уравни-
вает обе стороны. Именно поэтому звериный стиль как пространственная фикса-
ция животного мира наиболее ярко персонифицирует картину мира центральноа-
зиатских кочевников.
Звериный стиль по праву занимает особое место в сокровищнице мирового
искусства не только ввиду самобытной иконографии, но как образец художествен-
ного осмысления уникального хронотопа, присущего общности разных этносов,
объединенных одним информационным полем.
Археологические исследования доказали, что в центральноазиатском про-
странстве звериный стиль может быть выражен более или менее ярко, но он – не-
отъемлемая часть всего мира кочевников континента. Более того, имея в целом
конкретные временные рамки, он самым существенным образом повлиял на фор-
мирование новых иконографических систем, транслируя в них архетипические ду-
ховные константы. Что же именно лежит в основе столь широкого географического
проявления и такой мощной художественной выразительности?
Полноценное объяснение может дать синтез практических и теоретических
наук, потому что, по справедливому высказыванию Е. Е. Кузьминой, «…археолог
не слышит ни песен, ни сказок, ни плачей, которые записывает этнограф-фолькло-
рист, не присутствует на торжественных церемониях, не видит трудов художника,
не наблюдает за производственным процессом» [Кузьмина , 1986. С. 20].
Какова же историческая позиция скифо-сакского мира в евразийском и цен-
трально-азиатском контекстах? Следует осветить две проблемные области: во-
первых, как широко в географическом плане было распространено влияние ски-
фо-сакского кочевого мира; во-вторых, в каком именно регионе звериный стиль
представлен в наиболее «чистом» виде (что можно рассматривать как поиски его ис-
токов), и какова причина этого.
Традиционная точка зрения гласит, что звериный стиль является квинтэс-
сенцией философско-эстетических представлений кочевых племен, населявших
огромные территории Центральной Азии, практически от Дальнего Востока до За-
падной Европы, и наиболее важное место занимали скифо-сакские племенные
112
ЧАСТЬ 2
союзы. Действительно, пытаясь изучить этногеографию кочевников эпохи бронзы
и железа, невольно сталкиваешься с громадным пластом информации относитель-
но разнообразия этносов, культур, образующих, тем не менее, единое жизненное
прост ранство.
Скорее всего, точкой отсчета следует считать андроновскую культуру.
Н. Э. Масанов пишет, что «древнейшими насельниками Казахстана являлись индо-
иранские племена. В эпоху ранней и средней бронзы, охватывавшую II тысячелетие
до н.э., проживали андроновские племена» [Масанов, Абылхожин, Ерофеева, Алек-
сеенко, Баратова 2001. С. 19]. Здесь говорится о территории Казахстана, но можно
смело утверждать справедливость этого практически для всего центральноазистко-
го региона.
В рамках андроновской существовало немалое количество местных культур,
имеющих свои специфические признаки, но все они были участниками одного эт-
ногенеза. Б. Ирмуханов отмечает, что андроновцы «обладали ярко выраженной эт-
нокультурной спецификой, которая явилась исходным этнокультурным субстратом
в этнических процессах» [Ирмуханов, 2009. С. 77]. Этническое разнообразие яви-
лось логическим итогом мощных передвижений индоариев в III тыс. до н.э. Маса-
нов также утверждает, что «большинство ученых считает носителей андроновской
культуры индоиранцами» [Там же. С.21].
Андроновская культура сменила мелкие незначительные очаги, постепенно
осваивая все новые территории, объединяя их общим типом хозяйства и социаль-
ного уклада. Ее справедливо считают периодом расцвета бронзы в Минусинской
котловине, Алтае, Туве. Также «уникальным явлением андроновской культуры яв-
ляется создание великого нефритового пути бронзы. Этот путь один из самых длин-
ных путей древности. Он шел от Прибайкалья, пересекая Обь, Томь, Омь, Иртыш,
Уральские горы, достигая Камы и Волги. Соединил андроновскую Сибирь с Восточ-
ной Европой» [Файзрахманов, 2000. С. 28]. «Путь бронзы» дал начало мощному куль-
турному трафику, пересекающему огромные территории континента и сделавшему
Центральную Азию своеобразным центром, узловым соединением.
Ю. Н. Рерих в своем фундаментальном труде «История Средней Азии» поста-
вил себе цель изложить историю региона не с точки зрения соседних стран, а имен-
но от имени этносов, являющихся его коренными жителями, хотя отсутствие у них
собственных письменных источников значительно затрудняло дело, а мнение со-
предельных государств чаще всего было предвзятым. Древние китайские хрони-
ки I тыс. до н.э. сообщают, что китайцам постоянно приходилось отражать набеги
степных кочевников, которые «создавали особый быт, отражавшийся на культуре
всей эпохи» [Рерих, 2004. С. 124].
Это наглядно демонстрирует, какую силу и влияние имели номады на со-
предельные цивилизации. Обращаясь к истории Китая и оседлых культур восточ-
ноазиатского региона, можно увидеть, что в действительности эти империи всегда
113
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
опасались не столько угрозы территориального захвата, что было достаточно при-
вычным явлением, сколько вторжения в «культурный ген». Поэтому неудивитель-
но, что северный Степной пояс всегда представлял для китайцев постоянную опас-
ность.
Ю. Рерих говорит о нескольких путях миграции скифских кочевых племен,
отдавая должное Геродоту, с одной стороны, и богатейшему археологическому ма-
териалу, принадлежащему самим кочевникам, с другой. Согласно этим источникам
кочевой мир всегда находился в движении, что сообщало ему невероятную мобиль-
ность сознания. Он приводит в пример современных номадов: «мы видим, что ко-
чевое население всегда склонно приспособляться к изменившимся условиям, если
таковые происходят постепенно» [там же. С. 138].
Скифо-сакские племена являются прямыми «наследниками» андроновской
культуры, несмотря на различия в образе жизни (андроновцы в общей массе были
оседлыми). Здесь следует упомянуть, что и скифы, и саки представляют собой схо-
жие по образу жизни и мировидению этносы, все дело в разных исторических ис-
точниках. «Для греков в древности слово «скиф» означало не только принадлеж-
ность к определенному этносу, но и к северным кочевникам вообще, и то же самое
означало слово «тюрк» для ученых Халифата», – пишет А. Хазанов [Хазанов, 2008.
С. 52].
Персы называли северных кочевников саками, а Геродот – скифами. В Бехи-
стунской надписи среди 23 данников Персии определенно фигурирует Скифия, на-
зываемая там «Saka». Тут же перечисляются все известные персам скифо-сакские
племенные союзы: саки-хаомоварга, саки-тигрохауда и саки-парадарайя (скифы за-
морские).
Чуть позже к ним присоединяются савроматы, аргиппеи, аримаспы и «золото
стерегущие грифы». Такое разнообразие можно объяснить только невероятной гео-
графической протяженностью скифского мира и мобильностью его представите-
лей, а подтвердить археологическими артефактами, носящими черты только одной
художественно-образной системы – звериного стиля. Подобное столь стремитель-
ное распространение элементов материальной культуры, в данном случае – ранних
кочевников, должно подразумевать столь же стремительные перемещения ее носи-
телей.
Примечательно, что где бы ни жили скифы, они сразу же формировали во-
круг себя особый мир, где в сжатой, лаконичной форме всегда присутствовали кон-
станты кочевого мировоззрения, воспринимаемые как некий информационный
код. Находясь на своих исконных территориях, или же в бытность на землях с иным
жизненным укладом, древние номады влияли на оседлые народы, которые неза-
метно для себя начинали перенимать их простые и гармоничные взгляды. В. Ф. Гай-
дукевич сообщает, что «элементы местной скифо-сарматской культуры, проникав-
шие в античные рабовладельческие города северного Причерноморья, в частности
114
ЧАСТЬ 2
Боспора, не сразу привели к коренному изменению греческих основ уклада жиз-
ни, но важно, что процесс культурного взаимодействия начался с первых же этапов
жизни городов» [Гайдукевич, 1949. С. 5]. Причем процесс этот был в целом односто-
ронним. Все, что шло вразрез с их картиной мира, скифы просто не воспринима-
ли, хотя в некоторых произведениях искусства причерноморских скифов явственно
ощущается влияние древнегреческой Ольвии, но это не стало устойчивым факто-
ром, а имело скорее эпизодический характер.
Нам доступны и другие сведения о немаловажной роли саков в истории сре-
диземноморского и ближневосточного регионов в античную эпоху. Диадохи-наслед-
ники империи Александра Македонского были чрезвычайно озабочены возрастаю-
щей активностью и силой саков, «которые в это время активно действовали против
селевкидских владений в Средней Азии. Именно против саков была направлена так
называемая экспедиция Демодама. Наряду с саками, даями, парнами и другими на-
родами Средней Азии господству Селевкидов здесь стали угрожать возрастающая
мощь и стремления к независимости греческих наместников» [там же. С. 207].
Самыми западными из всех ираноязычных кочевых племен также считались
сарматы. Жившие в VI–V вв. до н. э. в Степном поясе Центральной Азии и на тер-
ритории современного Казахстана, они вынужденно переселились на Запад, ока-
завшись в итоге в Европе. «Поэтому история этих кочевых племен, особенно тех,
что обитали в степях Северной Азии, должна рассматриваться как составная часть
сарматского прошлого, к народам, обитавшим в казахстанских степях, часто при-
меняют термин «скифы» или «восточные скифы», а тех, кто жил дальше к югу, в сте-
пях Центральной Азии, именуют преимущественно «саками», что представляет со-
бой персидский эквивалент слова «скифы», – поясняет Тадеуш Сулимирский.
Получается, что все Причерноморье, юг современной России, некоторые тер-
ритории Кавказа, области на севере Персии, так или иначе находились под властью
скифов. Многие исследователи еще с древности всех их называли скифами, имея,
однако, четкое мнение по поводу их локализации, разделяя Степи на «Малую Ски-
фию», «Восточную Скифию» и т.д.
Сосуществуя с другими культурами и неизбежно испытывая чужеродные
влияния, «культура кочевников главенствовала на всем протяжении этого огромно-
го пространства, проявляясь в более грубой форме на Алтае и с большей утончен-
ностью – у царских скифов на юге Руси. И это влияние не происходило исключи-
тельно в одном направлении, так как самобытная культура жителей степи, в свою
очередь, чувствовалась, пусть и в меньшей степени, и в культуре Востока, и в куль-
туре Запада», – подчеркивает Т. Райс [Райс, 2004. С. 6].
Схожие признаки мы видим и в противоположной от восточной Европы сто-
роне – на юго-востоке евразийского степного пояса, в той его части, что вторгает-
ся в горную страну Тибета. Ю. Н. Рерих, исследуя эти недоступные прежде для ев-
ропейцев области, практически на каждом шагу сталкивался со свидетельствами
115
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
высокого духовного развития «нецивилизованных варварских племен», как часто
осмысливались номады. Он также впервые поставил вопрос о кочевниковедении
как новой отрасли восточной археологии, которая позволит реконструировать це-
лостную картину взаимосвязей древней истории Евразии от Китая до Средиземно-
морья.
Самым важным свидетельством уровня развития ученый считал именно ар-
хеологические находки в зверином стиле, потому что это позволило раз и навсегда
изменить предвзятое мнение о кочевниках. «Огромный интерес, вызванный заме-
чательной, уникальной стилизацией, характерной для искусства кочевников, а так-
же широкое распространение этого стиля среди разнообразных племенных групп
Внутренней Азии и его громадное влияние на искусство соседних культур поста-
вили на очередь вопрос о культурной роли кочевников», – утверждает Ю. Н. Рерих.
Предметы из скифских царских погребений юга России уже были известны
науке, равно как и стилистика звериного стиля, но вот обнаружить его у кочевых
племен Северного и Центрального Тибета и тем самым продвинуть южную границу
его распространения значительно на юг, к северным склонам Трансгималаев было
равносильно своеобразному прорыву в науке. Экспедиция была вынуждена конста-
тировать, что пустынные нагорья Тибета неожиданно оказались богаты остатками
древней кочевой культуры, сохранившейся и в быту современных тибетских ко-
чевников. Находки нескольких «звериных» мотивов, хорошо известных из скифо-
сибирских курганов, по мнению Ю. Рериха, еще раз подчеркнули древнюю связь,
когда-то существовавшую между Тибетом и богатым кочевым миром Внутренней
Азии и которая многократно упоминается в исторических хрониках Китая.
Эти открытия не только доказали общность древних народов Центральной
Азии, но и позволили науке осуществить реконструкцию Модели мира кочевников,
являющуюся ядром культурной памяти этносов всего региона. Исследования в Ти-
бете высветили еще ряд важных вещей. Обнаружились устойчивые связи между
археологическими находками разного типа, что повлекло новые умозаключения,
своего рода «недостающие звенья». Местонахождения могил, сложенных из камня
по древнему тибетскому обычаю, всегда соседствовали с мегалитическими соору-
жениями и артефактами в зверином стиле, образуя локальные очаги-центры.
Это очень важно, потому что тибетское нагорье – уединенная труднодо-
ступная местность, избежавшая активного вмешательства других племен на про-
тяжении долгого времени, можно сказать, изолированная, и как следствие, сохра-
нившая в определенной мере первозданность. Экспедиция Рерихов с удивлением
обнаружила «своеобразный головной убор местных женщин в форме овальной ти-
ары (кокошника), орнаментированный медными пластинками в «зверином» стиле,
драгоценными камнями и бирюзой. Антропологический тип местных кочевников
отличен от их соседей» [Рерих, 2004. С. 34].
116
ЧАСТЬ 2
У местных жителей прекрасно развиты прикладные ремесла, и звериный
стиль, несмотря на некоторую упрощенность, до сих пор четко прослеживается
в художественном и композиционном решениях, используемых мастерами. Скорее
всего, это означало, что среди разнообразия тибетских племен есть и те, кто явля-
ется не просто прямыми потомками древних номадов, но до сих пор сохраняющи-
ми живую традицию, пусть и не вполне уже понимая, что именно она из себя пред-
ставляет.
Наблюдая столь обширную географию скифо-сакского мира, невольно за-
думываешься о причинах такой значимости звериного стиля. Искусствознание из-
учает историю и специфику художественных стилей с первобытных времен и имен-
но по вехам, запечатленным в произведениях искусства, чаще всего прослеживает
их эволюцию. Однако нигде еще мы не сталкивались со столь масштабным терри-
ториальным распространением, а также «живучестью» во времени, кои демонстри-
рует звериный стиль.
Мы знаем много примеров стилей в искусстве, проявляющихся чрезвычайно
ярко, влияющих на появление новых, но при этом остающихся в своих простран-
ственно-временных границах. Но звериный стиль имеет совершенно другие харак-
теристики. Будучи особой ментальной визуализацией, он является своеобразной
Anima Mundi центральноазиатских кочевников на протяжении вот уже более двух
тысяч лет.
Таким образом, география территорий, контролируемых кочевниками, чрез-
вычайно обширна и характерна неоднородностью природно-климатических па-
раметров и обусловленных ими этническим и языковым разнообразием. Это ин-
доевропейская группа, куда традиционно причислены саки, скифы и савроматы,
уральские племена (ананьинская культура), алтайское языковое семейство (Монго-
лия, Южная Сибирь, Северо-Западный Тибет).
Несмотря на четкие этнические дифференциации, поражает устойчивое вну-
треннее культурное единство. Именно оно «ответственно» за то, что мы до сих пор
понимаем это время как «скифо-сакскую эпоху». «Общими для них, как и прежде,
оставались оружие, конское снаряжение и искусство звериного стиля – то, что в ар-
хеологии получило название «скифской триады», – подчеркивает М. И. Артамонов
[Артамонов, 2006. С. 73].
Центральноазиатские кочевники не первые и не единственные, кто использо-
вал зооморфные изображения, так как животные во всем своем многообразии были
доминирующим сюжетом первобытного искусства в мировом масштабе. Но только
скифо-сакский звериный стиль «обладает специфическими чертами, выделяющи-
ми его из всей совокупности зооморфных изображений, созданных художниками
Старого и Нового Света в различные периоды» [Кореняко, 2002. С. 6].
Однако, несмотря на огромные пространства евразийского Степного пояса,
должен быть первичный культурный очаг, где и возник изначальный импульс,
117
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
распространившийся затем по всему миру номадов. Мы полагаем, что таковым
вполне может являться Центрально-Казахстанский регион с его богатейшим «ме-
таллургическим наследием». Так как сознание своей силы и ощущение превосход-
ства, сопровождающее кочевника едва ли не с рождения, сформировано на мен-
тальном уровне и закодировано посредством звериного стиля через металл.
Артамонов М. И. Сокровища саков // Евразийский народ САКИ. – Алматы,
2006. С. 64–179.
Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. М., 1949.
Генон Р. Избранные сочинения. Царство количества и знамения времени.
М., 2003.
Ирмуханов Б. Загадки эпохи бронзы // Мысль. Республиканский обществен-
но-политический журнал. 2009. № 8. С. 76–86.
Кореняко В. А. Искусство народов Центральной Азии и звериный стиль. М., 2002.
Крадин Н. Н. Кочевники Евразии. Алматы, 2007.
Кузьмина Е. Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. Фрунзе, 1986.
Масанов Н. Э., Абылхожин Ж. Б., Ерофеева И. В., Алексеенко А. Н., Бара-
това Г. С. История Казахстана: народы и культуры / Учеб. пособие. Алматы, 2001.
Райс Т. Т. Скифы. Строители степных пирамид. М., 2004.
Рерих Ю. Н. История Средней Азии. Т. I. М., 2004.
Турсунов Е. Д. Единство эстетического опыта кочевых и некочевых народов //
Кочевники. Эстетика: познание мира традиционным казахским искусством. Алма-
ты, 1993. С. 94–128.
Файзрахманов Г. Л. Древние тюрки в Сибири и Центральной Азии. Казань, 2000.
Хазанов А. М. Кочевники и внешний мир. Алматы, 2000.
Хазанов А. М. Кочевники и внешний мир. СПб., 2008.
Шалабаева Г. К. Казахстан: от древних цивилизаций к современности / Учеб-
ное пособие. Алматы, 2007.
118
ЧАСТЬ 2
С. БОРАНБАЕВА
К�КШЕ ��ІРІНІ� �АЗІРГІ ЗАМАН МУЗЫКАЛЫ� ФОЛЬКЛОРЫ1
Фольклор – к%псалалы синкреттік �;былыс. �аза�ты� музыкалы� фолькло-
ры �ылымда т=рлі атаулармен аталады: халы� музыкасы, халы� поэзиясы, халы�
ша�армашылы�ы ж�не т.б. Музыкалы� фольклор жалпы фольклортану �ылымынан
тарма�талатын, к%біне оны� эстетикалы� ж�не этникалы� таби�атынан туындай-
тын жеке бір сала, �арапайым тілмен айт�анда, музыкалы� фольклор хал�ымызды�
к=нделікті т;рмыс-тіршілігінде кездесетін: шілдехана, т7сау кесер, с=ндет той, �ыз
7зату, келін т=сіру, адамныf Uмірден Uткенді естірту – жо�тау, ж7бату жRне
т.б. �дет-�;рыптармен байланысты �;былыс. Б=гінгі та�да �аза� ;лтты� %нер
университетіні� �ор�ыт ата атында�ы ±ЗИ-ні� «�аза�ты� ;лтты� %нерін зерт-
теу ж�не насихаттау» лабораториясы ЮНЕСКО ;йымыны� «Материалды� емес
м�дени м;раны са�тау» Халы�аралы� конвенциясы бойынша зерттеу ж;мыстарын
ж=ргізуде. Осы ма�аламызда, К%кше %�ірінде ж=ргізілген музыкалы-этнографиялы�
экспедиция материалдарын кешенді т=рде талдап, зерттеу жасады�, онда:
- этнографиялы� �абаты;
- музыкалы� фольклор�а байланысты мазм;н-та�ырыпты� ж�не музыкалы�
тілін, %зіндік айма�ты� ерекшеліктерін ай�ындау м�селелер �амтылды.
К%кше %�іріні� б=гінгі к=нгі музыкалы� фольклорында т;рмыс-салт �ндері
к%бірек са�талып �ал�ан, оны� ішінде фольклор =лгілерін айтатын 55-75 жас
аралы�ында�ы ауыл адамдары. Экспедиция барысында �ызыл-а�аш, Лавровка,
�ызыл-Сая ауылдары, Е�бекшілдер аудан орталы�ында болып �айтты�. Атал�ан
ауылдар К%кшетау �аласына жа�ын бол�анды�тан, к%бінесе �алалы� д�ст=рге
сай, �азіргі заман авторлы� �ндерді� =лесі к%бірек, олар к%бінесе кішігірім той-
думан, жиындарда айтылады. Дегенмен, ата�ты А�ан сері, Біржан сал, �кілі Ыбы-
рай туып %скен ауылдар бол�анды�тан, біре�-сара� болса да атал�ан �ншілерді�
�ндері, ескіден �ал�ан салт – д�ст=рлер са�талып отыр. Мысалы, тек осы %�ірлерде
кездесіп отыр�ан «омырт�а», «жыл�ыны� жілігін жару», «б;�ыбай», «к%рші» атты
1 Халы�аралы� Т=ркі академиясыны� «Т=ркі халы�тарыны� %нері: д�ст=р жал�асты �ы» атты �ы-
лыми жоба аясында 12-22.08.2012. аралы�ында К%кше %�іріне музыкалы-этнографиялы� экспедиция
ж=ргізілді. Экспедиция жетекшісі С. А. Елеманова, экспедиция м=шесі С. Боранбаева. Материалдарды�
т=п н;с�асы Халы�аралы� «Т=ркі академиясыны�» �орында са�тал�ан.
119
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ойындар, сонымен �атар, «алтыба�ан», «сабантой», «ат жарыс» халы�ты� ойын-
сауы� д�ст=рлері жа�сы са�талын�ан. Музыкалы� фольклорды� ішінде т;рмыс-салт
�уендері: сы�су, бесік жыры, хат-%ле�, келін т=скенде айтатын %ле�, той бастар т.б.
кездеседі.
«Омырт�а» атты д�ст=р �ысты� со�ым (желто�сан айыны� со�ы) кезінде
жыл�ы малын сой�аннан кейін =й иесі жа�ын-туыстарын, к%рші-�ола�дарын
со�ымны� ал�аш�ы д�мін татсын деп �она��а ша�ырады. Берілетін асты� ішінде
міндетті т=рде омырт�а м=шесі салынады, сол себептен б;л д�ст=р «омырт�а» деп
аталып кеткен. Осы�ан ;�сас д�ст=р бас�а %�ірлерде «со8ым басы» деп аталатыны
белгілі, б;л жа�дайда омырт�аны� орнына со�ымны� басы асылады. «Омырт�а»
кезінде «жілік жару» атты сайыс %ткізіледі, �она�тар арасында�ы жігіттер
жыл�ыны� жілігін �олдарымен ;рып сындыру�а тырысады, сайыс со�ында =й иесі
же�імпаз�а сыйлы� береді.
Енді экспедицияны� музыкалы� материалдарыны� м�ліметтерін саралап
к%рейік. Зеренді ауданы �ызыл-А�аш ауылыны� а�са�алы Айт�ожин Д=йсенбай
Айт�ожа;лыны� айтуынша «�анжы8алы Олжабай болыстыf (БUгенбай батырдыf
7рпа8ы) алыста ж=ргенде жаз8ан хатынан =зінді»2 атты хат %ле� бар. Ол хат
т=рінде болды ма �лде ауызша т=рінде жетті ме ол жа�ы бізге белгісіз. Дегенмен,
«Са�ыныш» деп атал�ан б;л %ле�ді Д=йсенбай а�са�ал �уенін ма�ам-саз =лгісінде
айтып берді. Жалпы «ма�ам-саз» деп отыр�анымыз, хат %ле�, терме, �сіресе жаз-
ба �дебиетінде ма�амдап о�у д�ст=рінен жетіп отыр. Ма�амдап о�у д�ст=рі сонау
ерте заманда, орта �асырларда ке�інен �олдан�ан, оны� негізгі себебіні� бірі –
ауыз �дебиеті мен оны� к%шірмесін хат�а т=сіріле бастауынан бастап ма�амдап
о�у д�ст=рі �алыптасты деуімізге болады, ол жазбаларды� негізі к%не т=ркі Орхон-
Енисей тас жазбаларынан бастау алып отыр. Кейінгі �асырларда�ы �алыптас�ан
жазбаларды� т=рлері Шы�ыс жазбаларына тікелей �атысты. �исса-дастандар,
одан кейінгі хат�а т=скен �аза�ты� жыр, хикаяттарыны� н;с�алары %ле� т=рінде
�алыптасып, сол %ле� т=рлерін ма�амдап айту, я�ни, о�ы�ан кезде �уендетіп
о�у д�ст=рі жалпы �аза� даласында ке�інен жайылды. Оларды� негізгі орын-
дау стилі, ерекшеліктері речитативтік формасында �уені ж=реді, �уен мен %ле�
м�тіні синхронды� т=рде айтылуы �алыптас�ан. Оларды� мелодиялы� �атары
к%бінесе бірдей, біркелкі болып келеді. Д=йсенбай а�са�ал домбыра аспабыны�
с=йемелдеуімен айт�анымен, б;л ма�ам-саз негізінде аспапты� с=йемелдеусіз, жеке
дауыста айтылатын бол�ан, ондай мысалдар �аза�станны� барлы� айма�тарында,
�сіресе Шы�ыс �аза�стан, Жетісу, Ар�а, Алтай-Тарба�атай %�ірлерінде
2 А�мола облысы (б;рын�ы К%кшетау обл., К%кшетау ауданы) Зеренді ауданы �ызыл-А�аш
ауылыны� а�са�алы Айт�ожин Д=йсенбай Айт�ожа;лы, 1939 ж. �ызыл-А�аш ауылында д=ниеге кел-
ген (Орта ж=з, руы Ар�ын – Ар�ынны� ішінде Аты�ай – �арауыл, атасы С=темген – С=темгенні� ішінде
Жа�сылы�).
120
ЧАСТЬ 2
�а лыптас�ан. «Са�ыныш» %ле�іні� басында�ы 3 жолында шежіре айтылады, одан
кейінгі %ле� жолдарында %зіні� туып-%скен жерін са�ынып, таби�атын суреттейді.
Кезінде серілік �;рып, ит ж=гіртіп, �;с салып, д=бірлі б�йгеге �атыс�анды�ын еске
алып, хатында баян �ылады.
�анжы<алы Олжабай болысты? (БDгенбай батырды? Kрпа<ы) алыста жIргенде жаз<ан хатынан Iзінді
Орта ж=зді� Ар�ын а�а елі еді
�андай �аза� Ар�ын елмен те� еді
Б�йбішеден Мейрам жал�ыз ;л еді
Сол Мейрамны� бес
баласын са�ындым
Мейрам ;лы �уанды� пен Шегендік
�аракесек, Бегіндік пен С=йіндік
Салма�ы�а те� келетін �аза� жо�
Туысым-ай т;рысы�ды са�ындым!..
Момын, Ар�ын то�алыны� аты еді,
�анжы�алы Тобы�тыдан заты еді
Б�сентиын, �арауыл мен Аты�ай
Е�іреген ерлер шы��ан хал�ы еді
�ас�ыр %рлеп биікте ж=р �ыдырып
То� мойындар �аша �оймас кідіріп
Со�ы ала �у�ыншы айдап сыдырып
Тосушы�а д%п келгенін са�ындым
А� �ас�а да а�ды к%ріп, жала�тап
Ит, �ас�ырды� тілі шы�ып сала�тап
Со�ын ала �у�ыншы айдап далба�тап
�ызыл �ан боп алыс�анын са�ындым
Ит �ас�ырды �уып жетіп алысып
Ішек-�арынын, шабын тесіп ш;батып
�ас�ыр иттен �;тыла алмай жат�анда
Сойылменен со��ан к=нді са�ындым
121
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ерейментау �ардан запас жина�ан
Жан-жа�ына %зен тасып тара�ан
Сілеті, Есіл, �ле�ті а�ып �ула�ан
Жаз�ы т;р�ы к%ркемдікті са�ындым
К%л д%�гелек тол�ан ай�а ;�са�ан
Астын та�тай Т��ірім таспен жаса�ан
Тере�дігін �ыры� кездеп сана�ан
М�кен жерім �оржынк%лді са�андым
Ішін тола балы� ж=зіп ойна�ан
Айнадай доп т=біне к%з бойла�ан
Неше т=рлі �;с бетінде сайра�ан
Ішті-тысты асыл к%лін са�ындым
Ма�айында малдар бы�ып жабыл�ан
Тау-тасында а�дар �анша табыл�ан
Ит ж=гіріп, �иян кескі сабыл�ан
Серуен �;р�ан жерлерімді са�ындым
Б=ркіт �ара, т=лкі �ызыл алыс�ан
±ашы�тардайк%п зары�ып табыс�ан
Астын ала �ыран ;стап жабыс�ан
К%зден кешкен
�ызы� к=нді са�ындым
�;пы дабыл, �йшік дейтін жердемін
�;рметінде, есікте емес т%рдемін
К�мпескеден т�нім аман бауырым
²мыт�андар, ;мытпа�ан бар шы�ар
²мыт�андар �ияметін жамылар
Кім біледі, к%рісетін к=н бар шы�ар
Лек-лек болып, сері біткен бас �осып
Б=ркіт �олда, ит жетектеп,к%�іл %сіп
�ас�ыр, т=лкі �анжы�а�а байланып
М�з-м�йрам боп ж=рген
к=нді са�ындым
Айт пен тойды �;р %ткізбей, ат шауып
Басын �осып неше ру, ел жиналып
²рандасып, оз�ан т;лпар жолды алып
Аты �алып томсар�анынса�ындым
Ерегісіп �айта-�айта б�йге ашып
Б�лен к=ні шабамыз деп байласып
²рандасып ж=йрік атын айдасып
Ат келеді деп т;р�ан к=нді са�ындым
Ат �арасы, к%зі шы�да к%рініп
К%з жасаурап, ж=рек тулап, егіліп
Алдын ала бір ай шы�ты б%лініп
Тани алмайт;р�ан к=нді са�ындым
�лгенім жо� Кіші Ж=зді елдемін
Үміт үзген шайтан болсын, бауырым!
Неше алуан сəулет күнді өткізгенНеше алуан дəулет күнді кешіргенНеше алуан бейнетке əкеп түсіргенҚырық алты жыл тұрған жерді сағындым!..
122
ЧАСТЬ 2
�лди-�лди баладан
Тауып алдым даладан
Далада бала жата ма?
Т=сіп �алыпты шанадан...
�лди-�лди баладан
Тауып алдым даладан
Иісі жа�сы болсын деп
Иісмай алдым �аладан
�лди-�лди, айым-ай
Алты �арын майым-ай
Осы майым болмаса
Кетіп еді жайым-ай
Тау басында тара�ан
Теріп жейді балапан
Атасына (апасына) бала болсын деп
Алла сені жарат�ан
Тау басында диірмен
Ба�ала�ы темірден
Т=нде ж=рген баланы�
Насыбайын тыш�ан кемірген
Тау басында трактор
�;ла�тарын б;рап т;р
Алматыны� �ыздары
Балама кел деп жылап т;р.
«Бесік жыры»1 – �уені мен м�тіні к%неден келе жат�ан 7-буынды� =лгіде
�;рыл�ан синхронды� н;с�асы. М�тіндік н;с�а �алыптас�ан клишелерден т;рады.
�уені бірнеше жа�дайда �алыптас�ан деп жорамалдау�а болады:
1) Жалпы «Бесік жырыны�» композициясы, музыкалы� тілі, �уені ауыз-екі
т=рінде ескіден (анасынан �ыз бала�а) �алыптас�ан �уен болуы м=мкін;
2) Атал�ан %�ірде �алыптасып, сі�ген белгілі бір сарын немесе �уен болуы
м=мкін;
3) Айтып отыр�ан ананы�, �жені� %зі мелодиясын бесік жырына кіріктіріп,
еркін импровизация т=рінде шы�арып айтуы м=мкін;
1 К%кшетау �аласыны� «А� �желер» тобыны� м=шесі Байтенова Розаны� айтуында.
123
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
4) «Бесік жырыны�» �уені толы� авторлы� н;с�а болуы м=мкін;
Біз талдап отыр�ан «Бесік жыры» �уен жа�ынан ал�анда %те сазды, кварта
интервалымен �уенді жандандыра т=скен.
Байтенова Роза �жейді� орындауында�ы «Ауылым �ызыл А�аш»2 деп атала-
тын хат %ле�де ²лы отан со�ысында�ы майдангерді� артында ауылда �ал�ан ана-
сы, ту�ан-туыстарына жаз�ан хаты. Б;л шы�арманы да ма�амдап о�у д�ст=ріне
жат�ызамыз. �уені бір �алыпты, тізбектеліп келеді, интервалды� ара�ашы�тік
біркелкі, сарыны мен м�тіні синхронды. Хат-%ле�ді о�ы�ан кезде м�нерлі болу =шін
ж�не м�тіні аны� болу =шін �уен бір келкі тізбектеліп �;растырыл�ан. �ле� жол-
дары 11-буынды� болып келеді, сонды�тан, �ара %ле� клишелері %ле� жолдарында
ке�інен �олданыл�ан.
Ауылым �ызыла�аш аясында
Жан %мір Ма�палтауды� саясында
Жан-анам жал�ыз %зі� жабыр�амай
Туыстар алып ж=рші панасына
Ауылым Ма�пал тауды� аясында
Анашым, ту�ан-туыс амансы� ба?
Анашым, жал�ыз �ал�ан артымда�ы
Жабыр�ап ж=демесін панасында
Бауырым �айрат, Уалихан,
Жамал, Т;рсын.
Інішегім М;рат-�ал�ам, Рауза-а�а
�айы��а жеке біткен мен бір б;та�
Г=л шашып тарайт;�ын к=ні� бар ма?
Жолдасым То�пай, Таржан, Орынбай�а
Тапсырам жал�ыз мені� аманатым
Ренжіп �алмасын жал�ыз анам...
2 КUкшетау �аласыныf «А� Rжелер» тобыныf м=шесі Байтенова Розаныf айтуында.
124
ЧАСТЬ 2
Жалпы К%кше %�ірі, Солт=стік �аза�стан айма�тарында �азіргі кезде �ызды�
сы�суы, жо�тау сия�ты т;рмыс-салт �уендері %те сирек кездеседі.
Сонды�тан, осы кезге дейін сы�су, жо�тау сарындарыны� �;рылымы, ладты�
ерекшеліктері т.б. арнайы зерттелмеген. Біз, осы жолы тауып отыр�ан «�ызды�
сы�суы» н;с�асыны� м;ндай сарынды ал�аш рет кездестіріп отырмыз. Онда 7-
буынды� синхронды� (сарын мен м�тін �атар ж=реді) %ле� жолдары екі %ле� жолы-
нан т;рып, квинта интервалынан аспайды, мелодиялы� секіру терция интервалына
дейін бір-екі жерде кездеседі.
Есік алды а� �айы�
Жапыра�ын баспайын
�з =йімнен кеткен со�
Еркелікті тастайын
�ара�ай шаптым �а��асы-ай
Ба�лан �ойды� мар�асы-ай
Б;л�аптап мені� ж=ргенім
Жан �кемні� ар�асы-ай
А� с=т беріп %сірген
Т=н ;й�ысын т%рт б%лген
Айналайын, жан-анам
�ош есен бол к%ргенше
Базардан келген к%к кебіс
�кшесі оны� теп-тегіс
�айта айналып к%ргенше
�ош-есен бол теп тегіс.
125
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
1. Бізді� �ала К%кшетау, к%л шетінде
Мен отырмын б;л тойды� бір шетінде, жан же�еше-ай!
�айда ж=рсем жа�сыны� жанындамын
Іздегенмен жаман�а табылмаймын, жан-же�ешем!
126
ЧАСТЬ 2
�ара %ле� н;с�асында�ы «Келінжан» атты халы� �ні, �азіргі кездегі
фольклорды� жа�ар�ан т=рі, м�тінінде �ара %ле�ні� жа�артыл�ан клишелері
кездеседі:
1. Мен айтайын %ле�ді то�сан то�ыз
Тау�а бидай шы�пайды екпесе�із жан же�еше-ай!
М;нда айтпа�ан %ле�ді, �айда айтамыз
Екі жастыf =йлену тойы емес пе, жан жеfеше!
�ле�ні� басында�ы ;й�астары д�ст=рлі, ал со��ы жолы �азіргі заман�а т�н
;й�аспен �;рыл�ан.
�айырмасы:
Ал келінжан, жолы� болсын
Дастарханы� мол болсын
Достары� да к%п болсын-ай
Бізді� тілек сол болсын
Денсаулы�ы� зор болсын-ай!
�айырмасында �азіргі заман�а т�н: дастархан, денсаулы�, достар, тілек – де-
ген с%здері келтірілген. М�тіні %згерсе де �уені халы�ты� сарыннан ауыт�ыма�ан.
Мазм;ны мен функциясы %згерген. Б;л %ле�ні� айтылатын жеріне �арап, �азіргі
кезде тойда айтылып ж=рген «той бастар» жанрына жа�ын. Демек, 11-буынды
тілек, арнау немесе бата8а жа�ын мазм;нда болып келеді. Жалпы, �азіргі кезде
айтылып ж=рген «той бастар» жанрыны� =лгілері арнайы зерттеуді �ажет етеді.
�орыта айта келгенде, айма�ты� де�гейде зерттеу �азіргі кезде жа³андану
заманында�ы халы� ішіндегі музыкалы� фольклорымызды� хал-к=йін, ба�ытын,
са�талу де�гейін, �алыптасу негізін ай�ындау�а =лкен м=мкіншілік бар. Сол
м=мкіншілікті жіберіп алмайы�.
127
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
И. В. КУЛЬГАНЕК
МОНГОЛЬСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР: ЖАНРОВЫЙ СОСТАВ
Монгольский поэтический фольклор является отражением традиционно-
го мировоззрения народа. Фольклорные произведения представляют собой основу
передачи образов национальной картины мира, духовных ценностей, служат ори-
ентиром этического поведения монгольского этноса, хранилищем его эстетических
идеалов. Малые и крупные жанры монгольского фольклора сами активно участвуют
в формировании структуры общества, в сохранении национальной идентичности,
в реализации конкретных проявлений политических, идеологических и культуроло-
гических черт носителей монгольского этноса.
Монгольское поэтическое творчество – это древнейший вид искусства, широ-
ко распространенный среди всех монгольских племен и народностей. Первые упо-
минания о монгольском поэтическом фольклоре имеются в «Тайной истории мон-
голов», «Золотом сказании», «Желтой истории», «Драгоценных четках», «Сборнике
летописей» Рашид-ад-Дина, «Истории покорителя мира» Джувейни, «Большом ки-
тайском биографическом словаре», составленном в XIV в.
Первые научные издания монгольского фольклора в Монголии были пред-
приняты в XX в. К ним относятся «Asiatica Folklorica» (Фольклористика Азии), «Аман
зохиол судлал» (Фольклористика), «Цог» (Огонек), «Утга зохиол урлаг» (Литература,
искусство).
В России изучение монгольского фольклора имеет двухсотлетнюю историю.
Уже первые ученые-монголоведы О. М. Ковалевский, А. М. Позднеев, К. Г. Голстунс-
кий обратили внимание на монгольский фольклор. В дальнейшем проблемами мон-
гольского фольклора занимались Г. И. Михайлов, К. Н. Яцковская, С. Ю. Неклюдов,
Г. Д. Санжеев, О. М. Шаракшинова, А. Ш. Кичиков, П. Ц. Биткеев и др. Монгольские
ученые также активно собирали и исследовали фольклор. Это Б. Ринчин, Х. Сампил-
дэндэв, Ш. Гаадамба, Д. Цэдэв, П. Хорлоо. Б. Кату, А. Алима и др.
До настоящего времени правомерны высказывания монгольского ученого,
академика Ц. Дамдинсурэна в предисловии к «Антологии монгольского фолькло-
ра» [Гаадамба, Цэрэнсодном, 1978]. Он справедливо писал, что называть весь фоль-
клор народным не совсем правильно, так как он принадлежит всем социальным
слоям монгольского общества одинаково. Важным в этом виде искусства являет-
ся то, что произведения передаются устно даже в среде грамотных и богатых (т.е.
128
ЧАСТЬ 2
фольклор не весь является «ардын аман зохиол»). Но от этого он не перестает быть
фольклором. По его словам, монгольский народ всегда приспосабливал сочинения
другой культуры к восприятию собственного народа, творчески перерабатывая
их таким образом, что они приобретали монгольские национальные черты, стано-
вились фактом монгольской культуры. Приумножение собственной сокровищни-
цы устного художественного творчества происходило благодаря проникновению
в монгольскую среду великих произведений прошлого. Все поэтическое творчество
монголов можно разделить на две большие группы – «письменное» и «устное». За-
имствованные из Индии и Тибета произведения, пройдя адаптацию в монгольской
среде, становились национальными монгольскими произведениями, фактами мон-
гольской культуры.
В хранилищах России и Монголии собрано большое количество образцов
монгольского фольклора. В настоящее время существует три каталога фольклор-
ных материалов, хранящихся в архивах Улан-Батора и Санкт-Петербурга. Это «Ка-
талог письменных материалов, содержащих коллекции монгольского фольклора
и местные диалекты», представляющий собой каталог материалов Института язы-
ка и литературы МАН. Он составлен сотрудниками Сектора фольклора ИЯЛИ МАН:
А. Алимой, Б. Катуу, Б. Дариймой, С. Энхжаргалом, под редакцией Х. Сампилдэндэ-
ва, Г. Гэрэлмы, Г. Гансуха, издан при поддержке издательского центра Посольства
США в Монголии [Alimaa, Katuu, 2004]. Второй том, имеющий название «Каталог
магнитных записей коллекции монгольского фольклора и местных диалектов», со-
держит сведения о магнитофонных записях фольклора [Alimaa, 2004]. Оба тома это-
го Каталога отражают содержание самого репрезентативного на сегодня собрания
фольклорных материалов Монголии, каким является коллекция фольклора ИЯЛИ
МАН. Часть из них поступила в качестве подарков от родственников сказителей
и собирателей, другие стали результатом работы научных экспедиций, третьи по-
пали из других хранилищ. Выход его – большое событие в мировой монголистике.
Предисловие посвящено особенностям монгольского фольклора, его месту
в монгольском обществе, проблемам хранения и архивации. Среди основных ха-
рактеристик монгольского фольклора названы его древнее происхождение, высо-
кие художественные достоинства, насыщенность глубоким философским смыслом,
развитие и изменчивость, отражение реальной истории народа, неразрывная связь
с письменной литературой. Описание сделано на английском языке. В первом томе
около 700 шифров, во втором – 777 номеров по описи. Каталог, позволяющий адек-
ватно и полно представить фольклорные материалы Монголии, является выдаю-
щимся трудом монгольских ученых, незаменимый справочник для работы монголо-
ведов всех специальностей.
В России самая большая коллекция фольклорных материалов монгольских
народов хранится в ИВР РАН. И. В. Кульганек издала в 2000 г. первый каталог, по-
священный этим материалам [Кульганек, 2000]. Он содержит 3000 наименований
129
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
фольклорных произведений на многих диалектах монгольских, бурятских, калмыц-
ких языков (халхаский, ордоский, сунитский, абага, кижингинский, хоринский,
узумчинский, донских и ставропольских калмыков и др.). Первая его часть содер-
жит информацию о собирателях (Б. Б. Барадийн, А. В. Бурдуков, Т. А. Бурдукова,
Б. Я, Владимирцов, К. Ф. Голстунский, Ц. Ж. Жамцарано, В. А. Казакевич, Д. А. Кле-
менц, О. М. Ковалевский, Б. И. Панкратов, А. М. Позднеев, А. Д. Руднев, Я. И. Шмидт,
В. Д. Якимов). Вторая часть включает разделы: «Эпос», «Поэзия», «Проза», «Песни»,
«Конфессиональный фольклор», «Афоризмы», «Исследования, материалы к слова-
рям», «Словари. Реестры. Заметки».
Вопрос о жанровом делении монгольского фольклора до некоторой степени
открыт, поскольку зачастую оказывается расплывчатым само понятие жанра из-за
взаимопроникновения различных его компонентов, что диктуется постоянной ди-
намикой внутрижанровых и межжанровых связей. Не исследованными до сих пор
остаются специфические понятия и определения, необходимые для описания фоль-
клорных жанров как системы.
В современной фольклористике принята классификация деления фольклор-
ных произведений на «роды», «жанры» и «жанровые разновидности». Под «родом»
понимается способ изображения действительности (эпический, лирический, дра-
матический). Под «жанром» – тип художественной формы (былина, песня, сказка,
пословица). Под «жанровой разновидностью» – тематическая группа произведений
(сказки волшебные, сказки о животных ). Опираясь на теоретические исследования
в области жанрового определения монгольского фольклора современных фолькло-
ристов, таких как Г. И. Михайлов, К. Н. Яцковская, Х. Сампилдэндэв, Л. Хурэлбаатар,
П. Хорло, С. Ю. Неклюдов, М. И. Тулохонов, С. С. Бардаханова, М. Гадамба, а также
предшественников ученых-монголоведов Ц. Дамдинсурэна, Б. Я. Владимирцова,
Г. Д. Санжеева, А. М. Позднеева, фольклорные монголоязычные материалы нами по-
няты следующим образом.
Крупные поэтические жанры. К ним относятся героический эпос, сказания,
поэмы (тууль, баатарлаг тууль). Прозаические жанры. Это легенды, мифы, пре-
дания, сказки, сказы, рассказы, анекдоты, притчи (монг. домог, домог улгэр, яриа).
Малые жанры монгольской народной лирики. Они представляют собой довольную
внушительную группу разнообразных по характеру и функционированию произве-
дений. Среди них есть:
песни (монг. дуу) исторические, лирические, героические, юмористиче-
ские, сатирические, философские, религиозные, любовные. По манере и характеру
исполнения они могут быть протяжными (монг. уртын) и быстрые (монг. богино);
среди них есть как обрядовые, так и необрядовые;
славословия, хвалы, гимны, панегирики, оды, магталы (монг. магта-
ал, цол); произведения этого типа звучали во время многих обрядов, связанных
с жизненным циклом монгольского народа (с рождением ребенка, достижением
130
ЧАСТЬ 2
человеком определенного возраста, со смертью, женитьбой, с перекочевками),
а также во время календарных и религиозных празднеств;
благопожелания (монг. ерUUл) – речитативные поэтические обращения
к человеку, звучавшие по различным поводам;
поучения (монг. сургаал) – стихотворные поучения, наставления, как пра-
вило, обращенные к молодому поколению;
молитвы заклинания, чтения (монг. тарни, уншлага), исполнялись во вре-
мя буддийских религиозных служб в храмах; просьбы монаха просителя, странству-
ющего с трещоткой (монг. дулдуй);
проклятия, угрозы, речитативные накликивания мучений (монг. хараал,
занал, тамлага) – древнейшие поэтические отклики монгола на полученное от судь-
бы или конкретного врага зло;
воззвания, призывания, испрашивания, мольбы-просьбы (монг. дуудлага,
даллага, цацал, мялаалга, залбирал) – имеющие дошаманские корни древнейшие
поэтические обращения к духам за помощью;
заклинания, знахарские слова (монг. бUU мUUргUл, шившлэг, дом, эм дом) –
поэтические произведения шаманского происхождения, использовались в камлани-
ях с целью получения желаемых результатов;
слова по случаю, приветствия, стихи по случаю, стихи-игры, стихи-ско-
роговорки (монг. бэлэг дэмбэрлийн =г, мэндчилгээ, ш=лэг, тоглоом =г, жороо =г),
древние поэтические ответы на сделанное кем-то добро, преподнесенный подарок,
а также слова-приветствия, присказки, произносимые в начале предпринимаемых
действий, при обучении детей или свободном времяпрепровождении;
10. афористические жанры (пословицы, поговорки, загадки (монг. цэцэн =г,
мэргэн =г, таавар, оньс).
Подобное жанровое многообразие отмечено на всей территории Монголии
у всех монгольских народностей. Малые фольклорные жанры могут быть включе-
ны в виде вставок в более крупные поэтические, прозопоэтические и прозаические
произведения, как фольклорные, так и имеющие литературное происхождение, та-
кие как агиографические сочинение (монг. намтар), сборники буддийских притч
(монг. цадиг), сборники о прежних перерождениях Будды (монг. авадан), летописи
(монг. т==хэн зохоиол, эрх товчоо), романы (монг. т=х, тууж, =лгэр, шастир, су-
дар). Подобные вкрапления с момента их включения в рукопись или ксилограф по-
лучают двойную жизнь – письменную и устную, становятся принадлежностью как
письменной, так и устной традиции.
Неоднородность, сложность и иногда противоречивость явлений, присущих
монгольскому фольклору, объясняется древностью его появления и долгим сро-
ком функционирования разных его жанров. Поэтические фрагменты первого пись-
менного памятника «Тайной истории монголов», вошедшего в российское\совет-
ское востоковедение под названием «Сокровенного сказания монголов», говорят
131
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
о высоком уровне поэтического искусства того времени. Они отражают так назы-
ваемый «номадный» слой периода развития художественной культуры, который
характеризуется влиянием кочевой цивилизации Центральной Азии. Именно в это
время формируется большой пласт фольклорных произведений и жанров. Последо-
вавший затем так называемый «темный период» оставил после себя единицы фоль-
клорных текстов. Одним из наиболее ярких образцов высокого художественного
уровня является так называемая «Надпись на бересте», долгое время интерпретиро-
вавшаяся как песенный лирический диалог матери и сына, и совсем недавно верно
названная сакральным текстом. Периодом новой поэзии стало позднее Средневе-
ковье, начавшееся в XVI в. бурным проникновением буддизма в Монголию и по-
влекшее за собой иные литературные предпочтения на всех уровнях произведения –
идейном содержании, сюжетике, стилистике, языке. Буддизм, шедший из Тибета,
оказывал на фольклор большое влияние. Тибетское, индийское, китайское влияние
способствовало формированию новых и наполнению иным содержанием старых
фольклорных жанров. Наиболее наглядным примером этому служит трансформация
поучений, гимнов. Буддийский период принес новую художественную форму, раз-
вил и обогатил идейное содержание народной поэзии. В это же время зарождалась
авторская поэзия, которая также влияла на поэтику народного стиха. Взаимоотно-
шения ее с фольклором были не просты и не статичны. Параллельно с буддийской
литературой продолжал существовать магический, дошаманский, конфессиональ-
ный фольклор, отражавший мифологическое мировоззрение этноса и содержавший
«номадный» субстрат культуры.
Монгольская народная поэзия представляет собой сложное явление, имею-
щее большой резонанс в культуре монгольского этноса и претерпевавшее глубокие
трансформации на протяжении длительного пути своего развития, поэтому оценка
ее не всегда может быть однозначна и неизменна.
Предлагаем ряд фрагментов из различных жанров монгольского поэтическо-
го фольклора, взятые из «Антологии монгольского фольклора» [Гаадамба, Цэрэнсод-
ном, 1978], «Исследования монгольских колыбельных песен» [Сампилдэндэв, 1998],
«Сборника традиционного монгольского фольклора» [Монгол ардын зан, 1978].
1Песня-призывание овцы к ягненку
Белоголовая белая овца моя
Почему пренебрегаешь своим ягненком?
Запах твоего молока
Ведь на хвосте у него есть.
Хос-хос-хос!
132
ЧАСТЬ 2
Весна придет
Растает снег, что с краю
Кто будет рядом с тобой лежать
Тойг-тойг-тойг!
Благодатное время придет
Горы покроются зеленью
Вымя твое будет полное
Навстречу тебе идущего кого встретишь
Тойг-тойг-тойг!
Летнее время придет
Повсеместно зелень вырастет
Полно твое вымя будет
Кого ты напоишь своим выменем
Тойг-тойг-тойг!
Данное призывание является одним из ранних образцов монгольской поэзии,
в которой практически все образы «прямые», отсутствуют метафоры, сравнения, на-
лицо лишь прием «соположения». Художественность наличествует на уровне ритма
и фонетики.
2Голубок ходит по крыше храма.
Жеребенок ходит в табуне
У вороненка тихий голос
Куропатка летает по полям.
Сорочонок живет в пестром поле
Черный барашек прыгает по горам
Тигренок имеет рыжий цвет.
Барсучонок имеет унылый вид.
Волчонок любит выть
Лисенок имеет длинный хвост
Зайчонок лежит навзничь.
Колыбельные песни имеют также древнее происхождение1, относятся к ме-
лодическому жанру короткой песни (богино дуу). Решающая роль принадлежала
1 Х. Сампилдэндэв предложил этимологию слова «б==вэй», от «буу» – не, «ай» – бойся,
полагая, что в основе колыбельных песен лежит заклинание матери, обращенное к ребен-
ку о том, чтобы он был смелым в жизни и ничего не боялся. Заклинание занимает третью
133
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
мелодии и ритму. Характерен небольшой диапазон мелодического звучания. Близ-
ки к заговорам, когда произносимое слово одухотворялось, а отвлеченные поня-
тия олицетворялись. Их лексика отражает типичные бытовые условия кочевников,
родственные связи, окружающий мир, природу. С помощью песен знакомили детей
с окружающим миром.
3Плач Тогон-Темура
Разного рода драгоценностями,
прекрасными и совершенными, наполненный мой Дайду!
Место летних кочёвок прежних ханов, моя Шандуйская Шара-тала!
Прохладный, прекрасный мой Кэйбÿнг-Шанду!
В год красно-лысого зайца лишился я тебя, милый Дайду!
Если сверху посмотришь утром – туман, о, прекрасная дымка моя!
Передо мною, Ухагату-хаганом, Лаган и Ибаху говорили,
Знали и ведали они, но я отправил их, я сам оставил милый мой Дайду!
Неразумным рождён я, с моим народом и вельможами не встретился я,
Осталось мне оплакивать их,
подобно двухгодовалому бычку, оставшемуся в кочевье.
Преисполненный разного рода драгоценностями
мой восьмигранный субурган!
Преисполненный девятью драгоценностями Дайду, мой город,
Где восседал я, приняв правленье великим народом,
Где восседал я, приняв правленье сорока тÿмэнами моих монголов!
Четырёхугольный, с четырьмя вратами великий Дайду, мой город!
В то время, когда процветали религия и Учение,
Так беспечно покинул я милый Дайду, мой город!
Названье моей державы!
И там и тут караулы моих монголов охраняли милый мой Дайду!
Мой город, где зимовал я зимою.
часть текста в песне. Мать словно заговаривает дитя от скорбей и напастей, нацеливает его
на успех и удачу в жизни, усыпляет своим мерным голосом и покачиванием в колыбели.
134
ЧАСТЬ 2
Мой Кэйбÿнг-Шанду, где проводил я лето.
Прекрасная [равнина], моя Шара-тала!
Горе мне, что не внял я словам Лагана и Ибаху,
Благословенный дворец [мой], воздвигнутый из тростника,
Хубилган Сэчэн-хан проводил в нём лето – мой Кэйбÿнг-Шанду!
Китайцы вмешались, [захватили его]
и оставили мне, Ухагату-хагану, позорное и плохое имя.
Всем моим [народом] построена столица Дайду,
Дворцами наполнен был милый мой Дайду!
Всё разрушено [ныне] китайским народом!
Осталось мне, Ухагату-хагану, только имя, противное и плохое.
Из разного построенный драгоценный Дайду
И Кэйбÿнг-Шанду, где проводил я лето,
По ошибке моей захватили китайцы
И мне, Ухагату-хагану, оставили только имя, глупое и плохое.
Великое имя – держава, собранная ханом-владыкой,
Построенный удивительным Сэчэн-ханом милый Дайду,
Драгоценный город, ставший опорой и поддержкой всего государства,
Всё захватил совсем китайский народ, – милый мой Дайду!
Золотой род Чингис-хана, сына владыки Неба,
Золотой дворец Сэчэн-хана, что был хубилганом бурхана,
Ухагату-хаган, хубилган бодисатвы,
Лишился по воле Великого Неба милого Дайду!
Спрятав в рукав печать Хасбу хана-владыки, я вышел.
Буха Тэмÿр-чингсанг, рубившийся между врагами,
Из центра восстанья вывел меня.
Золотому роду хана-владыки на десять тысяч веков
пусть останется золотой трон!
Внезапно лишился я милого Дайду.
В час тот, как я вышел из своего дома,
Я лишился драгоценной религии и Учения.
135
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Да победят мудрые, светлые бодисатвы!
В золотом роду Чингис-хана
Да прекратятся на будущее время скитания!»1
Это произведение относится к более позднему времени, оно посвящено Тогон
Темур-хану, последнему императору династии Юань, книжнику, любителю поэзии
(1320–1370). Под напором народного восстания монголы вынуждены были поки-
нуть Дайду (Пекин). Бежал и Тогон Темур. В нем выражена печаль по поводу расста-
вания с городом. В произведении ощутима индивидуальность поэта, введены новые
образы, понятия, переживания. Используются эпитеты и образы, которые могли
возникнуть в результате знакомства с буддийской поэзией. Впервые появляется пей-
заж, как влияние китайской поэзии. Включено в летописи XVII–XVIII вв.
4
Стихи на скалах Цогту-тайджи
Хотя различно местопребыванье
Владык небесных и царей земных,
Единый круг любви и состраданья
Объединяет нераздельно их.
Для бодисатв пещер Ашганистая
И тех, кто озарения достиг
Там, где земля клубится золотая,
Круг милосердия един как миг.
Отличны воеводы Эрлик-хана
По виду от сановников земных,
Но различенье правды и обмана
В единый круг объединяет их.
По разному живут чужой бродяга
И зверь лесной – голодный господин.
Но круг для тех, кто добывает блага,
Живую умерщвляя плоть, един.
Не схожи внешне вор и волк матёрый,
Что бродит у овчарни по ночам,
1 Перевод Н. П. Шастиной.
136
ЧАСТЬ 2
Но черный круг несытой жадной своры
Един для ими движущих начал.
Тоска моя! От Толы до Орхона
Лети к сестре в далёкие края,
Перекликаясь с волнами Онона
В земном едином круге бытия.
Коль в этой жизни встретиться не сможем,
То в будущих перерожденьях вновь
Друг друга мы отыщем и поможем
Продлить и сохранить свою любовь1.
«Стихи на скалах Цогту-тайджи», названы Б. Я. Владимирцовым «народной
песней, попавшей в книгу и получившей книжный, письменно-монгольский облик».
Они являются одним из ярких образцов авторской лирической песни.
5Долгих лет тебе жизни!
Продолжительного счастья!
Вырастить высокий урожай,
Взять невесту-рукодельницу!
Подобное короткое благопожелание было чрезвычайно распространено
в монгольском быту.
Гаадамба Ш., Д. Цэрэнсодном. Монгол ардын аман зохилын дээж бичиг / Ред.
академич Ц. Дамдинсурэн. Улаанбаатар, 1978.
Кульганек И. В. Каталог фольклорных материалов Архива востоковедов при
СПбФ ИВ РАН. СПб., 2000.
Монгол ардын зан =йлийн аман зохиол / Ред Х. Сампилдэндэв. Улаанбаа-
тар, 1978.
Сампилдэндэв Х. Монгол б==вэйн дуу. Улаанбаатар, 1998.
Alimaa Ayurshjav. Registration of magnetic tape Records kept by Collection of
Mongolian Folklore and local Dialects. Vol. II. Ulaanbaatar, 2004.
Alimaa Ayurshjav, Katuu Balchig. Registration of written Materials kept by Collection
of Mongolian Folklore and local Dialects. Vol. I. Ulaanbaatar, 2004.
1 Перевод Л. Букиной
137
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
М. МУКАНОВ, М. СУЛЕЙМЕНОВ
ТЕХНОЛОГИЯ «ГИБКОГО ЧИЯ» В ИСКУССТВЕ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСКОГО ГОБЕЛЕНА
Искусство современного гобелена для мастеров художественного текстиля
всегда представляло собой экспериментальный полигон по поиску и реализации
новых изобразительных форм выражения. В первую очередь, это было связано
с разнообразием технологий его изготовления. Сочетание классического ткачества
с иными техниками, в том числе с аппликацией, коллажем, вышивкой различных
характеров, позволяющими придать фактуре гобелена внутреннее движение и про-
явить больше свободы в композиции, довольно характерно для пластического язы-
ка гобеленов последних лет. В этом можно убедиться, ознакомившись с авторскими
произведениями, представленными в иллюстрированном каталоге Первого россий-
ского триеннале современного гобелена «Квадратный метр», проведенного осенью
2011 г. в государственном музее-заповеднике «Царицыно» в Москве [Каталог, 2011.
С. 1–448].
Богатство различных авторских методов фактурного и ворсового ручного
ткачества также характерно для искусства казахского гобелена. Истоки этого яв-
ления заложены в богатых традициях прикладной культуры казахского народа.
Опираясь на них, художники создают интересные произведения в современной
изобразительной эстетике, наполняя их выполненными вручную элементами ди-
зайна. В таком ключе сотканы произведения последних лет известного мастера на-
циональной школы художественного текстиля – Сауле Бапановой.
Для нее само ткачество, сама структура гобелена являются носителями об-
разного содержания произведения. Бапанова создает саму материю и эта деятель-
ность совершенно другой природы, чем, например, живопись. В ее работах тек-
стильное выражение темы достигается не за счет стилизации изобразительных
форм, а за счет самой системы ткачества, «поведения» и свойства материала. Она
прекрасно чувствует, как сам материал и техника ткачества управляют творческим
процессом, оказывая на него самое активное воздействие. Анализируя этот период
творчества художницы, известный казахстанский искусствовед Баян Барманкулова
пишет: «В своих произведениях Бапанова…воспевает степь, красоту ее рельефов,
динамику пространств и многоцветье трав, но обходится условным их обозначени-
ем» [Барманкулова, 2010. С. 3].
138
ЧАСТЬ 2
Интересным художественным решением Бапановой стала инкрустация гобе-
ленов полудрагоценными камнями. Размером от 1 до 4 см в диаметре и закреплен-
ные по особой технологии они органичным образом взаимодействуют с текстурой
тканного полотна, превращая гобелены в современные произведения с эстетиче-
скими характеристиками авторского дизайн-концепта. Это изобразительное ноу-
хау стало своеобразной визитной карточкой Сауле Бапановой в искусстве современ-
ного казахского художественного текстиля.
Другой визитной карточкой в искусстве современного гобелена является ав-
торская технология «гибкого чия». Такое название ей дал Малик Муканов (один
из соавторов публикуемой статьи) – художник-монументалист, посвятивший свою
творческую деятельность созданию произведений в технике гобелен. Он первый
и на данный момент единственный художник, привлекший «гибкий чий» в свои
гобелены для обыгрывания художественных образов. Итогом его работы стало соз-
дание целой серии произведений, сочетающих в себе эстетику современной изо-
бразительной культуры. Гобелены Муканова, балансируя на грани искусства худо-
жественного текстиля и артдизайна, наполнены глубоким образно-философским
содержанием. Поэтапное рассмотрение изобразительно-художественных и техно-
логических аспектов творчества художника в данном направлении станут основной
задачей этой статьи.
Чтобы проследить путь рождения технологии «гибкого чия», нужно будет
вернуться к самым истокам, ко времени, когда художник-неофит получил первые
уроки ткачества в художественной мастерской Алибая и Сауле Бапановых. Здесь
он освоил не только саму технику ручного ткачества, но и ознакомился с множе-
ством приемов по декоративному оформлению уже сотканного изделия. Один
из них заключается в том, что нижний край гобелена облагораживается свободно
висящими концами пряжи (обычно ковровой толщины, по 3-4 нити в одном хво-
сте), основание которых специальным узлом крепится сквозь тканное полотно. Что-
бы декоративные хвосты смотрелись гармоничным продолжением готового изде-
лия, их цветовая гамма подбирается в тон к общему колориту.
Такая бахрома, достаточно разнообразная по длине и густоте, способствует
тонкому варьированию физических параметров уже законченного произведения.
Например, квадратному гобелену длинная бахрома выдает вертикальный формат.
Также декоративные хвосты визуально придают гобеленам архаичность, наделяют
их национальным оттенком, присущим казахским коврам.
В наши дни подобный подход в оформлении произведений ручного ткачества
является большой редкостью. Это связано как с изменениями эстетических норм
дизайна современных интерьеров, так и с тем обстоятельством, что большинство
гобеленов натягивают на подрамники наподобие холста, а края работы на картин-
ный манер облагораживают художественным багетом.
139
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Но вернемся к теме нашей статьи. В одном из своих гобеленов Бапановы, ис-
пользуя традиционные приемы изготовления чия, поверх декоративной бахромы
у основания их крепления накрутили пряжу различных цветов. Длина накрутки
составляла примерно от 5 до 10 см, таким приемом обрабатывались не все хвосты,
а только каждый 5-6-ой пучок из общей череды. Подобным образом, синтезируя де-
коративно-изобразительные приемы оформления текстильных произведений с эле-
ментами авторского дизайна, художники нашли еще одно изящное решение, позво-
ляющее визуально обогатить висящий на плоскости стены гобелен.
Весной 1996 года, будучи студентом 5 выпускного курса Казахской госу-
дарственной художественной академии по специальности «Монументальная жи-
вопись», М. Муканов, для защиты дипломного проекта, берется за изготовление
серии работ из трех гобеленов под общим названием «Кочевники». Завершение
работы над одним из этих декоративных панно с одноименным триптиху назва-
нием «Кочевники» (1996 г., размер 110 × 200 см) привело автора в тупик. Пробле-
ма состояла в том, что созданное произведение, по изначальной задумке имевшее
квадратный композиционный формат, автор решил закрепить на несущей рей-
ке не совсем обычным приемом. Считая, что даже такая деталь, как характерная
особенность крепления флагов и знамен к древку, которую использовали древние
тюрки [Горелик, 1993. С. 201–205], может придать панно дополнительный этноколо-
рит, Муканов пять верхних тканных концов гобелена, длиной почти 20 см каждый,
фиксирует на горизонтальной рейке. Но, повесив работу для обозрения на стену,
художник понимает, что выбор формата не совсем удачен, поскольку произведение
не выглядит законченным. Спасти ситуацию могло бы лишь визуальное увеличе-
ние длины гобелена по вертикали. Тогда он пришел к решению не только оформить
гобелен 60-ти сантиметровыми хвостами, но и применить на них обвязку пряжей,
которую видел ранее на работе Бапановых. Только в отличие от их способа, Мука-
нов обработал каждый пучок хвоста по отдельности. В итоге, ручная технология
этого процесса заняла времени не меньше, чем ткачество самого гобелена. Однако
усилия, приложенные художником, не пропали даром. Ведь в уже по-настоящему
законченном виде работа представляет собой неординарное декоративное панно,
несущее в себе дух традиционной казахской прикладной культуры и художествен-
ного решения в современной абстрактно-образной изобразительной манере.
Композиционный строй произведения состоит из абстрактных пятен, кото-
рые в некоторых случаях перетекают друг в друга, а в других накладываются одно
поверх другого. Причем в этом кажущемся на первый взгляд изобразительном хаосе
при внимательном рассмотрении можно увидеть силуэты луны и солнца, стилизо-
ванные фигуры людей и чего-то еще, своим профилем напоминающие крылья ми-
фических птиц. Все они располагаются вокруг центрального образа – коня с разве-
вающейся гривой, являющегося первостепенным символом кочевого образа жизни.
140
ЧАСТЬ 2
Абстрактность образов с минималистичной силуэтностью фигур, тягучесть
цветовых переходов с одновременной резкостью в тональных соотношениях вы-
зывает ощущение «дежавю». Словно созерцаешь некую иррациональную подвиж-
ную субстанцию – совершенно другое физическое измерение, живущее своей таин-
ственной жизнью и являющееся отголоском ушедших эпох кочевых цивилизаций.
Общая цветовая гамма произведения довольно темная и по общему коло-
риту напоминает старые казахские ковры. Несмотря на присутствие множества
цветов, в композиции доминируют сложные сочетания алого, красно-коричневого
и темно-бордовых оттенков.
Из ранее сказанного мы знаем, что декоративная бахрома, украшающая ана-
лизируемый гобелен, автором изначально не задумывалась. Но, творчески развив
сложившуюся ситуацию, художник нашел решение улучшить изобразительные
качества гобелена. Так, пучки хвостов, взятые по тону на порядок темнее обще-
го колорита произведения, служат своеобразным фундаментом, уравновешиваю-
щим цветовую динамику всей композиции. А полоса беспрерывного строя обвязок
на хвостах, чередующихся по тону и цвету и напоминающих своей изобразитель-
ной структурой молекулярное строение генетического кода человека, также вносит
свою лепту в построение образной концепции гобелена. Она напоминает современ-
ному городскому зрителю о том, что на уровне генетики существует неразрывная
взаимосвязь между художественными образами, возникающими у него в сознании
при созерцании данного гобелена и его историческим прошлым, когда его предки
вели кочевой образ жизни.
Создание именно этого гобелена в дальнейшем стало для художника той от-
правной точкой, с которой он начал трудиться над разработкой технологии «гибко-
го чия» в дальнейших работах.
Впервые «гибкий чий» им привлекается при создании гобелена «Спираль»
(2003 г., размер 110 × 110 см). К Муканову приходит идея использовать технологи-
ческие преимущества «гибкого чия» перед его «собратом», выполненным традици-
онным образом. В классическом виде чий (в казахском языке – «шим ши») – это ци-
новки, используемые в декоративном убранстве казахской юрты. Как большинство
предметов убранства казахской юрты они имели одновременно утилитарное и де-
коративное значение [Маргулан, 1986. С. 91]. «Шым ши» состоит из множества скрепленных между собой в единое полот-
но твердых сухих соломинок, взятых из стеблей растения с одноименным названи-
ем (семейство камышовых). На каждый из них методом накручивания окрашенной
натуральной пряжи наносится свой рисунок. Принцип построения изображения
в нем очень похож на метод растрового построения рисунка в компьютерных про-
граммах для рисования.
Слабым звеном традиционной технологии является сам стебель. Он до-
вольно хрупок, может быть использован только в прямо лежачем положении,
141
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
так как на изгибе легко ломается. Чтобы избежать этого, художник в качестве ос-
новы использует капроновую нить толщиной около 4 мм. А вместо овечьей пря-
жи накручивает на нее колерованную смесь нужного цвета из готовых шерстяных
и синтетических нитей. Места начала и завершения накрутки проклеивает клеем
ПВА, который при высыхании становится прозрачным, вследствие чего швы не так
сильно бросаются в глаза.
В итоге получается соломка чия, внешне напоминающая традиционную,
но толще ее в диаметре примерно в два раза. К тому же она способна, не разру-
шая своей структуры, изгибаться даже под углом 90 градусов и меньше. Ей можно
придавать практически любую конфигурацию и, в зависимости от обстоятельств,
разрезать в любом месте, предварительно обработав место рассечения с помощью
ПВА. Конечно, как и при изготовлении традиционного «шим ши», на всех стадиях
производства «гибкого чия» применяется только ручная работа, что подразумевает
большое количество затраты времени и труда.
Вообще, сам процесс открытия новых технологических приемов вовсе не ха-
рактеризуется спонтанностью момента, в котором мастеру в виде озарения прихо-
дит идея как-то по-новому использовать, например, пряжу при ткачестве гобелена.
Ему больше импонирует поступательность, когда методом проб и ошибок, от пер-
вого до последующих произведений новый технологический прием шлифуется и,
в конце концов, становится равноправным изобразительным инструментом в по-
строении композиции.
Здесь вкратце необходимо упомянуть еще об одной технологической особен-
ности работы с «гибким чием», стебли которого представляют собой довольно жест-
кий каркас. При его пришивании к свободно висящему гобелену, вследствие своей
упругости, он значительно деформирует тканную изобразительную поверхность.
В итоге, произведение получает неопрятный вид и возникает обманчивое ощуще-
ние того, что с ним небрежно работали. Чтобы избежать этого, гобелен вначале
необходимо натягивать на подрамник наподобие холста и только потом крепить
на него чий. Только в этом случае он своей жесткостью не портит тканную основу
гобелена.
Квадратный формат композиции гобелена «Спираль» Муканов разделяет тол-
стыми черными линиями, идущими от центра к краям на неравные сегменты. Они,
в свою очередь, делятся на разноцветные геометрические фигуры разной величи-
ны. Получившееся декоративное панно, являющееся подосновой для дальнейшей
работы, своим изобразительным стилем напоминает произведения нидерландско-
го художника Пита Мондриана, который наряду с Кандинским и Малевичем, счита-
ется основоположником абстрактной живописи [Полевой, 1989. С. 24]. Поверх тканной основы автор накладывает стебли «гибкого чия», начальный
завиток которого располагает по центру равностороннего прямоугольного полот-
на. Затем попеременно, то утолщая, то утончая, и местами даже коротко прерывая
142
ЧАСТЬ 2
линию спирали, развивает ее движение до тех пор, пока она почти не подходит
к краю гобелена. В результате зритель видит в рисунке спирали аллегорический
образ Вселенной.
С образной точки зрения здесь сталкиваются два важнейших принципа бы-
тия: спираль, как основа мироустройства, и спираль, как частная жизнь человека
(индивидуума). Получается, что человеческая судьба и судьба Абсолюта – Вселен-
ной находятся в нерасторжимом единстве. Что у того и другого есть определенная
программа развития (спираль), и что все в мире пронизано единым началом.
Созерцание человеком спиралевидного изображения придает его восприя-
тию чаще всего психоделический характер, и здесь следует упомянуть, что символ –
знак особенный, говорящий о многозначности образа. Видимый предметный образ
и потаенный глубинный смысл выступают в структуре символа как два полюса, не-
мыслимые один без другого, так как смысл утрачивает вне образа свою явствен-
ность, а образ вне смысла рассыпается на разрозненные компоненты. Так, по край-
ней мере, хочется подвести философскую подоплеку этой работы.
Примечательно, что изобразительные компоненты, создаваемые сложной
визуальной структурой «гибкого чия», в современном гобелене могут восприни-
маться как некое зашифрованное послание от автора к зрителю. Конечно, чтобы по-
нять такой закодированный текст с бинарной основой изложения, зритель должен
владеть определенным дешифраторным ключом. Иначе он просто будет не в силах
расшифровать увиденное. Появление подобных художественных явлений в совре-
менном изобразительном искусстве предрекал искусствовед, специализирующий-
ся на немецком экспрессионизме и абстракционизме – Уилл Грохманн (1887–1968).
Он утверждал, что в произведениях изобразительного искусства будущего сло-
во или словосочетания могут стать полноправными членами построения опреде-
ленного художественного образа или идеи, выраженной в текстовом эквиваленте
[Chametzky, 2013. P. 493–498].
Но художник не удовлетворяется достигнутым результатом. Причина кроет-
ся в том, что в современном изобразительном искусстве (в том числе и в искусстве
гобелена) при создании работ авторы часто увлекаются поиском только техноло-
гических аспектов, ставя их во главу угла. И в дальнейшем, творчески спекулируя,
превращают их в авторские дизайнерские «фишки». При таком подходе получа-
ются внешне эффектные произведения, художественно-изобразительные достоин-
ства которых вызывают сомнение. Они скорее являются хорошо замаскированны-
ми под современное искусство технологичными элементами дизайна в интерьере
и не несут образного и сюжетного содержания.
При классическом подходе решения поставленной художественной задачи
сюжет и замысел должны диктовать и определять форму любого произведения ис-
кусства, в том числе и картины. Она не может быть бессюжетной и тем более без-
образной (ударение на втором слоге). Идея, замысел, концепция, художественная
143
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
мысль или образ – как ни назови эти понятия, но именно они являются фундамен-
том, на котором должна строиться композиция. В дальнейшем для развития ее изо-
бразительной структуры привлекаются сюжет и стилистика. Искусство не способ-
но существовать без сюжета и художественного образа, как нет творческого поиска
без нахождения, обобщения и отбора деталей, создающих наполненную и подлин-
но художественную форму.
Если в сути творчества определить главное основополагающее начало, то оно
выразится в двух понятиях: «что» и «как». Все таинства рождения художествен-
ной мысли в образах происходят в душе художника. «В форме искусства, – пишет
Э. Ильенков, – развивалась и развивается та самая драгоценнейшая способность,
которая составляет необходимый момент творчески-человеческого отношения
к окружающему миру, – творческое воображение или фантазия. Иногда, ее назы-
вают также “мышлением в образах” в отличие от “мышления в понятиях”, или соб-
ственно “мышления”» [Ильенков, 1964. С. 50]. Если у творца нет за душой «что», нет
образа и содержания, нет того, что он хочет выразить и рассказать зрителю, то са-
мые невероятные и изощренные искания формы – «как» – останутся всего лишь
прикрытием творческой пустоты, отсутствия фантазии и амбициозных вывертов
«самовыражения» художника. То есть всего того, что характеризует его духовную
незрелость.
По прошествии некоторого времени после создания «Спирали» М. Муканов
переосмысливает свое отношение к разработанной им технологии «гибкого чия».
Он приходит к выводу, что если элементы чия в его композициях не будут пред-
ставлять собой какой-либо предметный или образный символ, выступающий в еди-
ной смысловой структуре произведения, то они будут восприниматься всего лишь
внешним украшением гобелена – уже упомянутыми ранее дизайнерскими «фишка-
ми». А подобный подход, основанный только на технологических аспектах новатор-
ства, исключающих в своем начале поиск художественного образа, не является для
художника подлинно творческим.
В 2007 г. художник работает над новым авторским вариантом гобелена «Три-
единство» (размер 110 × 200 см). Первый вариант этого гобелена он создает еще
в 1999 г. и в нем обращается к сложной социально-культурной проблематике трай-
бализма, скрыто присутствующего в современном казахском обществе.
Само понятие «трайбализм» (англ. тribalism, тribal – племенной, родовой)
расшифровывается как межплеменная, а чаще межродовая рознь внутри одного
единого народа и стремление одного из родов к отделению, обособлению, возвыше-
нию перед другими родами. Как известно, казахский народ состоит из объединен-
ных родов. Они, в свою очередь, входят в состав трех жузов – Старшего, Среднего
и Младшего. Так, в гобелене образы жузов представлены тремя кругами в центре
художественного полотна. Они образуют общую фигуру равностороннего треуголь-
ника. В первом варианте гобелена вокруг этой фигуры непрерывной вязью, в виде
144
ЧАСТЬ 2
квадрата (в других вариантах в виде круга), идет вышитое изображение родовых
знаков – тамга или танба. Они представляют основные казахские роды. Авторская
идея, заложенная в этом произведении, выражается мыслью о том, что каждому
представителю казахского народа необходимо знать историю и генеалогию своего
рода, но при этом чувствовать себя необходимо частицей единой и неделимой ка-
захской нации.
Символика не придумана автором, а художественно переработана в контек-
сте раскрытия образа единства казахской нации. Этот символ – три равных кру-
га, образующих единую форму равностороннего треугольника, известен с древних
времен. Например, в орнаментальных мотивах древнетюркской прикладной куль-
туры. Также этот символ использовал среднеазиатский правитель Мухаммедшах
на своем знамени в виде трех черных кругов, образующих треугольник в центре
темно-синего флага прямоугольной формы. В более поздний период времени свою
транскрипцию этого символа применил Святослав Рерих при создании «Знамени
мира». В его флаге три круга красного цвета расположены в центре белого полотни-
ща. Их обрамляет кольцо красного цвета.
Зрительный образ трех равных кругов, образующих общую форму равносто-
роннего треугольника, имеет также философское значение. Это образ «вечноизме-
няющегося постоянства», т.е. особенной формы мировоззрения, когда надо всегда
быть гибким (уметь меняться), но не терять при этом своей сути (основы). Она рав-
нозначно применима как для одного человека, или сообщества людей, так и для це-
лых народов и наций.
Новый авторский вариант «Триединства» в отличие от своего предшествен-
ника имеет более развитую и усложненную изобразительную структуру. Так, цен-
тральный образ – три круга, образующие треугольник, уже располагаются внутри
квадрата алого цвета, от которого по центральным линиям во все четыре стороны
до самого края гобелена расходятся лучи, деля его на равные части. Образуя равно-
сторонний крест, они одновременно зрительно усиливают внимание на центр ком-
позиции и уравновешивают ее. При этом они образуют еще один образный ход, пос-
кольку их крестообразная изобразительная схема ассоциируется с перекрестьями
шанырака в традиционной казахской юрте. Стебли «гибкого чия» проложены ши-
рокой полосой, не имеющей начала и конца, по периметру центрального квадрата
с тремя кругами внутри. Своим бесконечным потоком супрематических элементов
они символизируют казахский народ, в котором каждый сегмент – род, большой
или малый, вносит свою лепту в единство и неразрывность этноса.
В этом гобелене, несмотря на сложность выбранной темы, автор смог добить-
ся подлинного слияния изобразительной формы и образного содержания. «Гибкий
чий» не просто органично вписывается в изобразительную структуру произведе-
ния, но и является неотъемлемой частью композиции, и в целом работает на воз-
никновение нетривиального художественного образа.
145
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Важным моментом, о котором необходимо упомянуть, является факт испол-
нения гобелена в эстетике минимализма. Это относительно новое художественное
течение представляет собой культурный феномен, развивающийся в искусстве со-
временного казахского гобелена. Оно характеризуется тем, что композиции про-
изведений строятся с помощью точно найденных образов и символов с использо-
ванием минимальных, лаконично выверенных изобразительных средств. Истоки
его зарождения проистекают из самобытного творчества основателя казахской на-
циональной школы гобелена – Курасбека Тыныбекова. А период расцвета приходит-
ся на творческую деятельность известных мастеров казахского художественного
текстиля – Алибая и Сауле Бапановых. Многие их ученики, а также другие молодые
художники Казахстана, работающие в технике ручного ткачества, соотносят свое
творчество именно с этим новаторским художественным направлением. Не стал ис-
ключением и Малик Муканов, создавший серию гобеленов «Триединство» в изобра-
зительной эстетике минимализма.
Со следующим гобеленом, в котором Муканов использует «гибкий чий», про-
исходит такая же ситуация, как и ранее с созданием «Триединства». В 2011 г. со-
вместно с Самал Усентаевой художник работает над композицией гобелена «Т%рт
байтерек» («Четыре тополя» – в переводе с казахского языка), размер 100 × 110 см.
Изначально у авторов не было задумки привлекать в его изобразительную структу-
ру элементы «гибкого чия». Решение приходит позднее, уже после создания перво-
начального варианта гобелена, когда внезапно художники осознают, что «гибкий
чий» может помочь не только обогатить композиционный строй, но и наполнить
образно-изобразительную концепцию произведения новым смысловым содержани-
ем. Так появился новый вариант работы.
В обычных случаях при работе над форэскизом композиции будущего про-
изведения художник опирается на заранее продуманный изобразительный об-
раз и строит его в своем воображении в качестве комплекса каких-либо символов
или знаков. Но в этом случае все происходило несколько иначе, поскольку соавторы
поставили себе творческую цель создать гобелен, своим изобразительным языком
раскрывающий суть казахского благопожелания – «Т%рт �обла� т=гел болсын!».
Это известное «бата» (форма словесного благопожелания в казахской традицион-
ной культуре), которое является пожеланием благополучия человеку, его семье,
очагу, выраженное в лаконичной устной форме. Его перевод на русский язык в об-
разном эквиваленте звучит так: «Пусть все Ваши четыре стороны будут наполнены
до краев!».
Философско-смысловое содержание этого пожелания строится на том,
что в культуре казахского народа, как, впрочем, и у многих других народов мира,
человек считается гармонично-целостным индивидуумом, если в нем развиты –
«наполнены до краев», четыре основных жизненных аспекта бытия: духовное,
физическое (имеется в виду здоровье и сила в продолжении рода), материальное
146
ЧАСТЬ 2
и творческое. Те же 4 критерия гармоничного совершенства отождествляются с об-
разом семьи и очага, поскольку существование человека как социальной единицы
немыслимо без этих понятий.
Поэтому именно эти четыре аспекта – духовный, физический, материальный
и творческий являются основой, на которой строится образно-смысловой подтекст
всей композиции гобелена «Четыре тополя». Четыре силуэта этого священного для
казахов дерева занимают все пространство заднего плана композиции. Они пода-
ются художниками в стилизованной манере, в полный рост, от основания до ма-
кушки, и решены в графическо-линейном изобразительном ключе.
Желая выразить художественную идею минимальными средствами, авторы
выстраивают композицию посредством перекрещивающихся линий и форм эле-
ментарных геометрических фигур – квадрата, полусферы и четырех эллипсоидов.
Можно с уверенностью сказать, что данную изобразительную концепцию худож-
ники позаимствовали из гобелена Алибая и Сауле Бапановых «Мировая гора» (го-
белен красного цвета), 1999 г., размер 130 × 180 см. В этой работе силуэт Миро-
вой горы, очертания предгорных холмов и русло протекающей реки отображаются
с помощью скупого линейного изображения. Но все же, несмотря на внешнюю схо-
жесть изобразительной стилистики, гобелен Муканова и Усентаевой кардинально
отличается от произведения Бапановых. В отличие от «Мировой горы», он имеет
выраженную симметричную компоновку, а точнее симметрично-равностороннюю.
Линии разномасштабных геометрических фигур, волей авторов причудливо нало-
женные друг на друга, словно создают дополнительное четвертое физическое из-
мерение для полного выражения образно-смыслового содержания произведения
[Harle, 2014. P. 100–101].
Главный художественный образ гобелена представлен ромбовидным квадра-
том, расположенным в самом сердце композиции. Его четыре угла сориентированы
по центральным осям верхней, нижней, правой и левой сторон произведения, а сам
он состоит из разномасштабных и разноцветных супрематических элементов, на-
поминающих традиционный казахский «курак» – во многом «фирменный стиль»
гобеленов Малика Муканова. Над центральным квадратом ромба, словно очерчи-
вая купол неба, проходит черная линия силуэта казахской юрты. На ее вершине –
шаныраке, почти на уровне макушек тополей, устроилась стилизованная фигурка
Кумай – благословенной птицы, приносящей радость и удачу домашнему очагу. Не-
большая черная фигура идущего быка, на спину которого опирается нижний угол
ромба, визуально уравновешивает всю композицию. Без его присутствия изобра-
зительный образ ромба как олицетворения семейного очага стал бы эфемерным,
висящим в пространстве без точки опоры, что в корне противоречило бы общей ху-
дожественно-смысловой канве произведения.
Маленькие фигурки людей – чабан, верхом на лошади бредущий по степи
с отарой овец, и мужчина с женщиной, путешествующие на коне, расположены
147
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
справа и слева от центрального ромба, насыщают точно найденными деталями
изобразительную структуру гобелена.
Ярко-контрастными цветовыми сочетаниями наполнена только центральная
часть произведения. Остальное пространство решено в мягком колорите приглу-
шенных коралловых, нежно-розовых и бело-кремовых цветосочетаний, подчинен-
ных главному цвету композиции – черному. Он также является доминирующим
во втором варианте этого же гобелена, в котором уже использована технология
«гибкого чия». Но в нем общий цветовой колорит становится еще более монохром-
ным. Это обстоятельство проистекает из того, что соавторы сознательно минимизи-
руют цветовую гамму, чтобы «гибкий чий» как изобразительный элемент смотрел-
ся более выигрышно и визуально не растворился в общей изобразительной гамме
гобелена.
В этом втором варианте гобелена «Т%ртбайтерек» соломинки «гибкого чия»
нашиваются сплошной четырехсантиметровой полосой по краю всего периметра
центрального ромба. Своей сложной супрематической структурой они гармонич-
но вписываются в центральный изобразительный символ, поскольку он тоже со-
стоит из «куракообразных» лоскутных сегментов. «Гибкий чий» в этой композиции
не только поддерживает идею, что человек совершенен при условии, когда «напол-
нены до краев» его четыре главных аспекта бытия, но и символизирует собой весь
спектр личностных качеств, эмоций и навыков, сопутствующих индивиду, живуще-
му полноценной и полнокровной жизнью.
Следующее свое произведение с использованием технологии «гибкого чия»
под названием «Нойон», 2012 г., размер 110 × 110 см, изобразительно художник так-
же решает по канонам эстетики минимализма.
Почти все изобразительное пространство гобелена занимает фигура идущего
громадного черного быка со вскинутой головой и рогами, стилизованными в фор-
ме луны. Визуально разнородные, цветные и многочисленные элементы, объеди-
ненные фантазией художника в силуэте нарастающей луны, символизируют общ-
ность людей, находящихся в прямом влиянии главного персонажа композиции, чей
художественный образ явлен зрителю в виде небольшой фигуры человека – Ной-
она. Он восседает в шатре, который балансирует на самой макушке горы, являю-
щейся также спиной быка. В данном случае могучее животное, несущее главного
героя композиции и имеющее символическое значение во многих мировых культу-
рах [Голан, 1992. С. 52–62], представлено автором в двойном смысловом ракурсе.
Он одновременно представляет собой неприступную гору – нечто недоступное для
покорения обычного человека, и в то же время некий транспортирующий объект,
поскольку внутреннее пространство его рогов заполнено супрематическими сег-
ментами «гибкого чия».
Нойон – это должность в военно-прикладной иерархии монгольской армии
времён Чингиз-хана. Под его подчинением находилась тысяча воинов, которые
148
ЧАСТЬ 2
делились на сотни и десятки, а также члены их семей. В его обязанности входило
не только военное руководство вверенными ему людьми, но и решение администра-
тивно-правовых вопросов, таких как контроль соблюдения свода законов – «Ясак»,
судопроизводства и исполнения наказаний. Такой широкий круг обязанностей,
сконцентрированный в руках одного человека, исходил из того, что зачастую в во-
енных походах армию Великого Каана сопровождали семьи воинов. За находящий-
ся в его власти социум людей, нойон нёс ответственность только перед Чингиз-ха-
ном.
Ной – известный библейский персонаж, сын Адама, который по указанию
Всевышнего спас представителей животного и растительного мира Земли во вре-
мя Всемирного Потопа. Для этой цели он построил большой корабль известный
как «Ноев Ковчег».
Художник в представленном произведении не просто интересно совместил
личные качества вышеназванных персонажей, наделенных властью и ответствен-
ностью, но также обыграл схожесть их имен. Он выстроил многогранный и одно-
временно цельный образ человека – руководителя, учителя, наставника, который
сам знает, какой дорогой идет, и способен вести за собой других. Такие взаимоот-
ношения встречаются в повседневной жизни людей в различных проявлениях: на-
чальник – подчинённые, педагог – ученики, тренер – воспитанники и т. д.
В колорите гобелена доминируют вариации черно-коричневого, серо-сталь-
ного, белого и кораллового цветов, подобранных в изысканных меланжевых соче-
таниях.
Такой же цветовой колорит и те же образы – маленькая фигура человека,
бык-гора-ковчег, но решенные в несколько ином изобразительном ключе, худож-
ник привлекает при работе над авторской интерпретацией темы «Нойона» в дру-
гом гобелене. Созданное в тот же год, это произведение – «Нойон. Спираль», размер
110 × 170 см, отличается от первого варианта не только прямоугольным разме-
ром. Хотя «гибкий чий» в нем также символизирует группу людей, объединенных
под началом одного человека. Но уже не в виде луны, а в качестве двух спиралей,
закручивающихся навстречу друг другу на фигуре размеренно шествующего быка.
Ничего негативного в том, что автор сделал своеобразный «дуплет», исполь-
зуя схожие изобразительные приемы для решения художественного образа, нет.
Так уж сложилось, что искусству гобелена вообще присуще наличие многочислен-
ных авторских вариантов и интерпретаций одной и той же темы. Часто они состав-
ляют целые серии произведений, объединенных единым изобразительным стилем
и тематикой. Муканов в своем творчестве часто привлекает подобный подход, на-
пример, при создании серий гобеленов «Триединство», «Лабиринт», «Ре�кті дала» –
в соавторстве с А. Жамханом, «Т%рт байтерек» – в соавторстве с С. Усентаевой и др.
Еще одним обстоятельством, оправдывающим многовариантность од-
ной и той же темы, является тот факт, что в серии гобеленов «Нойон», как
149
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
и в перечисленных выше, найденный автором художественный образ столь мо-
нументален и многогранен, что сам требует от создателя различных вариантов
его универсального изобразительного выражения. Что, собственно, и подтолкну-
ло к ряду работ под одним названием и одним главным персонажем, и вполне воз-
можно, что в последующих работах он еще не раз обратится к названной тематике,
имея в виду и понимая, что только прикоснулся к неисчерпаемому источнику.
В заключение, проследив на примере творчества Малика Муканова путь
рождения и развития технологии «гибкого чия», нужно отметить, что перед ищу-
щим художником всегда существует возможность найти новые изобразительные
решения для воплощения авторских художественных идей. При этом надо помнить
и не забывать сказанное великим мастером Жаном Люрса, французским худож-
ником и реформатором, возродившем европейское искусство гобелена во второй
половине XX века: «Дело не в технологии, технология лишь инструмент, но никак
не отправная точка» [Баткин, 1978. С. 94]. Каждый великий художник – прежде
всего новатор. Именно он по-новому, как никто до него, выражает свое понимание
таинства, красоты и гармонии окружающего мира, свою позицию по отношению
сил борьбы добра и зла, свое понимание внутренней сути природы человеческих
взаимоотношений между собой и Создателем. Но новаторство невозможно без тра-
диции. Она подобно «нити Ариадны» не дает заблудиться творцу в лабиринте мно-
голикого, постоянно перестраивающегося и меняющегося мира. А в итоге полу-
чается, что новаторство – это по-новому пережитые, осмысленные и воплощенные
традиции. Опираясь на них в своем творчестве и открывая новые технологические
приемы, авторы гобеленов способны создавать неординарные новаторские произ-
ведения, выражающие всемерное развитие современной культуры казахского наро-
да. Ведь «…духовная жизнь казахской нации получила в наследство от прошедших
поколений самобытную культуру, способную не только воссоздать окружающий
мир собственными художественными средствами в соответствии с собственным
миропредставлением, но и обогащаться и развиваться в процессе взаимодействия
с культурами других народов, сообщая, в свою очередь, им свое высокое эстетиче-
ское качество» [Акатаев, 1993. С. 31].
Акатаев С. О специфике культуры кочевников // Кочевники. Эстетика. Алма-
ты, 1993.
Барманкулова Б. Предисловие // Алибай, Сауле, Агын, Айя Бапановы. Ката-
лог. Алматы, 2010.
150
ЧАСТЬ 2
Баткин Л. Жизнь и творчество Жана Люрса // Советское искусствознание.
Вып. 2. М., 1978.
Голан А. Миф и символ. М., 1992.
Горелик М. В. Оружие Древнего Востока (IV тысячелетие – IV в. до н. э.). М., 1993.
Ильенков Э. Об эстетической природе фантазии // Вопросы эстетики. М., 1964.
Каталог. Первая российская триеналле современного гобелена в «Царицыно».
Орел, 2012.
Маргулан А. Х. Казахское народное прикладное искусство. Т. I. Алма-Ата, 1986.
Полевой В. М. Двадцатый век. М., 1989.
Chametzky P. Will Grohmann: Text on Modern Art // Art bulletin. Issue: 3. New
York: Coll art assoc., 2013.
Harle R. The fourth dimension and non-euclidean geometry in modern art // Art
bulletin. Issue: 1. Cambridge: Mit press, 2014.
151
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Б. Е. ОСПАНОВ, Ж. Н. ШАЙГОЗОВА, М. Э. СУЛТАНОВА
КУЛЬТ СВЯЩЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ДОМБРА
Если домбра сама по себе является особой персонификацией божественных
сил – ее внешний вид, структура, звук и т.д., можно предположить, что все, форми-
рующее ее физическое и ментальное «тела» также подчинено единому сакральному
замыслу. В частности, материал, из которого должна быть изготовлена домбра.
Итак, единственно гармоничным материалом, полностью отвечающим тра-
диции и правилу, является дерево. Для изготовления домбры древние мастера ис-
пользовали преимущественно ель, сосну, дуб, березу, арчу и чинару. Изначально
домбра выдалбливалась из цельного куска дерева, но гораздо позже, по-видимому,
с XVI–XVII вв. стала представлять собой сборную конструкцию. Традиция выдал-
бливания инструмента из цельного куска дерева связана с мифологическими пред-
ставлениями о сакральности и неприкосновенности дерева. Долбление как метод
изготовления музыкальных инструментов, было определено закреплением этого
способа обработки дерева, как основного, для изготовления деревянных ритуаль-
ных предметов из священных пород деревьев. Это подтверждается данными архео-
логических раскопок [Халтаева, 1991. С. 27].
Л. Халтаева замечает, что при применении дерева для изготовления музы-
кальных инструментов соблюдалось два условия: 1) материалом для инструментов
выбирались священные породы деревьев (деревья-тотемы); 2) сохранялась целост-
ность дерева в инструменте (изготовление из единого куска дерева методом дол-
бления). Сохранение целостности дерева связано с тотемической табуацией дере-
вьев – запретом рубки деревьев [там же. С. 26].
Материал инструмента – дерево – само по себе сакрально для номадов,
его выбор «зависит исключительно от «духов» или внечеловеческой воли», и по су-
ществу материал перестает быть «обыкновенным деревом и представляет само Дре-
во Мира» [Элиаде, 2001]. Подобное представление сохранилось вплоть до наших
дней и у казахских музыкантов, практикующих исключительно традиционную
музыку. Они предпочитают не просто играть, но уметь собственноручно изгото-
вить музыкальный инструмент. Здесь мы сталкиваемся с особой философией, где
инструмент должен не просто попасть к исполнителю уже в готовом виде, а мастер
обязан был сам сотворить священный ритуал, трансформируя материю в нечто са-
кральное, живое. Только так домбра действительно станет спутницей, другом, спод-
вижницей своего хозяина, визуализируя принцип «трех элементов»: «ремесленной
152
ЧАСТЬ 2
работы», мысли и пассионарности художника, «перелившего» часть своей энергии
в свое произведение [Гумилев, 2002. C. 471].
Таласбек Асемкулов рассказал случай, когда старый домбрист в гостях вдруг
попросил хозяина дома отдать ему для домбры доску подоконника. Хозяин незамед-
лительно выполнил эту необычную просьбу гостя. Один из лучших своих кобызов
выдающийся кобызист современности Сматай Умбетбаев «узнал» в доске, подло-
женной в грязь под домкрат каким-то шофером, основываясь именно на законе ме-
тонимии, согласно которому часть представляет целое, равна ему (этот закон ми-
фологического мышления современная наука переоткрыла в явлениях голографии,
ДНК и пр.) [Наурызбаева, 2009].
К ХVI столетию казахи, приняв (процесс, затянувшийся на многие столетия)
одно из правых течений мусульманства – суннитское вероисповедание ханифит-
ского толка, по-прежнему продолжали придерживаться тенгрианства и избирали
из мусульманского учения только те места, которые соответствовали их привыч-
ным понятиям. Об этом свидетельствует неординарный случай, раскрывающий
сущность домбры.
«Ескали-сопы прервал намаз возмущенным обращением к Кашагану: “Не-
счастный, это Божий дом, а не дьявольский дом, поставленный для музыки и пе-
ния. Как в этот дом попала домбра – сатанинское высохшее дерево?!”. Поношение
домбры Кашаган воспринял не просто как личное оскорбление, но как поругание
достоинства казахского народа, его истории и культуры. Отталкиваясь от выраже-
ния сопы “сатанинское высохшее бесплодное дерево”, Кашаган-жырау тут же им-
провизируя, разворачивает ряд великолепных метафор, глубинный смысл которых
раскрывается следующим образом:
Это сухое дерево в моих руках поет.
Это благословенное дерево, там, где оно выросло, забил родник.
Это дерево – знамя в руках одухотворенных героев.
Это дерево – прибежище души и крепость одинокого.
Его ветви с небес опускаются вниз,
чтобы продлить жизнь голодного.
Это дерево – доля благ,
которую Всевышний приготовил для каждого созданного
Им существа.
Это дерево было колыбелью пророков и дверью Каабы.
Это дерево было мечетью и ножнами священных сабель.
Это дерево было луком
одухотворенных батыров и рукоятью копья батыра.
Это дерево было крылатым конем при переправе через реку.
Это дерево было светильником во тьме,
опорой больных и бесприютных.
153
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Это дерево было источником для вдов и сирот,
посохом религиозных людей.
Наш предок пророк Адам
Пришел в этот мир, играя на семиструнном сазе.
Музыка, что звучала тогда, звучит и сейчас.
Подобные тебе невежественные сопы неспособны понять
Ни мирскую радость общения,
ни опасность Судного Дня…» [там же].
Метафоры великого казахского жырау ярко демонстрируют его уверенность
в том, что Домбра сделана из древесины самого Мирового Древа. Здесь необходи-
мо отметить, что концепция Мирового Древа является одной из ключевых в мифо-
поэтике всех без исключения мировых культур. Одной из граней этой концепции
выступает культ священных деревьев, также свойственный всем архаичным тра-
диционным мифорелигиозным системам: «образ дерева избран не только как сим-
вол Космоса, но и как способ выражения жизни, молодости, бессмертия, мудрости
и знания. В германской мифологии, истории религии известны Деревья Жизни (на-
пример, в Месопотамии), Бессмертия (Азия, Ветхий Завет), Мудрости (Ветхий За-
вет), Молодости (Месопотамия, Индия, Иран)» [Элиаде, 1994].
Весь процесс изготовления домбры занимал четыре года, меньший срок ли-
шал инструмент сакральных свойств, превращая его в просто неплохо обработан-
ный кусок дерева. Заметим, что в целом это искусство претерпело лишь незначи-
тельные изменения, сохранив знание и понимание основных этапов. Происходило
эта так: после выбора подходящего дерева мастер на время помещал его под про-
точную воду, затем сушил его. Потом из цельного куска дерева вырубал болван-
ку, которая хранилась в сухом месте в течение трех лет. Когда дерево как следует
просушивалось, болванка стягивалась, и могли появиться трещины, изгибы. Толь-
ко после их устранения мастер приступал к основной работе, длившейся не более
двух-трех недель. Здесь кроется определенная семантика: цифра три (срок хране-
ния болванки инструмента) есть триединство мира; цифра четыре (весь производ-
ственный цикл изготовления инструмента) символизирует четыре стороны света,
четыре стихии, четыре направления «верх-низ-право-лево». Тогда получится число
«семь», особо почитаемое в тенгрианстве (семь дней Творения, семь небес, семь
важнейших ингредиентов в рационе питания номадов – вода, мясо, мука, масло,
пшено (пшеница, рис, кукуруза), соль и молоко и т.д.).
Древние мастера прекрасно знали природные качества различных пород дере-
ва: они «слышали» и различали «пение» каждого дерева. «Словно грудного ребенка,
бережно вынашивал мастер инструмент; шаг за шагом доделывал детали, улучшал
его звучание. И, конечно, он любовно декорировал его инкрустациями из перламу-
тра, серебра, кости, украшал резьбой, что подчеркивало эстетико-символическое
значение предмета. О том, насколько ценен был хороший музыкальный инструмент,
154
ЧАСТЬ 2
свидетельствует тот факт, что к его грифу подвязывали султанчик из перьев фи-
лина или красную ленточку, чтобы уберечь от людского дурного глаза и злого язы-
ка не только музыканта, но и сам инструмент» [Тохтабаева, 2008]. Согласно пове-
рьям казахов и киргизов, филин является священной птицей, что, вероятнее всего,
связано с осмыслением роли филина как птицы, бодрствующей ночью, и способной
охранять людей от злых духов, активных именно в ночное время. В рамках настоя-
щей статьи мы рассмотрим только три типа деревьев, традиционно используемых
в процессе изготовления домбры: березу, арчу и чинару.
Любое дерево «для тенгрианца – живой объект, следовательно, является сим-
волом творящей энергии, жизненной силы. Прикосновение к нему являет собой
священный ритуал. В мифологии оно образует центральную ось Вселенной, про-
низывающую в соответствии с космогонической концепцией «верхний», «средний»
и «нижний» миры, связывая при этом сверхъестественные и естественные явления.
Дерево – структурообразующее начало в традиционной картине мира. Посредством
этого образа и его алломорфов организуется весь пространственно-временной кон-
тинуум» [Таниева, 2008].
В тюркских верованиях богиня Умай спускается на землю, опираясь на две
березки. У сибирских тюрков до сих пор сохранилось представление о березе как
кормилице и защитнице. В ряде тюркских эпосов оставленного в лесу младенца сво-
им соком-молоком питает береза (алтайские эпосы «Маадай-Кара» и «Кан-Пюдей»).
До сих пор в мировоззрении алтайцев живет образ березы-матери (каин-энэ). У ка-
захов этот сюжет забыт, но его отголосок сохранился в названии кюя композитора
ХVШ века Байжигита «Кайынсауган» («Доение березы») [Наурызбаева, 2009].
Домбра из березы не предназначалась для светской игры, а использовалась
исключительно в лечебной практике шаманов-баксы. Семантический образ березы
проходит сквозь шаманские ритуалы не только казахов или тюрков, но также и дру-
гих этносов, принадлежащим к иным языковым семьям. Береза воплощала собой
Кос мическое Древо, соединяющее Небо и Землю. Также она являлась проводником
высших сил, забирая у человека негативную энергию, избавляя от забот, болезней
и горя. Исцеляющая энергетика березы известна многим народам мира: священное
дерево германских богов, народов Северной Европы, в России – это символ чисто-
ты, весны и девичества. Славяне при писывали березе способность изгонять злых
духов, поэтому ведьм секли березовыми розга ми во время ритуалов изгнания беса.
Это дерево старались не ломать, чтобы не навлечь гнева потусторонних сил; к нему
ходили, стараясь заручиться помощью и попросить защиты от беды. «Мир в целом
представляется дикарю одушевленным; деревья и растения не составляют исклю-
чения из правила. Дикарь верит, что они обладают душами, подобными его соб-
ственной, и соответственно обращается с ними» [Фрэзер, 1980].
Еще в ХI веке Махмуд Кашгари обратил внимание на сходство слов, означаю-
щих березу на казахском языке (а��айын – белая береза) и родственников по линии
155
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
жены – �айы� журт. Энергетика березы имеет ярко выраженную «женскую» при-
роду, казахи ей приписывали функции оберега и священного женского начала, она
умеет «настраиваться» на человека, освободить от больной, тяжелой энергии. На-
помним, что в славянской культурной традиции девушки всегда плакались березе,
обнимая ее, призывали дерево в свидетели, клялись им [Топоров, 1980. С. 216].
Примечательно, что казахи из березы изготавливали центральный шест (ба-
кан) для юрты как символ Мирового Столпа. Для алтайцев «береза как создание
верхнего божества участвует в обрядах жизненного цикла; она как бы сопровожда-
ет человека всю его жизнь от младенчества до старости. Без нее не совершаются об-
рядовые праздники, такие как «праздник в честь колыбели» (кабайдын байрамы),
изготовленной новорожденному из березы, «праздник в честь жилища новобрач-
ных» (айылтудуштын байрамы), у входа которого устанавливается береза, называ-
емая кыйралучакы, что дословно означает «столб с ритуальными лентами», а в ды-
моходе – ветви березы как символ создания семьи, свадьба (той) как «праздник не-
весты», занавес которой привязан к березам» [Тадина, 2011].
Скорее всего, номады потому и изготовляли свои «лечебные» домбры именно
из березы. Болезнь или темная энергия, как правило, имели «женскую» суть, сле-
довательно, береза здесь символизировала первородную Бездну, куда и «возвраща-
лось» Зло. При этом бренчание (именно бренчание как набор определенных звуков,
а не игра на инструменте) на домбре шаманом-баксы считается способом через звук
«открыть канал», портал к животворной энергии высшего мира, «отворить» крове-
носные сосуды – «тамыры» («тамыр» в переводе с казахского имеет три значения:
корень, пульс – кровеносный сосуд, родственное). В данном случае используется
в значении кровеносного сосуда человека или животного. Основой этого процесса
являются архаические представления казахов о сверхъестественном происхожде-
нии и магической силе звука.
Звук как таковой образуется благодаря колебаниям струны, связок, воздуш-
ного столба. В результате формируется звуковая волна, которая может достигать
мыслимых и немыслимых пределов. Звук, слово, напев – это определенная совокуп-
ность, последовательность волн. Именно это и позволяет звукам беспрепятственно
преодолевать как физические преграды, так и, по представлению носителей тради-
ционной культуры, достигать нематериальных миров. Близость звука, музыки к не-
материальному миру давно уже осознавалась во всех древних культурах. Музыка
создается и звучит в материальном мире, она принадлежит нашему материально-
му миру, но при этом не обладает нематериальной закрепленностью. Ведь именно
о звуке, голосе говорят – «он летит», «он пронзает пространство» [Елеманова, 2012].
Звук в культуре номадов расценивался «как явление мистическое, а музыкальный
инструмент, изготавливаемый из природных материалов, приобретал статус осо-
бого сакрального предмета – посредника между земным и потусторонним миром»
[Винницкая, 2004].
156
ЧАСТЬ 2
Древние шаманские практики использования домбры с намерением цели-
тельства имеют свое продолжение и в современной культуре казахов. По мнению
Ордабая Сандыбайулы (целитель современности), сана-домбра (в переводе – духовная
домбра) отличается лечебными свойствами [Жакишева, 2012. С. 137–138]. Ее стру-
ны сделаны из бараньих кишок с шелковыми нитями внутри. По утверждению це-
лителя, все параметры и размеры лечебного инструмента были даны ему «свыше» –
из Высшего мира, мира аруахов. Инструмент из березы отличается мягким, бархат-
ным, успокаивающим и умиротворяющим звуком.
Такой инструмент изготавливается из цельного куска дерева, причем дека
обязательно должна быть шириной 7 мм. Цифру семь можно назвать устойчивым
архетипом в культуре разных народов. Этот повторяющийся знак связан с колос-
сальным опытом древнего человека воспринимать, осознавать и преобразовывать
окружающую действительность, трансформируя накопленный опыт в емкое поня-
тие национальной культуры [Жусупова, 2011].
«Семь» есть сакральное число, пронизывающее многие мировые культуры:
в Египте семь – символ вечной жизни, число бога Осириса; в Древней Греции семь –
символ Аполлона, который родился в седьмой день месяца, на его лире семь струн
и т.д. В казахской культуре эта цифра тоже сакральна, «семь понятие священного
Знака, Печати или Символа, отражающего закодированность всего сущего на зем-
ле. Догадка о том, что мир создан по какому-то единому таинственному коду, у мно-
гих народов отражается в цифре семь, как космический закон, бесконечно реализу-
ющийся во вновь рожденной человеческой жизни» [там же]. С цифрой семь казахов
связывает многое: обряд «семь лепешек» («жеті шелпек»), институт родственных
связей, который называется «жеты ата» основан на цифре 7, что означает: помни
своих родных до седьмого поколения.
Декорирование головки грифа «лечебного» инструмента выполнено в виде узо-
ра �ош�ар-м=йз (бараний рог), символизирующим «мужское» жизнеутверждающее
начало (то есть, хотя домбра из березы имела в целом пассивную женскую приро-
ду, «мужской» орнамент как совокупость активных элементов уравновешивал ее).
На деку прикреплено маленькое зеркало, а также вырезанные из шпона четыре меся-
ца, звезда, три горы и тюльпан. Семантика присутствует и здесь: баран – символ
плодородия, зеркало – символ связи нашего мира с параллельным, четыре месяца,
вероятнее всего, – четыре стороны света, звезду (Венеру на казахском «Шолпан»)
древние кочевники считали прародиной всех землян, на которой находятся души
еще не родившихся, будущих людей (утренняя и вечерняя звезда – время выгона
и загона скота), три горы – три мира, три космические области, тюльпан – знак
и символ наступившей весны, жизни и плодородия. Декор, скорее всего, означает сле-
дующее: звук с помощью зеркала «облетал» все четыре стороны света, соединяя три
мира, и приносил оттуда слушателю (лечащемуся) энергию здоровья, благополучия,
надежду на жизнь и плодородие.
157
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В Восточном Казахстане (Горный Алтай) домбру изготавливают из арчи,
широко распространенной в этой местности. Арча, известная также как можже-
вельник, удивительное растение. Казахи из веток арчи добывали смолу и эфирное
масло, а дымящимися ветвями этого растения окуривали жилые помещения, свя-
тилища, конюшни, изгоняли злых духов (ритуал «аластау» в переводе с казахско-
го означающее «изгнание») с произнесением магических заклинаний. Этот ритуал
известен многим народам; так, восточные славяне считали, что сжигание можже-
веловых веток оказывает на человека «очистительное» действие: сильный пряный
аромат расслабляет и успокаивает. Американские индейцы и жители Южной Сиби-
ри также практиковали «окуривание», очищаясь от черной энергетики. Так в древ-
ности люди с помощью можжевельника очищали свою энергосистему.
Арча используется практически во всех обрядовых ритуалах коренных жите-
лей Горного Алтая. Даже сбор самого растения подчинен своду правил: с третьего
дня новолуния до полнолуния, на месте произрастания совершить обряд; срывать
растение необходимо мужчинам, детям разрешено с 12 лет и т.д. В какой бы культу-
ре арча ни фигурировала, она обязательно сопряжена с шаманскими действиями.
У европейских народов можжевельник считался сильным защитным сред-
ством в магических манипуляциях, ношение при себе кусочка дерева могло убе-
речь от несчастных случаев, проклятий, сглаза, нападений диких зверей, змей.
В Риме и Греции можжевельник – символ преодоления смерти и символ вечной
жизни, с которым был связан обряд устилания его ветвями последнего пути умер-
шего и сжигания их на похоронах. Это растение несет в себе добрую и здоровую
энергию.
В древности казахи называли арчу «деревом жизни», поэтому игра на дом-
бре из арчи символизировала преодоление смерти и стремление к вечной жизни.
В технологическом же аспекте древесина арчи красива, прочна и стойка в отноше-
нии гниения и обладает пряным, нежным, древесным, сладковатым ароматом. Це-
нились у номадов и эти ароматерапические свойства арчи: при соприкосновении
с теплом тела домбриста активно выделялись ее бактерицидные эфирные вещества.
Домбра из арчи отличается приятным тембром и мягкостью. На сегодня только два
мастера в Казахстане владеют технологией изготовления домбры из арчи – Турду-
гулов Жолаушы (г. Алматы) и Аман Садуакасов (г. Караганда).
Чинар, или «платан восточный», у народов Центральной Азии – таджиков, уз-
беков, киргизов и казахов является самым почитаемым деревом. «Символические
значения платана у таджиков позволяют понять смысл ритуалов поклонения это-
му дереву, в основном, по средам. Церемонии, которые обычно проходят под этим
деревом, именуются мушкилкушо (Праведная, «развязывающая узлы труднос-
тей»). С выполнением этого ритуала связываются ожидания упрочения брачного
союза, обретения семьей устойчивого материального благополучия, исцеления
больных, избавления от невзгод и устранения «черной полосы», рождения детей
158
ЧАСТЬ 2
(в особенности мальчиков, где в семье рождаются одни девочки) и т.п. Церемо-
ния троекратного ритуального обхода вокруг сакрального платана против часовой
стрелки. У таджиков данная ритуальная практика именуется тавоф (арабский та-
ваф)» [Рахимов, 2011].
Также таджики считают, что платан требует от идущего мимо него чело-
века обязательной молитвы, что, скорее всего, связано с формой его листьев, ко-
торые напоминают ладони, сложенные во время молитвы. Узбеки и сейчас верят,
что под платаном нельзя спать, его нельзя рубить и использовать для топки. Казахи
же считают, что это дерево живое, обладает благотворным и животворящим потен-
циалом. Звук домбры из платана, по мнению мастеров, имеет совершенно особую
природу – таинственную, сакральную, что связано с энергетикой этого дерева.
Из священного кедра изготовлялся алтайский топшур (аналог казахской дом-
бры) – сакральный инструмент, сопровождающий эпосы. Музыкант (он же скази-
тель эпосов) всегда аккомпанировал себе только на топшуре. Для развлечения топ-
шур старались не использовать вообще. Дерево для алтайцев живое, имеет душу
и связывает три Мира. Каждый род-сеок алтайцев имеет свое дерево, которое по-
кровительствует им и от которого происходит их род. Алтайцы чрезвычайно бе-
режно относились к своему дереву-тотему и считали, что кости людей сотворены
из дерева их рода. Для них дерево – символ вечного круговорота жизни: умирая
зимой, весной снова пробуждается, оживает. Кедр по представлению алтайцев мо-
гучий великан, ему поклонялся алтайский род – тонжаны, «при необходимости ис-
пользования почитаемого дерева сеока, человек должен совершить обряд поклоне-
ния и спросить духов тайги, хозяина Алтая о надобности того или иного дерева
или деревьев. Многие с целью использования почитаемого дерева для нужд по хо-
зяйству просят помощи у кого-нибудь из другого рода. И тот, высказав благопоже-
лания и попросив разрешения, приступает к вырубке» [Мамет, 1994].
«В самом топшуре заложена символика дерева жизни (воскресения) и кры-
латого коня (ангела хранителя). Сам топшур сказителям представляется живым
и как бы его мелодия дает возможность соединиться с Небом (Богом). Внутренняя
логика ведет к тому, что прежде чем начать эпос, кайчы обращается с молитвой –
благословлением к своему топшуру» [Вуд, 2005].
Киргизское подобие казахской домбры комуз – чрезвычайно древний инстру-
мент и бытовал еще во времена господства енисейских кыргызов. Он представля-
ет собой трехструнный инструмент, изготавливаемый обычно из древесины абри-
косового дерева (урюка) или можжевельника. Абрикосовому дереву по правилам
должно быть не менее 200–300 лет. «Для того, кто не ведает, комуз – лишь кусок
древесины, а для чутких душой он – сердечные струны! Печальная песнь,.. дробь
копыт тулпара,... слово мудреца,.. глаза провидца. Комуз словно зрит то, что нам,
смертным, недоступно,..три его струны словно прошли еще не пройденный нами
путь, покорили высоты, нам пока недоступные» [Иманалиев, 2009]. Для кыргызов
159
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
абрикосовое дерево священно: во-первых, плоды источник питания; во-вторых,
цвет ярко-оранжевого плода абрикоса символ любви; в-третьих, древесина абрико-
са обладает высокой плотностью и имеет красноватый цвет, ассоциируется с энер-
гией, жизнью, силой и могуществом. Поэтому, по представлению кыргызов, музыка
комуза считается энергетической и очищающей.
Таким образом, дерево как природный объект и как художественный мате-
риал имеет огромное значение в мифопоэтике казахской домбры. Казахи, веруя
в святость природных культов, использовали только определенные сорта древеси-
ны, которые определяли «судьбу» домбры, ее роль и функции. В данный момент
большая часть сакральных знаний о сущности домбры забыта и хранится только
в памяти мастеров и некоторых исполнителей. Сейчас домбра для современных ка-
захов – концертный инструмент, «услаждающий слух», вытеснивший шаманскую
сущность звуков как «музыки сфер» (Пифагор, Боэций).
Разные породы деревьев издавали различный звук, поэтому и для опреде-
лённого вида домбры применялось тот или иной вид дерева. В зависимости от ис-
ходных материалов для изготовления домбры разные сорта деревьев в сочетании
с теми или иными видами струн, деками кожаными или деревянными, древние
мастера «складывали» целые музыкально-акустические системы со специфически-
ми тембро-звуковыми характеристиками и семантико-сакральным содержанием.
Этот вопрос слишком объемен, требует отдельного детального изучения и выходит
за рамки задач нашего исследования.
Винницкая Н. В. Анализ творческого наследия композитора в контексте тео-
рии социально-исторической обусловленности развития искусства: на примере
произведений А. В. Анохина. Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата
философских наук. Барнаул, 2004.
Вуд Г. Мудрость народа в эпосе Алтая. Горно-Алтайск, 2005.
Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2002.
Елеманова С. А. Наследие тюркской культуры (исторический обзор казахской
традиционной музыки). Алматы, 2012.
Жакишева З. Аспаптану. Алматы, 2012.
Жусупова Р. Жизнеутверждающая ментальность казахов // Электронный ре-
сурс: Журнал KAZENERGY. 2011. - № 6 (50).
160
ЧАСТЬ 2
Иманалиев К. Каганат «Сорок посланий из глубины веков» (Отрывки из Ка-
менной книги). Бишкек, 2009.
Мамет Л. П. Ойротия. Горно-Алтайск, 1994.
Наурызбаева З. Общие мифологические мотивы в казахском и огузском
эпическом наследии: Мировое дерево // Материалы конференции, посвященной
150-летию Мурын Жырау. Актау, 2009.
Рахимов Р. Р. Платан: Светится он от молитв или от символов? // Иран-намэ.
№1. 2011.
Тадина Н. А. Картина мира как основа коммуникативной культуры алтайцев
// Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2011. №1(14). С. 146–153.
Таниева Ж. К. Знаковая система в этносоциальной культуре казахского обще-
ства // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия историческая. Алматы, 2008. №1(48).
С. 223–228.
Топоров В. Н. Древо Мировое / Мифы народов мира. Т. 1. М.:, 1980. С. 398–406.
Тохтабаева Ш. Ж. Шедевры Великой степи. Алматы, 2008.
Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. М., 1980.
Халтаева Л. А. Генезис и эволюция бурдонного многоголосия в контексте
космогонических представлений тюрко-монгольских народов: Автореф. дис. ...
канд. икусст. Ташкент, 1991.
Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. Киев, 2001.
Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр., предисловие и комментарии
Н. К. Гарбовского. М., 1994.
161
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
�. . Т�ЛЕН
СЫБЫЗfЫ ЖАЙЛЫ СЫР ШЕРТСЕК
�арапайым, ойнау�а же�іл, кішігірім =рмелі аспап %те ерте заманда-а�
пайда бол�ан. Оны ойлап табу�а тегінде екі жа�дай ы�пал етсе керек. Бірінші –
таби�ат �;былыстары. Боран со�ып, дауыл т;р�анда айналадан �;й�ылжы�ан
дыбысты� естілуі: жел =рлеген �амыс, �урайды� жі�ішке н�зік дыбыс шы�аруы,
адамзатты� осы �;былыстарды� сырын ашу�а ;мтылуы. Б;л ;мтылыс %мірге
ыс�ыру �;ралын �келді. Екінші, осы ыс�ыру �;ралын к=нделікті т;рмыста жан-
жа�та пайдалану, іске �осу. Я�ни, белгілі бір дыбыс беріп, са�тандыру немесе
ша�ыру, жай хабарлау м=мкіндіктеріні� тууы.
Адамзат а�ыл-ойы %се келе осы ыс�ыру �;ралынан �уен, ыр�а� шы�ару�а
болатынын т=сінді. Біра�, б;л процесс �ашан, �ай жерде бастал�анын д%п басып
айту �иын. �йтсе де, б=гінгі �ылым аш�ан жа�алы�-деректерді келтіре кеткен
арты� болмас.
Египеттегі Нахт �абіріні� �абыр�аларына салын�ан музыканттар бейнесіне
назар аударса�ыз, біреуіні� =рмелі аспапты ойнап т;р�анын бай�айсыз.
Б;л суретті� салын�анына =ш мы� бес ж=з жылдай бол�ан екен.
Орталы� �аза�станда Зе�гір таудан табыл�ан �асиетті «Та�балы таста»
(б.ж.с. дейінгі IV-III �асырлар) сыбыз�ыда ойнап т;р�ан к=йшіні� суреті салын�ан.
Ерте замандарда суретші м;ндай суреттерді еріккенні� ермегі =шін емес, рухани
�ажет бол�анды�тан; не %зіні� жан-д=ниесіне, не елді� ж=регіне жа�ын н�рселерді
бейнелеуге арна�ан.
Осыдан отыз жылдан астам уа�ыт б;рын КСРО ±ылым академиясыны�
Сібір б%лімшесі Хакасияда�ы Кіші Сыя елді мекеніні� ма�ында �азба ж;мыстарын
ж=ргізген. К%птеген �ызы�ты заттармен бірге сыбыз�ы т�різді =рмелі аспап та
табыл�ан. Ол аспапты осыдан 34 �асыр б;рын %мір с=рген %нерпаздар жаса�ан
екен. Музыка аспаптары археологиясыны� тарихында�ы е� к%не есептелетін б;л
сыбыз�ы �лбетте т;��ыш емес. �йткені, б;ны� да д�л осылай музыкалы� аспап
ретінде �алыптасуыны� б;�ан дейінгі %зіндік даму, жетілу баспалда�тары бар.
Б;л баспалда�тарда ол с%з жо� =немі дамып отырды. Солай бола т;ра, =рмелі
аспаптар ерте заман адамдарыны� �олданысынан б=гінге дейінгі аралы�та %зіні�
д�ст=рлі халы�ты� этнографиялы� =лгісін са�тап, к%п %згеріске ;шырамай жетті.
Оларды� арасында, �сіресе, с=йектен, м=йізден ж�не саздан жасалатындарыны�
тарихы к%не �асырлар�а кетеді. М�селен, ертеде сыбыз�ыны еркек �ойды�
162
ЧАСТЬ 2
асы�ты жілігінен жасайтын бол�ан, ал «Алпамыс батыр» жырында зындан-
да жат�ан Алпамысты� да с=йектен сыбыз�ы жасап �олданатыны айтылады.
Байыр�ы т=ркі-мо��ол ба�сыларыны� К%к Т��ірмен ж�не �руа�тармен тілдесетін
сыбыз�ысы адам жіліншігінен к=міс �осып, асыл тастармен безендіріліп жаса-
латын бол�ан. Бурят ба�сыларыны� музыкалы� аспабы �;рбанды��а шалын�ан
�ызды� жіліншік с=йегінен дайындалады екен. Осындай сыбыз�ыны� бірі Санкт-
Петербургтегі д=ние ж=зі халы�тарыны� Антропология ж�не этнография музейі
�орында са�талуда.
Са� д�уірінде ерекше дамы�ан к=й аспаптарыны� бірі – сыбыз�ы. Халы�
к=йшілері с=йіп тартатын к%не к=йлерді� ішінде «Шы�ырау», «А��у», т.б.
к=йлерді� �уен-ыр�а�ы, а�ызы са� д�уіріне жатады. Са� д�уірінде д=ниеге келген
сарын-саздарды� мол б;ла�ы бізді� заман�а жетіп отыр. �азіргі «бесік жырлары»
деп топталатын �уен-ыр�а�тарды� ал�аш�ы н;с�алары са� заманынан бастау ала-
ды. Тек �ана сыбыз�ы емес екі шекті домбыра�а, �обыз�а ;�сайтын саз аспаптары
=лгілеріні� са� д�уіріне жататынды�ын зерттеуші �алымдар д�лелдеп отыр.
Сондай-а�, ерте �асырларда�ы сыбыз�ы жайлы к%не деректер ±;ндарда да,
�а�лыларда да жиі кездесіп �алады. Соны� бірі – ±;н сазгері – б.ж.с.д. 36-жылы
±;н �скер басымен бірге жерленген сыбыз�ышыны� м=рдесі.
Ту�ан жер =шін жан пида бол�ан талай-талай о�и�аларды� ку�сі ретінде
бізді� заман�а жеткен к=йлерді� бір тобына «Сары %зен» деп аталатын к%не сарын-
дар жатады.
�азіргі �олда бар «Сары %зен» к=йлеріні� тарихи мазм;ны, а�ыз ��гімелері,
�уен-ыр�а�ы, ескі саз-сарыны т.б. белгілеріне �арап б.ж.с.д. IV–III �асырларда�ы
±;ндарды� ;лы �уен-сарындарынан бастау алатынын к%реміз. Ертедегі �ытай жаз-
баларында ;лы �ор�ан сыртында�ы Хун (±;н) �скерлеріні� �осындарында та�ны�
атысынан к=нні� батысына дейін сыбыз�ы мен �обызды� сарын-сазы б;лб;лша
сайрап т;рды деп к%рсетілген.
�ытайда�ы е� =лкен %зендерді� бірі «Хуанкэ» %зенін ерте замандар-
дан бастап, бізді� ар�ы бабаларымыз т=ріктер «Сары %зен» деп ата�ан. Осы
«Сары %зенні�» солт=стігін ала Иін (Иіншан) таулары, оны� жота-жота сілімдері
шы�ыс�а �арай ежелден бері созылып жат�аны белгілі. �йгілі т=рік шинологі
Ба³аддин �гелді� «²лы Хун империясыны� тарихы» атты кітабында мынадай де-
рек берілген «...Б;л таулар орман-мен к%мкерілген еді. Тауды� =стінде �ыраттар
мен т%бешіктер, �сем жайлаулар бар еді. Асулар мен %ткелдер, �ыса�дар �ор�ану
=шін аса �олайлы. Осы жерлер Хундарды� «±;ндар» ке� байта� жайылым %рістері
болатын».
Иншань таулары, Ордос ал�абы, Сары %зен (Хуаньхэ) =шін ±;ндар �ытаймен
мы�да�ан жылдар бойы к=ресіп, а�ыры б;л �онысты тастап шы�у�а м�жб=р бол-
ды. Міне, сол кезден бастап а�ын-жыраулар, �нші-к=йшілер «Сары %зен» сия�ты
к=йлер шы�арып, ту�ан жерді са�ын-�анда�ы ішкі жан д=ниесіні� тол�анысын
163
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
білдіреді. Соларды� бірі, �рі бірегейі ас�ан сыбыз�ышы Сайма� к=йші. Оны� %мір
с=рген заманы б.ж.с.д. ІІ–І-�асырлар шамасы. Сайма�ты� атымен жеткен «Сары
%зен» к=йін Меруерт Мерхадин деген домбырашы тартып, а�ызын айт�ан. Нота�а
т=сіруші Тымат Мер�алиев [Мер8алиев, 1972].
�йгілі �алым �лкей Мар�;лан Сайма� сыбыз�ышыны ±;н заманыны�
к=йшісі деп пікір білдірген. ±алымны� б;л пікірін т%мендегі тарихи дерек-
тер д�лелдей т=седі. Соларды� бірі жо�арыда келтірген ±;н �скерлеріні�
�осындарында�ы сыбыз�ы мен �обызды� =ні сайрап т;рды дейтін дерек. Ол за-
мандарда музыкалы� аспаптарды %зімен бірге жоры�тарда алып ж=ретін д�ст=р
бол�ан.
Екінші бір дерек к%зі: б.ж.с.д. 36-жылы ±;н �скербасымен бірге жерленген,
�йгілі сыбыз�ышыны� м=рдесіні� табылуы. Оны тап�ан, �рі ол туралы ;�ыпты
т=рде жазып �алдыр�ан �. Мар�;лан. Б;лардан бас�а «Сары %зен» к=йлерімен
�атар «Арман» деп аталатын сыбыз-�ыны� с;лу к=йі мен оны� тамаша а�ызы да
т.б. т=рлері де к%птеп са�тал�ан. М;ндай деректер сол кездегі сыбыз�ы %неріні�
жо�ар�ы де�гейде дамы�анын, оны� ;лы к=йші Сайма� сия�ты %нерпаздарды�
бол�анын д�лелдейді.
±;н жауынгерлері тек �ана �ару-жара� емес, %нер аспаптарын да %здерімен
бірге алып ж=рген. К=ні бойы ;за� ж=рістен кейін, кешкісін дамылдап дем
ал�ан кездерде неше т=лі ойын-сауы� ;йымдастырылып, к%�іл к%терген. ±;н
жауынгерлеріні� арасында небір талантты �ншілер, жыршылар, к=йшілер,
ертегішілер бол�ан. Олар �обыз�а �осылып %здеріні� ата-бабаларыны� ерлік
істері жайлы жыр-тол�аудар айтып, махаббат-с=йіспеншілік дастандарын
т%гілткен. Сыбыз�ы мен �обызда тамаша сазды-сарындар тартып, жауынгерлерді
рухтандыр�ан. ±;ндарды� саз аспабы жайлы к%не �ытай деректерінен бірнеше
=зінділер келтірейік (�ытайшадан ауд. тарихшы �лім�азы Д�улетхан).
�ытайды� белгілі тарихшысы Уа� Ж;�ханны� «Ж;��ода�ы ;лттар тарихы»
атты кітабыны� «Хун м�дениеті мен салт-санасы» деген б%лімінде: «Шы��ысхан
династиясыны� патшасы Люху� (б.ж.с.д.) Хундарды� биі, �сем ху киімі, ху шаты-
ры, ху т%сегі, хуша отырысы, ху та�амы, ху �о� хоуы, ху сыбыз�ысы дегендерді %те
жа�сы к%рген» дейді, (Кейінгі «Ханнама» 13 шежіре, 3272-бет). �рі �арай: «Хун-
дар �н сал�анда ыл�и да сыбыз�ы «пипа» Ху сыбыз�ысы (�урай сыбыз�ы), �обыз
(Хун бу сы), Ко� Хау (шекті аспап) сия�ты т.б. аспаптармен с=йемелдеп отырады.
Сыбыз�ы хундарды� е� с=йікті аспабы болып табылады» – дейді Уа� Ж;�хан.
Елін-жерін �ор�ауда да���а б%ленген ерлер мен батырлар, тек �ана �ара
к=шті� иесі емес, ерлігіне а�ылы сай, �рі %нерпаз, сегіз �ырлы бір сырлы болып
т�рбиеленді. �лкей Мар�;ланны� зерттеулерінде тарихи мазм;ны б.ж.с.д. IV–III-
�асырлардан бастау алатын ерлік-махаббат жырларыны� бірі – «�озы К%рпеш–
Баян с;лу» эпосы. Эпосты� басты кейіпкері �озы К%рпеш %з заманында �йгілі
сазгер бол�анын д�лелдейтін «�ош, есен бол» атты к%не сарынны� н;с�асы бізді�
164
ЧАСТЬ 2
заманымыз�а жетті. «�ош, есен бол» сарынын сыбыз�ыда тартып берген, а�ызын
айт�ан Шана� Ау�анбаев, нота�а т=сірген Абдулхамит Райымбергенов [Райым-
бергенов 54 б.]. �азіргі та�да «�озы К%рпеш – Баян с;лу» жырыны� к%птеген
н;с�алары жина�талып зерттелді. Соларды� ішіндегі е� ескі н;с�аларыны�
бірінде �озы К%рпеш сыбыз�ышы, ал, енді бір н;с�аларында �обызшы, =шінші бір
н;с�аларында домбырашы деп жырланады.
Байыр�ы ±;н тайпаларынан �ал�ан рухани м;ралар мен д�ст=рлерді�
басым к%пшілігі �азіргі �аза�тарды� мінез �;л�ында, салт-санасында, �дет-
�;рпында, %нерінде (�н, к=й, жыр) т.б. са�тал�анына заманымыз ку�.
�лем халы�тарыны� музыкалы� %мірін саралай келгенде, =рмелі
аспаптарды� д=ниеге келуі бір �ана ;лтты� т;рмыс-тіршілігіне байланысты емес
екендігін а��ару�а болады. �рмелі аспаптарды� барлы� халы�та болуы ж�не ;�сас
келуі сол халы�тарды жа�ындастыра, топтастыра т=седі.
Т=ркі халы�тарында сыбыз�ы тектес =рмелі аспаптарды� �урайдан,
с=йектен, �амыстан, а�аштан жасал�аны жайында�ы деректерді к%п кездестіруге
болады. Орта �асырда %мір с=рген �;лама �алым �бу Насыр �л-Фараби =рлемелі
аспаптарды� пайда болу негізін таби�и �урай-�амыс секілді жаратынды
%сімдіктерден таратады. Халы� арасында «Су с=зілмейді, �амыс шірімейді» деген
м�тел са�тал�ан. �амыстан, �урайдан жасалатын =рмелі аспатарды� т;рпайы
=лгісіні� ал�аш�ы �олданылуы жайында есте жо� ескі замандардан жеткен
т=рлі а�ыз-��гімелер к%п. М�селен, �аза�ты� сыбыз�ысы, баш�;ртты� �урайы,
т=ркіменні� т=йдігі сия�ты аспаптарыны� пайда болуы ж%нінде орта� а�ыз-
ертегілеріні� бірі «�ос м=йізді Ескедір» атан�ан Александр З;л�арнайын�а бай-
ланысты айтылады. �ос м=йізін жасы-рын ;ста�ан ол �р кез шашын ал�ан
шаштараздарды� басын шап�ызып отыр�ан. Бірде оны� шашын алу кезегі
жас жігітке келеді. Баласын б;л �атерден аман алып �алуды� не т=рлі шара-
сын ойла�ан анасы о�ан омырау с=тін араластырып к=лше пісіріп береді. Жігіт
патшаны� шашын алып бол�ан со�, анасыны� ескертуі бойынша �лгі к=лшені жей
бастайды, патша�а да ;сынады. Д�мі тіл =йіретін б;л к=лшені кім пісіргенін пат-
ша жігіттен с;райды. Жігіт анасыны� %з омырау с=тін �осып пісіргенін айтады.
Сонда Ескендір: «...Сені� ана� дана адам екен. Екеуміз енді бауырмыз, сені �алай
%лтірем», - деп, амалы таусыл�ан патша жендеттеріне жігітті �иян дала�а апарып
тастауды б;йырады. Жапан т=зде тентіреп ж=рген оны� �;ла�ына бір уілдеген
=н келеді. Жан-жа�ына �араса �;рт жеп тесік бол�ан �урайдан дыбыс шы�ып
т;р�анын бай�айды. Жігіт �урайды кесіп алып, =рлеп к%рсе, одан сазды �уен пай-
да болыпты...».
А�ыз бол�анымен, б;л – таби�ат �лемімен бірге жаратыл�ан �амыс-
�урайды� дыбысты� �;рал ретіндегі бастап�ы �олданысыны� бізге жеткен бір
=зігі �ана.
165
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
�аза� музыкасыны� к%не т=рлерін ��гімелегенде, музыканы� теориясы,
гармониясы, �;рлысы, ритмикасы жайында �лемге �йгілі музыкалы� трактат
жаз�ан, %зімізді� жерлесіміз, «Шы�ысты� Аристотелі» атан�ан �л-Фарабиді (870–
950 ж.ж.) атау�а болады. ²лы �;лама %з заманында музыкалы� аспаптар тари-
хы ж%нінде те�десі жо� е�бектер жазып �алдырды. Ол музыкалы� аспаптарды�
�;рлысы, дыбыс шы�ару �діс-т�сілі, =рмелі аспаптарды� т=тікшелеріндегі ауа
�уаты, ішектер мен перне сандары �ызметі, перне аралы� %лшемдер туралы
м�селелерді �арастыр�ан �лемдегі т;��ыш �;лама ретінде белгілі болды. Оны�
музыкалы� е�бектеріні� ішінде теориялы� м�селеге арнал�андары: «Музыка
жайлы =лкен кітап», «Музыка жайлы талдау», «Ритмні� классификациясы жайлы
кітап», �л-Фараби музыканы� шы�у тегін, гармониясымен �атар, оны� �ылымды�
негіздерін ашты. Ертедегі �аза� музыкасыны� сарындары таби�ат�а еліктеуден
ту�анды�ы ай�ын. �урайдан, с=йектен, �амыстан жасал�ан �уелгі сыбыз�ылар
�атты =скірік, боран, жел, дауыл =ндері немесе жайма-шуа�, жылы к=нді �сем саз
=ні ар�ылы елестетеді.
�аза� хал�ыны� е� к%не к=й аспаптарыны� бірі – сыбыз�ы. �рмелі аспапты�
бізге дейін к%п %згеріске ;шырама�ан е� к%не т=рі. �азіргі та�да �олда бар к%не
к=йлерді� к%пшігігі сыбыз�ы к=йлері. Б;л к=йлерді� к%лемі �р т=рлі: буна�тал�ан,
тарма�тал�ан, шума�тал�ан, тіпті кейде айшы�тал�ан т=рін де кездеседі. Сыбыз�ы
к=йлеріні� сазы ежелгі д�уірлерде %мір с=рген ата-бабалар =нін бізді� заман�а
жеткізіп т;рады. М;ндай �уен-сарындарды� да���а б%ленген уа�ыты б.ж.с.д.
VIII-�асырдан бастап, бізді� заманымызды� IV–V-�асырларына дейінгі мезгіл. Осы
�асырларды� ішінде %мір с=рген ежелгі тайпаларды� б�рі де сыбыз�ы сазын с=йіп
ты�дайтын бол�ан. Сан ;рпа�ты� тал�амынан с=зіліп, �асырлар елегінен %ткен
м;ндай сазды �уендерді� к%ркемдік сапасы %те жо�ары. Сол д�уірдегі сыбыз�ы
к=йлері �н �уенімен астарласып жатады. «Ке�ес», «Сары %зен», «Бозінген», «Жел-
мая», «Ертіс тол�ыны», «Тел к=ре�», «�;р ойна�», «Кербез �ыз», «Арман», «М;�лы
�ыз» т.б. онда�ан к=йлерді� �н-�уеніне ;�са�ан сазын ты�да�анда %ткен %мірмен
тілдескендей к=й кешесі�. Б;л к=йлерде музыканы� таби�ат пен жан-жануарлар�а
тигізетін тылсым �сері айтылуымен �абат, адамны� к%�іл к=йімен байланысы да
назардан тыс �алма�ан. Халы�ты� музыкалы� творчествосында таби�ат адамнан
б%лек, о�шау д=ние есебінде �аралмайды. �айта %нерді� ;лы к=ші адамды оны�
арман-ойын, а�ыл-парасатын д�ріптеп, марабаттау�а арналады.
�аза� хал�ыны� к%не аспабы сыбыз�ы жайлы сыр шертетін болса� оны�
шы�у тегі туралы ел арасында небір а�ыз-ертегілерді� к%п екенін бай�ау�а бола-
ды. Біра� сол а�ыз-ертегілерді� айтылуы шынды�ты мезгейді. Жер шарында�ы
адам баласыны� тарихында музыка �алай пайда бол�анын �алымдарды�
теориялы� топшалауда�ы е� ал�аш пайда бол�ан «лир» музыкасыны� та�дырына
%те ;�сас айтылады. Мысалы, �аза� хал�ыны� сыбыз�ы аспабыны� шы�у
тегі туралы т%мендегідей а�ыздар шертіледі. �те ерте заманда а�айынды екі
166
ЧАСТЬ 2
мерген жігіт болыпты-мыс. Оларды� тіршілік к�сібі �;с атып, а� аулау болса керек.
К=ндерді� к=нінде �;с атып к%л жа�алап келіп, кешке ауылына келсе, ауылын жау
шауып, біткен мал мен адамдарын айдап �кетеді. А�айынды екі жігіт амалсыз-
дан к=н к%руді� �амына кіріседі. Б;рын�ы ата к�сібі бойынша �;с атып, а� аулай
бастайды. К%птеген айларды %ткерген олар айдауда кеткен елін са�ынып, %зара
м;�-зарын ша�ысып отыр�анда бір �демі �;ла��а жа�ымды �уен естіледі. Жан
баспайтын жапан т=здегі нендей си�ырлы �уен деп та�-тамаша бол�ан олар к%п
іздеп таба алмай да�дырыс�а ;шырайды. Кей кездері жа�ыннан ап-аны� естілсе,
кей кездері си�ырлы �уен м=лдем естілмей са�ындыратын болады. «Іздеген жетер
м;рат�а» дегендей к%п е�бектеніп ж=ріп а�ыры табады. С%йтіп оларды� паналап
ж=рген жерлері �алы� �амысты� ортасы екен де, жел т;рса болды �демі к=й тар-
татын «к=йші» �амыс бары аны�талады. Сол к%п �амысты� ішінде бір �амысты�
басы сынып иіліп сыны�ы жел лебізімен =немі �оз�алыста болады да бас�а
�амыстар�а с=йеніп т;р�ан бірнеше жері �ажалып тесік пайда бол�ан екен.
Айтушыларды� с%зінде пайда бол�ан =ш тесігіні� ара �ашы�ты�ы екі
еліден =ш елі шамасында деп ��гімелейді. Олар сыны� �амысты� иіліп т;р�ан
жерінен =зіп алады. Сол с�ттен бастап «к=йші» си�ырлы �уен тамылжытуын
біржола до�арады. �бден тары��ан екеуі б=тін �амысты сындырып б;рын�ы
сыны� �алпына келтіру =шін к%птеген си�ырлы �уен шы�арамыз деп, екеуі екі
�амысты кесіп алып =рлей бастайды. Бастап�ы к=ндері жай ыс�ыры��а ;�сас ды-
быс шы�са да бірте-бірте кейінгі к=ндері музыка =ніне бейімдеу жа�ымды дыбы-
стар шы�арады. К=н %ткен сайын =рлеу �дістері де молайып, со�ында =ш жерінен
тесік шы�арып сауса�тарымен басып ойнайтын болады. А�ыры а�айынды екі
сыбыз�ышы белдеріне �амыс сыбыз�ысын �ыстырып, айдауда кеткен елін іздеп
табады. Міне, сол к=ннен бастап осы елге «сыбыз�ы» деген музыкалы� атау пайда
болады [ТUлеухан, Ыс�а�, 1981. 26 б.].
Сыбыз�ы д�ст=ріні� тамыры тере�де жатыр. К=й а�ыздарыны� шы�у
тегіне не�;рлым тере�ірек =�ілген сайын, оларды� к%нелілігі ай�ындала т=седі.
К=й сюжеттереріні� к%пшілігі жан-жануарларды бейнелеп, таби�атты суреттеуге
арнал�ан. К=й а�ыздарынан оларды� шы�у тегіні� ескі діни сенім мен архаикалы�
культтермен тамырласып жат�анын к%руге болады. Айталы�, «К%кб;�а», «Жел-
мая», «Бозінген» к=й а�ыздары �асиетті тотем-жануарларды� �;діретіне деген
халы�ты� ой-сенімдерін жеткізсе, «Б%кен жар�а�», «А�шыны� зары» к=йлерін-
дегі а�айынды екі жігіт немесе екі жетім бала образдары егіздер мифіні� бейнесін
к%рсетеді. «Талшыбы� б�йбішені� зары», «Зарлау» к=йлеріндегі су�а кеткен бала-
лар туралы а�ыздарда %зен-суды жер асты �леміне апаратын жол ретінде т=сінген
мифологиялы� к%з�арастар са�талса, «Балжы�кер», «�ара жор�а», «�релі к%к», «Те-
пен к%к» к=йлерінде �асиетіне табын�ан жыл�ы малыны� образдары бейнеленген.
Сыбыз�ы аспабы ертеден �аза� хал�ыны� �ай�ысы мен �уанышын б%ліскен
жансерігі бол�аны м�лім. «Арман» деп аталатын к%не сыбыз�ы к=йіні� а�ызда
167
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
сыбыз�ышы баланы� �урайдан сыбыз�ыны %зі жаса�аны, онымен небір с;лу сазды
�демі �уендерді �а³арлы ханны� алдында тартып, анасына, %зіне бас бостанды�ын
ал�аны жайлы баяндалады. Тіпті Шо�ан Уалиханов �айтыс бол�анда, �кесі
Шы��ыс Уалиханов�а �аралы хабарды �ан�ожа мен Тула� �обыз бен сыбыз�ы
ар�ылы естірткен. Сыбыз�ы ар�ылы �аза� хал�ы %зіні� арманын м;�-м=ддесін,
сан-�ыйлы %мір жолында бол�ан о�и�аларын, наразылы�ын, биікке �;лаш
;р�ан �иялдарын, %мірге деген с=йіспеншілігін к=й �ылып тартып ;рпа�тан-
;рпа��а жал�астырып асыл м;ра ретінде �алдырып отыр�ан. Б;л аспап ба�ташы-
малшыларды� %мірімен ты�ыз байланысты бол�анды�тан ел ішінде �ариялар оны
«жыл�ы малыны� азаны» деп ата�ан.
Ал Алтай �аза�тары арасында сыбыз�ы аспабында ойнау ерекше дамы�ан
ж�не бас�а аспаптар�а �ара�анда жиі �олданылады. Оларда «жыл�ы жануары
сыбыз�ы =ніне �ана то�тайды» деген с%з бар ж�не ел арасында мынадай а�ыз-
��гіме айтылады: «Алтайда %мір с=рген Бурабай атты ата�ты сыбыз�ышы �ызы
Сайраны �;лынынан баптап, ма�дайына бас�ан Б�йгек=ре� аталатын б�йге атын
мінгізіп ;затады. Бір жылдан со� �;даларына бару�а жинал�ан Бурабай сбыз�ышы
К=ршім %зеніні� ар�ы бетінде отыр�ан �;дасыны� ауылына %зеннен %тетін �айы�
болмай сол ма�да т=неп �алады да, «Алша� боз», «�озы к%ш» аталатын сыбыз�ы
к=йлерін бірінен со� бірін тартады. �;лынынан �;ла�ына сі�істі бол�ан сыбыз�ы
=нін естіген Б�йгек=ре� тыпыршып, кермені� жібін ж;л�ып, мазасы кетеді.
М;ны к%рген Сайра атты� ерін алып, ж=генін т=ріп �оя береді. Ат %зеннен мал-
тып %тіп К=ршім %зеніні� ар�ы бетінде отыр�ан Бурабай сыбыз�ышыны� жанына
барып, иіскелеп, иы�ына басын салып, к%зінен жас а�ып т;рады. Сыбыз�ы =ніні�
си�ырын т=сінген �тей елі Бурабай сыбыз�ышы т=неген сол тауды «Бурабай тауы»
деп атап кетіпті» (XVII) [Ж�кішева, 2012. 119 б.].
�рмелі аспаптар арасында сыбыз�ы - халы� =шін е� с=йікті аспап болып та-
былады. Ол халы�ты� музыкалы� %нерді� ажырамас б%лігіне айналды. Сыбыз�ы
шопандарды� отар ба�ып ж=рген кезде жал�ызды�ын жебейтін аспап ретінде, ал
кешкі демалыс мезгілінде музыканттар ол ар�ылы ескі а�ыздар-жырларды айт�ан.
Сыбыз�ышылар барлы� тойлар мен мерекелерді� к%ркі болып, к=йші-сыбыз�ышы
�р ауылды� �;тты �она�ына айнал�ан. Ол �ай ортада болсын жо�ары ба�алан�ан.
Сыбыз�ыны� ке� таралуы, �олданылуы оны� �арапайымдылы�ымен т=сіндіріледі.
Ерте заманда �аза� сыбыз�ышылары к%бінесе сыбыз�ыны �урайдан,
�амыстан жасап алып тарт�андары белгілі. ±алым �;дайберген Ж;бановты�
«�аза� инструментіні� біреуі – «сыбыз�ы». «Сыбыз�ы» с%зі ;я� дыбыспен айтыл�ан
т=рінде, м;нда�ы ;я� «з» дыбысын �ата� «с» дыбысына айналдырса� «сыбыс»
болады». «Сыбыс» �аза�ша «дыбыс» дегенні� бір тарауы, сонымен �атар б;л
сыбыз�ы �амыстан, �урайдан жасалатын бол�анды�тан, �амыс та ал�аш�ы �зірде
осы с%збен аталып кеткен. �аза�ша �амысты� бір аты – сыбыс. К%п жерде б;л
с%з са�талма�ан. С%йтіп «сыбыз�ы» деген с%з, бірінші жа�ынан, дыбыс, екінші
168
ЧАСТЬ 2
жа�ынан, сол дыбысты шы�аратын аспапты� аты болса, =шіншіден сол �;рал бо-
латын затты� аты �амысты� аты болады – деп сыбыз�ы аспабы жайында жаз�ан
деректері бар. Алтай хал�ыны� «сыбыс�ы» ж�не хакас халы�тарында «сыбыс-
ха» деп аталатын =рлемелі аспаптары бар. Сыбыз�ы тек тес аспаптарды бас�а
халы�тардан да (абхаз, адыгей, %збек, т�жік, татар, баш�;рт, т.б.) кездестіруге бо-
лады.
XVIII–XIX �асырда �аза� музыка аспаптарын зерттеушілерді� е�бектерінде
сыбыз�ы ж%ніндегі сипаттамалары жиі кездеседі. Сыбыз�ы =ні �;ла��а
жа�ымды к%�ілге ;намды. Ботасы %лген боз інгендей а�ырап сыбыз�ы даусы
шы��анда к%�ілді тербеген �о�ыр даусы мы� �;былып �;ла��а жеткенде ;йып
ты�дамайтын адам жо�. Ал м;ны� %зі сыбыз�ыны� сол кезде халы� т;рмысында
ке�інен �олданыл�анына д�лел. Сол кездегі саяхатшылар мен этнографтар
�урайдан жасал�ан =ш ойы�ы бар �арапайым сыбыз�ы аспабыны� ел арасына
ке� тара�анын, оны халы�ты� бар ы�ыласымен с=йіп ты�дайтынды�ы туралы
жаз�ан. М�селен: XVIII �асырды� екінші жартысында ата�ты �алым И. Лепехин %зі
Орал �аза�тарынан к%рген бір тамаша сыбыз�ы жайында жазып �алдырыпты:«Ол
т=тікті, �алма�тар цур, татарлар курай, ал Жайы� �аза�тары (б;л аспап олар-
да да бар) осы к=нба�ыс саба�ын сыбыз�ы деп те атайды... Б;л аспапты� жі�ішке
;шында =ш ойы� бар, оларды музыкант бір �олыны� =ш сауса�ымен кезек пе ке-
зек ашып-жауып т;рады, ал екінші �олымен, �ажет бол�ан кезде т=тіктін, т%менгі
жа�ында�ы сопа�ша ойы�ты жабады. Т=тікті� ке� аузын жо�ар�ы тіске та�айды
да жо�ар�ы ерін мен тілге тигізеді. М;ндай аспапта ойнау =шін ерекше жатты�у
керек: егер оны шебер к=йші тартса, онда даусы ша�ын флейтравестінен ау-
май шы�ады».Б;л суреттеуді� біз =шін ба�алылы�ы сол, м;нда ойнау т�сілдері
айтыл�ан. �сіресе, т=тікті� т%менгі ойы�ын ашып-жабу ар�ылы �осымша дыбыс
шы�ару�а болады дегені назар аударарлы�, %йткені біз м;ндай т�сіл сыбыз�ы
ойна�анда �олданылатынын білеміз.
Орыс этнографы А. Левшин %зіні� естеліктерінде Кіші ж=з ханы Шер�азы
Айшуа�ов %з ордасына сыбыз�ышыны �дейі ша�ыртып алып, к=й тарт�ыз�аны
туралы жазады. Сыбыз�ы жайында саяхатшы капитан И. Ан-дреевті� естелігінде
�аза�ты� музыка аспаптары туралы с%з �оз�алып: «Так же имеют так называемые
сыбызгы, сделанные из толстой стволистой травы и деревянные, обвитые толстою
нитью с несколькими дырками» деген деректер бар. Этнограф И. Липаевты� да
м�лімдеуі к%�іл аударарлы�. «Семей облысында�ы �ыр�ыз музыканттарды�
�олынан сыбыз�ыны к%ресі�, – деп жазды ол.Сыбыз�ы тал шыбы�тан немесе
бас�а да сондай а�аштан жасалады. �ш жа�ы-на, тегінде с�ндік =шін болса керек,
теріні� ж=п-ж;�а �ыртысымен керілген жі�ішке ар�ан жіп байланады. Т=тікті�
іші жа�сылап ойылып, ас�ан шеберлікпен %�делген. Дыбыс шы�аратын тесік =шеу
�ана, ойна�ан кезде сауса�ты� ;шымен ашылыпжабылады».
169
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Этнограф А. Гейнс сирек кездесетін �;былысты – сыбыз�ыны� с=йемел-
деуімен �н сал�анды к%рген. Б;л жайында ол былай деп жазады: «...�о�ыр сал�ын
кешкі мезгілде, сондай-а� т=нгі айды� жары�ында уа�ыттарын �рдайым =й іші бо-
лып ��гіме-д=кен �;рып, сауы�-сайран салумен %ткізеді, м;ндайда олар ара-ара-
сында %здері жа�сы к%ретін аспап «джабьязгыны�» к%бінесе тамылжыта сал�ан
�нмен с=йемелдейтін м;�ды сазына рахаттана �;ла� т=реді».
Б. Сарыбаевты� «�аза�ты� музыкалы� аспаптары» [Сарыбаев, 1981] – атты
е�бектерінде шебер сыбыз�ышылар к=й тарт�анда т%менгі регистрде %зіні�
к%мей (бурдон) дауысын сыбыз�ы =ніне �осып екі дауыста орында�андары жай-
ында айтыл�ан. Осы �осдауысты орындаушылы� т�сілі сыбыз�ы тектес аспап-
тар �урай, т=йдік, цурдада кездеседі. Я�ни, б;л м�селе сыбыз�ыны� т=ркі-мон�ол
халы�тарыны� осы тектес музыкалы� аспаптарын жасау ж�не композициялы�-
иірімдік де�гейлерімен �атар, д�ст=р д=ниетаным�а негізделген дыбыс шы�ару
ж=йесіндегі орта�ты�ын к%рсетеді. �рлемелі аспаптар�а к%мей дауысын �осып
орындаушылы�, Сібір халы�тарыны� �ос дауысты �н-жыр салу д�ст=ріне жа�ын
болып келеді. К%мей ар�ылы �ос дауысты �н салу тыва, алтай, мон�ол, тибет, ха-
кас халы�тарында ке�інен тарап бірнеше т=рлері дамы�ан. К%мей ар�ылы �ос
дауыспен �н сал�анда т%менгі бурдон дауысы �нні� негізгі дауысын созып ;стап
т;рады, ал ыс�ыры� екінші шы�атын дауыс �нні� негізгі �уенін ж=ргізіп оты-
рады. Осы т�сілді сыбыз�ыда пайдалан�анда бурдон дауысы к=йді� негізгі то-
нын созып ;стап т;рады, сыбыз�ыны� =ні негізгі к=йді� �уенін ж=ргізіп отыра-
ды. ±алымдарды� е�бектеріндегі мифологиялы� ;�ымдармен �арайтын болса�:
сыбыз�ыны� =ні жо�ары д=ниені білдірсе, бурдон дауысы т%менгі д=ниені
бейнелейді, ал сыбыз�ыда орындаушы жо�ары мен т%менгі екі д=ниені байланы-
стырып т;р�ан б;л д=ниені� д�некершісі ретінде к%руге болады.
КСРО халы�тары этнографиясыны� мемлекеттік музейінде �орабы бар екі
сыбыз�ы са�таулы. Олардын бірін Шо�ан У�лиханов сый�а тарт�ан екен.
Семейдегі Абайды� Республикалы� �деби-мемориалды� музейінде
инвентарлы� № 415 кітапта былай делінген: «�аза�ты� флейта�а ;�сас б;л
музыкалы� аспабы екі ша�ын а�аш науадан жасалын�ан, науаларды� �уыс
жа�тары бір-біріне �аратылып, сыртынан �ойды� немесе ешкіні� %�ешімен
�аптал�ан. Т=тік т%менгі ойы��а �арай жі�ішкере т=седі, т%менгі ;шында =ш
ойы� бар».
Сыбыз�ы аспабын �урай мен а�аштан жасаумен бірге темірден, жезден де
жаса�ан. Металдан жасал�ан сыбыз�ыны этнографтар 1860 жылдары-а� тап�ан.
Жез сыбыз�ы ел ішіндегі %нерпаздарды� бас�а халы�тарда кездесетін темірден
жасал�ан =рмелі аспаптар�а еліктей отырып, ;зын жез т=тікшелерді пайдаланып
келген. Біра� жез сыбыз�ы ел ішінен �олдау тауып %ркендеп кете алмады. Оны�
себебі жез сыбыз�ыны� =ні б;рыннан �алыптасып �ал�ан �урай, а�аш сыбыз�ы-
лардан %згеше, �рі �;ла��а тосын естіледі. Дегенмен �алыптас�ан ойнау �дістерін
170
ЧАСТЬ 2
пайдалана отырып сыбыз�ы =ніні� халы� к%�іліне жа�ын ерекшелігін жез
сыбыз�ыда да ме�герген таланттар болды. Олар: Ыс�а� Уалиев, Бихан Шерубаев-
тар еді. Сыбыз�ы аспабын жетілдіруде к%п е�бек сі�ірген зерттеуші, �алым, про-
фессор Болат Сарыбаев та жез сыбыз�ыда шебер ойна�ан.
К=й тартыс %нері �аза� сыбыз�ышыларыны� арасында ертеден келе жат�ан
д�ст=р. К=й тартысында ерді� намысы �ана емес, елді� де намысы сын�а т=седі.
М;ндай =рдіс сыбыз�ымен ойналатын к=йлерде де кездеседі. Б;�ан �аза� пен
т=ркіменні�, �аза� пен �ыр�ыз, �аза� пен �алма� арасында бол�ан к=йшілер сай-
ысы, со�ан орай ту�ан к=йлері ку�. �нер зерттеуші Т. Бекхожинаны� «Даламны�
назды саздары» атты е�бегінде XVII �асырда %мір с=рген �йгілі сыбыз�ышылар
Тілеке мен Жантеліні� сыбыз�ымен к=й тартыс�андары тарихтан сыр шерт-
се, ал академик А. Ж;банов %зіні� «�скен %нер» атты кітабында «�стіміздегі
ХХ �асырды� оныншы жылдарында %з ауылымда сыбыз�ышыларды� %нер
сайысын к%рдім»-деп жазады. 1922 жылы Шы�ыс �аза�станда Шерубай мен
М;са ба�сы; 1950 жылдары Оспан�али �ожабергенов пен Шана� Ау�анбаевтар
сыбыз�ымен %з ара к=й тартыс�а т=скен %нерпаздар. Міне б;л деректерге с=йенер
болса�, сыбыз�ышыларды� д�ст=рлі сайысы бертінге дейін жеткенін к%руге бо-
лады. Ш. Ау�анбаевты� орындауында�ы «�аза� пен �алма�ты�» сыбыз�ымен
тартыс�ан, тартыс к=йлері нота�а т=сіріліп баспа бетінен жары� к%рді [Райымбер-
генов, Аманова, 1990].
�ткен ХІХ �асырды� екінші жартысынан бастап сыбыз�ы д�ст=ріні�
та�дыры =лкен %згеріске ;шырады. �аза�станда бол�ан �леуметтік-экономикалы�
%згерістер �асырлар бойы �алыптас�ан халы�ты� т;рмыс-тіршілігі мен %мір
салтына %з ы�палын тигізбей �оймайды. М;ны� %зі ел ішіндегі ежелден келе
жат�ан %нер д�ст=рлеріне �сер етіп, б;рын ке� тара�ан кейбір %нерпазды�ты�
�ар�ымы тарыла т=сті. Міне, сондай ы�пал�а ;шыра�ан сыбыз�ы тарту, оны
�астерлеушілікті� ма�ызы б;рын�ыдай бола �оймады. Келе-келе ол ;мытыла ба-
стады, ал ХХ �асырды� басында сыбыз�ы %нері сиреп, республикамызды� жеке-
леген аудандарында �ана кездесетін болды. Сыбыз�ы �аза�станны� Батыс аудан-
дарында ертерек жо�ал�ан, онда белгілі сыбыз�ышыларды 1930 жылдары �ана
к%руге болатын еді. Б;дан бай�айтынымыз, ХХ �асырымызды� орта шенінде
сыбыз�ы %нері �асырлар бойы �алыптас�ан д�ст=рлі жал�асын то�татты десе де
болады.
Сыбыз�ынын, �р т=рлі облыс т;р�ындарыны� арасында бір мезгілде емес,
біртіндеп жо�ал�анын этнографтарды� к%птеген м�ліметтерінен а��ару�а бо-
лады. Мысалы, Т=ркістан %лкесін жете зерттеген этнограф П. Тихов былай деп
м�лімдейді: «Т=ркістанда он екі жыл т;рып сыбыз�ыны бір-а� рет к%ре алдым,
онда да тек к%зім шалып �ал�аны болмаса...». Б;л %лкеде сыбыз�ыны� жо�алуына
ол екі т=рлі себеппен байланыстырады: жергілікті жерді� таби�атында сыбыз�ы
жасайтын %сімдікті� болмауы ж�не онда ойнауды� �иынды�ы.
171
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
1934 жылы сыбыз�ышы Ыс�а� У�лиев Алматыда %ткен %нерпаздар-ды�
республикалы� бірінші слетіне �атысып, кешікпей КазЦИК атында�ы оркестрге
�абылданып, онда алды��ы �атарлы солистерді� бірі болды.
�сіресе ол, оркестрге �осылып айтатын �ншілерді с=йемелдегенде таптыр-
майтын бояуы мол к=ш болды. �аза�ты� бір-�атар к=йлерін жеке ойнап, арасында
�ыл �обыз�а �осылып та ойнады.
Сыбыз�ыны оркестрлік аспап ретінде пайдалан�ан ша�та музыкант б;л
аспапты� тым �ара д=рсінділігі салдарынан к%п �иыншылы��а кездескенін айту
кету керек. Ал б;л ша�та домбыра мен �обыз оркестрге �осыл�ан со�-а� тез да-
мып, жетіле т=сті. Оларды� техникалы� м=мкіндіктері %скен сайын оркестрді� ре-
пертуары да к=рделілене берді. Осыны� б�рі сыбыз�ыны �айта жетілдіріп жасауды
талап етті.
Осы кезе�де сыбыз�ыны жетілдіруде ал�аш�ы �адамдар жаса-лынады.
Белгілі музыка шебері И. Романенко б;л аспапты оркестрде ойнау =шін жетілдіру
ісімен айналысты. Б;л ма�сат�а жету =шін е� �уелі сыбыз�ыны� оркестр реперту-
арына с�йкес болуын �арастыру керек болды.
�уелгі кезде сыбыз�ыны оркестрде пайдалан�анда тек халы� к=йлерінде
�олданды. Ал �аза�стан композиторлары шы�армаларыны� партитурасына кел-
генде іс �иын�а айналды. Ыс�а� У�лиев негізінен �урайдан жасал�ан сыбыз�ымен
ойна�анды. Ол сыбыз�ыны жай �ана ты�дай отырып к=йге келтіретін. И. Ро-
маненко о�ан а�аштан бірнеше сыбыз�ы жасап берген еді, алайда олар �азір еш
жерде жо�. Б;л шеберді� 1936 жылы металдан бес ойы�тыетіпжасал�анбірсыбыз
�ысыб;лк=нде Москвада М. Глинка атында�ы музыкалы� м�дениетті� орталы�
музейінде са�таулы.
Аспаптарды� �олда бар н;с�аларын зерттей отырып, біз т%мендегідей
�орытынды�а келдік, 1939 жыл�а дейін сыбыз�ы оркестрде ойнау =шін жеткілікті
т=рде жетілдірілмеген.
Ыс�а� У�лиев 1942 жылы майдан�а аттан�анда %зімен бірге мыстан
жасал�ан сыбыз�ыны ала кеткендігі белгілі. Біра� ол сыбыз�ы туралы бізде
еш�андай м�лімет жо�. Амал �анша, 1944 жылы 27 мартта Ыс�а� У�лиев ауыр жа-
раланып �аза тапты.
Домбыра мен �ыл�обыз секілді халы� ішінде жиылмалы сыбыз�ы да
кездескен. Иесі Ыс�а� У�лиев бол�ан на� осындай сыбыз�ы жайында Ахмет
Ж;бановты� «±асырлар пернесі» е�бегінде айтылады [Ж7банов, 1975]. Жасалу кон-
струкциясына байланысты сыбыз�ыны� б=ктемелі немесе �оспалы деп аталатын
т=рлері де кездеседі. Б%лек-б%лек екі т=тікшеден жасалып, ортасынан бірігетін
сыбыз�ыны осылай ата�ан. Сыбыз�ыны� б;л т=рі туралы музыка зерттеушілері
біршама деректер жазып �алдыр�ан.
�;рман�азы атында�ы консерваторияда 1945 жылы �аза�ты� халы� аспап-
тары факультеті ашыл�аннан кейін Ахмет �уан;лы Ж;банов сыбыз�ы класын
172
ЧАСТЬ 2
ашпа�шы болды. Алайда сыбыз�ышы маманыны� жо� болуына байланысты іс
н�тиже к%рсетпеді. 1959–1961 жылдары Алматыны� �;рман�азы атында�ы %нер
институтында сыбыз�ы класы ;йымдастыры-лып, о�ан профессор А. Ж;бановты�
басшылы�ымен Шы�ыс �аза�станнан сыбыз�ышы Оспан�али �ожабергенов ар-
найы ша�ыртылып алдырыл�ан болатын. Музыка зерттеушісі, белгілі к=йші У�ли
Бекенов %з естелігінде: «Оспан�али �ожабергеновтен 6 бала сыбыз�ы =йрендік.
Б;л ш�кірттер на�тылы сыбыз�ышы болып кетпегенмен, �аза�ты� сыбыз�ы аспа-
бында ойналатын к%птеген к=йлеріні� сарынымен танысып, оны� �;рлысы мен
характерлеріне талдау жасайтындай негіз ал�ан едік. Сыбыз�ышы Оспан�али
�ожабергеновты� репертуарында: «А�са� �ой», «Балжы�гер», «Жор�а аю», «К%к
б;�а», «Сары %зен», «А��абаны� тол�ыны» сия�ты к%птеген к=йлер болды. Б;л
к=йлерді� к%пшілігі �аза� ССР ±ылым академиясыны� М. �уезов атында�ы
�дебиет пен %нер институтыны� музыка секторы нота�а т=сіріп ал�ан еді» [Беке-
нов, 1975 ].
Сол 6 баланы� ішінде Оспан�али �ожабергеновтен д�ріс ал�ан, сыбыз�ы
аспабыны� �ыр-сырын жете ме�герген, �азіргі та�да �аза� сыбыз�ысын зер-
теп, насихаттап, д�ріптеп ж=рген, елімізге белгілі сыбыз�ышы, ;ла�атты ;стаз
Н;рахмет Жорабеков.Б;рыныра�та сыбыз�ыда орындал�ан к%птеген к=йлер «шертпе» м�нінде
тартатын домбырашыларды� репертуарында са�талып �ал�анын к%реміз. М;ны
сол орындаушылардын, %з аузынан естідік. �детте сыбыз�ышы м;ндай к=йлерді
тек домбырамен �ана тартылатын к=йлерден оп-о�ай ажыратады. Сыбыз�ымен
орындалатын к=йлер %те �уезді, диапазоны ша�ын болып келеді. Халы� ішінде
сыбыз�ыны� к=йлерін домбырамен �осылып орында�ан. Б;лайша �осылып
орында�анда домбыраны сыбыз�ыда тартылатын к=йді� ы��айына келтіріп
б;рауын %згертеді. Б;л ретте к%бінесе домбыраны квинта�а келтірген ж%н.
Сыбыз�ы аспабыны� м=нкіндіктерін зерттеп, �ылыми негізде дыбыс
ау�ымын, бояу-на�ышын аны�тап, ойнау �дістерін ж=йелеп берген �алым, %нер
зерттеушісі профессор Болат Сарыбаевты� е�бегі ;лан-�айыр.
Б. Сарыбаевты� «�аза�ты� музыкалы� аспаптары» атты монографиясын-
да: «1967 жылы Таулы Алтай автономиялы облысыны� �оса�аш ауданында�ы
�аза�тарды� арасында болып, халы� музыкасы мен музыкалы� аспаптарын
жина�анымызда Мон�ол Халы� Республикасыны� Баян-�лгий айма�ынан осын-
да келіп концерт �ойып ж=рген �аза� артистерін кездестірдік. Оларды� халы�
аспаптары оркестрі домбырашылар, �обызшылар, сондай-а� сыбыз�ышылардан
�;рал�ан екен. Біз сыбыз�ышы К�лек �ума�аев пен домбырашы Ахмет
Ыбыраевты� �осылып тарт�ан дуэтін ал�аш рет осында естідік. Олар орында�ан
халы� к=йлері: «Кербез �ыз», «Фатима», «Б%кен жар�а�» ж�не А. Ыбыраевты� «Ой
тол�ыны».
173
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ертеде сыбыз�ышы Ыс�а� У�лиев пен �ыл�обызшы Д�улет Мы�тыба-евты�
�осылып тарт�аны белгілі. Оларды� репертуарында �аза�ты� халы� �ндері
«З�ypeш», «Ахау Бикем» ж�не бас�алар бар.
Біз сыбыз�ыны зерттеп =йреніп ал�ан со� осы ансамбльдік ойынды �айта
жары��а шы�ару�а тырысты�. Кейін біз сыбыз�ы мен ша�-�обызды, сыбыз�ы мен
жетігенді, сыбыз�ы мен �ыл�обызды біріктірдік. Ендігі ма�сатымыз жа�а дуэт жа-
сау. Я�ни: сыбыз�ы-шертер, сыбыз�ы-�амыс сырнай, сыбыз�ы-=скірікті �осып к%ру.
Барлы� м=мкіншіліктерді пайдалана отырып, орындаушылы� %неріні� жа�адан
�ыз�ылы�ты формаларын табу�а болады, тембрлерін %згеше т=рде келістіре
;штастыру�а да болады.
Сыбыз�ы мен ша��обызды� дуэті де жарасымды. Б;рын м;ндай дуэтті�
бол�ан-болма�аны жайында бізді� �олымызда еш�андай дерек жо�. Б;л екі
аспапты� =нін =йлестіру тіптен о�ай�а да т=спеді. Ша��обыз, сыбыз�ыда ойна-
латын мелодияны� регистріне �арай к=йге келтірілуі тиіс. �осылып ойна�анда
сыбыз�ы жетекші ролін ат�арады да, ша��обыз с=йемелдеу �ызметін ат�арады.
�сіресе, ыр�а�ы ашы�-ай�ын к=йлер мен �ндер б=л дуэтке жа�сы келеді» [Сарыба-
ев, 1981. 105 б.].
Сыбыз�ышылы� д�ст=р республикамызды� Шы�ыс �аза�стан ж�не Батыс
�аза�стан %�ірлерінде, %з орындаушылы� ерекшеліктеріне �арай ке� тарал�ан.
Шы�ыс �аза�станда�ы сыбыз�ышылы� д�ст=ріні� т=п тамыры сонау алыс
�асырлардан басталады. К%не а�шылы� заманнан ел аузында айтылып жеткен
“А�шыны� зары” к=йі, б=кіл т=ркі тілдес халы�ты� б�ріне орта� айтылып ж=рген
“�озы К%рпеш–Баян с;лу” дастанында�ы “�ош, есен бол”– атты к=йде осы %�ірде
са�талып орындалып ж=р. Шы�ыс �аза�стан сыбыз�ышылы� д�ст=рі Алтай
Тарба�атай тауын бойлап �ытай, одан �рі Мон�олия айма�тарын �амты�ан. Ал-
тайдан Баян-�лгийге дейін тара�ан сыбыз�ышылы� %нер, =лкен =ш мемлекеттегі
�андастарымызды� орта� м�дени м;расы болып отыр. Б;л %�ірдегі сыбыз�ышылар
XVII �асырдан бастап XX �асырды� елуінші жылдарына дейін сыбыз�ымен %нер
жарыстырып отыр�ан, о�ан сыбыз�ышылар Тілеке мен Жантелі, Шерубай мен
М;са, Оспан�али мен Шана�ты� сайыстары тарихи ай�а� бола алады.
Шы�ыс �аза�стан сыбыз�ышылары к%бінесе =ш ойы�ты сыбыз�ыда ойнай-
ды, =ш ойы�ты сыбыз�ыны� диапозоны �ыс�ара� болады. К=йлеріні� сазы �н
тектес, бірнеше �уенні� �айталануынан �алыптас�ан. Дыбысты� обертондар�а
бай, %зіндік к%не иірімдері са�тал�ан, дыбыс �атары мажорлы лад болып келетін
сыбыз�ыда орындаумен ерекшеленеді.
Батыс �аза�стан мен Ма��ыстау к=йлері �р т=рлі орындаушылы� мек-
тептерге жатса да, олар�а орта� бір�атар ерекшеліктер бар. Олар мыналар: к=й
�уені аспапты� бай м=нкіндіктерін аша т=седі; к=йлерде регистрлік салыстыр-
малар мейлінше пайдаланыл�ан; к=й ыр�а�ы �;былмалы, %рнекті болып келеді;
к=йлерді� композициялы� ішкі �;рылымы импровизациялы� иірімдерге толы.
174
ЧАСТЬ 2
Батыс �аза�стан сыбыз�ышылы� д�ст=ріні� к%рнекті %кілдеріні� бірі Сар-
малай. Сармалайды� к=йлерін бізге жеткізген сыбыз�ышы Ыс�а� Уалиев болатын.
Ы. Уалиевті� орындауында Сармалайды� бірнеше к=йін академик Ахмет Ж;банов
нота�а т=сіріп жары��а шы�арды. Б;л %�ірді� та�ы бір сыбыз�ышысы М�к�р
С;лтаналиевті� к=йлері Болат Сарыбаевты� орындауында к=йтаспа�а жаздырыл-
ды. Ма��ыстау %�іріні� сыбыз�ышысы М=йімсат О��аровты� орындауында�ы
к=йлер Абдулхамит Райымбергеновты� жазып алуында бізге жетіп отыр. Ба-
тыс �аза�стан %�іріні� сыбыз�ы к=йлеріні� �уені созылы��ы ж�й болып келеді.
Диапозоныны� ке�дігі, регистрлы� м=мкіндіктерді мейлінше пайдалан�аны
ж�не дыбыс �атары минорлы лад сыбыз�ысында орындалуымен ерекшеленеді
[М7�ышев, 2005 9 б.].
Сыбыз�ы аспабын ал�аш 1934 жылы �азіргі �аза�ты� мемлкеттік
�;рман�азы атында�ы академиялы� халы� аспаптары оркестрінде пайдаланылды.
�азір оны� жетілдірілген т=рлері фольклорлы�-этнографиялы� ансамбльдер ме-
норкестрлерде («Шертер», «Отырар сазы», «Сазген», «�л�исса», «Адырна», т.б.)
ке�інен �олданылады.
�аза� хал�ыны� %неріні� к%не т=рлерін ��гімелегенде, �лі де зерттеуді ке-
рек ететін %нер т=рлері к%п-а�. �сіресе, �аза� хал�ыны� к%не музыкасыны� сы-
рын ашу, �азіргі кездегі басты міндет болып отыр. Б;л м�селе �лі де болса сылбыр
зерттелуде. Музыкант мамандарымыз тек жанрлы� жа�ынан зерттеумен шектеліп,
оны� туу жолдарын, аса к%не т=рлерін ж�не бас�а �аза� %нерімен, �дебиетімен,
философиясымен байланыстылы�ын аша алмай келеді. �азіргі та�да �аза�
музыкасыны� мелодиялы�, ладты�, метрикалы� ж�не ;лтты� ерекшелігін таныта-
тын арнаулы зерттеулер жо�ты� �асы.
Ахмер7лы �. Баян-�лгий �аза�тарыны� домбыра ж�не сыбыз�ы�а арнал�ан
к=йлер. Баян-�лгий, 1977.
Бейсенбек7лы О. Сазды аспаптар сыры. Алматы, 1994.
Бекенов У. К=й к%терер к%�ілді� к%к жиегін. Алматы, 1975.
Вызго Т. С. Музыкальные инструменты Средней Азии. М., 1980.
ЖRкішева З. Аспаптану. Алматы, 2012.
Ж7банов А. ±асырлар пернесі. Алматы, 1975.
�аза�ты� музыкалы� фольклоры. Алматы: «±ылым» баспасы, 1982.
Мер8алиев Т., Б=ркітов С., Д=йсенов О. �аза� к=йлеріні� тарихы. Алматы, 2000.
М7�ышев Т. Сыбыз�ы сазы. Алматы, 2005.
175
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Райымбергенов А., Аманова С. К=й �айнары. Алматы, 1990.
Сарыбаев Б. �аза�ты� музыкалы� аспаптары. Алматы, 1981.
ТUленов �., Исабаева @. Сазсырнай =йрену мектебі. Алматы, 2007.
ТUлеухан К., Ыс�а� Т. Баян-�лгий музыка м�дениеті. �лгий, 1981.
176
ЧАСТЬ 2
Н. С. ЯХОНТОВА
РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ ОЙРАТОВ В СОБРАНИИ ИНСТИТУТА ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ РАН
Институт восточных рукописей РАН является хранителем одной из крупней-
ших в мире коллекций восточных рукописей. Это собрание рукописей (но не только
рукописей, а также ксилографов и старопечатных книг на восточных языках) берет
свое начало в период правления Петра Первого (начало XVIII в.), с именем которого
связано создание Академии наук (1724) и первого российского музея – Кунсткаме-
ры (1714), в составе коллекций которого хранились и восточные рукописи. Позже
коллекция восточных рукописей вошла в состав Азиатского музея.
Азиатский музей был создан 11 ноября 1818 г. при Императорской Акаде-
мии наук в Санкт-Петербурге. Как написано в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона,
«Азиатский музей имеет целью соединить в одно место необходимый материал для
научного исследования азиатских народов и русских инородцев, их быта, языка
и истории. …Музей открыт для научных занятий ежедневно, за исключением суб-
бот и праздничных дней, от 10 до 12 часов дня без всяких формальностей» [Азиат-
ский музей]. Располагался тогда музей также в помещении Кунсткамеры.
Прежде чем стать Институтом восточных рукописей РАН, Азиатский музей
прошел несколько преобразований, во многом связанных с историей страны, но кол-
лекция восточных рукописей неизменно оставалась в городе на берегах Невы, и не-
изменно вокруг нее существовал круг ученых, занимавшихся ее изучением. Изме-
нялось только название учреждения, его административное подчинение (но всегда
в составе Академии наук) и увеличивалось число рукописных памятников.
В составе монгольской коллекции рукописного фонда института восточных
рукописей в настоящее время хранится более 8 тыс. единиц хранения (рукописей
и ксилографов, а также досок, с которых печатались ксилографы). В 1988–2003 гг.
научный сотрудник Института А. Г. Сазыкин издал полное описание монгольской
коллекции Института – трехтомный каталог, в котором 5086 номеров [Сазыкин,
1988, 2001, 2003]. По традиции ойратские рукописи и ксилографы не были выделе-
ны в отдельный раздел, но факт их написания на ойратском «ясном письме» отме-
чен в каталоге, и в каждом томе есть соответствующий указатель – список, который
позволяет их легко найти.
Появление письменности, которая называется «ясное письмо» (todo
bičiq или todo üzüq), заслуга ойратского религиозного деятеля и просветителя
177
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Зая-пандиты Намхайджамцо. Именно он в 1648 г. составил на основе старомон-
гольского новый алфавит. Это довольно редкий случай в истории письма, когда ис-
кусственно созданная письменность получила широкое распространение и долгую
жизнь: этим алфавитом до сих пор пользуются западные монголы, проживающие
в Китае.
История жизни Зая-пандиты известна благодаря тому, что его ученик Рат-
набхадра написал биографию Зая-пандиты под названием «Лунный свет». Эта био-
графия неоднократно привлекала к себе внимание исследователей [Норбо, 1999;
Бадмаев, 1968], последний перевод на русский язык был опубликован в 1999 г.
А. Г. Сазыкиным [Раднабхадра, 1999]. Зая-пандита (мирское имя которого неиз-
вестно) был отправлен учиться в Тибет, где, как сказано в его биографии, еще когда
он учился, про него говорили: «Он станет мудрецом» [там же. С. 54]. После окон-
чания обучения Далай-лама велел Зая-пандите: «Ступай вместо меня к говорящим
по-монгольски. Переводя священные книги, приноси пользу религии и живым су-
ществам» [там же]. В год земли-барса (1638) Зая-пандита выехал из Тибета и через
год прибыл в Монголию. Его деятельность была разнообразной: он посещал ставки
монгольских и ойратских правителей, старался помирить враждующих, совершал
обряды, искоренял шаманизм, принимал дары и пожертвования, которые отвозил
в Тибет и переводил с тибетского языка священные книги.
В его биографии сказано, что от года барса до года барса Зая-пандита перевел
следующие сочинения, и далее приводится их список. В нем, под краткими назва-
ниями, перечислены 186 сочинений, которые перевел сам Зая-пандита, и еще 36,
переведенных его учениками [там же. С. 62–67]. Впрочем, автор биографии отмеча-
ет, что он приводит только «те, что запомнились» [там же. С. 66].
Перевести такое количество сочинений за такой небольшой срок (даже с уче-
том того, что Зая-пандита диктовал свои переводы ученикам, которые записыва-
ли их на восковые дощечки, и после проверки учителем писцы переносили текст
на бумагу) представляется маловероятным. На это обратил внимание А. Г. Сазы-
кин [История Чойджид-дагини, 1999. С. 54–58], который высказал предположение,
что срок «от года барса до года барса» должен охватывать не 12 лет, а 24, т.е. два две-
надцати-годичных цикла. Другими словами не с 1650 по 1662, а с 1638 по 1662. Год
1662, который совпадает в обоих сроках – это дата смерти Зая-пандиты, 1650 год –
это первый год барса после 1648 – года изобретения «ясного письма». Но А. Г. Са-
зыкин предложил начинать отсчет с 1638 г. не только из-за слишком «сжатых сро-
ков». Он приводит еще один довод – Зая-пандита начал свою переводческую дея-
тельность еще до создания им «ясного письма». И действительно, в его биографии
ведь сказано, что Далай-лама послал его переводить священные книги, и трудно
представить себе, что Зая-пандита за первые десять лет ничего не перевел. Кроме
того, известны сочинения, записанные на старомонгольской графике, в колофоне
которых переводчиком однозначно указан Зая-пандита Намхайджамцо [там же.
178
ЧАСТЬ 2
С. 58; Sazykin, 1999]. В частности, в ИВР РАН хранится восемь сочинений, из ко-
торых четыре представлены обоими вариантами (на старомоногольской и ойрат-
ской графике) [Яхонтова, 2014. С. 13]. В последнем случае, вслед за А. Г. Сазыкиным
и А. С. Пучковским, можно говорить не о самостоятельных переводах, а о переложе-
нии монгольского перевода на ойратскую графику. Сравнение двух вариантов пере-
вода одного текста показало, что отличия между ними минимальны: фонетический
облик слов и грамматические формы, следуя нормам «ясного письма», приближены
к разговорной речи. Кроме того, Зая-пандита иногда предлагал другие варианты пе-
реводов некоторых имен и названий, заменял отдельные слова. В остальном пере-
воды таких текстов не имеют отличий. Но, если сравнивать переводы Зая-пандиты
(с использованием «ясного письма» или старописьменной графики) с переводами
других авторов, то очевидно, что его отличает собственный переводческий стиль,
который включает особенную терминологию, буквальный перевод имен собствен-
ных и названий, стремление максимально приблизить перевод к тибетскому ори-
гиналу; последнее даже могло нарушать правила монгольской грамматики (напри-
мер, постпозиционное положение неоформленных определений). Этот стиль, нали-
чие которого неоднократно отмечалось исследователями [Яхонтова, 1986; Цендина,
2001], позволил, в частности, установить, что автором перевода на монгольский су-
тры «Аштасахасрика Праджняпарамита» является Зая-пандита. В тексте этой сутры
из собрания ИВР РАН монгольский колофон переводчика почти полностью утерян,
и строки с именем переводчика отсутствуют, но анализ перевода, выявил то свое-
образие переводческого стиля Зая-пандиты, которое отмечалось и в его переводах
других текстов. Это позволило с уверенностью считать Зая-пандиту автором и это-
го перевода [Ямпольская, в печати].
Основное количество переводов было сделано Зая-пандитой с использовани-
ем «ясного письма», что несомненно способствовало его широкому распростране-
нию и дальнейшей живучести. Этот алфавит был создан им в 1648 г. на основе ста-
ромонгольской (уйгурской) графики с добавлением новых диакритических знаков
и видоизменением некоторых букв. Название «ясное письмо» отражает основное
его отличие от старомонгольского алфавита. Известно, что в последнем графически
не различаются некоторые буквы (например, согласные t и d, огубленные гласные
o и u, � и ü (а в середине слова все четыре огубленных гласных писались одинаково),
гласные e и a в середине и конце слов). Зая-пандита устранил полифонию знаков,
закрепив за каждой фонемой одно графическое написание. Так, на письме стали
различимы t и d, a и e, и каждая из огубленных гласных. Второе существенное ново-
введение – это обозначение в «ясном письме» долгих гласных. В старописьменном
языке на месте долгих гласных писалось сочетание двух гласных с интервокальным
согласным (aγu, egü и так далее), тогда как в живом языке эти интервокальные со-
гласные уже давно не произносились (этот факт зафиксирован еще в «Сокровенном
сказании»). На этом месте произносились долгие гласные (не aγu, egü, а u и ü и так
179
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
далее, что соответствует произношению таких слов в современных монгольских
языках). Таким образом, заслуга Зая-пандиты в том, что он приблизил свою пись-
менность к живому произношению.
В монгольском фонде ИВР РАН хранится около 500 единиц хранения, напи-
санных на «ясном письме». В подавляющем большинстве это рукописи. Однако есть
ксилографы, доски для их печати и литографии.
Литографий – шесть, три из них, это издания, напечатанные в Петербурге
в начале 20 века: «История Чойджид-дагини», гимн Ваджраччхедике и одно кано-
ническое сочинение, которое интересно тем, что его самостоятельные рукописные
копии неизвестны ни на ойратском, ни на монгольском, это сочинение есть только
в составе монгольского Ганджура [Сазыкин, 1992]. Кроме того есть две более ран-
ние литографии: восемь страниц «Евангелий», шифр и изданная К. Ф. Голстунским
в 1864 г. литография с 15 сказками из «Волшебного мертвеца». Также к литографи-
ям относится один листок – реклама чая фирмы «Boray и K°» с надписями на ойрат-
ском, маньчжурском и китайском языках.
Досок для ксилографической печати всего две, обе для издания каноническо-
го сочинения Kilince namančilaxu altan üsün xuta a kemēkü tamu ebdeqči xourai, од-
нако текста, напечатанного на бумаге, в коллекции Института нет. Нет его и в кол-
лекции Института языка и литературы в Улан-Баторе [Gerelmaa, 2005]. Рукописи же
этого сочинения с текстом идентичным нашим досками известны (в нашем собра-
нии их четыре, в Монголии десять).
Надо сказать, что ойратские ксилографические издания – большая редкость.
Одно время ученые даже сомневались в их существовании, однако сейчас извест-
но около десяти ксилографов на «ясном письме» и среди них такие крупные сочи-
нения, как уже упомянутая сутра «Аштасахасрика Праджняпарамита» (382 листа),
2 экземпляра которой хранятся в Институте языка и литературы в Улан-Баторе [там
же. С. 163]. В нашем собрании ксилографов пять и все они меньшего размера: 1) из-
вестный и по другим коллекциям ксилограф очень популярного среди монгольских
народов канонического сочинения «Ваджраччхедика» (56 листов); 2) также канони-
ческое сочинение Mayidariyin irȫliyin xān orošiboi (5 листов); 3) еще одно канониче-
ское сочинение, известное под кратким названием (у ксилографа названия нет) –
«Сoqtu сandan» (9 листов очень маленького формата 19,8 × 6,5 см); 4) ксилографи-
чески изданный текст дхарани (4 листа); 5) «21 магтал Дара-эхе» (20 листов), ко-
торый интересен иллюстрациями с изображением ипостасей Дара-эхе. Три из этих
ксилографов (№ 1, 2, 5) привез Б. Я. Владимирцов из экспедиций в Монголию.
Основную часть ойратской коллекции составляют рукописи. Из них в 30 со-
чинениях в колофонах указано, что их переводчиком является Зая-пандита. Он мо-
жет быть назван различными способами, как с использованием его имени, так и со-
четанием его стандартных титулов, например, toyin cecen rab Za-ya, toyin cecen rab-
gbyam-pa, Oqtorγuiyin dalai rab-gbyam-ba Za-ya pandida, toyin rab-gbyam Za-ya pandida,
180
ЧАСТЬ 2
paṇḍida Za-yā kemēkü cecen rab-byamba, ayaxa takimliq Oqtorγuiyin dalai rab-byam Za-
ya, ayax[a] takilmaq rab-gbyam Za-ya pandida, pandida rab-gbyams Za-ya, Oqtorγuiyin
dalai rab-byam, šabi toyin cecen rab-gbyam-ba и другие. Религиозные сочинения среди
них преобладают (только канонических одиннадцать, среди которых по количеству
экземпляров «лидирует» «Ваджраччхедика» – 13 экземпляров), еще 14 текстов обря-
довые, хотя есть и пять текстов, которые в каталоге А. Г. Сазыкина включены в пер-
вый том, описывающий небуддийские сочинения: среди них литография «Повести
о Чойджид дагини», словарь поэтических выражений, комментарий к сочинению
«Улигер-ун ном», автором которого является Потоба, астрологическое сочинение
и Субхашита.
Поскольку ойратские рукописи не выделены из описания в каталоге А. Г. Са-
зыкина, то ниже они будут представлены, ориентируясь на классификацию, пред-
ложенную в каталоге. Подавляющее большинство ойратских текстов известно
и в записи на старописьменном монгольском языке. Ойратская литература скла-
дывалась как общемонгольская, и только с появлением алфавита «ясное письмо»
и благодаря активной переводческой деятельности Зая-пандиты стало возможным
выделять ойратские сочинения, но не отделять их от общемонгольской литерату-
ры. Хотя, разумеется, есть и собственно западномонгольские тексты, появившие-
ся у ойратов или калмыков, или тексты, представляющие самостоятельные версии
общемонгольских сочинений, которые существенно отличаются от вариантов из-
вестных у восточных монголов.
В первую очередь это касается сочинений небуддийской тематики, вошед-
ших в первый том каталога. Среди сочинений из раздела «Народная словесность»
это записи эпоса Джангар и фольклорные материалы (сказки, пословицы, загадки,
песни), собранные А. М. Позднеевым и К. Ф. Голстунским у калмыков. Ойратские
былины («Бум эрдэни» и «Дани Кюрлю») были записаны на старомонгольской гра-
фике, а не «на ясном письме» и формально не относятся к ойратским сочинениям.
Сочинения индо-тибетской литературы, хорошо известные у монголоязычных на-
родов, в процессе перевода были адаптированы и переработаны, и часто далеко
отошли от исходного санскритского произведения. На ойратском имеются тексты
«Субхашиты», «Волшебного мертвеца», «Рамаяны», «Повести о хане Арджи-Бурджи»,
«Повести о царевиче Манибхадре», сборник джатак и другие. К ним примыкают
истории жанра «хождения в ад», изучением которых много занимался А. Г. Сазы-
кин [Видения буддийского ада, 2004]. На примере одной такой истории – истории
о Молон-тойне (Маудгальяяне) – видно, что ойратская версия путешествия глав-
ного героя в ад принципиально отличается от монгольской своим нарративным
характером, и в отличие от монгольской, имеет текстуальные параллели с текста-
ми из Дуньхуана [Ойратская версия, 1999]. В разделе «История» представлены не-
сколько рукописей, рассказывающих об истории ойратов: две ойратские рукописи
известного сочинения «История Гаван Шараба», четыре рукописи сочинения Убаши
181
ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Тюменя об истории ухода торгутов из России в Джунгарию, а также рукопись, со-
держащая известные монголо-ойратские законы 1640 г., указы Галдан-хун-тайджи,
законы Дондук-даши и указ Анны Иоановны от 7 марта 1735 г., и рукопись с зако-
нами Дондук-Даши и дополнениями 1815–1820 гг. В разделе «Конфессиональная
(небуддийская) литература», куда входят шаманские тексты, ойратских рукописей
очень мало, всего 16. Есть три текста культа тенгриев, шесть – культа Белого старца,
два – Гэсэра, один текст культа гор и один, описывающий обряд возвращения телу
покинувшей его души. Из раздела «Филология» наибольший интерес представляют
небольшой ойратский словарь поэтических выражений, восходящий к санскрит-
скому словарю «Амаракоша», и два экземпляра тибетско-ойратского словаря «Лам-
пада языка мудрецов». Очень широко представлены астрологические сочинения,
приметы, различные виды гаданий и гадательные таблицы (всего 114 рукописей).
Каноническая литература на ойратском (том 2 каталога) представлена 24 со-
чинениями из Ганджура (из которых больше всего экземпляров «Ваджраччхеди-
ки»), но сочинений из Данджура в собрании нет. Однако буддийская культовая
и обрядовая литература представлена очень многими сочинениями: культы раз-
личных божеств и обряды их созерцания, описание похоронных обрядов и различ-
ные дхарани, молитвы (из которых больше всего экземпляров молитвы к обряду
вероисповедания – Itegel), благопожелания и гимны. В третий том каталога, куда
также включена буддийская литература, входят космологические сочинения, дог-
матические сочинения и комментарии к ним, послания-пророчества буддийских
иерархов, а также их наставления и поучения, которые, судя по количеству экзем-
пляров, были довольно популярны (например, семь текстов пророчества Джебзун
Дамба-хутухты).
Азиатский музей Императорской Академии наук. Электронный ресурс:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/2278.
Бадмаев А. В. Зая-пандита. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1968.
Видения буддийского ада. / Предисловие, перевод, транслитерация, приме-
чания и глоссарий А. Г. Сазыкина. СПб.: «Нартанг», 2004.
История Чойджид-дагини. Факсимиле рукописи. / Транслитерация текста,
перевод с монгольского, исследование и комментарий А. Г. Сазыкина. М., 1999.
Норбо Ш. Зая-пандита (Материалы к биографии). Элиста: Калмыцкое книж-
ное издательство, 1999.
182
Ойратская версия «Истории о Молон-тойне». Факсимиле рукописи. / Издание
текста, введение, перевод с ойратского, транслитерация, комментарий и приложе-
ния Н. С. Яхонтовой. СПб.: «Петербургское востоковедение», 1999.
Раднабхадра. «Лунный свет»: История рабджам Зая-пандиты. Факсимиле
рукописи; перевод с ойратского Г. Н. Румянцева и А. Г. Сазыкина; транслитерация
текста, предисловие, примечания и указатели А. Г. Сазыкина. СПб.: «Петербургское
Востоковедение», 1999.
Сазыкин А. Г. Каталог монгольских рукописей и ксилографов Института вос-
токоведения РАН. Т. 1–3. М., 1988, 2001, 2003.
Сазыкин А. Г. Петербургские издания начала ХХ в. на монгольском языке //
Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. Вып. XIV. СПб.,
1992. С. 181–195.
Цендина А. Д. Два монгольских перевода тибетского сочинения «Книга
сына» // Mongolica V. СПб., 2001. С. 54–74.
Ямпольская Н. В. Аштасахасрика праджняпарамита в монгольском переводе
ойратского Дзая-пандиты // «Страны и народы Востока». № 35. М.: Издательская
фирма «Восточная литература», (в печати).
Яхонтова Н. С. Влияние тибетского языка на синтаксис ойратских перево-
дов // Mongolica. Памяти Бориса Яковлевича Владимирцова (1884–1931). М., 1986.
С. 113–117.
Яхонтова Н. С. Ойратские рукописи и ксилографы в собрании Института
восточных рукописей РАН // Мир «Ясного письма». Сб. научных статей. Отв. ред.
Б. А. Бичеев. Элиста, 2014. С. 5–26.
Gerelmaa G. Brief Catalogue of Oirat Manuscripts Kept by Institute of Language and
Literature. / Corpus Scriptorum Mongolorum. Instituti linguae et literaturum Academiae
scientiarum Republicae Populi Mongolici. Tom XXVII, Fasc.1. Ulaanbaatar, 2005.
Sazykin A. G. “Diamond Sutra” The Mongolian Version of the Translation of Zaya-
pandita Namkhai-Jamco // Zentralasiatische Studien des Seminars für Sprach- und
Kulturwissenschaft Zentralasiens der Universität Bonn. Herausgegeben von Walther
Heissig und Michael Weiers, 29 (1999). Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1999. С. 17–36.
183
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Г. БАБАЯРОВ, А. КУБАТИН
К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ДОИСЛАМСКИХ МОНЕТАХ ОТРАРА
В результате наших исследований последних лет по нумизматике Средней
Азии эпохи раннего средневековья было выявлены около 40 типов монет, чекан
которых был связан с Западно-Тюркским каганатом. Среди них особое место за-
нимают свыше 20 типов монет, чекан которых был непосредственно связан с Ка-
ганатом и в легенде которых нашли свое отражение имена и титулы верховных за-
падно-тюркских правителей. Данные монеты были отнесены нами к собственным
монетам Западно-Тюркского каганата;1 которые в своем большинстве были чека-
нены в Чачском (Ташкентском) оазисе и частично в Фергане. Кроме них нами было
выявлено около 20 типов монет, чекан которых был косвенно связан с Каганатом
и которые были чеканены вассальными династиями Западно-Тюркского каганата
тюркского и тюрко-согдийского происхождения, правившими в ряде оазисов Сред-
ней Азии. Изучение монет этих династий позволяет внести ясность в ряд вопросов,
связанных с историей и системой управления Каганата. Среди этих монет особое
место занимают монеты Отрара, которые мы рассмотрим ниже.
Известный на сегодня нумизматический материал показывает, что к доис-
ламским монетам Отрара, следует отнести 5 типов монет, из которых 2 типа имеют
легенды, выполненные согдийским письмом, а 3 – анэпиграфные: 1) с тюргешски-
ми тамгами; 2) с изображениями льва; 3) с парным изображением, т.е. без легенд
(Рис. I). Среди них большой интерес представляют именно два типа монет с согдий-
ской легендой, в которых занял место титул «Тутук Алп-кагана».
Тип I. Первый тип представляет собой монеты с изображением льва на авер-
се и с тамгой в форме в окружении согдийской легенды в две строки.
Монеты данного типа уже несколько десятилетий назад были введены в науч-
ный оборот и нашли свое отражение в трудах таких исследователей, как О. И. Смир-
нова, Р. З. Бурнашева, К. М. Байпаков, С. М. Юсупова, Г. Бабаяров, А. Кубатин и др.
Но до недавнего времени легенда на этих монетах не была прочтена окончательно.
В своей публикации, посвященной этим монетам, нами было предложено чтение
легенды как trwk/tk(’yn)? trβnδyc… – «тюрк/тегин? тарбандский», …(x)wβ… [Баба-
яров, Кубатин, 2011. С. 148]. Однако новый нумизматический материал показал
1 Фергана: 1) … x’γ’nс pny – «Деньга … кагана»; 2) x’γ’n – «каган»;
184
ЧАСТЬ 3
ошибочность нашего чтения. Новые экземпляры монет позволили пересмотреть
прежнее чтение и предложить его новый вариант.
Первая строка предварительно читается нами как ’wkwrtyk? ’δpw x’γ’n twtwx –
«член рода/династии тутук Алп-кагана»1 (первое слово выражения ’wkwrtyk мы чи-
таем со знаком вопроса и считаем, что оно, возможно, связано с согд. wk’wr «relative,
kinsfolk (родственники, родня)» [Gharib, 1995. С. 407],’wkwrt(+cm’wk) – («как бы род
Чамука») [Lurje, 2010. С. 115]. Из-за плохой сохранности вторую строку легенды мы
предположительно читаем как ZN(H) ’wk/n (β)γ(’)n ’nwt – «Это ’wk/n божественная
опора» (Рис. II). Следуть отметить, что сходное выражение встречается также на од-
ном из типов монет Чачского оазиса, чеканенных почти в одно время с упомянуты-
ми монетами Отрара. Так, на одном из типов монет Тудунов Чача, одной из тюрк-
ских династий оазиса VII–VIII вв., заняла место согдийская легенда xwβ tδwn (k)nwn
βγ’nwt(?) – “Правитель тудун – божественная опора закона (?)” (Pис. III, 7-8) [Бабая-
ров, 2007. С. 54–55].
Тип II. Вторым типом является монета с квадратным отверстием в центре
и согдийской легендой вокруг нее, читаемая как ’δpw x’γ’n twtwx– «Тутук Алп-кагана»
(Рис. IV). Несмотря на то что их легенда была прочтена свыше 30 лет назад, до не-
давнего времени они относились к монетам Ферганы [Смирнова, 1981. С. 58, 341].
Некоторые исследователи все же предполагали, что данные монеты присущи боль-
ше Отрару, чем Фергане [Lurje, 2010. С. 82]. Тот факт, что находки монет данных
типов в своем большинстве происходили с городищ Ферганы, Ташкентского оази-
са и бассейна Средней Сырдарьи (Южный Казахстан), указывал на то, что местом
их чекана должен быть один из этих регионов. Находки монет данного типа в Фер-
гане, а также наличие в согдийском документе А-14, относящемся к первой четвер-
ти VIII в. и являющимся письмом посла Фатуфарна своему господину правителю
Панча (Согд) Деваштичу (709-722), фразы “rty βγ (Z)Kw x’γ’n pwstk ZY ZKn βrγ’nk MLK-’
p(w)stk ZKn βrγ’nk twttk’y δsty-’ ’kw (β)rγ’nk MLK-’ s’r p-r’šyw” – «И, господин, письмо
кагану и письмо ферганскому царю я через ферганского тутука ферганскому царю
переслал» [Лившиц, 2004. С. 86–87], как бы подтверждали, что среди представите-
лей правящей верхушки Ферганы имелась личность с титулом «тутук», и данные
монеты чеканились в Ферганской долине.
Однако, наличие на них тамги ( ), отличающейся от тамг на других моне-
тах Ферганы, а также то, что в их легендах занял место другой титул («Тутук Алп-
кагана»), отличающийся от титула («каган»), имеющийся в легендах других монет
этого региона, и наличие схожего титула в легенде монет Отрара с изображением
льва («...Тутук Алп-кагана»), позволяет говорить, что они были также чеканены
1 Согд: 1) xwβ twrnyn x’γ’n – «Правитель Турана каган» или «Правитель Турнин. Каган»
(Самарканд);
185
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
в Отраре. Вместе с тем, подтверждением этого является также наличие идентичной
тамги на обоих типах данных монет (Рис. IV).
Итак, здесь уместен вопрос, кем была личность, упомянутая в легендах
под титулом «Тутук Алп-каган»? Из китайской хроники «Тан-шу» известно, что пра-
витель западных тюрок Тун ябгу-каган присвоил правителям вассальных владений
Каганата титул сы-ли-фа (эльтебер), а для их контроля и сбора налогов отправил
по одному чиновнику с титулом ту-тунь (тудун) [Бичурин, 1950. С. 283]. Если ис-
ходить из этого сведения, то во всех вассальных владениях Западно-Тюркского
каганата должен был находиться представитель кагана с титулом тудун. Однако
наличие в некоторых вассальных владениях Каганата правителей с такими древне-
тюркскими титулами, как тутук, тархан, чор и др., заставляет задуматься, всегда
ли каган отправлял для контроля только тудунов. Титул тудун упоминается в ки-
тайских, арабских, согдийских и бактрийских источниках только в связи с такими
владениями, как Чач, Бухара (?), Панч (?), Хутталь, Газ (Тохаристан) и Гаочан (Тур-
фан) [Chavannes, 1903. С. 57, 140–142; Бичурин, 1950. С. 287, 313–314; Согдийские до-
кументы, 1962. С. 80–85; Sims-Williams, 2000. С. 94–95]. При этом остается откры-
тым вопрос, имелся ли представитель кагана с титулом тудун в других около 15-ти
вассальных владениях Западно-Тюркского каганата, например, таких как Фергана,
Уструшана, Согд (Самарканд, Кеш, Нахшеб и др.), Хорезм, Кабулистан и др.
Можно предположить, что первоначально Западно-тюркские каганы отправ-
ляли в вассальные владения тудунов, а затем стали оправлять чиновников с титу-
лами эльтебер, тутук, тархан, чор и др. В поддержку этого предположения можно
привести следующие аргументы: упоминание в согдийском документе из Восточ-
ного Туркестана, относящегося к 639 г., в качестве правителя Чинанчкенда (Тур-
фан) эльтебера [Vaissière de la, 2005. С. 169]; упоминание с таким же титулом од-
ного из представителей правящей верхушки (хису-эльтебер или эльтебер) в ряде
согдийских документов с горы Муг, относящихся к 720-м гг. [Grenet, Vaissiere de la,
2002. С. 177]; упоминание в документе А-13 с горы Муг чиновника с титулом тар-
хан [Согдийские документы, 2004. С. 69–70.]; наличие титула Чекин Чор Бильге
у правителя Панча, правившего в 693 –708 гг. [Лившиц, 1979. С. 66–67]; упоминание
у Табари имени одного из доисламских правителей Ферганы в форме Джур (Чор)
[История ат Табари, 1987. С. 185] и др. Наличие в легендах, выполненных согдий-
ским и бактрийским письмом, которые имеются на различных типах монет ряда
оазисов Средней Азии, относящихся к VII–VIII вв., древнетюркских титулов (напри-
мер, тегин, эльтебер, тудун, тархан) [Смирнова, 1981. С. 389; Бабаяров, 2007. С. 42,
52–54] говорит о том, что в этот период в регионе появились династии, непосред-
ственно и косвенно связанные с Каганатом.
Останавливаясь на вопросе о чиновниках с титулом тутук, надо отметить,
что согласно сведениям китайских хроник, обладатели этого титула являлись «во-
енным правитель определенной области», другими словами, «наместником», т.е.
186
ЧАСТЬ 3
представителем кагана в области [Ecsedy, 1965. С. 84]. Упоминание в документе
А-14, относящемся к первой половине VII в., в связи с Ферганой в качестве одного
из должностных лиц «ферганского тутука» (βrγ’n’ktwttk), через которого было пере-
дано письмо Дēвāштича тюркскому кагану [Согдийские документы, 2004. С. 80–85;
Grenet, Vaissiere de la, 2002. С. 170], указывает на то, что в Фергане в качестве пред-
ставителя тюркских каганов находились тутуки. Нумизматический материал,
в свою очередь, свидетельствует о том, что в этот период в Отраре у власти так-
же находились представители кагана с титулом тутук, создавшие свою династию,
правившую от его имени. На их монетах заняли место легенды «тутук Алп-кагана»
и «член рода/династии? тутук Алп-кагана». То есть упоминание в легендах монет,
чеканенных династией Тутуков, правивших в Отрарском оазисе в качестве пред-
ставителей западно-тюркских каганов, титула или имени «Алп-каган» можно ин-
терпретировать следующим образом.
1) Правители Отрара в качестве чиновников Западно-тюркских каганов, от-
правленных для контроля в этот регион, упомянули в легенде титул своих сюзере-
нов, таким образом, особо подчеркивая, что они являлись их представителями. По-
добное можно видеть на примере сасанидских монет и их подражаний из Тохари-
стана, находившихся в тот период в денежном обращении этой области, на которых
заняли место надчеканы, выполненные согдийским письмом. При этом, обращает
на себя внимание факт, что среди надчеканов на многих этих монетах встречаются
вместе титулы «каган» и «тегин», «тегин» и «тархан».
2) Выражение ’δpw x’γ’n twtwx в легенде на монетах Отрара можно прочесть
и как «Алп-каган тутук», а также предположить, что они были чеканены одним
из западно-тюркских каганов. Но против такой интерпретации свидетельствуют
следующие факты. Как известно, титул каган, широко употреблявшийся в течение
столетий в системе управления ряда государственных объединений Евразии, имел
верховный правитель независимой державы [Сравнительно-историческая грам-
матика, 2006. С. 531], и поэтому наличие у его обладателя еще дополнительно ти-
тула тутук, занимавшего одну из наиболее низких ступеней иерархии Каганата,
противоречило бы системе управления того времени. При этом в системе титулов
Тюркского каганата не отмечено наличие парного титула «каган-тутук» или «ту-
тук-каган», а также согласно правилу образования парных титулов у древних тю-
рок, более низкий титул занимал первое место и за ним следовал более высокий,
и разница между титулами, входящими в состав парного, не превышала одной сту-
пени [Donuk, 1988. С. 56]. Исходя из этого, можно говорить о наличии в монетной
легенде двух самостоятельных титулов. На основании этого более логичным пред-
ставляется интерпретировать данную легенду как «Тутук Алп-кагана». К тому же
титул с эпитетом Алп-каган получил широкое употребление не только в Тюркском
каганате, но и других тюркских государственных объединениях, в качестве одно-
го из высших эпитетов главы государства. Кроме того, наличие на собственных
187
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
монетах западно-тюркских каганов тамги отличной от тамг на монетах Отрара
(ср. - ) и других сюжетов (Рис. VII) также не позволяет трактовать мо-
нетную легенду упомянутым образом.
Не исключено, что правители Отрара отразили в легендах своих монет вы-
ражение ZN(H) ’wk/n (β)γ(’)n ’nwt – «Это’wk/n божественная опора» (?) или «Это’wk/n
опора господина» (т.к. в согд. βγ означало не только Бог, но и имело значение «го-
сподин»), поскольку считали себя представителями кагана, подобно Тудунам Чача.
Как отмечалось выше, Тудуны Чача посредством отражения в легендах своих монет
согдийских выражений ’nwt – «опора» или βγ’nwt – «божественная опора / опора го-
сподина», по-видимому таким образом выражали свои правомочия. Наличие такой
параллели на монетах Отрара позволяет констатировать, что наместники, назна-
ченные каганами, имели подобную традицию.
Выражение ZN(H) ’wk/n (β)γ(’)n ’nwt во второй строке легенды можно прочесть
также ZN(H) ’wk/n (x’)γ(’)n ’nwt – «Это’wk/n кагана опора». При этом сходное выра-
жение имеется на монетах Тудунов Чача, легенду на которых мы предварительно
читали xwβ tδwn (k)nwn βγ’nwt(?) – «правитель тудун – закона божественная опора»
(?), но можно также интерпретировать как xwβ tδwn ’wk/n x’γ’n ’nwt (?) – «правитель
тудун – ’wk/n кагана опора». Такое двоякое чтение легенд на монетах обоих регио-
нов объясняется их плохой сохранностью. Если благодаря новым находкам монет
с хорошо сохранившимися легендами подтвердиться наше предположение, в та-
ком случае получиться, что наместники-представители западно-тюркских каганов
в обоих регионах считали себя опорой своих сюзеренов и отражали это в монетном
чекане.
Обращает на себя внимание, что монеты Отрара отражают в себе все особен-
ности, характерные для большинства доисламских монет Средней Азии. Так, по-
добно монетам Западно-Тюркского каганата, чеканенным в Чаче, монеты Тегинов
Чача, тюркской династии Ферганы, происходящей из рода Ашина, а также монеты
Согда, точнее – династии Самарканда тюрко-согдийского происхождения, можно
подразделить на две группы: 1) с изображением правителя и согдийской легендой;
2) аниконографные, т.е. без изображений, с квадратным отверстием в середине
по китайскому образцу и согдийской легендой. Считается, что монеты 1-й группы
(этапа), т.е. с изображением, чеканились в последней четверти VI – первой поло-
вине VII в., а монеты 2-й группы (этап) по китайскому образцу начали чеканиться
со второй половины VII в. Скорее всего, монеты Средней Азии 2-го этапа начали
чеканиться после того как Западно-Тюркский каганат в 657 г. потерпел поражение
от Танского Китая и превратился в его вассала, и начиная с этого времени Китай
при посредстве Каганата начал оказывать влияние на оазисные владения региона.
Именно с этого времени в монетном чекане произошли изменения, и монеты нача-
ли выпускаться по типу китайских – с квадратным отверстием в центре и без изоб-
ражений.
188
ЧАСТЬ 3
Например, первые монеты династии Чачских Тегинов (605–750) чеканились
с изображением правителя с миндалевидными глазами и с длинными волосами,
имели легенды согдийским письмом «Чачский правитель тегин»; монеты же тюрк-
ской династии Ферганы из рода Ашина имели подобное изображение и легенду
с древнетюркским руническим и согдийским письмом. Затем в обоих регионах мо-
неты стали выпускаться по китайскому образцу с квадратным отверстием в центре
и без изображений с титулами «тегин» (Чач) и «каган» (Фергана) в легендах. По-
добное характерно даже для «собственных» монет Западно-Тюркского каганата, че-
каненных в Чаче. На первых этапах монеты Каганата чеканились с изображениями
правителя, царственной четы, всадника, лошади, двугорбого верблюда, но начиная
со второй половины VII в. они начали выпускаться по китайскому образцу [Бабая-
ров, 2007. С. 9–22, 36, 40–43].
Подобное положение характерно и для монет Отрара. Правители Отрара че-
канили свои первые монеты исходя из местных традиций с изображением хищника
из семейства кошачьих (лев), но затем, возможно с конца 650-х гг., после того как за-
падно-тюркские каганы попали в вассальную зависимость от Танского Китая, они
начали выпускать монеты по китайскому образцу. То, что на монетах Отрара дан-
ного этапа легенда сокращается (отсутствие слова ’nwt – «опора» и др.), и на них за-
няло место лишь выражение «Тутук Алп-кагана», возможно, было связано с этими
политическими событиями.
Итак, каково же было происхождение правящего дома Отрара, правители ко-
торых носили титул «Тутук Алп-кагана»? Ни в письменных, ни в других источниках
мы не имеем об этом никаких сведений и можем лишь ограничиться некоторыми
выводами на основании титулов, изображений и формы тамги.
Прежде чем перейти к данной теме, полезно привести следующий истори-
ческий факт. Несмотря на практическое отсутствие в письменных источниках
сведений о происхождении династии Тудунов, правивших в Чаче в 640–750 гг.,
О. И. Смирнова и ряд исследователей считают, что происхождение династии связа-
но с племенами, входившими в племенное объединение «Он Ок» Западно-Тюркско-
го каганата. Согласно исследователям, это подтверждается упоминанием в китай-
ских хрониках в качестве одного из тюркских племен, входивших в объединение
«Он Ок», племени шэшэти и наличием этого же этнонима в имени одного из туду-
нов Чача *Тун тудун шэшэти оге кюль (у Бичурина Кан тутунь шэшэти юй цюе)
[Бичурин, 1950. С. 289]. Кроме того, наличие на монетах Тудунов Чача тамги от-
личной от тамги, имеющейся на монетах западно-тюркских каганов, также чека-
ненных в Чаче (ср. - ), и отличных от монет каганов сюжетов и симво-
лов (Рис. III, VII, VIII), также свидетельствует о том, что данные монеты чеканились
не представителями дома Ашина, а наместником-представителем кагана, происхо-
дившим из одного из союзных племен.
189
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Подобное положение характерно и для Тутуков Отрара. Не исключено, что эта
династия, подобно Чачским Тудунам, происходила из одного из союзных племен
западных тюрок. К тому же на монетах Тутуках Отрара, подобно Тудунам, заня-
ли место другая тамга (ср. - ) и другие символические изображения
(лев), также позволяют предполагать, что их происхождение связано не династией
западно-тюркских каганов – домом Ашина, а скорее всего, с одним из 10 союзных
им племен.
Схожую ситуацию мы можем наблюдать и в других вассальных от Каганата
оазисных владениях Средней Азии, в монетных легендах которых или надчеканах
на монетах использовались такие фразы:
Фергана: 1) … x’γ’nс pny – «Деньга … кагана»; 2) x’γ’n – «каган»;
Согд: 1) xwβ twrnyn x’γ’n – «Правитель Турана каган» или «Правитель Тур-
нин. Каган» (Самарканд);
Тохаристан: δγcy βγy x’γ’n – «Божественный/Господин Дехчи (имя божества).
Каган» (надчекан) (Рис. VI).
Как видно, в приведенных выше монетных легендах под титулом x’γ’n – «ка-
ган» подразумевался не определенный каган, а верховный западно-тюркский пра-
витель вообще. Таким образом, можно предполагать, что правители Отрара, выра-
жая свою вассальную зависимость на монетах, прибегли к уже имевшимся в монет-
ном чекане традициям.
Тип III. На сегодня известно, что доисламские монеты Средней Азии с изо-
бражением парного портрета правителя и правительницы чеканились в пяти исто-
рико-культурных областях: 1) Чач, 2) Согд (Панч), 3) Чаганиан (Тохаристан), 4) Бу-
хара, 5) Отрар (Рис. IX. 1-5). На первых двух из них место имен и титулов правите-
лей, переданных согдийским письмом (на монетах Чача – Жабгу, Тун джабгу-каган,
Тон-каган; на монетах Согда – Хатун), на монетах Тохаристана заняла согдийская
фраза «Божественный/Господин правитель», из-за плохой сохранности на монетах
Бухары легенду трудно разобрать, монеты же Отрара анэпиграфные (Рис. I. 4).
Среди этих монет в иконографическом и других планах (манера изображе-
ния, символы власти, техника изготовления, параметры и др.) очень близки меж-
ду собой монеты верховных правителей Западно-Тюркского каганата (ябгу / ябгу-
каган / каган), чеканенные в Чаче [Бабаяров, 2007. С. 11, 14, 18], и монеты тюр-
ко-согдийской династии, правившей в одном из владений Согда [Смирнова, 1981.
С. 359–370]. Хотя между ними имеются небольшие отличия, присущие монетам
каждой из областей, но заслуживает внимание схожесть физического типа мужско-
го и женского персонажа, а также головного убора женского персонажа (на первых
монетах изображен в трехрогом головном уборе, который в дальнейшем стилизует-
ся) и схожие этапы стилизации изображения.
Монеты Отрара с подобным изображением проявляют большее сходство
с монетами Чача и Согда, чем с монетами других регионов (Рис. IX). Несмотря на то
190
ЧАСТЬ 3
что нам известен один экземпляр монеты данного типа плохой сохранности, неко-
торые особенности парного портрета можно различить. Из-за плохой сохранности
особенности строения лица и глаз предполагаемого мужского персонажа справа
и женского персонажа справа плохо различимы. Но видно, что объект справа имеет
округлое лицо и длинные до плеч волосы, правый же также имеет округлое лицо
и изображен в головном уборе (Рис. I. 4, Рис. IX, 5).
Монеты данного типа Тохаристана и Бухары отличаются от монет других
регионов, как в иконографическом плане, так и техникой изготовления. Монеты
Бухары с парным изображением полускифатные, и этим они проявляют близость
с другими монетами оазиса данного периода. В иконографическом плане они от-
личаются от монет с подобным сюжетом других четырех оазисов. Мужской персо-
наж справа изображен с волосами, зачесанными назад и изображенными в виде
крупных линий, а женский персонаж в специфическом головном уборе (проявляет
сходство со средневековыми женскими головными уборами народов Дальнего Вос-
тока, в частности, монголов). Оба персонажа изображены с миндалевидными гла-
зами, но разрез глаз не слишком узкий. Оборотная сторона всех известных нам эк-
земпляров монет данного типа сильно потерта, поэтому трудно определить, какая
тамга заняла место на них, но можно разглядеть некоторые знаки, напоминающие
согдийские буквы.
Монеты Тохаристана с данным сюжетом, хотя и имеют присущие им отличия,
но в общем плане проявляют сходство с подобными монетами Чача, Согда и Отрара
(Рис. IX. 3). Правитель справа изображен, как на монетах Согда, с длинными и тон-
кими усами, правительница слева, хотя и не имеет головного убора подобно дру-
гим, но имеет округлое лицо, чем проявляет сходство с монетами других регионов.
Особенностью данных монет Тохаристана является то, что правитель и правитель-
ница изображены с короткими прическами. На обороте заняла место ромбовидная
тамга. Имеются два варианта этих монет: анэпиграфный и с согдийской легендой
(prn xwβ – «Божественный/Господин правитель»).
Таким образом, непосредственно и косвенно в связи с Западно-Тюркским ка-
ганатом в пяти регионах чеканились монеты с парным изображением, хотя и об-
ладающие характерными для них особенностями, но связанны общностью сюжета.
Монеты с данным сюжетом из Чачского оазиса чеканились в течение длительного
времени, о чем свидетельствует множество их типов и вариантов, многочислен-
ность находок, как случайных, так и сделанных при археологических исследова-
ниях. Подобные монеты Согда, чеканенные предположительно от имени каганов
местными правителями, женатыми на дочерях западно-тюркских каганов, или же
династией тюркского происхождения, в этом отношении следуют за монетами
Чача. Небольшое количество находок и малоизученность монет остальных регио-
нов (Отрар, Бухара, Тохаристан) не позволяют сделать окончательные выводы. Од-
нако мы не видим на них деградации и их различных вариантов.
191
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Итак, какое значение имела традиция отражения на монетах Средней Азии
парного портрета правителя и правительницы, когда появился этот сюжет на мо-
нетах региона и какового его происхождение? Одним из первых еще в 50-х годах
прошлого века на это обратил внимание М. Е. Массон, указав, что монеты с пар-
ным изображением копировали византийские медные монеты Юстина II (565–578),
на которых, он был изображен рядом с царицей Софьей. По его мнению, именно
ко двору Юстина II около 568 г. прибыло посольство от среднеазиатских тюрок (т.е.
Западно-Тюркского каганата – Авт.) во главе с согдийским купцом Маниахом. За-
тем О. И. Смирнова отметила, что вполне вероятно, познакомившись с византий-
скими монетами, тюрки заимствовали для себя их тип, прочно закрепившийся
у них к концу VI в. и, в свою очередь, послуживший в дальнейшем исходным об-
разцом для монетных типов регионов Средней Азии. В то же время, учитывая вы-
сокий художественный уровень их исполнения, она не отрицает возможности того,
что не тюрки у византийцев, а византийцы у тюрков заимствуют новый для себя
тип монет, отмечая при этом, что двойные изображения появляются на византий-
ских монетах начиная с этого времени, и только в дальнейшем византийский че-
кан неоднократно возвращается к ним [Смирнова, 1981. С. 56]. Однако, это мнение
не нашло широкой поддержки.
Как отмечалось в наших исследованиях, на монетах с парным портретом, хотя
и сохраняется характерный для Византии сюжет, но для изображений правителя
и правительницы присущи монголоидные черты (округлое лицо, узкий разрез глаз)
и особенности, характерные для древних тюрков (длинные волосы и отсутствие
головного убора у правителя, трехрогий головной убор у правительницы, симво-
лизирующей Умай). Одной из важных особенностей является также то, что место
креста, имеющегося на монетах Византии с парным портретом, на монетах Запад-
но-Тюркского каганата с тем же сюжетом занял полумесяц со звездой, которые за-
нимали важное место в воззрениях древних тюрок и других народов Центральной
Азии [Babayarov, Kubatın, 2013. С. 47–58]. Наличие же нескольких типов монет с пар-
ным портретом и их вариантов говорит о том, что они чеканились в течение долго
периода правителями Западно-Тюркского каганата на всех этапах его истории – Яб-
гуйство, Ябгу-каганат и Каганат, о чем свидетельствуют титулы, занявшие место
в их легендах.
Кратко можно сказать, что этот сюжет, появление которого на монетах Сред-
ней Азии связано с тюрко-византийским политическим союзом, впервые появил-
ся на собственных монетах правителей Западно-Тюркского каганата, чеканенных
в Чаче. С большей долей вероятности можно предполагать, что чекан монет с по-
добным сюжетом в Согде, Тохаристане, Бухаре и Отраре, начался под влиянием мо-
нет Чача. После Чача монеты с парным портретом начали чеканиться в Согде, за-
тем в Тохаристане и других владениях. То есть монеты Чача с парным портретом
послужили определенным эталоном или прототипом для монет других регионов
192
ЧАСТЬ 3
с подобным сюжетом. Выдвинуть такое предположение нам позволяет многообра-
зие различных типов и вариантов монет с данным сюжетом в Чаче и Согде. Зна-
чит, этот сюжет заимствованный западно-тюркскими каганами и переработанный
с учетом древнетюркских традиций занял место на их монетах в качестве полити-
ческого акта, а со временем он оказал влияние на монетный чекан малых оазисных
владений, зависимых от Каганата. На монетах с данным сюжетом, которые были
чеканены в упомянутых владениях представителями местных династий или новы-
ми династиями тюркского происхождения, установившими в них власть, в целом
сохраняется основная идея и общность сюжета. Однако при этом наблюдаются
определенные дополнения и изменения, характерные для каждого региона. Напри-
мер, эту точку зрения подтверждают такие факты, как наличие на реверсе монет
тамг или символов, характерных для каждого владения, а также проявление мест-
ной техники чекана и местных традиций монетного чекана. Кроме того, наличие
согдийской легенды вокруг тамги на монетах некоторых из этих регионов, в кото-
рых заняли место титулы, связанные с их политической ситуацией, аргументирует
их соответствие традициям легитимности того времени.
Остановимся на вопросе, можно ли считать, что первое появление на доис-
ламских монетах Средней Азии сюжетов этого типа, которые общепризнанно яв-
ляются византийским влиянием, связано не с монетами Чача, чеканенными вер-
ховными правителями западных тюрков, а с Согдом или другим регионом, а потом
они были заимствованы Чачем. Неопровержимых доказательств, подтверждающих
это мнение, нет, поэтому его следует считать маловероятным. К тому же, как отме-
чалось выше, политический союз с Византией был заключен с верховными прави-
телями Западных тюрок, и на собственных монетах Западно-тюркских правителей,
чеканенных в Чаче, появляется не только этот сюжет, но и другие сюжеты, кото-
рые мы относим к имперским. Этот факт, а также иконографические, технические
и другие особенности, позволяют говорить, что монеты Чача послужили опреде-
ленным эталоном для монет других регионов.
Итак, изображение правителя с длинными волосами, присутствующее на мо-
нетах Отрара с парным портретом, проявляет близкое сходство с подобными изо-
бражениями, занявшими место на доисламских монетах таких областей Средней
Азии, как Чач, Фергана и Согд, а также на многих археологических памятниках (на-
скальные рисунки, балбалы и др.) Семиречья (Казахстан и Кыргызстан). Некоторые
из них по ряду признаков (физический облик – округлое лицо, форме разреза глаз –
узкие миндалевидные, форме прически – длинные до плеч волосы, расчесанные
на обе стороны, и др.) проявляют большую близость с изображениями, занявши-
ми место на монетах Западных тюрков, в частности, Чача и Согда. Несмотря на то,
что они выполнены в металле, камне и др., наблюдающаяся близость в стиле изо-
бражения людей отражает их принадлежность к одной этнической группе, к общей
этнокультурной среде и одной эпохе.
193
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Примечания:
1 До недавних пор большинство исследователей, хотя и утверждали, что часть
монет Средней Азии VI–VIII вв. составляет группа «древнетюркских монет», одна-
ко при этом не был решен вопрос об их принадлежности какому-либо правителю
или династии. На повестку дня даже не был поставлен вопрос, чеканил ли Кага-
нат монеты или же нет, а среди большинства исследователей преобладало мнение,
что первые тюркские монеты были чеканены Тюргешским каганатом (699–766).
Исходя из формы тамги , титула жабгу и иконографических особенностей, часть
монет каганата можно отнести к монетам первого этапа (Рис.VIII, 1-12, 23). Они
относятся к этапу Ябгуйства, а их чекан в хронологическом отношении можно дати-
ровать приблизительно концом 560-х гг. – последней четвертью VI в. Наличие на мо-
нетах титула джабгу-каган, а также тамги в форме говорит об их принадлежности
к монетам второго этапа (Рис. VIII, 13-18). Это еще раз подтверждает, что офици-
альным титулом западно-тюркских каганов был титул ябгу / ябгу-каган. Монеты
этого типа относятся ко второму этапу становления Западно-Тюркского каганата –
Ябгу-каганату, и их следует датировать началом VII – 30-ми гг. VII в. Значительная
часть этих монет относится к чекану Тун ябгу-кагана (618–630), поскольку именно
к его правлению относится усиление внимания к юго-западным территориям. Боль-
шую часть монет Каганата, чеканенных в Чаче, составляют монеты с титулом ка-
ган в легенде, которые в иконографическом отношении и по форме тамги очень
близки к монетам с титулами жабгу и джабгу-каган. Наличие в их легендах титула
каган, а также дополнительных элементов на тамге, стилизация изображений (зна-
чительное изменение в отличие от прототипов), свидетельствуют об их принадлеж-
ности к монетам третьего этапа (Рис. VIII, 19-22, 24). Отсутствие на этих монетах
титулов жабгу и джабгу-каган можно связать с переходом Западного крыла на этап
Каганата. Значит, после ликвидации в 630-х гг. империей Тан Восточно-Тюркско-
го каганата, Западное крыло (т.е. Ябгу-каганат) в качестве наследника центральной
власти превратился в независимый Каганат, и его правители стали именовать себя
каганами‚ начав чекан монет с этим титулом [Babayarov, Kubatın, 2013. С. 47-58].
2 Данное чтение впервые было опубликовано в Интернете: Gaybulla
Babayarov. On the Pre-Islamic Coins of Otrar (Southern Kazakhstan). November, 2013
http://groups.yahoo.com/group/Sogdian-L/fi les.
Бабаяров Г. Древнетюркские монеты Чачского оазиса (VI–VIII вв.). Ташкент,
2007.
Бабаяров Г., Кубатин А. К новой интерпретации легенды на доисламских
монетах Отырара с изображением льва // Материалы международной научной
194
ЧАСТЬ 3
конференции: «Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги, перспекти-
вы», посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан и 20-летию ин-
ститута археологии им. А. Х. Маргулана. Алматы, 12–15 декабря 2011 г. Т. III. Алма-
ты, 2011. С. 147–151.
Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней
Азии в древние времена. Том I. М.;Л., 1950.
История ат Табари. Избранные отрывки / Перевод с арабского В. И. Беляева.
Дополнения к переводу О. Г. Большакова и А. Б. Халидова. Ташкент: Фан, 1987.
Лившиц В. А. Правители Панча (согдийцы и тюрки) // Народы Азии и Афри-
ки. Вып. 4. М.: Наука, 1979. С. 56–69.
Лившиц В. А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. СПб., 2008.
Лурье П. Б. Историко-лингвистический анализ согдийской топонимии. Дисс.
канд. филолог. наук. СПб., 2004.
Смирнова О. И. Сводный каталог согдийских монет. Бронза. М., 1981.
Согдийские документы с горы Муг. Юридические документы и письма / Чте-
ние, перевод и комментарии В. А. Лившица. Вып. 2. М., 1962.
Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский
язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка. Под pед. Э. Р.
Тенишева и А. В. Дыбо. М.: Наука, 2006.
Babayarov G., Kubatın A. Byzantine impact on the iconography of Western Turkic
coinage // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung. Volume 66 (1). Budapest, 2013.
P. 47–58.
Chavannes E. Documents sur les Tou-Kiue (Turks) occidentaux // Сборник трудов
Орхонской экспедиции. Вып. 6. СПб., 1903.
Donuk A. Eski Türk devletlerinde idari-askeri unvan ve terimler. İstanbul, 1988.
Ecsedy H. Old Тurkic titles of Chinese origin // Acta Orient. Hung. T. XVIII. 1965.
Р. 83–91.
Gabain А. Eski Türkçenin Grameri. Türkçe çev. M. Akalın. Ankara: TTK, 1988.
Gharib B. Sogdian Dictionary. Sogdian – Persian – English. Tehran, 1995.
Grenet F., Vaissiere de la E. The last days of Panjikent // Silk Road Art and
Archaeology, 8. Kamakura, 2002. P. 155–196.
Lurje P. B. Personal Names in Sogdian Texts. İranisches personennamenbuch
herausgegeben von Rudıger Schmıtt, Heiner Eichner, Bert G. Fragner und Velizar Sadovski.
Band II. Mitteliranische personennamen. Faszıkel 8. Wien, OAW, 2010.
Sims-Williams N. Bactrian Documents from Northern Afghanistan, I: Legal and
Economic Documents. Oxford University Press, 2000.
Vaissière de la E. Sogdian traders: a history. Translated by J. Ward. (Handbook of
Oriental studies. VIII: Central Asia. V. 10). Leiden – Boston‚ 2005.
195
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Н. БАЗЫЛХАН
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ НАЗВАНИЙ ТАМГТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ ЭТНОСОВ VIII–XIV ВВ.
В данной статье рассматриваются исторические и семантические особенности
этносимволики и этимологии некоторых названий тамг древнетюркского
и монгольского периодов, в частности названия тамг, знаков и их видов, таких
как каганские, родовые, племенные, династийные, а также другие проблемы
тамговедения в номадологии.
Традиционная система знаков-тамг занимает важное место
в этносимволической системе номадов, и тамговедение (в частности, изучение
геральдики кочевников) выступает одним из главных направлений современных
исследований. Однако несмотря на то что в последнее время накоплены обширные
материалы, до сих пор не был осуществлен комплексный сравнительный анализ
тюрко-монгольских тамгосистем в диахронно-синхроническом плане.
Название самого знака-тамги в древнетюркских письменных памятниках
встречается в форме aGmT – Tamγa > тамга. В текстах на стеле Кюльтегина и Билге
кагана, а также Тоньюкука сообщается некое звание хранителя печати или обладателя
золотой печати: NGmT – Tamγan – тамган, NQRTNGmT Tamγan Tarqan > Тамган тархан, NQRT NGmT NUTL – Altun Tamγan Tarqan > Алтун тамган тархан (поминальный комплекс в честь Алтын тамган тархана, 735 г.), NQRT NGmT aRBSi Bilge Isbara Tamγan Tarqan > Білге ысбара тамған тархан, aGUJ RUC NGmT aRBs Ïsbara tamγan čur yoγa >Есбара тамған чур йога.
Также упоминается владетель каганской тамги-печати iCGmT – Tamγačï – тамгачы, iCGmT CRQm – Maqrač tamγačï > Макрач тамгачы, iCGmT aglib zGU – Oγuz Bilge tamγačï > Огуз билге тамгачы [Базылхан, 2005].
Данное название и его функция в традиционном виде использовались
и в монгольский период. В среднемонгольском языке сохранилась форма tamaγa > тамага > тамга [Самашев, Базылхан, 2008; Самашев, Базылхан, Самашев, 2010],
и в дальнейшем это название использовалось в среде тюркских и монгольских
народов вплоть до XX в.
Если китайские источники сообщают, что каждый род или племя кочевников
имели собственные «родовые тамги» [Зуев, 1960], то древнетюркские тексты
упоминают такие родоплеменные и этнополитические обьединения, как gluKrKzdiK – eki Ediz Ker külüg (2 едиза, кер кулук), xLRQCu – Üč Qarluq (3 карлука),
196
ЧАСТЬ 3
NQiRUxCu – Üč Qurïqan (3 курыканца), zGUzKs – Segiz Oγuz (8 огузов), zGUzQUT – Toqïz Oγïz (9 огузов), RTTzUxT – Toquz Tatar (9 татар), UxRJBzxT – Toquz Bayïrqu (9 байырку), RUGJUNU – On Uyγur (10 уйгур), RTTzTU – Otuz Tatar (30 татар). Учитывая это, можно
допустить, что вышеназванные 84 племени имели около 84 тамга-знаков. По нашим
данным в древнетюркский период существовало свыше 256 основных тамг, а вместе
с их производными видами 534 тамга-знака [Самашев, Базылхан, Самашев, 2010],
и надо полагать, каждая тамга имела свое название и выражала определенное
семантическое значение.
Накопленные нами материалы по тамгам тюркских и монгольских этносов
позволяют определить несколько функций тамгопользования родоплеменной
структуры:
Функции тамгопользования в кочевом обществе
№Древнетюркские
названия
Монгольские
названия
1. родовые Oq > ок Obuγ > овог2. племенные Oγuz > огуз Aymaγ > аймаг
3.этнополитические
обьединения
El > ЭльBudun > будун
El > Эль Ulus > улус
4. династийные Qan > хан Qanliγ > ханлиг5. фамильные Qan > хан Qan > хан6. правителей государств Qaγan > каган Qaγan > хаан
Родовые тамги – самые многочисленные и древнейшие по происхождению
и семантике. В них скрываются реликтовые черты и древнейшая семантика тамга-
знаков (тотемистические, культовые, патриархальные, хозяйственные и другие
особенности тамгоформы: например, «солнце», «луна», «звезды», «хищные птицы»,
«волк», «змея», «дерево», «огонь», «вода», «гора», «стрела», «лук», «меч» и др.). Но
межродовые взаимосвязи и взаимосмешение этносов в этнополитическом процессе
часто изменяли семантику тамгоформы, поэтому семантика родовых тамги особо
богата и разнообразна.
Племенные тамги – это наиболее устойчивые виды в тамгосистеме, состоящие
из нескольких самостоятельных компонентов, слившихся в одну целую форму,
имеющие «новые семантики» (енисейские и др.).
Тамга-знаки этнополитических объединений составляют множество
тамгоформ, которые встречаются в виде скоплений знаков на стелах, на скалах
и священных местах (стела «Шивээт улаан», «Бичигт улаан хад», «�нг%т», «Б%мб%г%р»
и др.).
197
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Тамги правителей государств имеют одну тамгоформу, встречаются
в официальных документах, используются в виде печати, а также на отдельных стелах
и иногда на скалах. Тамгоформы правителей государств иногда основаны на их
первичных родовых семантиках тамго-знаков (древнетюркские каганско-княжеские,
монгольских каганов и др. ).
Династийные тамги являются преемственными и производными видами
тамг правителей, которые, видоизмененные по форме, сохраняют свои первоформу
и добавленные «семантические» значения (золотоордынские, чагатайские и др.).
Фамильные тамги – это особый вид тамгоформ, созданных некоторыми
местными правителями, в самостоятельном виде не связанных с традиционными
родоплеменными тамгосистемами (тимурдские и др.).
В научной литературе высказано мнение, что тамги являются этническими
«индикаторами», «атрибутом», по которым можно проследить и истолковать
происхождение этносов, динамику их развития и процесс сложения родоплеменных
подразделений, а также возникновение новых родов в их взаимосвязи. Данная
концепция предполагает, что основная тамга – это «прадед», а производные тамги
принадлежат ответвлениям от основного рода или племени. Такой процесс сегментации
действительно происходил в древнетюркский (таблица 1) и монгольский период
(таблица 2), особенно ярко проявлявшийся в династийном и родовом состоянии.
Вопросы преемственности тамга-знаков тюркских и монгольских этносов
в хронологии этноисторических процессов остаются самыми сложными, и пока нет
конкретных доказательств, письменных свидетельств и археологических фактов,
что одна и та же тамга-знак сохранялась длительный время, в нашем случае – от VIII
до XIV в. Возможно, в каждый период, то есть в хуннский (III в. до н.э. – IV в. н.э.),
древнетюркский (V–XII вв.), монгольский (XIII–XV вв.), кипчакский (XI–XVII вв.)
и другие исторические отрезки времени, имелись свои «собственные», «особые»
оригинальные тамгосистемы, которые отражали этнополитический процесс
в широком пространстве Евразии.
Естественно, процесс использования в разные периоды аналогичных тамгоформ
или тамго-знаков не исключается. Это связано, во-первых, с хозяйственным
и с традиционным характером тамгосистемы номадов (реликты формы и семантики).
Во-вторых, этногенетическая и этнополитическая преемственность тюркского
и монгольского периодов отнюдь не чуждые процессы, а наоборот исторически
тесно связанные. Поэтому некоторые древние названия и семантика тамгоформ
сохранялись в монгольской среде, а некоторые монгольские реликты сохранялись
в тюркской среде. Например, тамгоформа в монгольском языке обозначает
семантику olum > олом (подпруга), dörügen > дөрөө (стремена) [Далай, 1976. С. 227]. В
тюркской среде встречается тамгоформа qaqpa > какпа (ворота), bosaγa > босага,
198
ЧАСТЬ 3
ejik > ежик (дверь), tezre > тезре (окно) [Кузеев, 1974. С. 313, табл. 1]. И еще abaq
> абак (ловчая сеть), которое может быть более поздним названием тамгоформы.
Другими словами, мы видим процесс развития тамгоформ от простых к сложному
изменению геометрических форм.
1 линия 2 линии 3 линии 4 линии 5 линий 6 линий
Ценные сведения о тамгах содержатся в исторических источниках.
Так, в энциклопедическом словаре Махмуда Кашгари «Диуан-и лугат-ат турк»
сообщается, что 22 рода огузов (туркмены) имеют собственные тамги и ставят
их на животных и различается друг друга этими знаками [DLT–I. 1985. P. 55–58].
Рашид ад-Дин в «Жамиат ат-тауарих» говорит, что шесть сыновей (Бузок, Учок)
и 24 рода Огуз хана1 имели присвоенные им тамги [Рашид ад-Дин, I - 1. С. 87–91].
В «Шаджара-и турк» Абулгазы бахадур хана тоже говорится «о значении имен внуков
Огуз-хана, об их тамгах и онгонах (куш). Все мудрые старцы из туркмен, которые
знают историю, так рассказывают о значении имен двадцати четырех внуков
Огуз-хана, сидевших в двенадцати палатках (yргa), и о том, какие у них тамги,
и о названии птиц, ставших у них онгонами» [Кононов, 1958. С. 53–54]. В сочинении
«Дафтар-и Чингизнаме» тоже говорится, что Чингиз-хан дал всем своим беками
тамги, птиц и ураны [Ivanics, Usmanov, 2002. С. 56–59] и приводится толкование всех
названий тамг: голова хищной птицы, седло, луна, намордник, птичье ребро, крючок,
гребень, глаз, подхвостник, сокол.
1 Ср. 24 племени Хуннской империи при правлении Моудун шаньюя – Н.Б.
199
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Таблица 1. Основные тамги и их производные, зафиксированные
на древнетюркских памятниках VII–IX вв.
Древнетюркская
«каганская тамга»
(семантика: «волк-птица-
олень-лошадь»)
[Базылхан, 2009]
Поминальный комплекс
«Б%мб%г%р» (VIII в.)
[Базылхан, 2009]
Тамги в енисейских
древнетюркских
памятниках VIII–IX вв.
[Базылхан, 2004]
200
ЧАСТЬ 3
Таблица 2. Тамги Чингиз-хана и чингизидов (династийные и фамильные тамги)
по нумизматическим материалам:
[Петров, 2004; Петров, 2005. С. 80; Нямаа, 2005. С. 83].
Чингиз-хан
(1162–1227)
Жошы
(1184–1227)Чагатай
(1185–1242)�гедей
(1187–1241)
Тулуй
(1190–1232)
201
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Семантика некоторых тамг и опыт реконструкции
Одной из сложных проблем тюркского тамговедения являются название
и семантика так называемой «каганской тамги», которые разные ученые обьясняют
по разному: горный козел, горный баран, архар, олень. По мнению М. Добровица,
тамга династии ашина «горный козел», а тамга племени ашина «грива коня или голова
волка» [Dovrovits, 2004. С. 258].
Во всех известных каганско-княжеских комплексах встречается эта «каганская
тамга» и ее некоторые виды. Структура построения изображения «каганской
тамги» является, по нашему мнению, синкретичной. Этносемантика этой тамги
выражалась в условном совместном изображении «птичьего клюва, крыльев, тела
и ноги волка, рога оленя, а также хвоста коня» – «börü+qut//qus+buγu//+at-qur – волк+беркут+олень+конь)» [Базылхан, 2008. С. 175].
На стеле в честь Татпар кагана (582) с навершием в виде волчьей головы
в согдийском тексте написаны слова tr-'wkt' (')šy-n's – «тюркют ашинас» [Лившиц,
1969; Кляшторный, Лившиц, 1971; Klyashtorniy, Livshits, 1972; Yoshida, 1999], которые
в китайских источниках встречаются в форме A-schi-na > Ашина. Данное название
является именем предка каганских родов, которое впоследствии стало родовым
названием. Китайцы (и согдийцы) через монголоязычный этнос стали называть
древних тюрков činuw-a>čïnu>čоno>чоно (ашина-волк) [Викторова, 1980. С.
155–156], činuw-a+s//činuw-a+d>чоно+с//чоно+д (ашидэ-волки) каганские роды
и, в широком понимании, – всех тюрков. Поэтому мы полагаем, что «каганская
тамга» называлась по-монгольски (а также китайцами) «чоно//ашина-волк»»
и во множественном числе «чонод//ашидэ-волки».
В древнетюркском языке слово «ашина» не встречается, а есть эквивалентное
ему по значению слово волк börü>бору. Одним словом, «каганская тамга» по-
древнетюркски называлась börü>бору или börüqut («небесный волк»).
202
ЧАСТЬ 3
Таблица 3. Опыт реконструкции названия и семантики тамг «каганской династии».
№
Реконструкция
названия
и семантики
Вид
тамга-
знака
Древне
тюркские
и монгольские
рода-племена
(предполагае-
мые)
Современные
названия
(тюркские)
Современные на-
звания (монголь-
ские)
Археологичес-
кие и пись-
менные памят -
ники (аналогии
тамг)
*börü-
+qus//qut-
1. волк
2. беркут
3. олень
4. конь
5. хищник
ashina>
ashide>
da-ashide>
bay-ashide>
«каганское
племя»
бDрі (казах),
ат, чылгы(хакас)
Род- ах
хаска,
сарыглар,
бельтир,
улуг ажыг -
ат танма,
чылгы тан-
ма – тамга
конь [Бута-
наев, 2004.
№1211–
1215, 1222]
1. činwa>чоно «волк»
2. činuwas чонос -волки
činwa>чоно
«волк»
2. činuwas чонос
-волкиШивээт
улаан, Бичигт
улаан хад,
Кюльтегин,
Билге каган,
Онгот и др.
[Самашев,
Базылхан,
2010. С. 146]
Тамга с изображением «окружности» встречается почти во все исторические
периоды и была в использовании тюркских и монгольских этносов. Это одна
из древнейших форм знаков, имеющих семантику «солнце, луна, круг, колесо».
203
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Таблица 4. Опыт реконструкции названия и семантики тамги «дуглат».
№
Реконструкция
названия
и семантики
Вид
тамга-
знака
Древне
тюркские
и монгольские
рода-племена
(предполагае-
мые)
Современные
названия
(тюркские)
Современные на-
звания (монголь-
ские)
Археологиче-
ские и пись-
менные памят-
ники (аналогии
тамг)
*toγu-
*duγu-
*toŋu-
*duŋγu-
*teg-*tög-
1. круг
2. кольцо
3. колесо
4. солнце
5. луна
duγulat>
дуглат
[Базылхан,
2012. С. 87]
toŋïra>тонгра
Qongγïrat>
конгурат
Ongγud>
Онгод
«племена
с круглыми
тамгами»
дD?гелек,
до?<ала%,
шомиш,
ше�бер (ка-
зах),
томнар (хакас),
теглектан-ма «кольцо»
(род: тийлек,
сарыглар,
ханмазы, хыр-
гыс, бельтыр;
[Бутанаев,
2004. №216,
247–249, 260,
262, 349, 366]
1. tögüreg>т%гр%г
«кольцо», «круг»
2.onggin> онгин
«круг»
3. naran> наран
«солнце»
Тамги: Чингиз-хан,
Жошы хан,
золотоордынские
ханы
Бичигт улаан
хад, Тайхар
чулуу,
Баян ж=рек,
Гурван-мандал
и др.
[Самашев,
Базылхан, 2010.
С. 140–145,
148]
Тонгра, яньто
[Зуев, 1960;
Рогожинский,
2012. С. 94, 96,
99]
Ал�а =йлі-
[Кононов,
1958.53]
�о�ырат би
оглы Сенле- «ай
тамга»
(«луна») [Ivan-
ics, Usmanov,
2002. P. 56 ]
204
ЧАСТЬ 3
Таблица 5. Опыт реконструкции названия и семантики тамги «сирге-трехзубчатый».
№
Реконструкция
названия и се-
мантики
Вид
тамга-
знака
Древне
тюркские
и монголь-
ские рода-
племена
(предполага-
емые)
Современ-
ные назва-
ния (тюрк-
ские)
Современ-
ные назва-
ния (мон-
гольские)
Археологические
и письменные
памятники (ана-
логии тамг)
*Sir->
*Ser->
1. шить
2. пришивать
3. игла
4. гребень
Еsir erkin>
есир еркин?
тарак (гре-
бень),
сирге,
шанышкы
(казах)
жаа, жа-
галмай
тамга (род:
бугу, сары
багыш, кыр-
гыз [Абрам-
зон, 1960. С.
99]
ус азыр
(род-кара
кыргыс)
[Бутана-
ев, 2004.
№1162]
род-
майман,
чорго
йуректу
(труба с сер-
дечком)
род-
тонжоон,
саракай
(крест)
[Ямаева,
2004. №84]
1. šörge>
ш%р%г
2. serege>
сэрээ
Б%мб%г%р, Ялбак
таш, Бичигт ула-
ан хад и др. [Са-
машев, Базылхан,
2010. С. 153, 156–
157]
Хар-хорум [Оюун-
билэг, Дуламс=рэн,
2011. С. 19, 21]
[Рогожинский,
2012. С. 94,
96–97],
Уйшин Майкы -
«Сирге»
[Ivanics, Usmanov,
2002. С. 57]
205
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Абрамзон С. А. Этнический состав киргизского населения Северной Киргизии
// Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. Т. IV. М., 1960. С.
3–137.
Базылхан Н. К%не т=рік бітіктастары мен ескерткіштері (Орхон, Енисей, Талас)
// �аза�стан тарихы туралы т=ркі деректемелері. II том. Алматы, 2005.
Базылхан Н. Эртний т=рэг бичигт х%ш%%д ба бичгийн дурсгалууд (эртний т=рэг
бичиг судлалын т==хэн сурвалжэх бичгийн судалгааны зарим асуудалд) // Монгол
судлал (эрдэи шинжилгээний бичиг). Улаанбаатар, 2008. Боть XXVIII (294). С. 171–
188.
Базылхан Н. Некоторые историко-источниковедческие проблемы, связанные
с традиционной системой тамгопользования казахов // «Тарихи м�дени м;ра ж�не
заманауи м�дениет» халы�аралы� �ылыми т�жірибелік семинарыны� материалдар
жина�ы. Алматы, 2012. 84–90 б.
Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. Абакан, 2004.
Викторова Л. Л. Монголы. Происхождение народа и истоки культуры. М., 1980.
Далай Ч., Монгол т=мний гарлыг тамгаар хайж судлах нь. –Улаанбаатар, 1976.
Зуев Ю. А. Тамги лошадей из вассальных княжеств (перевод из китайского
сочинения VIII–X вв. Танхуйяо, т.III, цзюань 72, стр. 1305–1308) // Труды ИИАЭ АН
Казахской ССР. Новые материалы по древней и средневековой истории Казахстана.
Алма-Ата, 1960. Т. VIII. С. 91–140.
Кляшторный С. Г., Лившиц В. А. Согдийская надпись из Бугута // Страны
и народы Востока. М., 1971. С. 121–14.
Кононов А. Н. Родословная туркмен. Сочинение Абулгазы хана Хивинского.-
М.;Л., 1958.
Кузеев Р. Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история
расселения. М., 1974.
Лившиц В. А., Кляшторный С. Г. Новая согдийская надпись из Монголии
(предварительное сообщение) // Письменные памятники и проблемы истории
культуры народов Востока. Вып. V. Л., 1969. С. 51–54.
Нямаа Б. Монголын эзэнт г=рний зоосон м%нг% ба хаадын овгийн тамга (XIII–
XIV). Улаанбаатар, 2005.
Оюунбилэг З., Дуламс=рэн Ц. Хархорумын тамгатай тоосго. Улаанбаатар, 2011.
Петров П. Н. Тамги монгольских Великих Ханов и ханов государств Монгольской
империи / Электронный ресурс: http://info.charm.ru/library/tamgha.htm. 2005.
Петров П. Н. К вопросу о персонализации тамг на монетах Чагатайского улуса
// Труды международной нумизматической конференции «Монеты и денежное
обращение в монгольской государствах XIII–XV веков». 17–21 сентября, Саратов. М.,
2005. С.79–85.
Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Кн. 1–2. М.; Л., 1952.
206
ЧАСТЬ 3
Рогожинский А. Е. Тамги-петроглифы средневековых кочевников Казахстана:
итоги новейших исследований и перспективы дальнейшего изучения // «Тарихи
м�дени м;ра ж�не заманауи м�дениет» халы�аралы� �ылыми-т�жірибелік
семинарыны� материалдар жина�ы. Алматы, 2012. С. 91–104.
Самашев З., Базылхан Н. К%не т=рік та�балары // Алаш тарихи-этнологиялы�
гылыми журнал. № 6(21) Алматы. 2008. 93–116 б.
Самашев З., Базылхан Н., Самашев С. К%не т=рік та�балары. Древнетюркские
тамги. Ancient Turkic tamga-signs. Алматы, 2010.
Ямаева Е. Е. Родовые тамги Алтайских тюрок (XIX–XX вв.). Горно-Алтайск,
2004.
DLT-I – Divanü lugat-it-Türk. Tercümesi. Čeviren Besim Atalay. Ankara, 1985. Cilt I.
Dovrovits M. The Thirty Tribes of the Turks // Acta Orientalia Academiae Scien-
tiarum Hungaricae. Vol. 57(3). 2004. P. 257–262.
Ivanics M., Usmanov M. A. Das Buch der Dschingis-Legende (Daftar-i Cingizname).
B. I. Szeged, 2002.
Klyashtorniy S. G., Livshits V. A. The sogdian Inscription of Bugut Revised // Acta
Orientalia Academiae Hungaricae . Vol. XXVI /1. 1972. P. 69–102.
Yoshida Yutaka. Sogdian Part of Bugut Inscription // Provisional report of research-
es on historical sites and inscriptions in Mongolia from 1996 to 1998. Edited by Takao Mori-
yasu and Ayudai Ochir. The Society of Central Eurasian Studies. Toyonaka, Osaka Univer-
sity, 1999. P. 122–124.
207
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Д. Ж. ЕРБОТИНА
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И. М. КАЗАНЦЕВА ПО РОДОСЛОВИЮ АБУЛХАИР-ХАНА
Генеалогия – наука, устанавливающая происхождение человеческих индиви-
дов и отношения родства между ними, а также изучающая семейно-родственные
группы, их связи и отношения в исторической динамике.
Генеалогия, как вспомогательная историческая дисциплина, занимается
также изучением и составлением родословных, выяснением происхождения от-
дельных родов, семей и лиц, выявлением их родственных связей в тесном единстве
с установлением основных биографических фактов и данных о деятельности, соци-
альном статусе и собственности. Знание родословия в среде правящих элит разных
обществ Востока и Запада было необходимо для утверждения наследственного пра-
ва, как в области наследования имуществ, так и власти [Шорин, Леонтьева, Корбин,
2003].
Казахское шежире имеет древние истоки; в условиях самобытного развития
кочевнической культуры Евразии оно формировалось как традиция устной истории
и генеалогии. Как этнокультурное наследие шежире представляет собой своеобраз-
ный корпус исторического сознания и памяти, сформировавшихся под влиянием
различных событий исторических эпох. В шежире содержатся истории о генеало-
гическом происхождении, героических сказаний народа, биографии выдающихся
личностей.
Материалы шежире содержат в себе сведения о генеалогии в виде рассказов,
списков, схем, которые дают информацию о характере системы родства и свойства
у казахов, казахских родах и племенах и субэтнических группах, а также известных
исторических личностях народа.
Казахское шежире имеет определенную идейную сущность, служившую
функционированию традиционных институтов, сохранению культурной самобыт-
ности. В основном данные шежире несут в себе информацию о происхождении
человека, общин, сообществ (этнических групп, родов, племен); по поводу сущно-
сти политической власти (каганов, ханов, султанов), духовной элиты (�ожа, сопы,
ба�сы) и народной элиты (би, батыр, а�са�ал), структур (ханды�, ру, ел, ж;рт); тра-
диции (культов, верования, религии, обрядов, общин). Шежире доносит до нас тра-
диционную форму исторического сознания, фрагменты исторической памяти раз-
личных исторических эпох [Алпысбес, 1999].
208
ЧАСТЬ 3
Один из современных казахских исследователей феномена шежире, М. Ал-
пысбес, отмечает, что данная проблема, довольно редко освещаемая исследовате-
лями, в реальности имеет достаточно важное теоретическое значение в изучении
традиционных институтов казахского общества. Прослеживается связь устной
исторической традиции с генеалогической структурой казахского этноса и его со-
циально-идеологическое значение.
Шежире – это родословная казахов. В семье каждого казаха есть шежире,
включающее имена предков по мужской линии до седьмого колена и более. Знание
своего генеалогического древа для казаха очень свято, имена всех наследников вно-
сятся в шежире и передаются из поколения в поколение, независимо от происхож-
дения и социального положения. Одной из основных целей сохранения истории сво-
его рода является фундаментальная казахская традиция – исключить генетические
мутации; для этого нашими предками был введен запрет на женитьбу между род-
ственниками до седьмого колена. После определения по шежире седьмого потомка
от одного предка, у казахов проводили ритуал, определяющий границу этой ветви
и снимающий запрет на женитьбу последующих потомков. С этой же целью у каза-
хов принято знать Жетi Ата (дословно – семь дедов). Примечательно, что наши пред-
ки без глубоких генетических исследований еще несколько столетий назад пришли
к верному заключению о генетических мутациях при родственных браках.
Историографическое и источниковедческое изучение шежире как самостоя-
тельного источника очень важно для науки.
Долгое время в исторической науке Казахстана сохранялось скептическое от-
ношение к шежире как историческому источнику, и в советское время казахские
родословные практически не привлекались исследователями и оставались малоиз-
вестными специалистам. Только после обретения независимости ситуация стала
изменяться, и в конце XX в. было опубликовано большое количество шежире раз-
ных казахских родов. При этом ставшие известными шежире во многом отличались
друг от друга по тем или иным моментам трактовки генеалогии, что объясняется
прежде всего устным характером передачи информации, при котором неизбежно
появление большого количества искажений. Однако, несмотря на эти недостатки
шежире они являются важным историческим источником, который следует из-
учать [Сабитов, 2008].
Изучение казахской народной родословной генеалогии – шежире во второй
половине XIX в. основывалось на анализе материалов, собранных русскими иссле-
дователями. Среди них следует особо выделить Илью Михайловича Казанцева, рус-
ского этнографа-исследователя, члена Русского географического общества. В 30–50
годы XIX века он служил в пограничной канцелярии Оренбургского и Самарского
генерал-губернаторства, изучал историю, этнографию оренбургских казахов. В сво-
их исследованиях И. М. Казанцев описал историю образования Букеевского хан-
ства, родоплеменное устройство и историю трех поколений – алимулы, байулы,
209
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
жетыру – в составе Младшего жуза, взаимоотношения русских с казахами и многое
другое.
Свои рукописные материалы, предназначенные для опубликования, И. М. Ка-
занцев передал в Санкт-Петербург, в Русское географическое общество, сопроводив
письмом с краткой авторской «биоблиографической» характеристикой следующего
содержания: «Служа постоянно 20 лет по части пограничной в канцелярии главных
начальников Оренбургского края: при генерале от кавалерии князе Григории Семе-
новиче Волконском, генерале от инфантерии Петре Кириловиче Эссене, графе Пав-
ле Петровиче Сухтелене и генерал-адъютанте Василье Алексеевиче Перовском, зная
лично киргизских ханов Ширгази и Джангера, многих султанов-правителей и других
начальствующих лиц, имел случай собрать сведения и составить описание о Башкир-
цах, Киргиз-Кайсаках и Хивинцах с 9-ю приложениями, прилагаемыми у сего в Им-
ператорское Русское Географическое Общество на усмотрение и исправление по удо-
стоению к напечатанию особой книгой. 6 августа 1852 года» [Казанцев, 1867. С. III].
Часть упомянутых И. М. Казанцевым рукописных материалов – тексты двух тетрадей
с «Описанием киргиз-кайсак» и «О туркменцах» – была опубликована уже в 1867 г.,
но восемь остальных приложений, сделанных на отдельных листах большого форма-
та, по техническим причинам не вошли в это издание. Лишь недавно отдельные до-
кументы из числа приложений И. М. Казанцева привлекли внимание казахских уче-
ных [Бекназаров, 2010], однако полная научная публикация этих уникальных руко-
писных материалов, к сожалению, не состоялась до настоящего времени.
На этих страницах мы публикуем впервые содержание одного из приложе-
ний – составленную самим И. М. Казанцевым схему-шежире хана Абулхаира (ок.
1680–1748), озаглавленную автором как «Родословная ханов и султанов Меньшей
и Внутренней Киргиз-кайсацкой орды от вступившего в подданство России Абулхаир
хана», приложение 7 [Архив РГО. Р. 64. Оп. 1. Д. 13. Приложение. Л. 3.]. Исследова-
ние выполнено автором в 2014 г. под руководством А. Е. Рогожинского в рамках на-
учного проекта КазНИИ культуры МКиС РК «Проведение прикладных научных ис-
следований по изучению истории, археологии, этнографии, культуры и искусства
номадов» (рук. И. В. Ерофеева), итогам реализации которого посвящена прошедшая
18 – 19 ноября 2014 г. в Астане конференция. Ценная научно-методическая помощь
оказана также известным казахстанским ученым И. В. Ерофеевой, которой автор
в этих строках выражает свою глубокую признательность.
«Родословная» изображена на одной стороне листа большого формата. В пра-
вой нижней части листа имеется автограф: «Составил Илья Казанцев», слева – по-
мета цензора с датой 16 июля 1856 г. Построение схемы начинается от центра ли-
ста к его краям, располагаясь веером. Сравнивая схему И. М. Казанцева с другими
известными источниками по шежире чингизидов, можно предположить, что текст
схемы читается слева направо и сверху вниз по старшинству потомков. Схему обра-
зуют персоналии двух предков Абулхаира и 187-ми его потомков: имена заключены
210
ЧАСТЬ 3
в окружности-картуши, соединенные между собой по восходящей линии происхож-
дения; вокруг картушей для 16-и имен сделаны краткие примечания.
Для удобства прочтения «Родословной», сопоставления с другими известны-
ми шежире и дальнейшего источниковедческого изучения письменного памятни-
ка автором настоящей статьи составлена таблица, в которой использована система
кодировки информации, разработанная Ж. д’Абовилем (1919–1979) для нумерации
нисходящих линий родственников. Содержание примечаний, записанных И. М. Ка-
занцевым вокруг картушей, вынесено отдельно в колонку напротив соответствую-
щих имен.
Детальное изучение публикуемого исторического документа еще предстоит.
Здесь же следует ограничиться некоторыми общими замечаниями, характеризую-
щие значение данного документа как источника. Прежде всего отметим, что «Ро-
дословная» И. М. Казанцева наряду с «Родословной султанов киргизских. 1830 г.», со-
ставленной предположительно А. И. Левшиным [Ерофеева, 2003. С. 44–46] и вклю-
чающей 194 персоналии и 167 имен, является одной из самых крупных росписей
казахских чингизидов, которые известны в настоящее время. Также отметим раз-
ницу времени составления данных шежире – более 30-ти лет. В связи с этим Со-
ставленное позже, шежире И. М. Казанцева дополнено новыми именами потомков
Абулхаир хана в четвертом поколении. Например, по ветви Нуралы-хана в данном
шежире по сравнению с «Родословной султанов киргизских. 1830 г.» расписаны
имена семи сыновей Джангир-хана, внука Нуралы. Это делает шежире И. М. Казан-
цева более информативным по сравнению с другими родословными, составленны-
ми его современниками.
Следует указать также на очевидные недостатки публикуемого источника.
Так, в шежире И. М. Казанцева седьмым сыном Абулхаира ошибочно указывается
Дусали, который по более ранним и достоверным сведениям российского дипло-
мата К. М. Тевкелева («Поколенная роспись Киргиз-кайсацкой Меньшей орды ха-
нам и солтанам и всем фамилиям их») приходился Абулхаиру племянником, сы-
ном его родного младшего брата султана Булхаира, имя которого часто фигуриру-
ет в российских и отдельных китайских источниках первой половины XVIII в. Во
многих советских и современных исследованиях по дореволюционной истории Ка-
захстана встречается ошибочное отождествление личности хана Абулхаира с его
младшим братом Булхаиром, который умер в Хиве в конце 20-х или начале 30-х гг.
XVIII в. [ИКРИ–3, 2005. Стр. 39–40.] Возможно, детальное изучение публикуемой
«Родословной» выявит и другие ошибки его составителя, равно как несомненна
и возможность дополнения известных на сегодня фактов новыми данными. В лю-
бом случае, приложение к рукописи Ильи Михайловича Казанцева «Описание кир-
гиз-кайсак» остается ценным источником в изучении родословной выдающегося
казахского правителя – хана Абулхаира.
211
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Казанцев И.М. Родословная ханов и султанов Меньшей и Внутренней киргиз-кайсацкой орды
от вступившего в подданство России Абулхаир-хана. Приложение 7. 1867 г.
№п/пКод по системе
д’ АбовиляИмя Примечания
1 1.0 Абулхаир ханВошел в подданство 1731 г.,
убит 1848 г.
2 1.1. Нуралы хан С 1749 по 1780, умер в Уфе
3 1.1.1. Букей хан С 1811 по 1815
4 1.1.1.1. Джангер хан
5 1.1.1.1.1. Зюлкарнай
6 1.1.1.1.2. Сагибгерей
7 1.1.1.1.3. Ибрагим
8 1.1.1.1.4. Ильке
9 1.1.1.1.5. Шайгирей
10 1.1.1.1.6. Смаил
11 1.1.1.1.7. Искендер
12 1.1.1.2. Адиль
13 1.1.1.3. Шадугерей
14 1.1.1.4. Таука
15 1.1.2. Перали хан Трукмен
16 1.1.2.1. Абулгали
17 1.1.2.2. Давлетгази
18 1.1.3. Джантюри
19 1.1.4. Каратай Правитель
20 1.1.4.1. Ирысали
21 1.1.4.2. Тяука
22 1.1.4.3. Сыгалий
23 1.1.4.4. Чумакгали
24 1.1.4.5. Альбутак
25 1.1.4.6. Кангалий
26 1.1.5. Кундрау
27 1.1.6. Ишим хан Убит 1791 г.
212
ЧАСТЬ 3
28 1.1.6.1. Туркултай
29 1.1.6.2. Сары
30 1.1.6.3. Ниятали
31 1.1.6.4. Ишкала
32 1.1.6.5. Динчали
33 1.1.6.6. Каипгали
34 1.1.6.7. Чучик
35 1.1.6.8. Кара
36 1.1.7. Ходжа-ахмет
37 1.1.8. Бабык
38 1.1.9. Аблай
39 1.1.10. Арыкгали
40 1.1.10.1. Кармсак
41 1.1.10.2. Айдырали
42 1.1.10.3. Сарысак
43 1.1.11. Юсуп Правитель
44 1.1.12. Чулкара
45 1.1.13. Ильтай
46 1.1.14. Булка
47 1.1.15. Мамбетали
48 1.1.15.1. Байали
49 1.1.15.2. Сарыбай
50 1.1.15.3. Мят
51 1.1.15.4. Джиинали
52 1.1.15.5. Чулкара
53 1.1.15.6. Айсари
54 1.1.15.7. Байчура
55 1.1.16. Копи
56 1.1.17. Ярас
57 1.1.18. Сучали
58 1.1.19. Куркултай
59 1.1.20. Чука
60 1.1.20.1. Искендер
61 1.1.20.2. Медет
213
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
62 1.1.21. Исентай
63 1.1.22. Шигай Упр[авитель] Внутр[енней]
орды
64 1.1.22.1. Кучукгали
65 1.1.22.2. Утябгали
66 1.1.22.3. Хансултан
67 1.1.23. Урман
68 1.1.23.1. Шукурали
69 1.1.23.2. Чингали
70 1.1.23.3. Кулпгали
71 1.1.23.4. Музагали
72 1.1.24. Мингали
73 1.1.25. Араслан
74 1.1.26. Дербасали
75 1.1.27. Сеитали
76 1.1.27.1. Абдулла
77 1.1.27.2. Сеиттюре
78 1.1.27.3. Джентюре
79 1.1.28. Фазилбек
80 1.1.29. Джиингали
81 1.1.29.1. Сююнуч
82 1.1.29.2. Каюнуч Али
83 1.1.29.3. Бак
84 1.1.29.4. Палпан
85 1.1.30. Култай
86 1.2. Киз-Ахмет
87 1.3. Эрали хан С 1748 по 1794
88 1.3.1. Джантюря
89 1.3.1.1. Кызмамбет
90 1.3.1.2. Утеб
91 1.3.2. Ахан Ахмет
92 1.3.2.1. Джанатай
93 1.3.2.2. Шахахмет
94 1.3.2.3. Утяб
214
ЧАСТЬ 3
95 1.3.3. Темир Правитель
96 1.3.3.1. Зельхайду
97 1.3.3.2. Мирхайдар
98 1.3.4. Буликей
99 1.3.4.1. Сейтан
100 1.3.4.2. Кочтым
101 1.3.4.3. Джантюре
102 1.3.5. Баби
103 1.4. Айчувак С 1798 по 1808
104 1.4.1. Сапал
105 1.4.2. Сугали
106 1.4.2.1. Шукурали
107 1.4.2.2. Инак
108 1.4.2.3. Мукан
109 1.4.2.4. Исфендияр
110 1.4.2.5. Чингали
111 1.4.2.6. Досмухамет
112 1.4.2.7. Нурмухамет
113 1.4.2.8. Усман
114 1.4.3. Аймухамет
115 1.4.4. Джантюре хан С 1805 г., убит 1811 г.
116 1.4.4.1. Араслан Правитель, убит 1855 г.
117 1.4.4.2. Бикбатыр
118 1.4.4.2.1. Нурджан
119 1.4.4.3. Ижгалий
120 1.4.4.4. Бек Араслан
121 1.4.4.5. Урястям
122 1.4.4.6. Берчатям
123 1.4.5. Сурали
124 1.4.6. Якшилык
125 1.4.7. Алгази
126 1.4.7.1. Хан султан
127 1.4.7.1.1. Джангали
128 1.4.7.2. Махмут
215
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
129 1.4.7.2.1. Мухаметгали
130 1.4.7.2.2. Нурмухаметгали
131 1.4.7.3. Нурнияз
132 1.4.7.4. Джангиз
133 1.4.7.5. Арунгалий
134 1.4.8. Кадыр
135 1.4.9. Кондыр
136 1.4.10. Качыр
137 1.4.11. Тяука
138 1.4.11.1. Мугаметгали Правитель
139 1.4.11.1.1. Азангирей
140 1.4.11.2. Ишгали
141 1.4.11.3. Гасангали
142 1.4.12. Туккужа
143 1.4.12.1. Джанмухаммет
144 1.4.13. Якуп
145 1.4.14. Ширгази хан С 1811 г., умер 1846 г.
146 1.4.14.1. Ишгази
147 1.4.14.2. Идига
148 1.4.14.2.1. Ишмухаммет
149 1.4.14.3. Мугаметгазы
150 1.4.14.3.1. Ахмет
151 1.4.15. Утебгали
152 1.4.15.1. Джиянгали
153 1.4.16. Баймухамет Правитель, Генерал Майор
154 1.4.16.1. Абдулмухаммет
155 1.4.16.2. Сагип Гирей
156 1.4.16.2.1. Азаматгирей
157 1.4.16.3. Мухаметджан
158 1.4.16.4. Диллягалий
159 1.4.16.5. Рыскали
160 1.4.16.6. Достагали
161 1.4.16.7. Аймухамет
162 1.4.16.8. Юсуп
216
ЧАСТЬ 3
163 1.4.16.9. Джангер
164 1.4.16.10. Динмухамет
165 1.4.16.11. Ахметгирей
166 1.4.16.12. Джиянгали
167 1.5. Карагай
168 1.5.1. Кильдали
169 1.5.2. Кадыр
170 1.5.3. Чиндали
171 1.6. Адиль
172 1.6.1. Турзук
173 1.6.2. Агым
174 1.6.2.1. Абдул
175 1.6.2.2. Мухаметгали
176 1.6.2.3. Канафия
177 1.6.2.3.1. Алзит
178 1.6.2.4. Каллин
179 1.6.2.4.1. Несфли
180 1.6.2.5. Абдулджан
181 1.6.2.5.1. Нурмухаммет
182 1.6.2.5.2. Дарман
183 1.7. Дусали
184 1.7.1. Кончагали
185 1.7.2. Сеитгали
186 1.7.2.1. Кадыр
187 1.7.3. Турдагали
188 1.7.4. Музали
Итого 188 персоналий, 188 имен
Алпысбес М. А. История Казахстана в казахском шежире. Место шежире в из-
учение истории. / Автореф. дисс .канд. истор. наук. Караганда, 1999.
Бекназаров Р. А. Родословная-шежире казахов Младшего жуза в материа-
лах И. М. Казанцева (вторая половина XIX века) // Роль номадов в формировании
217
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н. Э. Масанова: Сбор-
ник материалов международной научной конференции, г. Алматы, 23–24 апреля
2009 г. Алматы: Prinr-S, 2010. С. 46–56.
Ерофеева И. В. Родословные казахских ханов и кожа XVIII–XIX вв. (история,
историография, источники). Алматы, 2003.
ИКРИ–3 – Записки дипломата А. И. Тевкелева по истории и этнографии Ка-
захстана (1731–1759 гг.) / История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков.
Т. 3. Алматы: Дайк-Пресс, 2005.
Казанцев И. М. Описание киргиз-кайсак. СПб, 1867.
Сабитов Ж. М. Генеалогия торе. Астана, 2008.
Шорин П., Леонтьева Г., Корбин В. Вспомогательные исторические дисципли-
ны. М., 2003.
218
ЧАСТЬ 3
А. КУРУМБАЕВ, Ж. КУРУМБАЕВА
КУЛПЫТАСЫ КАК ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И ЭПИГРАФИКИ БУКЕЕВСКОЙ ОРДЫ
Одной из актуальных тем в истории Республики Казахстан остается история
Букеевской Орды. В 1801 году 11 марта была образована Букеевская Орда в между-
речье Волги и Урала [История Букеевского ханства, 2002. С. 30]. И уже в октябре
месяце через реку Урал перешла 5001 семья, или 22775 душ [там же. С. 34]. Терри-
тория была определена «начиная от р. Узеня до горы Богдо…, а от сей горы через
Чапага на Ватагу Дудацкую или Телепневу до моря» [Зиманов, 1982. С.27]. Основ-
ное население было представлено тремя родами Младшего жуза – байулы (шеркеш,
байбакты, алаша, тана, маскар, ысык, кызылкурт, адай, жаппас, есентемир, таз,
берш), жетиру (тама, табын, кердери), алимулы (кете) [История Букеевского хан-
ства, 2002. С. 260], а также представителями1 торе, толенгит, кожа2 [там же. С. 264],
ногай3 [там же. С.260], карагаш4, калпак/каракалпак5, сарт6 (полевые материалы
А. Ш. Курумбаева, 2001 г.).
Каменные стелы (�;лпытас, сынтас) встречаются в Казахстане повсеместно.
Вопрос о происхождении каменных стел в научной литературе является дискусси-
онным. Одна точка зрения базируется на утверждении, что «формальными прото-
типами поздних западно-казахстанских кулпытасов явились деревянные культовые
столбы-коновязи, олицетворяющие древнюю, характерную для большинства но-
стратических народов, традицию космической жертвы коня». Другие исследователи
считают, что каменные стелы являются результатом эволюции традиции каменных
изваяний. Суть этой гипотезы заключается в том, что кулпытасы являются резуль-
татом «развития традиции каменных изваяний-балбалов, характерных для 6–9 ве-
ков, то есть тюркского времени. С проникновением ислама, который запрещал вся-
ческие изображения, особенно человеческие, вместо них начали ставить удлине-
ные камни-сынтасы или кулпытас».
Текстам эпитафий на кулпытасах в основном характерна следующая струк-
тура: кораническое изречение (в большинстве случаев это формула единобожья),
данные о родоплеменном происхождении усопшего с указанием имени его отца,
реже деда, возраста, года смерти или же года установки памятника, кто устано-
вил кулпытас. Иногда указывали, какой статус в обществе занимал усопший, на-
пример, народного судьи бия (К%пшейіт �орымы, Сарыб%же би) или батыра (Б;ла�
м�йіті, Омар батыр). Интересна, на наш взгляд, фиксация на эпитафиях обращения
219
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
«мырза» – «господин»; например, «тасын �алдыр�ан баласы Ерм;хамед мырза», «ка-
мень установил его сын господин Ермухаммед» (�ара�айлы мола). Особо хотелось
бы подчеркнуть традицию изображения на надмогильных стелах родовых зна-
ков тамг, которые безусловно, достоверно доказывают территорию рассления тех
или иных родов и их мелких подразделений [Сдыков, Ерназаров, 2005. С. 3, 27].
Эпиграфика Букеевской Орды пока еще мало изучена, хотя в последние годы
исследования в этом направлении заметно активизировались. Памятники бокейор-
динской эпиграфики представляют собой важнейший комплексный источник исто-
рико-этнографического (в совокупности с тамговыми знаками) и филологического
плана. В основном они представлены эпитафиями на художественных стелах – кул-
пытасах (среди которых выделяются эпиграфические типы). Эпиграфические па-
мятники Букеевской Орды отличаются некотоыми особенностями. Это широкие,
плоскостные, лишенные декоративности стелы «татарского типа». В основном над-
писи на стелах написаны арабскими каллиграфическими (узорчатыми) буквами
[Курумбаев, 2006. С. 16].
Самое большое скопление кулпытасов в Букеевской Орде находится на клад-
бище «Хан Зираты», получившим свое название после захоронения здесь хана Жан-
гира. Расположено оно в 3 км северо-западнее поселка Хан Ордасы (Урда) Бокейор-
динского района Западно-Казахстанской области.
Целенаправленное полевое обследование архитектурных памятников про-
ведено здесь в 1980 г. Уральской архитектурной экспедицией Института «Казпро-
ектреставрация» (руководитель Т. Т. Турекулов). Изыскания экспедиции носили
обзорный характер, было выявлено и обследовано (в целях паспортизации) опреде-
ленное число мемориально-культовых памятников, старинных бейитов (кладбищ),
в том числе некрополь около п. Урда с эпиграфическими кулпытасами [Ажигали,
2002. С. 552]. В дальнейшем работы прервались до 1998 г., который был объявлен
«Годом национального согласия и истории»; под этой эгидой была проведена ком-
плексная этнографическая экспедиция, которая входила в программу фронтально-
го этнокультурного обследования Казахстана под руководством д.и.н. С. Е. Ажигали
[там же]. Большую часть памятников показали местные краеведы С. Ашенов, Т. Ша-
рипкалиев. В 2003 г. для сбора материалов сюда приезжает аспирантка ИИЭ имени
Ч. Валиханова МОН РК Арай Омарова. И в этом же году кладбище «Хан зираты» по-
сещает Западно-Казахстанская этнокультурная экспедиция Западно-Казахстанско-
го областного центра истории и археологии под руководством к.и.н. Ж. Т. Ерназаро-
ва. В этой экспедиции в Бокейординском районе принимали участие Г. Мырзагали-
ева, Т. Шарипкалиев, А. Курумбаев, Н. Курумбаев. Впервые была составлена карта-
схема кладбища «Хан Зираты», произведена нумерация кулпытасов, сняты эстампа-
жи или переписаны тексты 113 памятников (полевые материалы А. Ш. Курумбаева).
В июле 2014 г. кулпытасы данного региона были изучены научными сотрудника-
ми Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова КН МОН РК А. К. Муминовым,
220
ЧАСТЬ 3
А. Ш. Нурмановой, Д. Е. Медеровой, главным редактором краеведческого журнала
«DANA», К. Куттымуратулы, А. Ш. Курумбаевым, сотрудником Бокейординского
историко-музейного комплекса Г. С. Мырзагалиевой.
По итогам работы на Хан зираты экспедиции 2003 г. выяснилось, что тексты
на кулпытасах содержат суры и аяты из Корана, в основном написанные в «татар-
ской традиции» (татар ма³ам); это такие слова, как «йылда», «йашында», «ру�ылы�»,
«уолоят», «уфат», «улды», «о�лы», «йаздыр�ан», «небарасы», «зауджасы», «ташны»,
«ферзендесі», «�ылдырды» (полевые материалы А. Ш. Курумбаева, 2003 г.), но встре-
чаются и на арабском7 [Жахатов, 2014. С. 51].
Даты в основном указаны по христианскому летоисчислению, но встречают-
ся и по хиджре8 (кулпытасы №36 и 39). На кулпытасах встречались и названия ме-
сяцев9.
Самый высокий кулпытас – 213,5 см (№100), самый низкий 33,5 см (№107).
По ширине самый широкий 56 см (№73) и самый узкий 20 см (№77). По размеру бо-
ковой стороны кулпытаса самый большой 26 см (№58) и самый узкий 8,5 см (№57).
Тамги рода торе на 14 кулпытасах (№ 1, 2, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 66, 69),
а также есть по одному кулпытасу с тамгами родов байбакты (№77), бериш (№23),
бериш-жайык (№12), карагаш-ногай (№102), ногай (№15), ногай-карагаш (№103),
ысык (№3). Есть тамги еще на 14 кулпытасах, но еще предстоит прочитать надпи-
си, чтобы определить их принадлежность. На двух кулпытасах тамги отсутствуют.
Установлены имена Ханут Бабаскызы (№1), Шомбал Машкур (№100), Жантореулы
Муфтах (№3), Исмаил молла (№102), Ибрайкызы Насип (№103). На кулпытасах ка-
занских татар пишут «�азан уолояты». На кулпытасе Жангира указан год смерти
хана 1845, а возраст 42 года. Годом рождения хана получается 1803 г. На кладбище
есть 2 кулпытаса киргизов рода «сарба�ыш» и «б;�ы» (полевые материалы А. Ш. Ку-
румбаева, 2003 г.).
Материал для кулпытасов (песчанник) брали на горе Малое Богдо (Жаман-
тау), владельцем которой являлся султан Шыгаев [Бекназаров, 2003. С. 190]. Позже
песчанник заменяется другим материалом, предположительно бетоном или раку-
шечником10.
В Букеевской Орде у каждого рода были родовые земли, соответственно были
и родовые кладбища с кулпытасами с указанием родовых тамг.
Букеевская Орда в период 60–70 гг. XIX в. по административно-территориаль-
ному делению делилась на 7 частей (округов): Калмыцкая часть, Нарынская часть,
Торгунская часть, Камыш-Самарская часть, Таловская часть, 1-й Приморский округ
и 2-й Приморский округ. Каждая часть делилась на старшинства, в свою очередь
старшинства делились на аульные общества.
Султанский11 род был представлен во всех округах, кроме 1-го Приморского.
Рода кожа не было в Торгунской части, но он преобладал в Калмыцкой части, осо-
бенно в 7-м старшинстве12. Род кете отсутствовал в Камыш-Самарской и Нарынской
221
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
части, но преобладал во 2-м Приморском округе, в 13-м старшинстве. Род керде-ри отсутствовал в Нарынской части и в 2-м Приморском округе. Рода байбакты
не было в 1-м Приморском округе, но он преобладал в Камыш-Самарской части в 1-м
и 11-м старшинствах, а 16-е старшинство состояло исключительно из этого рода13.
Рода адай не было в Нарынской части и во 2-м Приморском округе, но он преобла-
дал в 4-м старшинстве, а 5-е, 6-е, 16-е старшинства состояли исключительно из это-
го рода. Род берш присутствовал во всех частях, преобладал в 6-м старшинстве
2-го Приморского округа; исключительно из этого рода состояли 3-е старшинство
Калмыцкой части, 4-е старшинство Нарынской части, 1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 14-е стар-
шинства 1-го Приморского округа. Род алаша также был представлен во всех окру-
гах, но исключительно из этого рода состояли 14-е старшинство Камыш-Самарской
части, 6 и 12-е старшинства Нарынской части, 5-е старшинство 2-м Приморского
округа. Род ысык отсутствовал в Нарынской части и 1-м Приморском округе, ис-
ключительно из этого рода состояли 4-е старшинство Камыш-Самарской части
и 12-е старшинство во 2-м Приморском округе. Род шеркеш также отсутствовал
в Нарынском и 1-м Приморском округе, но исключительно из этого рода состояли
2, 4 старшинства Калмыцкой части, 2-е старшинство Таловской части, 2, 3, 4 стар-
шинства 2-го Приморского округа. Рода жаппас не было в Нарынской части, но он
преобладал в 4-м старшинстве Калмыцкой части, а 6-е старшинство Торгунского
округа, 4 и 6-е старшинства Таловской части состояли исключительно из этого
рода. Род кызылкурт был в Торгунской части, Камыш-Самарской части, Нарынской
части, здесь 3 и 5-е старшинства состояли исключительно из этого рода, и во 2-м
Приморском округе. Род маскар отсутствовал в 1-м Приморском округе, но преоб-
ладал в 15-м старшинстве Камыш-Самарской части. Род есентемир поселился в 1
и 2-м старшинствах Калмыцкой части, 2, 6, 8-м старшинствах Таловской части, 9
(состояло исключительного из этого рода) и 15 старшинствах 1-го Приморского
округа, и в 14-м старшинстве 2-го Приморского округа. Род тана проживал в Тор-
гунской, Таловской, Камыш-Самарской частях, исключительно из этого рода со-
стояли 8 и 9-е старшинства Камыш-Самарской части. Род тама отсутствовал в Тор-
гунской и Нарынской части. Род табын отсутствовал только в Нарынской части.
Род каракалпак был представлен в Калмыцкой, Торгунской, Таловской части14. Род
ногай отсутствовал в Камыш-Самарском, Нарынском и 1-м Приморском округе [Ту-
ремуратов, 2013. С. 1].
В разное время исследователи в своих публикациях фиксировали варианты
тамг родов Букеевской Орды: Левшин, Мейер, Казанцев [Батыс �аза�стан облысы,
2002. П. 1, 2], Харузин (Фонд Бокейординского ИМК. Инв. №3696. Л. 28, 33, 40) и др.
По результатам исследований разных лет на кулпытасах обнаружены и опре-
делены тамги родов алаша, бериш, есентемир, таз, табын, тама, торе, толенгит,
ногай, кожа. Варианты тамг Левшина, Мейера, Казанцева совпадают по 8 пози-
циям из 21 варианта. Тамги Харузина указаны в отношение родов ногай, кожа
222
ЧАСТЬ 3
и каракалпак. Вышеуказанные авторы не указали тамги этих родов, кроме Казан-
цева, у которого мы видим тамгу рода ногай. Несовпадение более десяти тамг мож-
но объяснить тем, что авторы могли указать тамги отделений родов, но это дело
времени, и в будущем все тамги будут анализироваться по данным полевых иссле-
дований.
Будущие исследования помогут нам раскрыть «белые пятна» в истории Буке-
евской Орды и внести свой вклад в становление эпиграфики и краеведения.
Примечания:
1. Кірме.
2. Не принадлежавшие ни к какому роду.
3. В документах 1825 г. причислен к роду байулы.
4. Представители карагашей, которые родились в 1920-х гг., записывались как та-
тары, позже – казахами.
5. В документах XIX в. указываются как каракалпаки, а современные потомки на-
зывают себя просто калпаки. В документах калпаки Бокейординского района
Западно-Казахстаской области пишутся казахами, а Казталовского района – та-
тарами.
6. Приехали в Букеевскую Орду на Ханскую ярмарку и остались жить.
7. Кулпытас жены султана Адиля Букейханова Ханут Бабаскызы.
8. Кулпытас «Но�ай ру�ылы� Машк=р би Шомбал о�лы Юсуф .......перзенті �ызы
офат болды 4 жасында 1275 йылы (1868 г. по христианскому летоисчислению).
9. Есентемір руы Тайкенбоз�ызы 67-де �айтыс болды 1890 жылда 2 саратанда.
10. Могила купца Афлатона Уразова.
11. Торе.
12. Окрестности горы Малое Богдо (Жамантау), где в урочище Тургай находилась
усадьба ученого-этнографа Мухамеда-Салыка Бабажанова, представителя кожа.
13. Бурлинский округ Бокейординского района Западно-Казахстанской области.
14. Представители на этих территориях проживают до сих пор.
Ажигали С. Е. Архитектура кочевников – феномен истории и культуры Евра-
зии (памятники Арало-Каспийского региона). Алматы, 2002.
Батыс �аза�стан облысы. Энциклопедия. Алматы, 2002. №1, 2 �осымша.
223
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Бекназаров Р. А. Место резьбы по камню в системе казахского традиционного
искусства и ремесла // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. Вып.
2. Уральск, 2003.
Зиманов С. З. Россия и Букеевское ханство. Алма-Ата, 1982.
История Букеевского ханства, 1801–1852 гг. Сборник документов и материа-
лов / сост. Б. Т. Жанаев, В. А. Иночкин, С. Х. Сагнаева. Алматы: Дайк-Пресс, 2002.
Курумбаев А. Ш. Особенности цифровой эпиграфики на надгробных стелах
Букеевской Орды // История Казахстана: преподавание в школе. Республиканский
научно-методический журнал. №6, 2006.
Сдыков М. Н., Ерназаров Ж. Т. Кулпытасы Западно-Казахстанской области. Бу-
клет. Уральск, 2005.
Туремуратов И. А. Внутренняя Киргизская (Букеевская) Орда // Электрон-
ный ресурс: http://www.bastanovo.ru/2012/06/vko_1/.
Жахатов М. Орда ауылында�ы �;лпытас // «DANA». №1 (12), �а�тар 2014.
224
ЧАСТЬ 3
А. К. МУМИНОВ, А. Ш. НУРМАНОВА, Д. Е. МЕДЕРОВА
ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК ПО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
И ДУХОВНОЙ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА
В ходе проводимых Институтом востоковедения плановых проектов и экспе-
диций в различные регионы Казахстана обнаруживаются новые, зачастую извест-
ные только на местном уровне, малоизученные в мировом масштабе памятники
культуры. Одними из таких источников по духовной, политической, социально-
экономической истории являются эпиграфические тексты. Общеизвестно, что эпи-
графические памятники связаны с конкретным историческим регионом, духовным
центром и являются составной частью историко-культурного комплекса. Настоящее
сообщение посвящено памятникам Западно-Казахстанской области (ЗКО), где со-
хранились в изобилии намогильные эпиграфические памятники на святых захо-
ронениях степной элиты – ханов, биев, батыров, религиозных деятелей. Данные
эпиграфические памятники интенсивно разрушаются вследствие природно-кли-
матических изменений, некоторые намеренно уничтожаются, вывозятся в другие
места. Данное обстоятельство требует принятия незамедлительных мер по их со-
хранению – обнаружению, фиксации, инвентаризации, картографированию, вклю-
чению этих объектов в список охраняемых государством памятников культуры
и научного издания исчезающих текстов эпитафий. В контексте задач Стратегии
«Казахстан–2050» о мерах по активизации изучения национальной истории и ор-
ганизации сбора, систематизации и классификации всего имеющегося за рубежом
и внутри страны исторического материала по национальной истории казахов и Ка-
захстана изучение эпиграфических памятников является одной из актуальных за-
дач исторической науки.
Информация, содержащаяся в эпиграфических памятниках, обладает боль-
шей степенью достоверности, ибо место установки памятника, как правило, совпа-
дает с ареалом его изготовления, или, за редким исключением, находится от него
в непосредственной близости, и в силу этого является ценнейшим документом эпо-
хи того региона, где он был обнаружен. Социальный смысл памятников особенно
четко отражается в характере оформления, величине, тонкости художественно-
го оформления памятника, а также в титулатуре, терминах социального характе-
ра [Blair, 1992; Додхудоева, 1992; Ибрагимов, 1988; Юсупов, 1960; Эпиграфические
225
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
памятники, 1966]. Надписи пестрят титулами, здесь присутствуют ханы, султаны,
бии, батыры, шейхи, имамы, беки, муллы, мударрисы, хаджжи, баи и др.
Прежде всего, необходимо установление общей характеристики уровня со-
хранности (степени разрушения) эпиграфических памятников и целых ансам-
блей мусульманских кладбищ в Казахстане. Десятки тысяч великолепных образ-
цов надгробий сохранились по всему Казахстану [Кастанье, 2007; Аджигалиев,
1994; Сды�ов, Ерназаров, 2005; Ша�па�-ата, 2009; �;лпытас сырын ашайы�, 2014;
Поппе, 1940], однако ни о какой охране этих памятников, взятия на учет фрагмен-
тов и целых групп эпиграфических памятников нет и речи [Сохранение и развитие,
2004; Сохранение и использование, 2005; Тарих, 2012]. Отбитые куски надгробий,
фрагменты эпитафий валяются на земле и легко могут стать добычей любого слу-
чайного прохожего, строителя.
Несмотря на короткий и лаконичный текст эпитафий, их информационная
значимость очень велика. Главная их ценность состоит в том, что они дают пред-
ставление о духовной и материальной культуре народов. Помимо информации, ле-
жащей на поверхности (имена предков в несколько поколений, даты жизни), эпита-
фии дают возможность по-новому изучать историю и культуру народа.
Каменные надгробия сооружались над могилами и простых людей, и знат-
ных персон – ханов, батыров, поэтов и мусульманских деятелей, причисляемых
к святым. Могилы последних считались «аулие». Это были объекты массового па-
ломничества (зийарат), поклонения и почитания. Исследование данного вида па-
мятников важно и потому, что в ходе экспедиций обнаруживаются места захороне-
ния выдающихся личностей в истории казахского общества.
Каждая эпитафия, посвященная историческому лицу, хранит в себе важные
сведения об антропонимах, титулах, оценке деятельности, отраженные в эпитетах,
точные даты кончины усопшего. Это – массовый исторический материал. Нужно со-
брать и изучить сотни надписей, чтобы сделать вывод или обобщение. Только обоб-
щение данных дает оригинальные сведения, которых нет ни в одном письменном
источнике, например, о границах родового и административного деления казах-
ского общества. Важно отметить, что пантеоны выдающихся деятелей определяют
признанные границы владений, кочевий данного рода, племени казахов, их роди-
ны. В настоящий момент это имеет исключительное значение.
О важности исследования оригинальных эпиграфических памятников
на территории Казахстана говорит тот факт, что в мировой науке не было единой
публикации по ним, не был издан ни один из текстов эпитафий. Особенно инте-
ресна и почти не изучена погребальная эпиграфика комплексов, в которых обычно
хоронились целые династии, игравшие некогда значительную роль в жизни реги-
она. Таков, например, «Хан зираты» в Бокейордынском районе ЗКО, где во множе-
стве сохранились эпиграфические памятники. Такие комплексы для местного на-
селения были и остаются местами почитания и паломничества. Наиболее древние
226
ЧАСТЬ 3
кладбища-комплексы уже давно погребены под землёй и их надгробия обнаружи-
ваются случайно археологами или обычными людьми.
В издающемся с 1931 г. каталоге «Хронологический регистр арабографич-
ной эпиграфики» (Répertoire chronologique d’épigraphie arabe. Tome I–XVIII. Le Caire:
Institut français d’archéologie orientale du Caire, 1931–2012), в котором публикуются
эпиграфические памятники всего мусульманского мира, не включена казахстан-
ская эпиграфика, в то время как по многочисленности эпиграфические памятни-
ки Средней Азии и Казахстана не уступает Ирану. В Узбекистане эпиграфические
памятники активно издаются при поддержке международных фондов и исследо-
вательских центров. В 1997 г. при поддержке МИД Германии было осуществлено
издание книги-альбома «Эпиграфика некрополя Шайбанидов», в котором участво-
вал один из авторов данной статьи А. К. Муминов. Также в 2002 г. в серии “Corpus
inscriptionum Iranicоrum” была издана книга-альбом «Эпиграфика некрополя Джуй-
барских ходжей Бухар “Чар-Бакр”» [Les inscriptions, 2002]. Интерес представителей
мировой науки к таким памятникам подчеркивает научную значимость и востре-
бованность подобных исследований.
В ходе проведенных полевых экспедиций по фиксации эпиграфических па-
мятников Западно-Казахстанской области (июль 2014 г.) нами были изучены не-
крополи нескольких районов.
1. Некрополь Маулимберди (Мауламберди) расположен в 18 км к запа-
ду от аула Базартобе Акжаикского района ЗКО. Членов экспедиции сопровождал
аким Базартобинского округа Амантай Салимов, сам глубоко увлеченный изуче-
нием истории края. Он лично показал нам место расположения мечети Маулим-
берди, отметив, что на этом кладбище похоронены выходцы из колена Калкаман
рода Тана. Были измерены объемы памятников, производилась фотосъемка, были
зафиксированы широта и долгота, уровень расположения памятника. Было заме-
чено, что форма кулпытасов этого объекта прямоугольная. Все надписи нанесены
на арабском языке грамотно, каллиграфическим почерком. Составитель текста эпи-
тафии в совершенстве владел арабским языком, также можно отметить искусство
резчика по камню. В некрополе Маулимберди имеется примерно 65 кулпытасов.
Из них около 10 написаны кириллицей, остальные – арабской графикой.
227
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
«Это – могила покойного, прощенного / дамуллы Хаджж ‘Али, сына аш-шайх /
Мауламберди, ал-фадил ал-камил ал-‘алим / ан-нахрир. Он родился в 1286/1869–
1870 году по / хиджре. Он обучался у Имама Мухаммад-‘Али / ал-Каргали и стал
высокообразованным имамом и, не было равных ему в его / время, был единствен-
ным своей эпохи. Он умер в 1336 году хиджры – / 1919 году / по-христиански (ма-
сихийа). В северной стороне находится его брат ‘Абд ар-Рахим, который скончался /
также в том же году и ему было 44 года».
Этот камень воздвигнут в начале ХХ века. Надпись нанесена полностью
на арабском языке. Поражает красивый и безошибочный каллиграфический по-
черк. Видно, что писал человек, в совершенстве владевший арабским языком, также
был образованным и тот, кто составил текст эпитафии.
Хаджжи ‘Али жил в 1286–1336 гг. (по современному летоисчислению в 1869–
1919 годах). Он скончался в 50-летнем возрасте. Его младший брат ‘Абд ар-Рахим
умер в возрасте 44 лет. Вероятно, они погибли насильственной смертью, ведь тогда
было смутное время. Из эпитафии можно извлечь несколько фактов.
Во-первых, слово «дамулла» свидетельствует о том, что Хаджжи ‘Али препо-
давал в местном медресе, в нынешнем его значении работал старшим преподавате-
лем. Его отец Маулимберди был известен как великий ученый, шейх. Титула шей-
ха удостаивались редкие люди из числа самых выдающихся ученых. Как заявлено
в эпитафии, в те времена не было людей, равных по учености Хаджжи ‘Али. В ней
приведены даты рождения и смерти. Севернее от надгробного камня имеется захо-
ронение его брата ‘Абд ар-Рахима.
228
ЧАСТЬ 3
Также надпись ценна тем, что в ней сообщается много исторических сведе-
ний. В ней названы четыре ученых: 1) Маулимберди шейх, который воспринима-
ется местным святым и великим ученым; 2) его сын – Хаджжи ‘Али, также ученый
той эпохи; 3) наставник Хаджжи ‘Али – имам Мухаммад-‘Али ал-Каргали; 4) млад-
ший брат Хаджжи ‘Али – ‘Абд ар-Рахим, скончавшийся в возрасте 44 лет. Также мы
узнаем, что Хаджжи ‘Али родился в 1286 г. хиджры и умер в 1336 г. в возрасте 50
лет. Из этого списка имена трех человек, жизнь которых связана с исламской ре-
лигией, учением ислама. Из эпитафии можно заметить значение этого центра для
соседних районов и регионального центра Уральска.
Выражение, нанесенное на угловой надписи слева – стандартно и встречает-
ся на всех надгробных камнях: ‘Аузу би-л-Лах мин аш-шайтан ар-раджим. Отсут-
ствуют сведения о человеке, установившем надгробный камень, вероятно по при-
чине того, что считалось зазорным оставить сведения о человеке, который его уста-
навливал.
«1877–1924. / Это – могила покойного аш-шайх / ал-муршид ал-камил мул-
ла ‘Абд ал-Карим, сын Шир-‘Али / ал-Хаджж ал-Баликлави. Он родился в 1877 году
229
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
и скончался в / 1924 году по милади в 12 день месяца Хут, а он / (получал) науки
экзотерические от ученых Каргали, затем / от ученых Бухары пока не достиг совер-
шенства в / (науках) аз-захир и ал-батин, и стал совершенным ученым своего вре-
мени, богобоязненным своей эпохи. И многие ученики воспользовались его знани-
ями в науках / аз-захир и ал-батин. Когда он скончался, его возраст достиг 47 (лет).
Да будет ему бесконечная милость Аллаха! Этот камень установил его ученик Мул-
ла ‘Абд ал-Карим Бириши».
«Это – могила / покойного, прощенного, / ищущего знания муллы /
Ни‘маталлаха, сына Маулимберди / Хазрата. Он родился в 1319/1901–1902 году
по хиджре (Пророка)… / Как приятен час Судный!… / День махшара для встава-
ния…»
2. Некрополь «Тайкожа» расположен на границе Базартобинского и Базар-
шоланского аульных округов. Здесь находится около десяти кулпытасов. У двух ко-
нусообразных мазаров крыши полностью, а стены наполовину были разрушены.
Ясно, что курганы возле других кулпытасов появились от разрушения конусообраз-
ных мавзолеев, воздвигнутых над мазарами. На месте нами были проведены рабо-
ты по измерению кулпытасов, их фотографированию.
230
ЧАСТЬ 3
«… Тана / Асан, племени Йанмырза, / Тилау-углы, сын / Итемкан-бай скон-
чался / в возрасте 93 лет в 1836 (году) в рамазане / месяце. Надгробие (турба) из-
готовлено [по заказу] его внука Йунаш мирзы».
Итемген – личность, известная в истории. Он был родным младшим братом
Есенгельды Жанмырзаулы, оставшегося в памяти народа под именем Есенгельды
бай, который в действительности был не только богатым, но и занимал должность
старшины, пользуясь званием тархана. 17 сентября 1811 г. знатные люди ветви
байулы Младшего жуза направили письмо Оренбургскому военному губернатору
с предложением утвердить ханом Бокея Нуралиулы вместо Жанторе-хана Айшуа-
кулы (см. журнал «Dana.kaz, № 2-3 (13), 2014 год, стр. 48–51). Среди тех, кто поста-
вил подпись и скрепил ее печатью, находился Итемген Жанмырзаулы. Этот факт
говорит о том, что он был известной личностью, занимавшей весомое место среди
правящей элиты.
3. Некрополь аула Ески Есим – «ТDре зираты», расположенного в 3 км от Ба-
заршолана. Надпись: «Он Живой, Который никогда не умрет! Это – могила челове-
ка, прощенного (Аллахом), повелителя побед, находящегося под покровительством
Всевышнего, саййид, бахадур, хан Иш-‘Али ибн хан Нур-‘Али, сына покойного хана
Абу-л-Хайра; он ушел из жизни в 1213/1796-97 году в возрасте 53 лет1. Надгробный
1 Ишим-султан (1744–1797), султан Младшего жуза, с 17.09.1795 г. по 27.03.1797 г. –
хан. Старший сын Нур-‘Али-хана от первой жены. В период правления Нуралы-хана управ-
лял одним из родов поколения байулы. В сентябре 1795 г. был возведен в ханы Младшего
жуза по инициативе и активном содействии симбирского и уфимского генерал-губернатора
С. К. Вязмитинова (1794–1796). Утвержден в этом звании 20.10.1796 г. императрицей Ека-
териной II. Убит 27 марта 1797 г. сподвижниками батыра Срыма Датова (ум. в 1807 г.). По-
хоронен в степи недалеко от р. Урал напротив Калмыковской крепости. О нем см.: ГАОрО.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 58; ЦГА РК. Ф. И-4. Оп. 1. Д. 634. Л. 3–3об.; Мейер Л. Киргизская степь Орен-
бургского ведомства / Материалы для географии и статистки России, собранные офицерами
Генерального штаба. Т. 10. СПб, 1865. С. 22–23; Вяткин М.П. Батыр Срым. Алматы: Санат,
231
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
камень установил его сын Кайып-‘Али-султан». Далее идет стихотворный текст: «…
Он испустил дух, отведав смертельный напиток. Его душа благоденствует в Раю.
Если это прочтет мусульманин, пусть рецитирует священный айат из Корана, ко-
торый он знает». В самом низу начертан родовой знак (тамга) торе.
4. Святое место – Матен-кожа («М;тен-%ожа ;улие»). Оно находится
в 100 км от аула Базаршолан на территории Атырауской области. Здесь воздвигнуты
мавзолей, дом для ночлега; сюда часто приезжают паломники для излечения души
и тела, верящие в чудодейственную силу святого. Шыракшы – Нийаз-кожа, прини-
мающий здесь паломников на протяжении двенадцати лет. В небольшом мавзолее
на прочном фундаменте установлен кулпытас. Кулпытас изготовлен из камня чер-
ного цвета. В жаркие дни камень источает жирное выделение, которое восприни-
мается как целебный жир. Паломники, посвятив молитву в честь святого, гладят
кулпытас, после чего проводят ладонями по своему лицу.
1998. С. 289–315; Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств (XVIII век). Алма-
ты: Білім, 1999. С. 193–202; Ерофеева И.В. Символы казахской государственности. Позднее
средневековье и новое время. Алматы: Дайк-Пресс, 2001. С. 131.
232
ЧАСТЬ 3
Кулпытас, вероятно ранее разбитый, был затем восстановлен. Поэтому осо-
бую трудность представило чтение именно фрагмента на месте разлома: «В этом
месте похоронен Кожа Матен ибн Кожа Толек из состава Байулы проживший в этом
бренном мире 63 года. Этот раб Аллаха покинул (этот мир) в 1802 году. И при своей
жизни он был совершенным, (этот) потомок прибыл в свои последние годы в эту
священную местность, в которой (имеется) жир необычного вида, который исцеля-
ет от одних недугов, случающихся в теле (человека). (Это сила) существует и ныне.
Постройку поставил его внук Айна-кожа Кылыш-кожа-улы». В конце текста начер-
тан родовой знак (тамга) кожа.
Бай ;лы ішінде �о-
жа Матен ибн �ожа Тулак бу фани
дунйада 63 йаш с=руб,
банда-и Алла³ рихлат ила 1802-нчі
йылда вафат олуб, бу ма�ама дафн у-
лунды. �зіні� тіругінде х�м
камил �адам алуб бу фарзанд
су��ы кезі нышан орын йер�а
одан бір т=рлі май т�н�а
бол�ан бір а�ырлы��а
шифа, хазыр де мауджуд.
Бина �ойды набирасы Айна �ожа
�ылыч �ожа ;�лы
5. Некрополь «ТDле?гіт %ауымы» находится в поселке «�штерек» в Нарын-
ских песках в Бокейордынском районе. Надгробные памятники были сфотографи-
рованы, сняты измерения, записаны на диктофон легенды, связанные с этим свя-
тым местом.
233
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
«Каждый, кто находится на ней (земле), бренен, и останется Его (Аллаха)
душа. И Твой Господь – величественен, великодушен. О Боже, прости нам наши гре-
хи! / Могила усопшего, род которого – Толенгут, из числа потомков Дуана, уважае-
мого указного старшины Джахангир-хана, Чуке Айдулбак угли. Он скончался в воз-
расте 71 года в 1854 году по летоисчислению румийцев, и в месяце Джауза’. При-
казал написать и установить этот камень сын Йасавула Саушик, сын Дус-Мухаммад
Абылай Истаршына Нур-Мухаммад Мырза.
6. Некрополь «Са?<ыры%», находящийся в Нарынских песках. Памятники
сфотографированы (122 фото), сняты измерения, записаны на диктофон бытующие
легенды о них.
Но�ай �аза�ы ру�ы
�уйас тайфасыны� ыстаршыны
А�болат Са��ыры� ;�лы дар
ал-фанадан дар ал-ба�а�а рихлат
айлады 68 йаш, фи санат 1851
-нчида Руми илан. Бу ташны
�ойдырды баласы Маулад-‘Али Мырза
234
ЧАСТЬ 3
«Ыстаршын рода Нугай Казагы, колена Куйас Ак-Булат Санггырак угли пере-
шел из мира бренного в мир вечности в возрасте 68 лет в 1851 году по летоисчисле-
нию румийцев. Этот камень приказал установить его сын Маулад-‘Али Мырза».
7. Некрополь «Хан зираты» охватывает мавзолеи Ж��гір-хана, М;хаммад-
Салы�а, Д�улеткерейа и захоронения членов султанской семьи. Памятники были
сфотографированы, сняты измерения, записаны на диктофон легенды, связанные
с данным объектом.
Текст передней части Текст на обороте
Левая сторона Правая сторона
235
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
«Каждый, кто находится на ней (земле), бренен и, останется Его (Аллаха)
душа. И Твой Господь – величественен, великодушен! (Потомок) хана Дашт-и Кып-
чака хана Абу-л-Хайра, внук его сына Нур-‘Али-хана – хан Джахангир, светоч глаз,
сын Букей-хана, перешел из мира бренного в мир вечности. Воистину, мы при-
надлежим Аллаху, и воистину, к Нему возвращаемся! (И было) ему 42 года. (Это)
случилось в 1265 году по мухаммаданскому (летоисчислению), в 1845 году по-
христиански, в 11-ом дне месяца Сунбула. Да будет (прочитана в честь) его души
Фатиха!»
По бокам написаны выражения на арабском языке.
На оборотной стороне:
«Йыгырма йил суруп ханлык джаханда, отупти омири онын бул хаманда,
калан ауладларина Хакк Та‘ала, бу дунйада хич бир адам калмаз ермиш, гар ан –
хан, гар ан султан, дарвиш» (Пробыв 20 лет в ханском мире, он перешел в мир иной
в сей момент. Его оставшимся в этом мире потомкам да будет Бог Всевышний за-
щитником! В этом мире не останется никто, будь он хан, либо правитель, дервиш).
Заключение
Обобщение данных рассмотренных надписей позволяет нам сделать предва-
рительные выводы. Все надписи, посвященные казахским предводителям (кроме
комплекса Маулимберди), составлены на классическом тюркско-чагатайском язы-
ке. Большинство надписей имеют точную датировку, что облегчает задачу их при-
влечения к ведущимся исследованиям по истории и культуре Казахстана. Отдель-
ное внимание заслуживают эпитафии казахских ханов. Если в надписях XVIII в.
чувствуется тенденция к сакрализации верховной власти через знаменитые фи-
гуры (Абу-л-Хайр-хан, Нур-‘Али-хан), то в XIX в. возрождается идея «единого хана
Дашт-и Кыпчака». Наши наблюдения показали, что требования времени ставят за-
дачу создания единого корпуса эпиграфических памятников Казахстана. Обобще-
ние и сравнительно-сопоставительное изучение исторических надписей создадут
потенциальные возможности для решения многих задач в исследовании истории
и эволюции казахской государственности, социальной истории казахского обще-
ства, различных аспектов развития национальной культуры.
Аджигалиев С. И. Генезис традиционной погребально-культовой архитекту-
ры Западного Казахстана: на основе исследования малых форм. Алматы: Гылым,
1994. 259 c.
236
ЧАСТЬ 3
Blair, Sheyla S. The Monumental Inscriptions from Early Islamic Iran and
Transoxiana. Leiden, New York, K benhavn, Kőln: Brill, 1992. 212 p.
Додхудоева Л. Н. Эпиграфические памятники Самарканда XI-XIV вв. Том I.
Душанбе: Дониш, 1992. 405 с.
Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. Москва: Глав-
ная редакция восточной литературы, 1988. 128 с.
Кастанье И. А. Древности Киргизской степи и Оренбургского края. 2-е изд.
Алматы: Дайк-Пресс, 2007. 516 с.
�;лпытас сырын ашайы�. Орал: ЖК «Adil Parasat», 2014. 84 б.
Les inscriptions persanes de Char Bakr, necropole familiale des khwaja Juybary
pres de Boukhara / par Bakhtiyar Babajanov et Maria Szuppe (Corpus Inscriptionum
Iranicarum). London, 340 p.
Поппе Н. Н. Карсакпайская надпись Тимура // Труды отдела Востока Госэр-
митажа. Т. II. Л., 1940. С. 185–186.
Сды�ов М. Н., Ерназаров Ж. Т. Батыс �аза�стан облысыны� �;лпытастары.
Орал: Батыс �аза�стан облысты� тарих ж�не археология орталы�ы, 2005. 32 б.
Сохранение и развитие историко-культурной среды в природных и городских
условиях современной Центральной Азии: Труды международной научно-практи-
ческой конференции (г. Алматы, 11–12 мая 2004 г.). Алматы: Принт-S, 2004. 272 с.
Сохранение и использование объектов культурного и смешанного наследия
современной Центральной Азии: Труды ІІ-ой международной научно-практической
конференции. Алматы: Принт-S, 2005. 236 с.
«Тарих, м�дени м;ра ж�не заманауи м�дениет» халы�аралы� �ылыми-
т�жірибелік семинарыны� материалдар жина�ы. Алматы: Service Press, 2012.
320 б. + 32 б.
Ша�па�-ата жерасты мешіті мен �орымыны� эпиграфикасы / Редакторы Б. М.
Бабаджанов. Алматы: Дайк-Пресс, 2009. 224 б.
Эпиграфические памятники Северного Кавказа (на арабском, персидском
и турецком языках). М.: Наука, 1966. 295 с.
Юсупов Г. В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. М.; Л.: Изд-во АН
СССР, 1960. 322 с.
237
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
А. Н. МУХАРЕВА
ИЗОБРАЖЕНИЯ ТАМГ НА ПАМЯТНИКАХ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА СЕВЕРА МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ
Памятники наскального искусства, в большом количестве встречающиеся
на территории Минусинской котловины, изучены весьма неравнозначно. Если пе-
троглифы центральной части региона в той или иной степени фигурируют в науч-
ной литературе, то наскальные изображения памятников, расположенных на севере
Минусинской котловины, освещены в меньшей степени, несмотря на то что впервые
рисунки были обнаружены здесь еще в 1722 г. участниками первой академической
экспедиции. Между тем, несомненный научный интерес представляют несколько
памятников, расположенных по обоим берегам Енисея (Красноярского водохрани-
лища) севернее современного районного центра Новосёлово в Красноярском крае
(рис. 1). Крупнейшим среди них является комплекс наскального искусства Улазы.
Образующая его цепочка гор протянулась с запада на восток по правому берегу
длинного залива, напротив с. Новосёлово, в 4 км ниже паромной переправы. Среди
гор выделяется своими размерами самая западная, известная в литературе под на-
званием Большой Улаз. Следующие за Большим Улазом горы значительно меньше
по высоте, да и по количеству известных на них изображений.
Двумя километрами севернее комплекса Улазы находится Городовая стена, фи-
гурирующая в научной литературе как Новосёловская писаница, красочные изобра-
жения которой впервые были опубликованы еще Д. Г. Мессершмидтом [Messerschmidt,
1962. S. 181, Abb. 8]. Еще один памятник – Маяк – расположен на горе Яновской, на ле-
вом берегу Енисея, в 1 км севернее Новосёлово, напротив комплекса Улазы. И Горо-
довая стена, и Маяк значительно уступают по количеству плоскостей с наскальными
изображениями такому крупному комплексу, как Улазы. Несмотря на то что среди
петроглифов всех трёх местонахождений в численном отношении преобладают ри-
сунки, созданные в I тыс. н.э., изображения этого хронологического пласта на всех
памятниках отличаются определённым стилистическим своеобразием.
Кроме многочисленных фигур людей и животных, объединённых в сцены
охоты и перекочёвок, на скальных поверхностях обозначенных памятников встре-
чаются тамгообразные знаки, представленные на плоскостях как в сочетании
с другими изображениями, так и самостоятельно. В целом, подобные удостовери-
тельные знаки известны на многих памятниках наскального искусства, а также
на стелах и курганных камнях Минусинской котловины. Наряду с фигуративными
238
ЧАСТЬ 3
изображениями исследователи обращали на них внимание начиная с XVIII в. Один
из первых случаев фиксации тамг, нанесённых на скалу красной краской, демон-
стрирует зарисовка Карла Шульмана (рис. 2) – художника экспедиции Д. Г. Мес-
сершмидта, выполненная 18 февраля 1722 г. на Городовой стене [Messerschmidt,
1962. S. 181, Abb. 8].
В XIX в. тамги, нанесенные как на скальные плоскости, так и курганные кам-
ни Минусинской котловины, также зарисовывались исследователями [Спасский,
1857; Щукин, 1882; Appelgren-Kivalo, 1931; и др.]. Среди работ дореволюционного пе-
риода особое внимание заслуживает деятельность финской экспедиции Х. Р. Аспе-
лина в 1887–1888 гг., в ходе которой тщательно фиксировались наряду с многочис-
ленными изображениями и тамги, выполненные на скальных плоскостях, стелах
и курганных плитах [Appelgren-Kivalo, 1931]. В конце XIX – начале XX в. фиксаци-
ей тамг со скал и курганных камней Минусинской котловины занимался И. Т. Са-
венков [Савенков, 1910. Рис. 4], считавший, что «рисунки, знаки, тамги» и «буквы
енисейского алфавита …генетически связаны между собой». Известны зарисовки,
фотографии и эстампажи, на которых наряду с фигуративными изображениями за-
печатлены тамги, выполненные А. В. Адриановым, отмечавшим, что «редко в какой
из писаниц совсем отсутствуют эти или подобные знаки, которые Паллас считал
таврами» [Адрианов, 1910. С. 50]. Тамги, изображенные на писаницах и курганных
камнях Минусинской котловины, им тщательно зарисовывались, а в описаниях
указывалось, сколько раз были обнаружены те или иные знаки. Позднее по его ма-
териалам Л. Р. Кызласовым были составлены сводные таблицы тамг Хакасско-Мину-
синской котловины [Кызласов, 1965. Табл. 7, 8].
В первой половине ХХ в. изучением курганных камней с рисунками зани-
мались А. П. Ермолаев и С. В. Киселев [Киселёв, 1930], попутно фиксируя тамги,
встречающиеся среди изображений. Так, в 1913 г. А. П. Ермолаевым – краеведом
из г. Красноярска – на плитах могильников близ оз. Шира наряду с рисунками были
скопированы и тамги. Частично его материалы позднее опубликовал Э. Р. Рыгды-
лон, дополнив результатами собственных исследований 1946–1948 гг. [Рыгдылон,
1954; Рыгдылон, 1959].Обращал внимание на «фигурные знаки» и С. В. Киселев, про-
водивший в 1929 г. обследование курганов на правом берегу Енисея от Минусинска
до Сыды. Всего исследователем было выявлено 80 камней с рисунками, но эти мате-
риалы не были введены в научный оборот, за исключением нескольких прорисовок
и двух фотографий, опубликованных в статье «Значение техники и приемов изо-
бражения некоторых енисейских писаниц» [Киселёв, 1930].
Таким образом, несмотря на исследовательский интерес, вплоть до середины
ХХ столетия тамги на скалах Минусинской котловины не становились предметом
специального изучения, а их фиксация и описание осуществлялись попутно с фигу-
ративными изображениями или руническими надписями.
239
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Во второй половине ХХ столетия наряду с публикациями, рассматриваю-
щими тамги на различных предметах [Киселёв, 1949. С. 258, 259; Кызласов, 1960б.
С. 141–144; Кызласов, Король, 1990. С. 26–28, табл. V; Вадецкая, 1999. С. 115, 116,
рис. 92, табл. 44, 73; и др.], появляются специальные работы, посвященные анализу
удостоверительных знаков на памятниках наскального искусства региона [Кызла-
сов, 1960а; Кызласов, 1965; Кызласов, Леонтьев, 1980]. При этом в немногочислен-
ных публикациях характеризуются материалы отдельно взятых местонахождений,
расположенных преимущественно в центральной части и на юге Минусинской кот-
ловины.
На основании типологического анализа Л. Р. Кызласов датирует часть тамго-
образных знаков, выполненных на скалах, второй половиной IX и Х вв. и относит
их к памятникам древнехакасской знати [Кызласов, 1960а. С. 103]. На основании
сравнения тамг, изображенных на скалах и камнях, с материалами, представленны-
ми в сводках тамговых знаков, бытовавших у хакасов в XIX в., составленных И. Т. Са-
венковым [Савенков, 1910. Рис. 4, 12, 37–39, 52, 53], Н. Ф. Катановым [Катанов, 1893.
С. 110], С. А. Токаревым [Токарев, 1952. Рис. 2; Токарев, 1958. Рис. на с. 440], а также
по аналогиям со знаками на хакасских бытовых предметах и рисункам на затесях
деревьев, Л. Р. Кызласову и Н. В. Леонтьеву удалось выделить в петроглифах Мину-
синской котловины тамги XVII – начала ХХ в., принадлежавшие хакасам [Кызласов,
Леонтьев, 1980]. Сопоставив 90 разновидностей тамг (не считая буквенных), иссле-
дователи нашли им точные или близкие аналогии среди знаков сагайцев, качин-
цев, бельтир [Кызласов, Леонтьев, 1980. С. 24, 25].
Пожалуй, исследователи в большей степени уделяли внимание изображе-
ниям знаков, выполненным на курганных плитах региона. В 80-е гг. ХХ в. Т. В. Ни-
колаева, работавшая на могильниках центральной части и юга Минусинской
котловины, в процессе изучения рисунков на плитах оград тагарских курганов ана-
лизировала и тамги, встречающиеся среди прочих фигур [Николаева, 1983. С. 72–
79]. В начале 2000-х гг. коллектив авторов из Санкт-Петербурга аналогичную рабо-
ту выполнил на материалах Шарыповского района Красноярского края, разделив
зафиксированные тамги на группы и проведя обширные аналогии [Семенов и др.,
2003. Рис. 66–75]. Отдельно изучались знаки-тамги на камнях ограды Большого
Салбыкского кургана, среди которых авторами выделено 73 различных типа тамг,
определено время создания некоторых из них, приведена большая группа аналогий
[Яценко, Марсадолов, 2005; и др.].
Таким образом, тамги на памятниках наскального искусства северной ча-
сти Минусинской котловины, за исключением зарисовки, выполненной в начале
XVIII столетия экспедицией Д. Г. Мессершмидта, до настоящего момента остаются
не представленными в специальной литературе. При этом петроглифы горного мас-
сива в районе несуществующей ныне дер. Улазы были обследованы Н. В. Леонтье-
вым в 1962-м, затем в 1982 г. Исследователем были сделаны копии рисунков и тамг,
240
ЧАСТЬ 3
даны краткие описания скопированных плоскостей, но долгое время материал
не был введен в научный оборот [Леонтьев, Миклашевич, Мухарева, 2005]. Работы
на памятниках наскального искусства севера Минусинской котловины осуществля-
ются нами с 2004 г. по настоящее время. В ходе обследования плоскостей с петро-
глифами на комплексе Улазы, Городовой стене и горе Яновской была обнаружена
серия тамг разного вида, среди которых имеются как уже известные, так и новые
образцы.
Наибольшее количество тамг (более десятка различных типов) зафиксиро-
вано на скальных плоскостях горы Большой Улаз, где можно встретить как оди-
ночные изображения знаков, так и до нескольких экземпляров тамг на одной плос-
кости (от двух до четырёх). Значительная часть тамгообразных знаков расположена
на плоскостях с фигуративными изображениями и вписана в уже заранее выполнен-
ные сцены. Преимущественно это сюжетные композиции, передающие охоту; также
тамги зафиксированы среди сцен перекочевок и борьбы лошадей. Некоторые из них
уже были опубликованы ранее [там же. Рис. Х, XIV, XVII, XVIII]. В ходе фиксации на-
скальных изображений было установлено, что во всех случаях знаки не перекрыва-
ют ни другие тамги, ни рисунки, а вписаны в свободные, иногда неудобные участ-
ки плоскости. На этот факт ранее уже обращали внимание исследователи, отмечая,
что порча чужого знака могла привести к беде [Яценко, Марсадолов, 2005. С. 212].
Несомненный интерес представляет знак, неоднократно встречающийся
в большинстве сюжетных композиций и доминирующий в количественном отно-
шении над другими тамгами комплекса (рис.3). При этом не выявлено таких случа-
ев, чтобы он был представлен обособлено. На скальных поверхностях он всегда при-
сутствует либо в сочетаниях с другими тамгами, либо среди других изображений.
На плоскостях с петроглифами этот знак всегда выбит в стороне от рисунков
и как бы вписан в ранее созданную композицию. Подобные наблюдения позволя-
ют датировать его не ранее времени создания изображений, соотносимых с эпохой
раннего средневековья [Леонтьев, Миклашевич, Мухарева, 2005]. Среди известных
в литературе тамг, зафиксированных на скалах Минусинской котловины, точных
аналогий этому знаку обнаружить не удалось ни среди хакасских тамг, ни среди
более древних, тогда как его более простые варианты исследователями фиксирова-
лись неоднократно и соотносились с различными историческими периодами [Кыз-
ласов, 1965. Рис. 8: 1-4, 6-10; Кызласов, Леонтьев, 1980. Рис. 12: 71].
В сочетании одновременно с несколькими тамгами данный знак дважды
представлен среди небольших «скоплений» удостоверительных знаков, зафикси-
рованных на двух плоскостях памятника. Скопления тамг разных типов (не менее
трёх экземпляров), называемые исследователями «энциклопедиями», заслуживают
особого внимания. Они наиболее привлекательны, поскольку предоставляют допол-
нительные возможности для анализа материала [Яценко, 2001. С. 8; Рогожинский,
2014а. С. 82, 84, 85; Рогожинский, 2014б. С. 537; и др.]. По мнению исследователей,
241
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
их наносили на различные объекты часто за очень короткий срок (во время кол-
лективной акции) или же постепенно [Яценко, Марсадолов, 2005. С. 212]. Известны
также большие скопления, состоящие из идентичных тамг. По мнению С. А. Яцен-
ко, в этом случае «каждый представитель клана или племени демонстрировал со-
лидарность в важной акции и клятве, не изображая своего личного знака» [Яценко,
2012. С. 72]. Исследователем приводится еще одно распространённое проявление
клановой / семейной сплоченности – скопление, где при наличии разнотипных
тамг в разных частях изобразительной поверхности близкие по форме личные там-
ги родственников ставятся рядом (часто в линию). Это наблюдается при анализе
древнетюркских тамг, а также в позднее время. С. А. Яценко подмечено, что на ска-
ле Городовая стена четыре одинаковых знака аккуратно размещены в центре ско-
пления тамг различных типов [там же] (рис. 2). Других скоплений тамг, подобных
тому, что было зарисовано художником экспедиции Д. Г. Мессершмидта, на распо-
ложенных поблизости писаницах севера Минусинской котловины в настоящее вре-
мя не выявлено. Тем не менее, плоскости с меньшим количеством тамг есть на горе
Большой Улаз.
В одном случае на небольшом скальном выходе Большого Улаза в технике вы-
бивки выполнено четыре знака (рис. 4). Все они расположены в линию и являются
знаками одного типа. При этом два из них полностью идентичны (рис. 6: 1, 2), а два
других отличаются дополнительными элементами, являясь, вероятно, сыновними
вариантами первых тамг (рис. 6: 3, 4). Наиболее часто встречающаяся на плоскостях
памятника тамга среди этой группы представляет собой самый сложный из всех
вариантов (рис. 6: 4), так как по сравнению с другими знаками содержит наиболь-
шее количество дополнительных элементов. Дополнительные элементы или даже
геометрические фигуры могут указывать на «родство» кланов, оставивших тамги
[Яценко, 2001. С. 19–20]. Анализ техники исполнения знаков и цвет патины позво-
ляют утверждать одновременность нанесения всех четырёх фигур на скальную по-
верхность.
В другой «энциклопедии» на плоскости большого размера также в одну ли-
нию выбиты четыре тамги различных типов (рис. 5), включая наиболее часто
встречающуюся. На этой же скальной поверхности, правее и ниже тамг, в технике
пикетажа выполнена сцена перекочёвки, персонажами которой являются два всад-
ника: один – верхом на верблюде, другой – на коне (рис.5). Центральное место во
всей композиции занимает тамга, напоминающая дугу на кресте, нижнюю оконеч-
ность которого образует ромбическая фигура (рис. 6: 6). Эта тамга представлена
на памятнике лишь единожды и является самым крупным из знаков. Такие же там-
ги присутствуют на Сулекской [Appelgren-Kivalo, 1931. Abb. 72; 12, рис. 8: 7], Бояр-
ской и Туранской [Кызласов, 1965. Рис. 8: 6, 7] писаницах, на горе Тепсей в пункте
Усть-Туба III [Blednova, Francfort et al., 1995. P. 43: fi g. 11.2, p. 50: fi g. 29.2, p. 51: fi g. 35.8,
35.26, и др.], а также других местонахождениях региона. Анализируя упрощённый
242
ЧАСТЬ 3
вариант данной тамги, Л. Р. Кызласов высказал предположение, что дуга на кресте
без ромбической сердцевины является тамгой древне-тюркской знати [Кызласов,
1960а. С. 117] и имеет широкое распространение по всему левобережью и правобе-
режью Енисея. Среди хакасских тамг аналогичного знака найти не удалось, между
тем подобная тамга действительно широко представлена на памятниках централь-
ноазиатского региона. Вслед за Л. Р. Кызласовым, казахскими исследователями она
связывается с тюркскими народами и датируется VIII–IX вв. [Самашев, Базылхан,
Самашев, 2010. С. 155].
В аналогичной технике глубокой выбивки выполнена ещё одна разновид-
ность тамги, относящейся к типу, преобладающему в количественном отношении
на скальных плоскостях памятника (рис. 6: 5). Однако она значительно меньше-
го размера по сравнению с тамгой, описанной выше. Сложно сказать, выполнены
ли эти две тамги одновременно, или между их нанесением на плоскость прошло
какое-то время. В любом случае, учитывая композиционные особенности в их рас-
положении, представляется наиболее вероятным, что более крупный центральный
знак был оставлен на плоскости раньше других, но сложно определить насколько.
Две тамги меньшего размера выполнены в технике поверхностной выбивки.
Одна из них, напоминающая два равнобедренных треугольника, соединенных верши-
нами (рис. 6: 7), расположена между двумя знаками, описанными выше. Техника её
исполнения – менее глубокая и не очень частая выбивка – отличается от соседних зна-
ков, тогда как цвет выбивки идентичен. Тамги данного типа весьма широко распро-
странены на территории Центральной Азии. Одними исследователями серия подоб-
ных тамг соотносится с эпохой средневековья [Рогожинский, 2012. Табл. 2-9], другие,
анализируя такие знаки на памятниках наскального искусства Монголии, Казахстана
и Алтая, датируют их VIII–IX вв. [Самашев, Базылхан, Самашев, 2010. С. 164].
Четвёртая тамга представлена в виде окружности, разделённой пополам,
справа от которой отходят в разные стороны два небольших отростка (рис. 6: 8).
В целом, изображение выполнено поверхностными нечастыми выбоинами, по цве-
ту не отличающимися от скальной поверхности. Сложно сказать что-либо опреде-
лённое по датировке этой тамги, так как подобные знаки часто встречаются как
на памятниках наскального искусства, так и на курганных камнях Минусинской
котловины. Такие знаки существовали в регионе уже в тагаро-таштыкское время.
Наряду с другой знаковой символикой, они зафиксированы на астрагалах, найден-
ных на поселенческих комплексах севера Минусинской котловины [Краснослуцкий,
2009]. На многих из них прослеживаются гравированные линии [там же. Рис. 3-7].
К наиболее часто встречаемым сюжетам авторы относят в том числе окружности,
иногда с рассечением внутреннего пространства [там же. С. 269], приводя им в ка-
честве аналогий знаки, ранее выявленные на скалах Минусинской котловины. Как
отмечают исследователи, «графема в виде поделенной пополам окружности неодно-
кратно встречается в петроглифах различных частей среднеенисейского региона»
243
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
[там же. Рис. 9]. Среди выполненных на плитах и скалах знаков в виде окружно-
сти (и её производных) выделены собственно хакасские тамги [Кызласов, Леон-
тьев, 1980. Рис. 12], аналогичные тем, что представлены в сводке хакасских тамг
XIX в. Н. Ф. Катанова [Катанов, 1893. С. 110]. Отдельные знаки, также производные
от окружности, отнесены казахскими исследователями к VIII–IX вв., к сожалению,
без каких-либо аргументов относительно такой датировки [Самашев, Базылхан,
Самашев, 2010. С. 149]. Стоит отметить, что этот знак выполнен на некотором рас-
стоянии от трех предыдущих и, вероятно, был нанесен на плоскость в последнюю
очередь. Все четыре знака отличаются по технике исполнения от изящных фигур
всадников на коне и верблюде, выполненных частыми, мелкими выбоинами.
В сочетании с другими тамгами доминирующий в количественном отно-
шении знак четырежды зафиксирован вместе с тамгой, напоминающей букву
«Y», в двух случаях тамги изображены рядом, а в двух других знак нанесен выше
Y-образной тамги (рис. 7). Исходя из анализа композиционного расположения зна-
ков на плоскостях, а также техники их нанесения, весьма высока вероятность того,
что Y-образная тамга во всех четырех случаях выбивалась во вторую очередь, уже
после того, как был выполнен вышеописанный знак.
Иногда Y-образная тамга расположена среди сюжетных композиций. Напри-
мер, она зафиксирована в сцене, передающей борьбу лошадей на горе Большой Улаз
[Леонтьев, Миклашевич, Мухарева, 2005. Рис. XIV], а также на одной из плоскостей
с изображениями косуль в пункте Улазы III (рис. 8). Во всех случаях анализ компо-
зиционного расположения фигур позволяет предположить, что изображения людей
и животных предшествовали тамгам, так как последние либо вписаны между фигу-
рами, либо выбиты у края плоскости.
В целом, тамга в виде буквы «Y» весьма широко встречается в петроглифах
тюрко-монгольских народов, в том числе и в сценах, датируемых эпохой раннего
средневековья [Самашев, Базылхан, Самашев, 2010. С. 151, рис. 47, 72, 74; Рогожин-
ский, 2012. Табл. 2-8; Рогожинский, 2014а. С. 85, рис. 1-7; и др.]. Вероятно, на терри-
тории Минусинской котловины Y-образная тамга также использовалась уже в эпоху
раннего средневековья. Подтверждением этому может выступать енисейское ру-
ническое письмо – подобный знак употреблялся в качестве одного из рунических
знаков [Кызласов И. Л., 1994. Табл. XV-9]. По мнению С. А. Яценко, буквы алфавитов
окружающих народов служили одним из источников образования новых форм там-
гообразных знаков [Яценко, 2001. C. 25]. В частности, в эпоху средневековья исполь-
зование букв тюркских рунических алфавитов широко практиковалось в зоне ин-
тенсивных культурных контактов [там же. С. 26]. В отдельных случаях Y-образная
тамга на скалах Минусинской котловины зафиксирована в сочетании с рунически-
ми надписями, причем выполнена в технике, идентичной буквам енисейского ру-
нического алфавита. По мнению С. Г. Кляшторного, отнесшего данный тип тамги
к древнекыргызскому, один из таких знаков в пункте Усть-Туба III непосредственно
244
ЧАСТЬ 3
связан с надписью, датированной им VIII–IX вв. [Кляшторный, 2006. С. 324, рис. 4],
что не вызывает сомнений относительно одновременного их нанесения.
Рунических надписей на скальных плоскостях комплекса Улазы к настоя-
щему времени не выявлено, однако руника есть на одной из плоскостей Городо-
вой стены, расположенной поблизости, хотя тамг, синхронных по времени с руни-
ческой надписью на Городовой стене также нет. Все тамги, которые сохранились
до настоящего времени, а также те, что были опубликованы Д. Г. Мессершмидтом,
выполнены краской и относятся, вероятно, к новому времени.
Исходя из вышесказанного, Y-образную тамгу на плоскостях Большого Улаза
можно соотносить со временем создания раннесредневекового пласта петроглифов,
а значит, этим же периодом может быть датирована тамга, преобладающая в коли-
чественном отношении на плоскостях памятника.
Серия тамг на рассматриваемых памятниках севера Минусинской котлови-
ны, вероятно, была создана в новое время. Например, на одной из плоскостей горы
Яновской выбито две тамги (рис. 9), аналогии которым встречаются среди хакас-
ских знаков, выполненных на плитах и скалах Минусинской котловины [Кызласов,
Леонтьев, 1980. Рис. 12: 23, 80]. К новому времени эти рисунки можно отнести ис-
ходя из стилистических особенностей изображенной на этой же плоскости фигуры
животного, а также слабой патинизации петроглифов, образующих одновремен-
ную композицию.
На скальных плоскостях комплекса Улазы зафиксированы несколько тамг,
производных от окружности. Однако тот факт, что большая часть этих знаков пред-
ставлена на плоскостях отдельно, весьма ограничивает возможности их атрибуции.
Подобные знаки в виде круга (и его производных) фигурируют у Н. Ф. Катанова
в перечне собственно хакасских тамг [Катанов, 1893. С. 110], а также представлены
среди тамг отдельных хакасских аалов у В. Я. Бутанаева [Бутанаев, 1980. Табл. 2–4].
Надо сказать, что подобные тамги весьма широко встречаются на памятниках на-
скального искусства Минусинской котловины, в том числе были неоднократно за-
фиксированы и на левом берегу Енисея, на плитах тагарских курганов могильника
Толстый мыс, расположенного неподалеку.
Часть тамг нового времени на Городовой стене и горе Большой Улаз предва-
рительно можно соотносить с качинцами, в XVIII веке проживавшими под г. Крас-
ноярском. В 1720–1740 гг., после переселения джунгарским хунтайджи Цеваном
Рабданом в Притяньшанье енисейских кыргызов, основная масса качинцев пере-
двинулась вверх по р. Енисей, на свободные земли по pекам Черный и Белый Июс
и Абакан. По мнению Л. Р. Кызласова и Н. В. Леонтьева, крашеные рисунки на Го-
родовой стене можно не только связывать с качинцами, но и относить к XVII в.,
«особенно фигуры лошадей и изображение колчана, наполненного стрелами, ис-
полнены в той же самой манере, что и качинские «знамена», сохранившиеся на бу-
мажных документах XVII в. [Кызласов, Леонтьев, 1980. С. 30].
245
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Бытовали у качинцев и знаки в виде прямого креста. Такие знаки выполнены
краской на Городовой стене, а также дважды зафиксированы на плоскостях Большо-
гоУлаза в сочетании с тамгой, напоминающей букву «С» [там же. С. 24, 25] (рис. 10).
Правда, такие же знаки использовались и сагайцами [там же], однако их расселе-
ние в основном по долине р. Абакан делает маловероятным факт принадлежности
им тамг на памятниках севера Минусинской котловины. Примечательно, что в обо-
их случаях эти тамги выступают в некой иерархии: знак в виде креста изображает-
ся выше знака, напоминающего букву «С».
Возможно, на горе Большой Улаз и в пункте Улаз IV качинцами выполнена
еще одна тамга в виде изогнутой линии с окружностью на конце (рис. 11), аналогии
которой прослеживаются в тамгах качинцев, вышитых на куске ткани, опублико-
ванном Л. Р. Кызласовым и Н. В. Леонтьевым [Кызласов, Леонтьев, 1980. Рис. 15: 65].
Таким образом, исходя из анализа тамг на скалах комплекса Улазы, Городо-
вой стене и горе Яновской, основанного на технике исполнения знаков, степени
их патинизации и композиционном размещении на плоскостях, а также из анало-
гий, можно сделать предварительные выводы об их атрибуции. Вероятно, создание
одной части знаков может быть соотнесено с эпохой средневековья, другой – с но-
вым временем. Некоторые из этнографических тамг, возможно, принадлежали ка-
чинцам. Отдельные типы знаков на Большом Улазе и Городовой стене, образующие
«энциклопедии» и выполненные на одной плоскости в общей технике, использова-
лись одновременно и, вероятно, принадлежали родственным кланам.
Дальнейшее выявление и документирование тамг на скалах комплекса Улазы
и Минусинской котловины в целом с привлечением материалов из раскопок, отме-
ченных родоплеменными знаками, возможно, позволит сделать более обоснован-
ные выводы относительно их датировки и этнокультурной принадлежности, чтобы
на основании более солидного корпуса источников перейти к обобщению получен-
ных данных.
Адрианов А. В. Отчет по обследованию писаниц Минусинского края // Изве-
стия Русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историческом,
археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях. СПб., 1910.
Вып. 10. С. 41–53.
Бутанаев В. Я. Хакасские тамги и вопрос об аальной общине (XVIII –XIX вв.) //
Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия общественных наук. Новосибирск,
1980. № 11. Вып. 3. С. 100–103.
246
ЧАСТЬ 3
Вадецкая Э. Б. Таштыкская эпоха в истории Южной Сибири. СПб.: Центр «Пе-
тербургское востоковедение», 1999.
Катанов Н. Ф. Среди тюркских племен // Известия Русского географическо-
го общества. СПб., 1893. Т. 29. Вып. 6. С. 519–541.
Киселёв С. В. Значение техники и приёмов изображения некоторых енисей-
ских писаниц // Техника обработки камня и металла. Труды секции археологии
Института археологии и искусствознания РАНИОН. Вып. V. М., 1930.
Киселёв С. В. Древняя история Южной Сибири // МИА. № 9. М.;Л., 1949.
Кляшторный С. Г. Руническая эпиграфика Южной Сибири (наскальные над-
писи Тепсея и Турана) // Памятники древнетюркской письменности и этнокультур-
ная история Центральной Азии. СПб., 2006. С. 319–325.
Краснослуцкий С. А., Заика А. Л. Знаковая символика на астрагалах севера
Минусинской котловины (тагаро-таштыкское время) // Енисейская провинция.
Альманах. Красноярск, 2009. Вып. 4. С. 263–276.
Кызласов И. Л. Рунические письменности евразийских степей. М., 1994.
Кызласов Л. Р. Новая датировка памятников енисейской письменности // Со-
ветская археология. 1960а. №3. С. 93–120.
Кызласов Л. Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котлови-
ны (I в. до н. э. – V в. н. э.). М., 1960б.
Кызласов Л. Р. О датировке памятников енисейской письменности // Совет-
ская археология. 1965. №3. С. 38–49.
Кызласов Л. Р., Король Г. Г. Декоративное искусство средневековых хакасов
как исторический источник. М., 1990.
Кызласов Л. Р., Леонтьев Н. В. Народные рисунки хакасов. М., 1980.
Леонтьев Н. В., Миклашевич Е. А., Мухарева А. Н. Памятник наскального ис-
кусства Улазы на севере Минусинской котловины // Археология Южной Сибири.
Сборник научных трудов, посвященных 60-летию со дня рождения В. В. Боброва.
Кемерово, 2005. Вып. 23. С. 120–132.
Николаева Т. В. Изображения на плитах оград курганов тагарской культуры:
(Методика и хронология): Дисс. на соискание ученой степени канд. истор. наук. Ке-
мерово, 1983.
Рогожинский А. Е. Тамги-петроглифы средневековых кочевников Казахстана:
итоги новейших исследований и перспективы дальнейшего изучения // Историко-
культурное наследие и современная культура. Сборник материалов международно-
го научно-практического семинара. Алматы, 2012. С. 91–104.
Рогожинский А. Е. Средневековые тамги-петроглифы Казахстана (опыт типо-
логии и идентификации) // Архаическое и традиционное искусство: проблемы на-
учной и художественной интерпретации: материалы Всероссийской (с международ-
ным участием) научной конференции. Новосибирск, 2014а. С. 81–86.
247
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Рогожинский А. Е. Тамги-петроглифы средневековых кочевников Казахстана
(опыт типологии и идентификации знаков) // Диалог культур Евразии в археологии
Казахстана. Сб. науч. статей, посвященный 90-летию со дня рождения выдающего-
ся археолога К. А. Акишева. Астана, 2014б. С. 534–283.
Рыгдылон Э. Р. О знаках на плитах с руническими надписями // Эпиграфика
Востока. 1954. Т. 9. С. 64–72.
Рыгдылон Э. Р. Писаницы близ озера Шира // Советская археология. 1959.
Т. XXIX– XXX. С. 186–202.
Савенков И. Т. О древних памятниках изобразительного искусства на Енисее
// Труды 14-го археологического съезда в Чернигове. 1908. М., 1910.
Самашев З. С., Базылхан Н., Самашев С. Древнетюркские тамги. Алматы, 2010.
Семенов В. А., Килуновская М. Е., Красниенко С. В., Субботин А. В. Изображе-
ния на плитах тагарских курганов. СПб., 2003.
Спасский Г. И. О достопримечательнейших памятниках Сибирских древно-
стей и сходстве некоторых из них с великорусскими // Записки Имп. Русского Гео-
графического общества. Кн. XII. СПб., 1857.
Токарев С. А. Пережитки родовых отношений у хакасов в XIX в. // Сибирский
этнографический сборник. М.; Л., 1952. (Труды Института этнографии АН СССР. Но-
вая серия. Т. 18).
Токарев С. А. Этнография народов СССР. М., 1958.
Щукин Н. С. Народные памятники в Восточной Сибири // Известия Имп. Рус-
ского Географического общества. Вып. 4. СПб., 1882.
Яценко С. А. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего сред-
невековья. М., 2001.
Яценко С. А. О некоторых проблемах изучения знаков-тамг Центральной
Азии // Историко-культурное наследие и современная культура. Сб. материалов
международного научно-практического семинара. Алматы, 2012. С. 68–75.
Яценко С. А., Марсадолов Л. С. Знаки-тамги на камнях ограды Большого Сал-
быкского кургана // Археология Южной Сибири: идеи, методы, открытия. Сборник
докладов международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня
рождения С. В. Киселева. Красноярск, 2005. С. 212–215.
Appelgren-Kivalo J. Alt-Аltaische Kunstdenkmäler. Helsinki, 1931.
Blednova N., Francfort H.-P., Legchilo N., Martin L., Sacchi D., Sher J., Smirnov D.,
Soleilhavoup F., Vidal P. Repertoire des Pétroglyphes d’Asie Centrale, Fascicule No. 2:
Sibérie du sud 2: Tepsej I–III, Ust’-Tuba I–VI (Russie, Khakassie). Paris, 1995.
Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. Berlin, Akademie-
Verlag, 1962. Bd. 1.
248
ЧАСТЬ 3
Г. С. МЫРЗАГАЛИЕВА
ИЗУЧЕНИЕ НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ НЕКРОПОЛЯ ХАН ЗИРАТЫ
Бокеевская Орда – поистине священная земля, благодатный край, имеющий
своеобразную, неповторимую историю. Основанная в 1801 г. ханом Бокеем, сыном
Нуралы хана, и получившая наибольшее развитие в правление хана Жангира Вну-
тренняя Киргизская Орда сегодня именуется в нашей стране «родиной первенцев».
Если в XIX веке она славилась открытием первой на казахской земле школой, боль-
ницей, аптекой, организацией ветеринарной службы, казначейством и т.д., особен-
ностью ХХ века считается выпуск газет и журналов в первой казахской советской
типографии, создание казахского образцового кавалерийского полка. Также здесь,
в Нарынских песках, родились многие выдающийся личности, оставившие неизгла-
димый след в казахской истории.
В XVIII–XIX вв. здесь проводили исследовательские работы такие известные
ученые, как П. С. Паллас, И. Г. Гмелин, А. И. Лёвшин, А. Н. Харузин, И. М. Казан-
цев и др. Выходец из Бокеевской Орды ученый-этнограф, член русского географи-
ческого общества М. Бабажанов в 1862 г. в местечке Жангыз шагыл нашел скуль-
птуру каменной бабы и осколки древней посуды (Фонд Бокейординского ИМК.
Инв. № 3122/3). Сегодня эта находка, переданная в свое время в Русское географи-
ческое общество, хранится в Эрмитаже.
На территории Бокеевской Орды насчитывается 55 древних курганов, 8 ста-
ринных кладбищ, взятых на государственную охрану. Сотрудники Бокейординско-
го историко-музейного комплекса управления культуры Западно-Казахстанской
области проводят исследования памятников – надгробных камней (кулпытасов),
находящихся на территории музея. Расшифровывая надписи на камнях, сопостав-
ляя, сравнивая и сверяя их с историческими документами, мы получаем некоторые
новые данные, касающиеся истории края.
Первая исследовательская экспедиция захоронений (могильных камней)
в нашей местности была проведена в 1980-х гг. научными сотрудниками Институ-
та истории и этнологии им. Ш. Уалиханова Ш. Турекуловым, Е. Ауезовым, И. Каба-
ковым, И. Пашкиным. Ими были исследованы и описаны 19 надгробных камней.
Позже экспедицией под руководством С. Ажигали были исследованы надгробные
плиты на Хан зираты (Ханском кладбище) и составлен план их расположения.
Хотя результаты этих исследований публиковались в некоторых научных изданиях,
249
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
для местного населения, к сожалению, они оставались практически недоступны-
ми. В 1998 г. имам района С. Ашенов, прочитав ряд надписей на могильных кам-
нях, опубликовал статью «Загадки надгробных камней» [Ашенов, 1998]. Несмотря
на то что его прочтения имели некоторые неточности, именно эта публикация
послужила толчком к активному изучению надгробных камней краеведами Боке-
евской орды. В последующие годы местные жители Т. Шарипкалиев, М. Жакатов,
А. Курумбаев и другие, знакомые с арабским письмом, вели свои исследователь-
ские работы по расшифровке эпитафий. В то же время научное изучение эпиграфи-
ческих памятников нашего края начала экспедиция Института востоковедения им.
Р. Б. Сулейменова Комитета науки МОН РК под руководством доктора исторических
наук А. К. Муминова.
Надгробные камни имеют природные (свойства материала) и антропоген-
ные (как рукотворные произведения) особенности. Каждое надгробие на терри-
тории Бокеевской Орды отличается своей образностью формы, орнаментами, сти-
лем эпиграфики и мастерством обработки камня. В качестве материала исполь-
зовались местные породы камня. Надгробиям придавались самые разнообразные
формы: прямоугольники, камни заостренных и дугообразных форм, в виде капли,
даже в форме чаши. Надгробные плиты украшались геометрическими (треуголь-
ники, полукруг, зигзаги), растительными (деревья, тюльпаны, лепестки цветов),
космогоническими (солнце, звезды) орнаментами. На памятниках для женщин
применялись растительные, космогонические, геометрические орнаменты, а для
мужчин в основном геометрические орнаменты, в некоторых случаях встречают-
ся и растительные. Надписи обычно высекались с передней стороны надгробных
камней, не поместившийся текст допускалось продолжить на обратной стороне.
На некоторых камнях на оборотной стороне и по бокам, по контуру тамги высека-
лись отрывки суры из Корана, жоктау – поминальной песни по умершему, философ-
ские изречения. Применялись арабские графические стили сульс, насх и дийвани.
На большинстве надгробных камней встречаются также высеченные разных форм
изображения мечетей. Сверху на поверхности камней имеются небольшие выем-
ки-углубления разной формы, о назначении которых существуют разные мнения.
Надгробные камни являются произведениями искусства, авторами которых были
поистине умелые скульпторы, искусные каллиграфы, талантливые поэты-акыны.
Эпитафии на кулпытасах некрополя Хан зираты имеют единую структуру.
Выбитые надписи начинаются с 26-27-го аятов Рахман суры Корана Карима со сло-
вами «все люди смертные», некоторые словами – ал-мархум,
– ал-магфур или же «хаза кабр». Затем указывается название рода,
к которому принадлежал умерший, и отделение рода, называемое – «тай-
фа»; иногда встречается название подотделения. Далее приводится родословная
(шежіре), указываются имена деда или отца умершего, в некоторых случаях имя
прадеда. Родственные связи между ними передаются словами: улы, ибн – сын, кызы,
250
ЧАСТЬ 3
бинт – дочь, набирасы – внук, фарзандасы – потомок, халалы, заужасы, жама‘аты –
жена, каин анасы – свекровь. Затем приводятся название должности, чин, титул;
например, хан, султан (у представителей торе), кажы, дамолла, муфти, исламский
шейх, указной мулла, старшина, князь, би. Дополнительно указывается место служ-
бы или род занятий, как например, мударрис мулла – мулла учитель, табиб – док-
тор, лекарь, саудагер, сауда кылып тургучы – купец, и др. Наконец, приводится имя
умершего, его возраст; день и месяц кончины указываются по мухаммадие, то есть
по хиджре, по руми, милади, минхие или масихие, то есть по христианскому лето-
исчислению. Дату погребения можно определить по лунным и зодиакальным меся-
цам исчисления, на надгробиях начала ХХ в. по григорианскому календарю. Также
приводится имя того, кто хоронил умершего; например, бу ташны «йаздырушы»,
«койды», «алыб койдыручы» и затем – имя. Иногда после имени приписывается сло-
во «мырза». В самой нижней части камня выбивается тамга рода, из какого проис-
ходил умерший. На могильных камнях торе, то есть потомков ханов, род не ука-
зывается, а приводится родословная предков, начиная с хана Абулхаира, и в самом
низу кулпытаса – изображение тамги торе. Следует отметить, что тамга торе и там-
га туленгутов имеют одинаковую форму, и тамга потомков Караулкожи, сына Баба-
кожи (1775–1850), также имеет с ними сходство.
По тамгам можно определить места расселения родов. Например, основную
территорию Таргунской части Бокеевской Орды населял род ногай. По архивным
документам, с 1826 г. по 1840 г. правителем аула Карасу, состоявшего в ведомстве
Таргунской части, был старшина А. Сангырыков, исследование эпитафии на над-
гробном камне которого позволило нам уточнить эти данные [Мырзагалиева, 2007].
Но�ай-�аза� руы �о-
яс тайфасыны� стар-
шы насы А�булат
Сан кыр� у,лы дар
ул -фа надан дар ул-
ба�и рихлат кылды
68 йашда 1851 сана
5-нчи саратан бу таш-
ны �уйды баласы Мау-
лудали мыр за.
Старшина рода ногай ка-
зах отделения кояс Акбу-
лат Сангрыкулы отпра-
вился из земного мира
в загробный (вечный)
мир 68 лет 1851 году 5
мая этот камень ставил
сын мырза Маулудали.
Кулпытас А. Сангрыкова, 1851 г.
Самое большое скопление могильных камней на территории Бокеевской
Орды – Ханское кладбище, где насчитывается свыше ста захоронений. В результа-
те исследований нами были выявлены имена некоторых личностей, служивших
в управленческой структуре Бокеевской Орды, занимающих особое место в истории
251
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
края, а также о членах семьи хана Жангира, которые не упоминаются, например,
в его формулярных списках. Кроме того, благодаря проведенным изысканиям уда-
лось конкретизировать и детализировать некоторые малоизвестные исторические
данные.
Захоронения на Ханском кладбище стали совершать после строительства
Ханской Ставки в 1827 г. Надгробные камни, датирующиеся с 1829 по 1860 г., уста-
навливались потомкам хана Нуралы, сына хана Абулхаира (например, кулпытас
Кызыра, сына султана Жангали Чингалиева). Отсюда и происходит название не-
крополя – Хан зираты (Ханское кладбище).
…Султан �ызыр
Жан‘али султан
углы уфат болды 44
йашында 1835 сани
бу ташны йаздырды
�ардашы Сийунч‘али
султан Жан‘али углы.
…Султан Кызыр сын сул-
тана Жанали умер 44 года
1835 году этот камень (па-
мятник) ставил ровесник
Суюнчали сын султана
Жанали.
Кулпытас К. Жаналиева, 1835 г.
Также на Ханском кладбище установлены памятники представителям со-
словной группы кожа.
…Хужалар насли-
дин Баба хужа углы
�араул хужаны� ба-
ласы йигитларны�
султан йа‘ни уида
хулк куб булсун уфат
булды 32 йашында
1844 йылда.
…Из ходжей сын ходжы
Караул сына Бабаходжы
султан джигитов или
нравственный друг (чело-
век) Копболсын умер 32
года 1844 году.
Кулпытас К. Караулова 1844 г.
252
ЧАСТЬ 3
Копболсын Караулов – один из первых воспитанников, обучавшихся в Не-
плюевском военном училище из Бокеевской орды, получивший звание хорунжий
в 1833 г., старший сын Караулходжи Бабаджанова.
Материалы могильных камней этого периода отличаются прочностью и твер-
достью, надписи высекались в несколько строк и богато украшались орнаментом.
В период правления хана Жангира в Бокеевскою Орду переселилось много татаров,
некоторые из которых были муллами, мударрисами или писарями в Ханском совете;
другая часть занимались торговлей. Соответственно, в текстах эпитафий на основе
чагатайского языка часто встречаются слова из арабского, персидского и татарского
языков. Об особенностях употребления родного языка бокеевскими казахами пи-
шет И. М. Казанцев: «Киргизы, составляющие Внутреннюю Орду, исповедуют, как
и зауральские, магометанскую религию, говорят особенным наречием татарского
языка, произнося многие слова горлом» [Казанцев, 2001. С. 301]. После 1860-х гг. на-
ряду с местным населением Ханской ставки здесь хоронились и татары, переехав-
шие из Казани, Астрахани, Саратова, а также переселенцы из Киргизстана. Надписи
на этих могильных камнях высекались арабской графикой на казахском языке.
Лексика эпитафий, заимствованная из арабского, персидского и татарского
языков, слова местного диалекта, их употребление, алфавит того времени, фразы
и поминальные песни по умершему – все это еще ждет специального научного из-
учения специалистами в сфере языка и литературы.
Самый первый из исследованных автором на Ханском кладбище могильных
каменей был установлен в 1829 г. при погребении старшей дочери хана Жангира
и его жены Фатимы, дочери Оренбургского муфтия Мухаммеджана Гусейнова (Ху-
саинова).
…Дашт �ыпча� ханы
хан Джа³ангир хан
Букай углыны� нур-
дида фарзандасы ма-
малик Русийада шейх
ул-ислам муфти Му-
хаммаджанны� на-
бирасы мархума ма�-
фура Хан-заде уфат
2-нчи йашында 1829-
нчи тарих масихийи-
де 1244-нчи тарих му-
хаммадийеде.
…(Свет очей) потомок
хана Дашт-и Кыпчака Джа-
хангир, сына Букей-хана,
внучка муфтия Мухам-
меджана шейха ислама
Российской империи про-
щенная, помилованная
Ханзада умерла в 2 года в
1829 году по христианско-
му, 1244 году по хиджре.
Кулпытас Ханзады, дочери хана Жангира, 1829 г.
253
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Наше совместное с А. Омаровой (Институт истории и этнологии им. Ш. Уали-
ханова Комитета науки МОН РК) изучение памятника в 2004 г. позволило первона-
чально прийти к выводу, что надгробный камень принадлежит сыну хана Жангира
ханзаде Магфур. Об этом Т. Шарипкалиев пишет в своей статье: «…мархум Мах-
фура ханзада опат 2 жасында 1829-нчи тарих масихиада 244-ши тарих мухамма-
диада» [Шарипкалиев, 2004], то есть захоронение принадлежит «ханзаде Махфур,
умершему, когда ему было 2 года». Далее этот же текст надгробного каменя рас-
шифровал М. Жакатов: «хан Жихангер Бокей хан улынын перзенти Хангерей сейд,
шейхул исламы Мухамеджаннын немереси мархум, махфур ханза де опат 3-нши
жасында...». Также он пишет, ссылаясь на мнение историков, что якобы Хангерей
сын Жангир хана был султаном рода шеркеш, и приходит к заключению, что захо-
ронение принадлежит сыну хана Жангира Магфуру ханзада. Но далее М. Жакатов
приводит свою версию, что термин Мархум, как и Магфур, означает, усопший в ми-
лосердии Аллаха, а не имя человека [Жахатов, 2012]. В первом случае Т. Шарипка-
лиев, ошибочно переводит Магфура как имя, а ханзада как титул; в свою очередь,
М. Жакатов, хотя и правильно перевел слово «магфур» как «умерший, или усопший
в милосердии Аллаха», ошибочно утверждает, что Хангерей – имя умершего, ко-
торый прожил всего 3 года и значился «правителем». В архивных документах имя
правителя Хангерей Жангирулы или Хангерей Бокеева не упоминается. Имеются
данные: «Хангерей Хансултанов (1818–1821), сын Хансултана Шигаева, управляю-
щий поколением жетыру Внутренней Орды (18.09.1842 – 09.10.1855), а затем прави-
тель Таловской части (до 31.10.1861)» [История Букеевского ханства, 2002. С. 1044].
Наконец, по мнению А. К. Муминова, этот кулпытас принадлежит родившейся
в 1827 году Ханзаде, дочери хана Жангира. Таким образом, существует три версии
прочтения одной и той же эпитафии.
Такая же спорная ситуация имела место с захоронением еще одной дочери
хана Жангира. О находке этого надгробного камня С. Ашенов писал: «При стро-
ительстве мавзолея хана мы нашли закопанный песками могильный камень, по-
крашенный в сине-зеленый цвет. И мы обратно установили его на место находки,
а когда мы прочли надписи, оказалось, что это сын хана Жангира Захир Мухамбет
Салкыжан, упокоившийся в 1844 году в 14 лет, и что там было написано «Сурер
салтанат уакыт бир сагат Жихангер» [Ашенов, 1998]. Исходя из этого сообщения,
можно было бы дополнить историю семьи хана Жангира сведениями о еще одном
из сыновей. Но при сопоставлении исторических данных с архивными документа-
ми мы пришли к выводу, что это захоронение Зухры, дочери хана Жангира [Мырза-
галиева, 2004].
254
ЧАСТЬ 3
…Дашт �ыпча� ханы
Букай ханны� углы
Джа³ангир ханны�
нур-дида фарзандасы
Зу³ра шейх ул-ислам
муфти Мухаммад-
жан набирасы дар
ул-фанадан дар ул-
ба�и рихлат айлады
14 йашында 1844
йылда Сариру султа-
нат уа риф‘ат са‘адат
Джа³ангир хан
…(Свет очей) потомок
хана Джахангира, сына
хана Дашт-и Кыпчака Бу-
кей-хана, внучка муфтия
Мухаммеджана шейх ис-
лама Зухра отправилась
из земного мира в загроб-
ный (вечный) мир в 14 лет
в 1844 году. Место султа-
ната и святлейшего высо-
чества Джахангир хана
Кулпытас Зухры, дочери хана Жангира, 1844 г.
В письмах хана Жангира и ханши Фатимы упоминается имя Зухра или «Зо-
гря, Зогрекей». Есть сведения, что «Зогрекей (род. 1829), дочь хана Жангира, жена
Джаганшаха Чингалиева» [История Букеевского ханства, 2002. С. 999]. Эта дочь
Жангира была помолвлена с единственным сыном Шыналы Орманова – Жахан-
шахом, но свадьба не состоялась в связи с кончиной Зухры. Есть также косвенные
свидетельства о смерти этой дочери хана до замужества: во-первых, архивный до-
кумент 1852 г., содержащий просьбу Шыналы Орманова выдать за своего сына Жа-
ханшаха младшую дочь хана Жангира Зылиху вместо умершей Зухры; во-вторых,
если бы Зухра была замужем, то в надгробном камне должны были указать, чьей
женой она была (Фонд Бокейординского ИМК. Инв. № 4183/2).
В качестве примера можно привести надгробный камень Ермекжан ханым,
жены Сейдкерея Бокеева, сына Жангир хана.
255
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
…Кичи йуз �аза�
йуртыны� ханы
Абулхаир углы
Нур‘али хан углы
Урман султан углы
Чин‘али султан �ызы
Ирмикджан ханым
сул тан Саййид-Ке-
рай Джа³ан гир хан
углыны� зауджасы
уфат 31 йашда 1850-
нчи йыл 11-нчи шад-
да (джадй).
…Дочь Чингали султана
сына Урман султана сына
Нуралы хана сына хана
Малого жуза Абу-л-Хайр
хана Ермекжан ханым
жена Саййид-Керея сына
хана Джихангира умерла
в 31 год в 1850 году 11 де-
кабря
Кулпытас Ермекжан-ханым Ормановой, 1850 г.
Ермекжан ханым была помолвлена со старшими сыновьями хана Жангира,
но в связи с их смертью в раннем возрасте стала женой Сейдкерея по обычаю амен-
герства (каз. �ме�герлік). Она мать известного акына Шангерея Бокеева.
Дата рождения хана Жангира долгое время оставалась точно не установлен-
ной. Расчет даты, как известно, ранее основывался на данных из письма (8 июня
1815 г.) ханши Атан, матери хана Жангира, к Александру І с просьбой назначить
сына наследником ханского престола: «...родному сыну своему, от меня рожденно-
му, по имени Джангыр Бокеев, от роду 14 лет имеющему» [там же. С. 188]. Поскольку
после смерти Бокей хана временным правителем ханства был назначен султан Шы-
гай, он пытался сохранить власть в своих руках. Хан Жангир умер в августе 1845 г.
на своей летней кочевке, на берегу реки Торгун, и там же был похоронен. В 1849 г.
сын Жангир хана Ибрахим, будущий князь Чингис, написав прошение в Оренбург-
скую Пограничную комиссию, получает разрешение перезахоронить тело отца
на кладбище в Ханской Ставке (Фонд Бокейординского ИМК. Инв. № 380/1). В том
же году тело было перенесено на Ханское кладбище. Даже в советское время могила
хана не оставалось без присмотра, надгробный камень подкрашивали, вокруг всег-
да было прибрано и чисто. Форма могильного камня прямоугольная, с дугообраз-
ным верхом. Надписи высечены со всех четырех сторон.
256
ЧАСТЬ 3
…Дашт �ыпча� ханы
хан Абу-л-Хайр углы Нур
али ханны� набирасы
хан Джа³ангир Букай
ханны� нур-дида фар-
зандасы дар фанадин
дар ба�айа рихлат айла-
ды. �алу инна ли-л-Ла³
уа инна илайх раджи‘ун
42 йашында 1260 сана
мухаммадийаде 1845
санамасихийаде наджм
сумбуланы� 11 йаумын-
да, рухина фатиха!
…Внук Нуралы хана
сына хана Дашт-и Кып-
чака хана Абу-л-Хайра
Джахангир хан (свет
очей), потомок Бу-
кей-хана, отправился
из земного мира в за-
гробный (вечный) мир
в 42 года в 1260 году
по хиджре в 1845 году
по христианс кому 11
числа августа (сумбуле)
месяца.
Кулпытас хана Жангира, 1845 г., лицевая сторона.
На обратной стороне выбиты слова жоктау – поминальной песни по умершему.
Йыгырмы йыл суруб хан-
лы� жа³анда, отубдур-
‘омри онын бул хаманда,
�алан ауладларны Ха��
та‘ала, ушанда� тахт иш-
масы �ылсун а‘ла, бу дун-
йада ³ич адам �алмаз
ирмиш, гар ан хан, гар
ан султан-даруиш.
Правив 20 лет ханской
властью, жизнь его обо-
рвалась внезапно, го-
ворят, ничто не вечно
по воле Бога, горевали,
пусть всем Аллах даст
успокоение, в этом мире
ни один человек не оста-
ется навеки, будь он хан,
будь он султан-дервиш.
Кулпытас хана Жангира, 1845 г., оборотная сторона.
По бокам камня написаны философские изречения. В верхней части обрат-
ной стороны имеются орнаменты.
В тексте эпитафии говорится, что Жангир Бокейулы умер в 1845 г. в 42 года.
Из этого следует, что он родился в 1803 г. Ряд представителей российской интелли-
генции, лично знавших хана и бывавших у него на приеме, в своих трудах примерно
определяют год его рождения: 1803 или 1804. Так, И. М. Казанцев пишет: «На лет-
нем кочевье при реке Typryнe хан Джангер 11 августа 1845 года в 6 1/2 часов попо-
лудни от нервной горячки, на 42 году, умер» [Казанцев, 2001. С. 308]. В заполненном
257
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
самим ханом формулярном списке от 3 апреля 1837 г. записано: «Хан Внутренней
Киргизской Орды Джангер, 34 года» [История Букеевского ханства, 2002. С. 571],
а в послужном списке от 31 января 1843 г. – «39 лет» [там же. С. 582].
Рядом с мавзолеем хана Жангира сохранился фрагмент еще одного надгроб-
ного камня. При строительстве мавзолея в 1997 г. его оставили на месте обнаруже-
ния. На камне высечены имена продолжателей пророка Мухаммеда – Абу Бакир,
Омар, Осман и Али, а в нижней части кулпытаса выбита тамга торе. Вполне воз-
можно, что это остаток надгробия одного из сыновей хана Жангира.
На данный момент нами сфотографировано и расшифровано около 200 эпи-
тафий на надгробных камнях, найденных на территории Бокейординского района.
Среди них немалое число составляют памятники, дающие ценную новую информа-
цию по истории Бокеевской Орды. Так, например, обнаружены надгробные памят-
ники матери ханши Фатимы, детей Карауылкожи, среди которых – кулпытас Шон-
кары Карауылходжиной, жена султана Суюнчкали Жаналиева.
…Ар�ар ру‘ы Нур‘а-
ли хан набиралары-
ны� султан Суйунч
халалы Чун�ара уфат
46 йашында �араул
хужа �ызы 848 сана-
да буны �ойды углы
султан Муса.
…Из потомков Нуралы
хана, из рода Аркар,
законная жена султана
Суюнча – Шонкара, дочь
ходжи Караула, умерла в
46 лет в [1]848 году.
Кулпытас Шанкары Карауылходжиной, 1848 г.
На Хан зираты имеются памятники старшин, указных мулл, врачей, купцов;
также удалось найти имена людей, проживавших в Ханской Ставке, места погребе-
ния представителей разных родов.
Удалось также выяснить, что предком Сулеймен хазирета рода ногай отделе-
ния кояс является не Сокыранулы, а Сарыулы. Сулеймен хазирет – ученый, предан-
ный вере, получивший знание в медресе в Самарканде. Из поколения в поколение
народ хранит память о нем как о святом, благородном целителе. Надгробный ка-
мень Сулеймен хазирета установил его отец Сары.
258
ЧАСТЬ 3
Ал-Мархум �азан уила-
йаты Тамтуш уйазы Ур-
табалтай ауылны� Зийа’
ад-дин ‘Абдалла³ углы
±убайдуллин 54 йашын-
да дунйадан утды 1919
нчи йыл 10-нчи нуйабрде
1337 сана ³иджри сафар
29.
Покойный Зийа’ ад-дин,
сын ‘Абдаллаха, Губайдул-
лин, из Казанского вилай-
ета Ортабалтайского уез-
да села Темтюз, умер в 54
года в 1919 году 10 ноября,
в 1337 году по хиджре 29
месяца сафар.
Кулпытас Зияддина Губайдуллина, 1919 г.
Зияддин Губайдуллин, татарин, переехавший из Казани.
Таким образом, изучение надгробных камней Бокеевской Орды позволяет
получить много новых сведений по истории народа этого края. В Нарынских песках
сохранились немало подобных памятников. К сожалению, большинство из них се-
годня разрушается под воздействием природных факторов, и хочется надеяться,
что насущные задачи их сохранения в скором времени найдут свое решение.
Ашенов С. �;лпытастар �;пиясы (Тайна кулпытасов) / Орал онири. 1998. №44.
Жахатов М. Тас�а басыл�ан тарих (История высеченная на камне) / Орда
жулдызы. 2012. №24.
История Букеевского ханства, 1801–1852 гг. Сборник документов и материалов
/ сост. Б. Т. Жанаев, В. А. Иночкин, С. Х. Сагнаева. Алматы: Дайк-Пресс, 2002. 1120 с.
Казанцев И. Описание киргиз-кайсак / Бокеевской орде 200 лет. Алматы:
�лке, 2001. Книга І. С. 162–318.
Мырзагалиева Г. Таста�ы тарих (История, запечатленная в камне) / Орал они-
ри. 2004. 29.06.2004.
Мырзагалиева Г. Шола��опаны� тарихы шола� емес (История местности Шо-
лаккопа) / Орал онири. 2007. 28.06.2007.
Шарипкалиев Т. �;лпытастар шерткен сыр (Рассказывают кулпытасы) / Орал
онири. 2004. №50.
259
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Г. С. Мырза<алиева
Хан зиратында<ы %Kлпытастарды? зерттелуі
Б%кей ордасы – жеті ж;рт жайлап-�он�ан �асиетті мекен, �;тты �оныс.
Негізін 1801 жылы Б%кей Н;ралы хан ;лы �алап, кейін хан Ж��гір жал�ап, жа�арт-
�ан Ішкі �аза� ордасы еліміздегі «т;��ыштар», «ал�аш�ылар» Отаны саналады. Б%-
кей ордасы жа�а кезе�де �;рылып-�алыптас�анымен, оны� �айталанбас %з тарихы
бар. �лкемізге XVIII–XIX �асырларда П. С. Паллас, Гмелин, А. Левшин, А. Харузин,
И. Казанцев ж�не т.б. к%птеген белгілі �алымдар зерттеу ж=ргізген. Б%кейліктен
шы��ан �алым-этнограф, Орыс географиялы� �о�амыны� м=шесі М. Бабажанов
1862 жылы Жа��ыз ша�ыл елді мекенінен �йелді� тас м=сінін тауып, оны Орыс
географиялы� �о�амына тапсыр�ан екен. Б;л ескерткіш �азір Эрмитажда са�таулы.
Жалпы, Б%кей ордасында мемлекеттік �ор�ау�а алын�ан 55 оба, 8 �орым бар.
Соларды� �атарында Б%кей ордасы аума�ында�ы тас�а �ашал�ан с�улет ескеркіш-
тері - �;лпытастарды о�ып-зерттеп ж=рмін. Оларды� м�тін жазуларын о�уымыз,
тарихи �;жаттармен салыстыруымыз %лке тарихына �атысты к%птеген деректерді
на�тылау�а на�ты м=мкіндік берді. Ке�естік кезе�інде бізді� %лкеміздегі �;лпытас-
тарды зерттеуі ал�аш 1980 жылдары басталды. Онда Ш. У�лиханов атында�ы тарих
ж�не этнология институтыны� �ылыми �ызметкерлері Ш. Т%ре�;лов, Е. �уезов,
И. �аба�ов, И. Пашкин баста�ан экспедиция келіп, 19 �;лпытасты хат�а т=сір-
ген болатын. 1990 жылдардан кейін �алым-зерттеуші С. �жі�алиды� жетекшілігі-
мен келген экспедиция Б%кей ордасында�ы �;лпытастар�а зерттеу ж;мыстарын
ж=ргізіп, Хан зиратында�ы �;лпытастарды� картасын жаса�ан еді. �;лпытастар
�ылыми т;р�ыдан зерттелініп, �ылыми е�бектер жазыл�анымен, жергілікті халы�
=шін олар ж;мба� к=йінде �ала берді. 1998 жылы ауданымызды� имамы С. �шенов
�;лпытас жазуларын о�ып, %лкелік басылымда «�;лпытастар �;пиясы» ма�аласын
жариялады. Ма�алада рын ал�ан к%птеген �ателіктерге �арамастан, аталмыш е�бек
�;снихаттарды� сырын аш�ан ал�аш�ы бастама бол�ан еді. Одан кейінгі мерзім-
дерде Т. Ш�ріп�алиев, М. Жа�атов, А. �;рымбаев ж�не т.б. араб жазуын білетін
жерлестеріміз бірсыпыра зерттеулер ж=ргізді.
Б%кей ордасы айма�ында�ы �;лпытастар – материалды� м�дени м;ра, ант-
ропогендік ерекшеліктерге ие. �рбір �;лпытас %зіні� �алыбымен (формасымен),
ою-%рнегі, жазылу (эпиграфикасымен) стилімен ерекшеленеді, олар %лкеміздегі
тас �ашау %неріні� �андай д�режеде бол�анды�ын ай�ын к%рсетеді. Затты� т;р�ы-
дан �арастыр�анда, �;лпытас материалына жергілікті минералдар пайдаланылып,
т%ртб;рыш, =шкір, до�ал, тамшы пішіндес, тіпті тегене т�різдес �алыпта �ашал-
�ан. �;лпытастарды %рнектеуде геометриялы� (=шб;рыш, жарты ше�бер, ирек),
%сімдік бейнелі (м�уелі а�аш, �ыз�алда�, алты к=лтелі г=л), космогонды� (к=н,
ж;лдыз) оюлары �олданыл�ан. М�тін жазулар негізінен, �;лпытастарды� алды��ы
260
ЧАСТЬ 3
бетіне жазыл�ан, м�тінні� сыймай �ал�ан с%здері арт�ы бетіне жал�аса б�дізделін-
ген. Кейбіріні� арт�ы бетіне, о� ж�не сол жа� �ырларына, ру та�басын айналдыра
�;ран с=релерінен =зінділер, жо�тау %ле�дер, философиялы� ойлар араб графика-
сыны� сулс, насх, дивани =лгілі т=рлерімен жазылып, бедерлеу ж�не ою екі �діспен
�ашал�ан. Аталмыш ж�дігерлер бірнеше �;лпытастан т;ратын топ болып та, не бір-
екі �;лпытас болып та кездеседі.
�лкеміздегі �;лпытастарды� е� к%п шо�ырлан�ан жері – Хан �орымы (зира-
ты), м;нда ж=зден аса �;лпытас бар. �орымда�ы �;лпытастар негізінен Хан орда-
сы (ставкасы) салын�аннан кейін, я�ни 1827 жылдан кейін �ойыл�ан. 1829–1860
жылдар аралы�ында�ы �;лпытастар хан Ж��гірге, оны� �ыздары мен а�айындары-
на, �ожалар�а арнап орнатыл�ан. «Хан зираты» атануы да сонды�тан болса керек.
Б;л кезе�дегі ескерткіштерді� материалы берік, сонды�тан бас�алар�а �ара�анда
жа�сыра� са�талын�ан. Б%кей ордасында Ж��гір хан билеген т;ста татарлар к%п-
теп келген ж�не оларды� бір тобы молла, мударрис немесе хан ке�сесінде жазар-
ман (писарь), енді бір тобы сауда-сатты�пен айналысушылар бол�ан. Сонды�тан
болса керек, �;снихаттарда араб, парсы, татар тілдерінен енген с%здер жиі �олда-
нылып, харакатсыз, ша�атай тіліні� негізінде жазыл�ан м�тіндер к%птеп кездеседі.
1860 жылдардан кейін Хан ставкасында�ы т;р�ындар мен �азан, Астрахан, Сары-
таудан келген татарлар, �ыр�ызстаннан келгендер аталмыш �орымда жерленген.
Хан �орымында�ы �;лпытастарды� м�тіндері �рт=рлі о�ылып, кейбірін
жергілікті т;р�ындар тарихи на�ты деректермен салыстырып, аны�тап зерттемей-
а� жариялап ж=р. �сіресе, хан отбасына �ойыл�ан ескерткіштеріні� м�тіндерін
о�уда тарихи т;р�ыдан шынды��а с�йкес келмейтін жайттар кездеседі. Соны�
бірі – Хан �орымында�ы е� ал�аш �ойыл�ан 1829 жылы Б%кей ордасыны� ханы
Ж��гірді� Орынбор муфтиі М. Гусейновты� �ызы Фатимадан ту�ан т;��ыш �ызына
�ойыл�ан �;лпытасты атау�а болады. Оны� есімі Ма�фур, Хангерей делініп, кейін
Ханзада екендігі аны�талынды.
Хан Ж��гірді� Зу³ра есімді �ызыны� �;лпытасыны� м�тіні де �айта о�ылып,
�;жаттармен салыстырылып зерттелді. Оны� есімін ал�ашында Захир Мухамбет
Сал�ыжан деп о�ып, Ж��гірді� ;лы деп к%рсеткен болатын. Хан мен Фатима ха-
нымны� жаз�ан хаттарында ж�не кейбір архив �;жаттарында Зогря, Зогрекей де-
ген есім кездеседі. Жазушы Т. Боран�алиевты� е�бектерінде ол есім За�ира деп жа-
зылып ж=р.
Тарихи т;р�ыдан к%п зерттеліп, айтылып та, жазылып та ж=рген хан
Ж��гірді� д=ниеге келген жылы 1803 екендігі �;лпытасында�ы м�тін ар�ылы да
на�ты к%рсетіліп д�лелденді.
Біз, Б%кей ордасы ауданы к%леміндегі 200-ге жуы� �;лпытасты� фотосуретін
т=сіріп алды�, оларды� м�тіндерін толы� хат�а т=сірдік. Соны� н�тижесінде ханны�
туыс�андары мен хан ордасы т;р�ындарыны� аты-ж%ндері аны�талды. Сонымен
�оса кейбір руларды� �орымдары да жа�адан табылуда. С%йтіп, м�йіт =сті с�улет
261
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
ескерткіштерін осы %лкені�, б;л жерді мекендеген халы�ты� тарихынан мол дерек-
тер беретін тарихи-эпиграфикалы� ерекше �;жат деп те айт�ымыз келеді. Демек,
м�тінні� д;рыс кілтін тауып, о�ып-зерттеуді� н�тижелері бір адамны� �ана емес,
б=тін бір �улетті� тарихын ай�ындай алады деп ойлаймыз. �кініштісі сол, б=гінгі
та�да �;лпытастарды� к%пшілігі таби�и факторларды� �серінен б=лініп, тозып бара
жатыр. Тастан �ашал�ан м;ндай ескерткіштер %ткен мен б=гінді саба�тастырушы
�;нды м;рамыз екендігі белгілі. Оны зерттеумен �атар келешек ;рпа��а жеткізу
=шін са�тап-�ор�ау, т;мшалау, жа��ырту ж;мыстары кезек к=ттірмес %зекті м�селе
екенін ерекше екшеп айт�ымыз келеді.
262
ЧАСТЬ 3
А. Е. РОГОЖИНСКИЙ
СОСЛОВНО-ДИНАСТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ КАЗАХСКИХ ТОРЕ
Персональные печати и «своеручные» тамги служили в XVIII–XIX вв. атрибута-
ми власти и удостоверительными знаками казахских торе, генеалогически связан-
ных с династийным древом чингизидов (джучидов) и выступавших в роли системо-
образующего ядра привилегированной социальной группы ак-суйек [Ерофеева,
2003. С. 12–13]. О применении сословием торе печатей и тамг в более раннее вре-
мя имеются косвенные свидетельства источников [Ерофеева, 2001. С. 10–11, 15],
но уверенно обозначить круг аутентичных и достоверно атрибутированных памят-
ников второй половины XV–XVII в., отмеченных знаками казахских чингизидов, пока
не удается. При этом если всестороннему изучению казахской чингизидской сфра-
гистики уже положено успешное начало [Ерофеева, 2001], тамги торе вплоть до на-
стоящего момента не становились предметом специального научного исследования.
Это создает почву в профессиональной и неакадемической среде для тиражирова-
ния неточных изображений знаков, их некорректных сопоставлений и построения
заведомо ошибочных интерпретаций исторического характера. Поэтому ключевым
вопросом нашей темы исследования становится выяснение истинных форм знака
торе в условиях их активного применения казахскими чингизидами XVIII–XIX вв.
В отличие от родоплеменных знаков казахов, тамги торе и других сословных
групп традиционного казахского общества (кожа, туленгутов, шалаказахов) ни в до-
революционном востоковедении, ни тем более в советской науке устойчивого инте-
реса не вызывали. Тамги торе фиксировались исследователями от случая к случаю
в разных регионах страны и всегда лишь в дополнение к родоплеменным знакам,
многообразие которых привлекало «старых востоковедов» [Аристов, 1896; Соколов,
1904] и советских ученых [Аманжолов, 1959; Кузеев, 1974] заманчивой перспекти-
вой разобраться с их помощью в проблеме формирования казахского народа и вы-
яснения роли вошедших в него племен в этногенезе других народов Центральной
Азии и Восточной Европы. На фоне таких масштабных целей отличительные знаки
«султанского сословия», представлявшегося дореволюционным авторам достаточно
однородным в социально-политическом и генеалогическом отношении, глубокого
интереса не пробуждали.
Регистрация сословно-личных знаков торе начала осуществляться россий-
скими исследователями в последней четверти XVIII в., эпизодически продолжалась
263
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
в следующем столетии и завершилась в начале XX в. Стараниями нескольких поко-
лений ученых дореволюционной поры собраны ценные этнографические сведения
о тамгопользовании казахских джучидов, выявлены семь разновидностей их зна-
ков, для обозначения которых применялись разные наименования: «джя-ок»/«жаа-
ок», «хан-тамга», «тарак-тамга», «султанская тамга». Были сделаны также попытки
объяснить многообразие форм «дворянской тамги, то есть тамги султанов» [По-
танин, 1881б], ее сходство с тамгами отдельных казахских племен и с династий-
ными знаками других генеалогических ветвей джучидов [Аристов, 1896; Соколов,
1904; Castagne, 1921]. В трудах отдельных авторов [Андреев, 1896; Соколов, 1904]
воспроизведены тамги, заимствованные из подлинных архивных документов офи-
циальной переписки казахских торе с оренбургской и западносибирской админи-
страцией. В большинстве случаев компетентными информаторами, снабжавшими
исследователей достоверными сведениями о тамгах, выступали сами представители
султанского сословия, которые принадлежали к разным генеалогическим ветвям ка-
захских джучидов, возглавлявшим племена Младшего и Среднего жузов. В целом,
собранные дореволюционными авторами данные заслуживают наибольшего внима-
ния и доверия (рис. 1).
В советский период историографическая традиция изучения геральдических
знаков «классово чуждого» аристократического сословия торе прервалась в отече-
ственной науке на многие десятилетия. Дореволюционные печатные издания, со-
державшие основной фонд накопленных по данной теме источников, очень скоро
приобрели статус библиографических раритетов – малодоступных даже для специа-
листов. Исключением стало академическое переиздание известной работы Л. Ф. Бал-
люзека, в которой изображение «ханской тамги» ( ) «в виде готической буквы М»
изначально воспроизводилось неточно ( ) с помощью латинской прописной бук-
вы «m» [Баллюзек, 1948. С. 220; ср. Баллюзек, 1871. С. 166]. Двумя десятилетиями
раньше сословные знаки торе в первый и последний раз в советской науке предста-
ли в книге М. Т. Тынышпаева, изданной в Ташкенте [Тынышпаев, 1925. С. 30]. Здесь
тоже неудачно подобранные типографские литеры весьма условно, с искажениями
передавали форму многих родоплеменных знаков казахов и двух тамг торе. Одна
из них ( ) была воспроизведена с помощью заглавной буквы «Э», развернутой го-
ризонтально, а для второй тамги ( ) использован знак перевернутого трезубца с за-
остренными концами. Ни то, ни другое не имеет сходства с истинной формой «хан-
тамги», но, к удивлению, именно знак-трезубец, наряду с другими стилизованными
вариантами, особенно часто фигурирует в наши дни как достоверное изображение
эмблемы казахских чингизидов [Сабитов, 2008; см. обложку и титул]. Избиратель-
ное, без научной критики и комментариев факсимильное переиздание раритетов
[Тынышпаев, 2014] способно лишь усугубить историографический парадокс.
В новейшее время с ростом публикаций, основанных на изучении большо-
го числа исторических документов из ранее труднодоступных архивных фондов
264
ЧАСТЬ 3
Казахстана и зарубежья, а также на исследовании монументальных памятников ар-
хитектуры, эпиграфики в разных регионах страны, заметно расширился круг источ-
ников по казахской чингизидской тематике, в том числе по тамгопользованию торе.
Появилась возможность дополнить и уточнить данные, собранные дореволюцион-
ными исследователями. Прежде всего, более отчетливо проявилось многообразие
эмблем, использовавшихся разными группами торе в течение XVIII – начала XX в.,
которому сопутствует существование нескольких неодинаковых по смыслу наиме-
нований знаков. Возможно, множественность названий отражает не только разно-
образие формы и допустимых способов изображения тамги, но и стоящие за этим
определенные исторические, социально-политические, хронологические и иные
существенные отличия условий ее предъявления. Закономерно возникает вопрос:
существовала ли в указанный период единая сословно-династическая эмблема ка-
захских торе или же имелась серия равноценных по значению знаков, отличавшихся
по форме? Речь также может идти о возможном сосуществовании нескольких зна-
ков казахских джучидов, различавшихся по начертанию и условиям предъявления.
Установить природу отличий геральдических знаков торе помогает анализ извест-
ных источников.
Основу нашего исследования составляют материалы библиографических, ар-
хивных изысканий и полевых исследований, проведенных в 2012 и 2014 гг. груп-
пой сотрудников КазНИИ культуры МКиС РК (в 2012 г. – КазНИИ по проблемам
культурного наследия номадов МК РК) в ходе реализации под руководством автора
программы работ одного из разделов темы научного проекта (рук. И. В. Ерофеева),
итогам которого посвящена настоящая конференция. Ценным дополнением служат
также новые материалы современных исследователей эпиграфических памятни-
ков Букеевской Орды, вошедшие в данное издание (см. статьи Г. С. Мырзагалиевой,
А. К. Муминова и др.). Особую важность для обсуждения темы имеют памятники
средневековой эпиграфики из ущелий Терексай, Кулансай и археологические мате-
риалы с городища Садыр-курган (Шельджи) в Таласской долине на территории Кыр-
гызстана, непосредственное ознакомление с которыми стало возможным для автора
в 2014 г. благодаря любезному содействию археолога Б. Э. Аманбаевой (Институт
истории и культурного наследия НАН КР, Бишкек) и краеведа М. Ф. Тура (с. Кызыл-
Адыр).
В письменных документах из 11-ти фондов Центрального государственного
архива Казахстана (ЦГА РК) на текущий момент нами выявлено более восьмиде-
сяти удостоверительных знаков торе. Коллекция знаков представительна в хроно-
логическом отношении, охватывая временной отрезок с 1824 по 1886 г. Она до-
полняется верифицированными данными дореволюционных ученых (тамга Ва-
ли-хана (1781–1821) по: Андреев, 1998. С. 46) и эпиграфическими материалами
из Западного Казахстана (тамга Есим-хана (1795–1797), сына Нуралы-хана (см.
статью А. К. Муминова, А. Ш. Нурмановой, Д. Е. Медеровой в настоящем сборнике);
265
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
знаки на надгробных памятниках некрополей Букеевской Орды [Ажигали, 2002.
С. 169–170, 560–567, рис. 209, 411, 418–420]), благодаря которым нижняя граница
интервала может быть доведена до 1785 г., а верхняя достигает первых десятиле-
тий прошлого столетия. Все персональные тамги торе конца XVIII – второй полови-
ны XIX в. идентифицированы в родословной схеме казахских джучидов [Ерофеева,
2003; Сабитов, 2008].
В собрании имеется несколько серий разновременных знаков, принадлежа-
щих одним и тем же лицам, что позволяет проследить изменяемость формы персо-
нальных тамг в течение жизни их предъявителей (например, тамги 1847 и 1869 гг.
султана Старшего жуза Жоши, сына Суюка и внука Абылай-хана). Значительную
часть коллекции составляют собственноручные тамги многих известных истори-
ческих личностей, например, султанов Кошека, родного брата Кенесары Касымова
(1802–1847), Сыздыка (Садыка) и Тайшика, сыновей Кенесары, а также Кунимжан-
ханым, его первой жены. Такие фамильные серии знаков помогают определить свя-
зи разных видов тамг в системе гендерных отношений. Ценные наблюдения над из-
меняемостью знаков позволяют сделать группы тамг, включающие персональные
эмблемы лиц ханского достоинства и их «некоронованных» прямых потомков – сы-
новей и дочерей (например, Жангира, хана Букеевской Орды, его трех сыновей Са-
хибкерея, Ибрагима, Ахметкерея и дочери Зухры).
Несколько рисунков включены в коллекцию идентифицированных знаков
условно: 1) зарисовка Г. Н. Потаниным тамги султана Самаркана, кочевавшего
в 1870-е гг. в верховьях Черного Иртыша; 2) зарисовки знаков султанов Кадыргали
Узбекгалиева и Бийсалы Каратаева, сделанные в 1850 г. чиновником особых поруче-
ний В. М. Лазоревским с пометой «употребляемая им тамга общепринята султанами
или » [ИКРИ-8. С. 128]; 3) тамга султана Алтынгазы (Алтын) Нурмухамедова
( ), зарисованная в 1851 г. коллежским секретарем Абдулкадыром Субханкуловым
[ИКРИ-8. С. 190, 569–570]. Во всех перечисленных случаях компетентность инфор-
маторов и добросовестность регистраторов тамговых знаков допускаются a priori.
Таким образом, совокупная коллекция идентифицированных тамг казахских
торе насчитывает около ста персональных знаков, датированных в интервале 1785–
1913 гг., охватывая полностью XIX столетие. В историко-географическом отношении
собрание образуют знаки представителей торе, связанных условиями совместного
кочевания или управления с разными родоплеменными подразделениями казахов
Старшего, Среднего и Младшего жузов на всей территории Казахстана, а также не-
которых смежных областей Узбекистана и Монголии.
Таблица (рис. 2) иллюстрирует распространение разных видов знаков среди
представителей нескольких ветвей генеалогии казахских торе, ведущих свое про-
исхождение от султанов Жадика («старшая» ветвь династии) и Осека («младшая»
ветвь династии), сыновей хана Жанибека (1465–1474), одного из основателей Ка-
захского ханства. Необходимо отметить присутствие среди аутентичных знаков торе
266
ЧАСТЬ 3
всех разновидностей, выявленных дореволюционными исследователями, что еще
раз подтверждает достоверность этих данных. Но помимо семи известных знаков,
имеются тамги, не зафиксированные ранее.
Тамга 1 – «тарак-тамга» ( ), иконический знак, простейшая форма начерта-
ния тамги казахских торе. Зафиксирована у султанов Среднего и Старшего жузов –
потомков Кушык-хана (ум. после 1785), Букей-хана (1816–1819) и Абылай-хана
(1771–1780), относившихся к «старшей» ветви казахских джучидов.
Тамга 2 – вариант «тарак-тамги» с закругленным окончанием правой ( )
или левой ( ) опорной линии. Впервые зафиксирована в рукописи капитана И. Г. Ан-
дреева [Андреев, 1998. С. 46] как персональная монограмма Вали-хана (1781–1821).
Простейший вариант такой султанской тамги (без завитка на окончании наклонной
опорной линии) зарисован Г. Н. Потаниным в Северо-Западной Монголии [Пота-
нин, 1881а. Табл. XXVI, 27]. В коллекции рукописных тамг все варианты присутству-
ют среди персональных знаков потомков Букей-хана и Тауке-хана (1680–1715).
Тамга 3 – «джя-ок»/«жаа-ок», то есть лук со стрелой ( ); «султанская там-
га называется хан-тамга» [Ефименко, 1874. С. 275. Приложение, № 351]. Впервые
опубликованная П. С. Ефименко, а позже Н. И. Гродековым [Гродеков, 1889. При-
ложение 2. С. 7] эта тамга ( ) применялась всеми казахскими джучидами наряду
с другими разновидностями знаков. В рукописных начертаниях знака встречаются
образцы, усложненные короткой горизонтальной чертой под средней опорной ли-
нией ( ), или, наоборот, упрощенные – с отходящими в противоположные стороны
под прямым углом черточками под крайними опорными линиями ( ).
Тамга 4 – вариант «хан-тамги» ( ) с выступающей вверх средней опорной
линией. Опубликована впервые в труде А. Н. Харузина «Киргизы Букеевской орды»
как одна из трех разновидностей «хан-тамги»: «…у султанов, ходжей и теленгутов
тамга ханская: » [Харузин, 1889. С. 151]. В статье «О башкирских там-
гах» Д. Н. Соколов привел образец такой султанской тамги, заимствовав ее из «дела
архива Орен[бургского] ген[ерал]-губ[ернаторства] о приводе киргизов к присяге
в 1826 году» [Соколов, 1904. С. 70, 91–92]. В коллекции рукописных тамг такой знак
многократно встречается у потомков ханов Абылая, Самеке (ум. в 1738), Барака
(1749–1750) и Кушыка. Графические разновидности формы отмечены по нисходя-
щей линии Барак-хана ( ) [ЦГА РК. Ф. 374. Оп.1. Д. 1310. Л. 74] и Самеке-хана ( )
[там же. Л. 74, 84об.].
Тамга 5 – имеет форму «хан-тамги» (тамга 3), но отличается от нее ( ) скру-
гленными плечиками, переходящими в боковые линии с загнутыми вверх окончани-
ями. Как одна из основных султанских тамг этот знак зафиксирован А. Н. Харузиным
в конце XIX в. на территории бывшего Букеевского ханства и А. И. Добросмысловым
в Тургайской области [Добросмыслов, 1893. С. 101–102, табл. 1]. В рукописных доку-
ментах знак представлен единичными образцами у потомков Абылай-хана, Кушык-
хана и Каип-хана II (1746–1756).
267
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Тамга 6 – вариант «хан-тамги» ( ), соединяющий в себе особенности двух
предыдущих знаков: скругленные плечики и выступающую вверх центральную
опорную линию. Знак встречается сравнительно нечасто, но зафиксирован как
в рукописных документах представителей «старшей» ветви казахских чингизидов
по линии ханов Кушыка, Жангира, сына султана Канишер-Абылая, и Болата (1715–
1724/1725), так и на мемориалах (кулпытасах) торе «младшей» ветви династии
(Есим-хан; Атан-ханым, жена Букей-хана).
Тамга 7 – вариант «хан-тамги», дополненной сверху окружностью ( ), со-
единенной непосредственно с основной фигурой или с помощью удлиненной осе-
вой опорной линии. Знак впервые зарисован в 1851 г. как тамга султана Алтынгазы,
внука Каип-хана II, затем опубликован Н. И. Гродековым в 1889 г. В коллекции «сво-
еручных» тамг этот редкий знак принадлежит Кунимжан-ханым, жене хана Кенеса-
ры, и их сыну Тайшику.
Тамга 8 – «тамга ханов Букеевской, или Внутренней Орды», как свидетель-
ствует автограф на проекте княжеского фамильного герба, подготовленном султа-
нам Ибрагимом Чингисом, сыном хана Жангира, в 1853–1855 гг. [Мукатаев, Ир-
хина. 2003. С. 65–73 , фото на С. 69]. Знак «в виде готической буквы М», стилизо-
ванный под монограмму или вензель и весьма отдаленно напоминающий вероят-
ные прототипы – «тарак-тамгу» или «хан-тамгу» в форме лука со стрелой (тамга 3).
Первые публикации знака [Калмыцкая степь, 1868. С. 170; Ефименко, 1874. С. 279,
№ 343] содержат сильно искаженное изображение тамги «киргизского хана Вну-
тренней opды» ( ). Более точное изображение дано А. Н. Харузиным, сообщающим:
«…теперь султаны (власть которых пала) составляют особый род (без отделений)
и имеют свою родовую тамгу (ханскую )», а также ( ) [Харузин, 1889. С. 28, 151].
В нашей коллекции аутентичных знаков наиболее ранние образцы данной тамги
представлены изображениями на кулпытасах Зухры (1844), дочери Жангир-хана,
самого Жангира (1845) и Ермекжан-ханым (1850), жены Сеиткерея, сына послед-
него правителя Букеевского ханства. На известных памятниках предшествующей
поры помещалась «хан-тамга» иного типа (см., например, Атан-ханым, 1824), и есть
основание полагать, что данный стилизованный вариант династического знака-мо-
нограммы вошел в употребление в Букеевском ханстве при Жангире (1823–1845),
возможно, в начале 1840-х годов.
Тамга 9 – знак, напоминающий по форме ( ) «хан-тамгу» правителей Букеев-
ского ханства, но перевернутый на 180°. Этот ранее не известный знак представлен
в коллекции небольшой серией «своеручных» тамг, принадлежащих султану Сырга-
зы (брату убитого в 1856 г. в Хиве правителя каракалпаков Зарлик-хана), сыну Абд
ал-Азиза, сына Каип-хана II, правившего в Хиве в 1746–1756 гг. [ЦГА РК. Ф. 383.
Оп. 1. Д. 32. Л. 90–93об.] По-видимому, аналогичные знаки были зафиксированы
Ж.-А. Кастанье на надгробных памятниках в Актюбинском уезде в 1906 г. [Каста-
нье, 1907. Таблица, 12; Castagne, 1921. P. 53].
268
ЧАСТЬ 3
Тамга 10 – знак в форме трезубца, основная фигура которого подобна там-
ге 9, но удлиненная осевая линия сильно выступает снизу ( ). Знак зафиксирован
как персональная тамга султана Младшего жуза Ишмухаммеда (Ишджана) Айта-
нова, племянника Ермухаммеда (Илекея) Касымова [История Казахстана, 2012.
С. 362 – 364], имевшего кочевье близ Хивы и активно содействовавшему последнему
при побеге из хивинского плена в 1852 г. [ИКРИ-6. С. 304–305]. К сожалению, более
подробных сведений о родословной этого чингизида пока найти не удалось. Ерму-
хаммед Касымов (ок. 1819–1883), потомок Абулхаира по линии его сына Ералы-ха-
на, был возведен на ханский престол в 1843 г. старшинами родов шомекей и кете по-
коления алимулы и ряда подразделений жетыру и байулы Младшего жуза, кочевав-
ших в нижнем течении Сырдарьи, и до 1852 г. находился в подданстве Хивинского
ханства [Ерофеева, 2001. С. 144–145; История Казахстана, 2012. С. 280–281]. Вместе
с тамгами 8 и 9 рассматриваемый знак-трезубец был зафиксирован Ж.-А. Кас танье
в 1906 г. на надгробных памятниках казахов «близь р. Жаксы-Каргала» в Актюбин-
ском уезде [Кастанье, 1907. Таблица, 12].
Как указывалось выше, имеется еще один знак ( ), который не упоминается
в трудах дореволюционных авторов, но зафиксирован в служебной документации
Оренбургской пограничной комиссии в 1850 г. как тамга султана Младшего жуза
Кадыркали, внука Нуралы-хана. Однако, знак такого типа хорошо известен по па-
мятникам мемориальной архитектуры Западного Казахстана как тамга сословия
кожа [Ажигали, 2002. С. 563–564, рис. 418]. По-видимому, знак не может пока без-
оговорочно относиться к удостоверительным эмблемам торе, а выявленное проти-
воречие документальных и эпиграфических источников требует дополнительного
исследования.
Таким образом, всего выделяется десять разновидностей тамговых знаков, ис-
пользовавшихся казахскими торе, по меньшей мере, с конца XVIII до начала XX в. Не-
которые из публикуемых знаков ранее не были известны по литературным источни-
кам, а выявлены и идентифицированы нами благодаря проведенным архивным изы-
сканиям. Источниковедческий анализ доступных материалов существенно расширил
возможности исторической интерпретации разнообразия форм династических зна-
ков казахских чингизидов. Однако исследование знаков торе нельзя считать закон-
ченным. Дальнейшие комплексные изыскания в этой области требуют, во-первых,
широкого привлечения разных видов источников, включая эпиграфические и архе-
ологические, и, во-вторых, изучения их наряду с удостоверительными знаками соци-
альных групп кожа и туленгутов, тесно связанных с привилегированным сословием
торе. На данном этапе исследования следует ограничиться несколькими предвари-
тельными заключениями, следующими из анализа имеющихся материалов.
Прежде всего нужно констатировать наличие статусных (пока не вполне яс-
ных) отличий знаков торе. Так, на основании ряда авторитетных свидетельств вы-
деляется группа знаков, идентифицируемых как «ханская тамга»: 1) тамга 3 – знак
269
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
«джя-ок, то есть лук со стрелой» (по П. С. Ефименко); 2) тамга 8 – тамга правителей
Букеевского ханства (по Ибрагиму Чингису, А. М. Харузину). Возможно, к этой же
группе знаков относится тамга 9, «политический статус» которой каким-то образом
может быть связан с казахскими чингизидами, управлявшими до середины XIX в.
кочевыми племенами нижнего течения Сырдарьи и находившимися под юрисдик-
цией Хивы. Удостоверительные знаки других форм относятся к разряду так называ-
емых «султанских» тамг, применявшихся разными представителями данного сосло-
вия в зависимости от каких-то определенных условий.
Сделанное заключение иллюстрируется таблицей (рис.2), на которой можно
заметить, что распределение знаков на генеалогической схеме носит упорядоченный
характер: с одной стороны, имеются тамги, присутствующие во всех родословных це-
почках; с другой же, – есть группа знаков, связанных только с одной или нескольки-
ми ветвями торе, возглавляемыми общими родоначальниками. В последнем случае
наиболее отчетливо выделяются следующие фамильные ветви: 1) потомков Абулха-
ир-хана начиная по времени с хана Жангира; 2) потомков Каип-хана II (1746–1756);
3) потомков Турсын-хана (ум. в 1717) и Жангир-хана I (ум. в 1652). Тамга прави-
телей Букеевского ханства (тамга 8) не применялась чингизидами «старшей» ветви
династии; тамга 9 зафиксирована пока только у потомков Каип-хана II; все другие
представители «старшей» ветви династии не использовали знаки своих современни-
ков, принадлежавших к первым двум названным фамилиям, но те, в свою очередь,
применяли некоторые общие знаки династии (тамги 3, 4 и 6). Следует подчеркнуть,
что отмеченные особенности фамильного тамгопользования демонстрируются и не-
большой серией знаков женщин – представительниц сословия торе (рис.4).
Таблица (рис.3) показывает хронологическое и типологическое распределе-
ние всех разновидностей знаков по выделенным генеалогическим ветвям казах-
ских джучидов. На примере некоторых тамг, принадлежащих одним и тем же лицам
или разным поколениям тамгопредъявителей в составе всех или нескольких генеа-
логических ответвлений, прослеживается неизменяемость форм знаков, что убеж-
дает в их универсальном характере для династии казахских джучидов в целом. К та-
ковым относятся знаки и или . Все остальные разновидности тамг типологи-
чески являются их производными вариантами, за исключением, очевидно, простей-
шей формы «тарак»-тамги , которая представляет собой иконический знак тамги
казахских торе. Можно предположить, что знаки и или имели в означенный
период статус общединастийных тамг казахских чингизидов, но за представителя-
ми основных генеалогических ветвей, вплоть до начала XIX в. сохранявших свою
власть над большей частью казахских племен Среднего и Старшего жузов, остава-
лось приоритетное право на использование общединастийной тамговой символики
в качест ве идентификационных клановых знаков.
Остается не выясненным до конца значение тамги , известные предъ-
явители которой принадлежат к разным ветвям династии и отличаются другими
270
ЧАСТЬ 3
индивидуальными особенностями: среди них есть мужчины и женщины, родствен-
ники и далекие родичи, торе и представители кара-суйек. Для решения вопроса
о статусе этой тамги требуются дополнительные источники.
Выявленное разнообразие тамг казахских торе, несомненно, объясняется
не только возникновением в определенный исторический момент фамильных зна-
ков некоторых ветвей династии, стремившихся утвердить собственный суверенитет
в той или иной части Степи. Следует помнить о многообразии условий тамгопредъ-
явления, начиная от статусных отличий участников правовых отношений и техниче-
ских возможностей, влиявших на выбор ими того или иного знака (например, тавра
для клеймения домашних животных), заканчивая индивидуальными способностя-
ми обладателя тамги. Только с учетом многих этих обстоятельств можно найти объ-
яснение, к примеру, почему в 1852 г. султан Младшего жуза Ишмухаммед Айтанов
(рис.5) в официальном прошении на имя председателя Оренбургской пограничной
комиссии о принятии российского подданства поставил общединастийную тамгу
казахских джучидов ( ), а в присяжном листе тщательно вырисовал, по-видимому,
свой фамильный знак ( ) [ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 416а. Л. 89, 99]. К сожалению,
современный уровень изученности традиций тамгопользования казахских торе вы-
нуждает пока оставлять подобные вопросы без убедительного объяснения.
Выявление общединастиной тамги казахских торе неизбежно поднимает во-
просы происхождения самого знака и родства казахских джучидов с другими вет-
вями чингизидов. Сходство «ханской» тамги далеких потомков Жанибека с тамгой
крымских Гиреев, которое констатировали Н. А. Аристов и Д. Н. Соколов [Аристов,
1896. С. 287; Соколов, 1904. С. 17], кажется очевидным. По существу, этот факт мог
бы стать решающим аргументом в дискуссии о происхождении Урус-хана, прямого
предка первых казахских ханов Керея и Жанибека, по линии генеалогии, восходя-
щей к Орда-Эджену или Тукай-Тимуру, сыновьям Джучи [см. обзор дискуссии и би-
блиографию проблемы в: Ускенбай, 2013. С. 171–184]. Однако ряд обстоятельств
препятствует однозначному решению проблемы. Одно из них связано с отсутствием
источников, зримых материальных свидетельств, подтверждавших бы наличие у ка-
захских джучидов XV–XVII вв. такой же тамги, как установленный общединастий-
ный знак их потомков в конце XVIII – начале XX в.
Недавно стали известны новые данные, касающиеся принадлежности захо-
ронения в мавзолее Алаша-хана (Центральный Казахстан) и времени сооружения
памятника [Хорош, 2010]. Автором исследования, архитектором и реставратором
Е. Х. Хорош, приведены убедительные аргументы для датировки памятника концом
XVI в. и высказано предположение о принадлежности захоронения хану Хаккназару,
сыну Касыма. Среди находок, сделанных в ходе реставрационных работ, привлека-
ет внимание уникальное изображение «тарак-тамги» на строительном кирпиче [Хо-
рош, 2010. Рис. 10, а, б]. Основа знака имеет форму общединастийной тамги казах-
ских торе, усложненной некоторыми дополнительными элементами. В таком виде
271
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
знак напоминает одну из редких разновидностей тамги, принадлежность которой
казахским торе, как сказано выше, сегодня не может утверждаться безоговорочно.
Из трех других видов тамг, обнаруженных на строительных кирпичах мавзолея,
лишь одна отождествляется с тамгой казахского племени аргын. Другие знаки ана-
логий среди казахских тамг не имеют. Таким образом, принадлежность «тарак-там-
ги» из мавзолея Алаша-хана, как и самого захоронения в нем, остаются до конца
не выясненными. Эта ценная, но единичная и не атрибутированная находка, еще
не решает проблему идентификации генеалогической эмблемы казахских джучидов
позднего средневековья.
Другим обстоятельством, не позволяющим считать проблему исчерпанной,
является существование самого знака «ханской» тамги в пределах казахстанско-
среднеазиатского региона еще до монгольского завоевания. Прежде всего, речь идет
о многочисленных предметных находках с городища Садыр-курган (Шельджи) в Та-
ласской долине, которые отмечены таким знаком, нанесенным на слитки серебра,
тарную посуду, на камень рядом с эпиграфическим текстом, выполненным куфи-
ческим письмом X–XI вв. (определение В. Н. Настича) [Камышев, 2009. С. 284–289,
рис. 1, 2]. Зафиксированные знаки тождественны по облику «ханской тамге» (там-
ги 3 и 4) казахских торе и крымских тукай-тимуридов. Судя по характеру находок,
как отмечает нумизмат А. М. Камышев, знак обладал высоким статусом [Камышев,
2009. С. 289], сопоставимым с государственно-династийной символикой «ханской»
тамги джучидов. Такие же тамги встречаются на скалах в ущельях Кулансай, Терек-
сай, Аиртамой и Урмарал долины р. Талас [Джумагулов, 1987. Табл. XV; Табалдиев,
Белек, 2008. Рис. 2, 16–20]. Важно отметить, что на известных памятниках эпигра-
фики из Кулансая и Терексая три варианта тамги дважды сопровождают согдийские
надписи и один раз – строка рунического таласского письма, датирующиеся концом
X – началом XI в. Наконец, знаки в форме повернутого вниз трезубца, напомина-
ющие одну из основных тамг казахских чингизидов (тамга 4), выявлены на горо-
дище Сидак в Туркестанском оазисе и уверенно относятся исследователями к «ран-
некангюйскому» наследству (см. статью Е. А. Смагулова и С. А. Яценко в настоящем
сборнике). Таким образом, для окончательного решения проблемы происхождения
общединастийной тамги казахских джучидов, как и многих других специальных во-
просов тамгопользования казахских торе, требуются дополнительные изыскания.
Ажигали С. Е. Архитектура кочевников – феномен истории и культуры Евра-
зии (памятники Арало-Каспийского региона). Алматы: НИЦ «Гылым», 2002.
Аманжолов С. А. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Алма-
Ата, 1959.
272
ЧАСТЬ 3
Андреев И. Г. Описание Средней орды киргиз-кайсаков / Составление, транс-
крипция скорописи XVIII в., специальное редактирование текста и комментарии
И. В. Ерофеевой. Алматы, 1998.
Аристов Н. А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей
и сведения об их численности // Живая старина. Вып. III–IV. СПб., 1896. С. 277–456.
Баллюзек Л. Ф. Народные обычаи, имевшие, а отчасти и ныне имеющие в Ма-
лой Киргизской орде силу закона // Записки Оренбургского отдела ИРГО. Вып. 2.
Казань, 1871. С. 45–167.
Баллюзек Л. Ф. Народные обычаи, имевшие, а отчасти и ныне имеющие
в Малой Киргизской орде силу закона / Материалы по казахскому обычному пра-
ву, опубликованные военным губернатором Тургайской области Л. Ф. Баллюзеком
в 1871 г. // Материалы по казахскому обычному праву. Сборник 1. Алма-Ата, 1948.
С. 159–222.
Гродеков Н. И. Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области. Юридичес-
кий быт. Т. I. Ташкент, 1889.
Джумагулов Ч. Эпиграфика Киргизии. Вып. 3. Фрунзе, 1987.
Добросмыслов А. И. Скотоводство в Тургайской области. Оренбург, 1893.
Ерофеева И. В. Символы казахской государственности (позднее средневеко-
вье и новое время). Алматы, 2001.
Ерофеева И. В. Родословные казахских ханов и кожа XVIII–XIX вв. (история,
историография, источники). Алматы, 2003.
Ефименко П. С. Юридические знаки // Журнал министерства народного про-
свещения. Четвертое десятилетие. Ч. 176. 1874.
ИКРИ–6 – Путевые дневники и служебные заметки о поездках по южным
казахским степям. XVIII–XIX века / История Казахстана в русских источниках
XVI–XX вв. Т. 6. Алматы: Дайк-Пресс, 2007.
ИКРИ–8 – О почетнейших и влиятельнейших ордынцах / История Казахстана
в русских источниках XVI–XX вв. Т. 8. Ч. 2.Алматы: Дайк-Пресс, 2006.
История Казахстана в документах и материалах. Альманах. Вып. 2. Алматы,
2012.
Калмыцкая степь Астраханской губернии по исследованиям Кумо-Манычской
экспедиции. СПб., 1868.
Камышев А. М. Новые находки с городища Садыр-Курган // Известия НАН РК.
Сер. обществ. наук. 2009. № 1. С. 284–292.
Кастанье Ж. А. Развалины Болгасын и Челкарская степь // Труды Оренбург-
ской ученой архивной комиссии. Вып. XIX. Оренбург, 1907. С. 217–227.
Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история
расселения. М., 1974.
Мукатаев Г. К., Ирхина М. В. Султан Габайдулла Чингисхан, полный генерал
от кавалерии. Документы и материалы. СПб: Изд. М. В. Ирхиной. 2003.
273
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Потанин Г. Н. Очерки северо-западной Монголии. Вып. 1. Дневник путеше-
ствия и материалы для физической географии и топографии с.-з. Монголии. СПб.,
1881а.
Потанин Г. Н. Очерки северо-западной Монголии. Вып. 2. Материалы этно-
графические. СПб., 1881б.
Сабитов Ж. М. Генеалогия торе. Астана, 2008.
Соколов Д. Н. О башкирских тамгах (с приложением таблицы башкирских
тамг) // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Т.1З. Оренбург, 1904.
Табалдиев К., Белек К. Памятники письменности на камне Кыргызстана. Биш-
кек, 2008.
Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. Ташкент, 1925.
Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа / Переиздано
с оригинала без изменений и исправлений в Алматы, 2014 г. Алматы, 2014.
Ускенбай К. З. Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII – начале XV века. Проблемы
этнополитической истории Улуса Джучи. Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ. 2013.
Харузин А. Н. Киргизы Букеевской орды. (Антрополого-этнологический
очерк). Вып. 1.М., 1889.
Хорош Е. Х. Мавзолей Алаша-хан //Роль номадов в формировании культурно-
го наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н. Э. Масанова: Сборник материа-
лов международной научной конференции, г. Алматы, 23–24 апреля 2009 г. Алматы:
Prinr-S, 2010. С. 359–378.
Castagne J. Les Tamgas des Kirghizes (Kazaks) // Revue du Monde Musulman.
Vol. 47. Paris, 1921. P. 28–64.
274
ЧАСТЬ 3
Е. А. СМАГУЛОВ, С. А. ЯЦЕНКО
НОВЫЕ НАХОДКИ СЕРИЙ ДОИСЛАМСКИХ ЗНАКОВ/ТАМГА/НИШАНВ ТУРКЕСТАНСКОМ ОАЗИСЕ (ГОРОДИЩА КУЛЬТОБЕ И СИДАК):
СВЯЗЬ С КОЧЕВЫМ МИРОМ
Цитадель городища Сидак (в 18 км к западу от г. Туркестан) была, вероятно,
святилищем племен – потомков хозяев «кочевой империи» Кангюй, предназначен-
ным для ритуалов маздеистского типа. Можно предполагать, что Сидак уже с мо-
мента основания на рубеже н.э. был одним из общегосударственных святых мест
«кочевой империи» Кангюй (сер. II в. до н.э. – IV в. н.э.), и продолжал функциони-
ровать и после ее распада. Здесь в ходе систематических раскопок 2001–2012 гг.
преимущественно в самых верхних слоях, относящихся к VII – началу VIII в., вы-
явлена самая большая для доисламских памятников Центральной Азии серия оди-
ночных и групповых разнотипных кланово-семейных меток идентичности (нишан/
тамга). К весне 2014 г. был учтен 91 тип знаков (некоторые типы процарапывались
на разных сосудах по 2-5 раз), а в ходе повторного осмотра керамики и каменных
изделий из фондов экспедиции летом 2014 г. количество выявленных типов достиг-
ло 103 (Рис. 1-2).
Обычно эти метки процарапывались гончаром перед обжигом на посуде
с пищевыми приношениями верующих – на кувшинах, хумчах, кружках и горш-
ках. Знаки ставились также на хумы, в которых, по вероятной реконструкции по-
гребального обряда [Смагулов, 2004. С. 252–256], хранились очищенные кости
умерших. Большинство знаков явно принадлежало жителям микрорайона самого
Сидака (на поселении жило, видимо, несколько десятков семей) и его ближайшей
округи. В верхних, предарабских, слоях в ходе работы была выявлена также весьма
высокая доля типов знаков, принадлежавших паломникам из различных регионов
Средней Сырдарьи, от Отрарского оазиса и бассейна Арыси до Чача (в раскопках
2001–2006 гг. их отмечено 22 из 61 типа; в ходе работ 2009–2012 гг. – 24 из 44 встре-
ченных типов, среди которых 31 новый), а также два из Согда. Однако при вскры-
тии более ранних слоев V–VI вв. в 2007–2008 гг. отмечен всего один знак соседних
территорий (Рис. 1, 66) из 10 типов (Рис. 1, № 61-70) [ср. Смагулов, Яценко, 2014],
что свидетельствует о росте числа паломников в святилище в самый поздний пери-
од. Среди знаков соседних регионов есть и те, которые относятся к семьям их пра-
вителей или к их близким родственникам. Нанесение этих знаков могло также за-
казываться гончару от имени правителя чиновниками – его представителями. Здесь
275
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
мы рассмотрим те немногочисленные знаки в Сидаке, которые связаны с кочевым
миром: тюркским [Рогожинский, 2011; 2013] и иранским.
На сегодня только два типа тамг можно надежно связать с кочевыми тюр-
ками. Как и следовало ожидать, они принадлежали номадам соседних территорий.
Интересен контекст, в котором найдены эти знаки. Самой ранней из находок ран-
нетюркского облика можно считать знак № 66 на ручке кувшина из слоя V–VI вв.,
принадлежавший, видимо, только что появившемуся в регионе тюркскому кочево-
му клану [Смагулов, Яценко, 2010. Рис. 1, 66] (Рис. 1, 66; 3, 5). Он известен пока
лишь в Тамгалытас на западном краю пустыни Бетпакдала, к северо-востоку от Кы-
зылорды; впрочем, там он датируется, видимо, более поздним временем [ср. До-
сымбаева, 2013. С. 408, № 27]. На одной хумче 2009 г. фрагментарно сохранился
знак другого тюркского кочевого клана, известный на северных склонах соседнего
хребта Каратау, в урочище Кемер [Досымбаева, 2013. С. 408, № 7] (Рис. 2, 98; 3, 7).
Важно, что оба знака выявлены на типично сидакской посуде, сделанной местным
гончаром при святилище для паломников. Таким образом, представители кочевых
кланов, как и правящие владыки более южных территорий (см. ниже), иногда де-
монстрировали свое уважение к этому святилищу.
Наиболее интересными представляются тамги тюркских правителей и их
родни. Начнем с граффити на хуме, представляющем знак правителей Чача /Таш-
кентского оазиса (Рис. 1, 9; 3, 6). Их имена на монетах переводят как Хусбек/Хва-
нурк [Шагалов, Кузнецов, 2006. С. 199, 203; 292, № 6] или же как Сатачар/Стучар,
Хунирак и др.; чеканились такие монеты или местными нетюркскими правителями,
или тюркскими тудунами [Бабаяров, 2007. С. 72].
Важен крупный (длиной около 30 см) знак на одном из хумов из помещения 21
раскопа 2, 2011 г. (Рис. 2, 71; 3, 2-3) [Смагулов, Яценко, 2014. Рис. 2, № 71]. Эта там-
га известна на реверсах серии медных монет VII–VIII вв., выпущенных в Чаче. Плохо
читаемые согдийские надписи на их реверсе связываются Э. В. Ртвеладзе с чачским
тудуном [Шагалов, Кузнецов, 2006. С. 60–66, 76–101, рис. 2, 1]. На аверсах представ-
лены всадник с соколом в руке, сидящая перед всадником Умай (?), погрудные пор-
треты правителя и его супруги (иногда изображаются сидящими) или погрудный об-
раз длинноволосого правителя. В иконографии этих монет присутствуют и местные
иранские элементы: идущий вправо всадник и изображение алтаря с огнем; халат
правителя с одним правым лацканом, не характерным для ранних и западных тюр-
ков [Яценко, 2009], но обычным для тогдашних тохаристанцев. Чтение Г. Бабаярова
предполагает видеть здесь кагана Ишбара или джабгу Йара. Близкая, но не идентич-
ная тамга изображалась на тюркских монетах в Фергане и Тохаристане [Бабаяров,
2007. С. 13–17, 24, 34]. Важно, что этот знак тюркского правителя был процарапан
на хуме из тех, что использовались для хранения костей умерших, то есть кто-то
из его семейства был похоронен здесь. Одна монета с этой тамгой – 2-й вариант
276
ЧАСТЬ 3
типа 6 группы 2 по Шагалову / Кузнецову [Шагалов, Кузнецов, 2006. С. 89] – найде-
на на самом Сидаке в том же верхнем строительном горизонте (Рис. 3, 1).
По вопросу происхождения данной тамги мнения специалистов резко разо-
шлись (по Э. В. Ртвеладзе, она принадлежала местной чачской династии и была за-
имствована тюрками; по Дж.Ильясову, она связана с эфталитами; по Г. Б. Бабаярову,
это крайне стилизованное (и очень быстро видоизменившееся и резко модифици-
ровавшееся) изображение династийной тамги тюркского каганского клана Ашина
[Бабаяров, 2007. С. 35]. В последнем случае вызывает смущение именно идея силь-
ной стилизации, а не обычного дополнения или удаления микро-деталей исходно-
го базового образца (для тюркских народов такое достоверно не известно). Кроме
того, вне нумизматики ряда среднеазиатских оазисов близкие аналоги этой тамге
в сводках по знакам в раннетюркском мире отсутствуют. Видимо, речь должна идти
о правителях из смешанных ирано-тюркских семейств, чеканивших эти монеты
в Чаче от имени каганов/джабгу или их тудунов.
Возможно, к тюркским правителям имеет отношение пара близких, но зер-
кально симметричных знаков (Рис. 2, 72-73; 3, 8-9). Они были процарапанны до об-
жига на двух кувшинах из раскопа VI (2009 г.), которые явно не сидакского про-
изводства, и попали сюда, возможно, с паломниками, а сами тамги – непривычно
велики и аккуратны в исполнении для небольших сосудов Сидака. Еще одна такая
сильно фрагментированная тамга имелась на стенке большого хума. Знаки очень
близкие нашим, но с выгнутыми в разные стороны концами парных дуг (с изме-
нением наклона одного завитка, при этом ориентированные то так, как на кувши-
нах, то «вверх ногами») известны на серии монет Самарканда, которые датируют
или V–VI или VII–VIII вв. Согдийскую надпись на некоторых из них Г. Бабаяров чи-
тает как «Туранский правитель каган», она сопровождается портретом правителя
тюркского облика. Есть и аргументы в пользу более раннего появления этих знаков
[см., например: Ильясов, 2007. С. 146–149]. К тому же оба знака известны и у прос-
того оседлого населения Чача того времени: в V–VI вв. идентичные (а также с од-
ним микро-добавлением) формы предстают как метки строителей-простолюдинов
на кирпичах в храме шахристана Канки; бытовали они и на керамике Средней
Сырдарьи [Богомолов, 2006. С. 133, № 38-40; Смагулов, Яценко, 2010. Рис. 5, I и II].
А еще раньше они известны у генетически связанных с Кангюем сарматских племен
(зеркало из могилы 106 в крымском Бельбек IV середины II в. н.э. [Яценко, 2001.
Рис. 18, 5]). У кочевой тюркской стоянки в Кемере на восточных склонах Каратау
также известен сравнительно близкий знак (без центрального круга) [Досымбаева,
2013. С. 408, рис. 17]. Вероятно, сидакские тамги принадлежали родственникам са-
маркандского тюрко-согдийского правящего клана.
В Сидаке известен и знак родственников правителей одного из самых близ-
ких тюркских владений – Отрара (по сравнению с монетами, она имеет дополни-
тельную, отдельную от нее линию) [Смагулов, Яценко, 2010. Рис. 1, 34] (Рис. 3, 4).
277
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Сложнее обстоит дело с кланом-хозяином знака, процарапанного у основа-
ния ручки одного кувшинчика из находок сезона 2009 г. [Смагулов, Яценко, 2014.
Рис. 2, 84] (Рис. 4, 4). Он был очень влиятелен в восточных районах Сарматии, исто-
рически связанных с Кангюем. Знак бытовал в среднесарматское время у номадов
Кубани [Яценко, 2001. Рис. 5/51] и представлен в самых знаменитых скоплениях
знаков в Сарматии («писаная» плита 1871 г. из Керчи и ольвийский лев № 1). Эту
тамгу гравировали в одном из ранних скоплений в святилище Бескепе у аула Кызы-
лаут в Таласском районе Жамбылской области, которое мы по ряду причин относим
к Кангюю I–III вв. (в предварительной публикации не по нашей вине была дана не-
верная локализация этого пункта) [Яценко, 2010. Рис. 2, 27; 3, фото на С. 422–424].
В раннем средневековье этот знак-нишан изображался на керамике и кирпичах Чача
[Богомолов, 2006. С. 133; Смагулов, Яценко, 2010. Рис. 5, I]. Но при этом метка такой
формы известна и в петроглифах ранних тюрков неподалеку от Сидака (в урочище
Арпаузен в северных предгорьях Каратау) [Досымбаева, 2013. С. 408, № 3].
В целом знаки в святилище Сидака, идентичные (или в случае с Отраром –
очень близкие) встреченным на монетах, чеканенных от имени тюркских владык
разных рангов (Рис. 3), во всех случаях не известны в политическом центре Вели-
кого Каганата в Монгольском Алтае и не выявлены для достоверной степной ари-
стократии Западного Каганата. Вопрос об этнической принадлежности реальных
организаторов их чеканки сегодня еще не вполне прояснен; они могли в одних слу-
чаях чеканиться именно тюркскими правителями, в других – местными нетюрски-
ми владетелями от их имени, в третьих – лицами смешанного ирано-тюркского про-
исхождения. Последнее вполне надежно для самаркандских сложных тамг (Рис. 3,
8-9), т.к. они документированы в дотюркских оседлых памятниках бассейна Сред-
ней Сырдарьи.
Контакты оседлого населения с иными, более ранними группировками ко-
чевников позднеантичной эпохи – с сармато-аланами, то есть древнее «кангюйское-
сарматское тамговое наследство» (знаки, имеющие точные соответствия в Сарма-
тии), в знаках Сидака весьма невелики (рис. 4), что понятно, учитывая три-четыре
столетия, прошедшие со времени распада кангюйской «кочевой империи».
На поздних (после 2009 г.) раскопках Сидака также выявлена небольшая
группа знаков, которая имеет именно сарматские точные аналогии; она может
быть вполне уверенно отнесена к «раннекангюйскому» наследству (нумерация
по рис. 1-2). Это упомянутые «зеркальные» метки на кувшинах № 72-73 (Рис. 3,
8-9); см. в Крыму сер. II в. н.э. [там же. Рис. 18, 5]. Знаки № 33 в форме вертикаль-
ных «песочных часов» (Рис. 1, 33; 4, 3) и № 74 в виде особого трезубца (Рис. 2, 74;
4, 5) бытовали в Сарматии и Хорезме в I–III вв., позже документированы на Средней
Сырдарье [там же. Рис. 5, 69; 6, 115; 28, 30; Яценко, 2009а. Рис. 1, I (а, 6)]. То же,
несмотря на более позднюю раннетюркскую аналогию, можно в полной мере от-
нести к тамге №84 (Рис. 2, 84; 4, 4). Знак №103 представлен на хуме из хумхоны
278
ЧАСТЬ 3
(пом. 1, раскоп 1, 2010 г.) (Рис. 4, 1, справа). Близкие аналогии ему (на короткой
линии-«подставке») известны как в Хорезме, так и в Сарматии [Драчук, 1975. Табл.
XXXIX, 341; Яценко, 2001. Рис. 5, 77; 25, 14; 27, 32]. Знак на другом хуме из этой же
хумхоны (Рис. 2, 92; 4, 2, внизу) известен именно в Сарматии (серебряная ложечка
I в. н.э. из Косики, Астраханской обл., не опубликована; ольвийский лев №2 [Дра-
чук, 1975. Табл. LI, 80]). Эти ранние аналогии в Сидаке размещены на разных типах
посуды (кувшины, хумча, хумы).
Контакты с сармато-аланами намного более ярко и своеобразно отразились
в метках древнейшего слоя цитадели г. Турекестана/Ясы – городища Культобе.
В 2011 г. при раскопках крестообразного замка/«крепости», датируемого ныне
II–I вв. до н.э. [Смагулов, Ержигитова, 2013. С. 88] (Рис. 5), на плечиках трех хумов
оказалось по знаку. Если один из них очень простой – в форме вертикального креста
(пом. 5), то два более сложных знака-нишан не имеют на сегодня аналогов в Сред-
ней Азии, зато хорошо известны в памятниках последующего периода в Сарматии,
которая была этнически и политически тесно связана с ранним Кангюем. При этом
оба они обнаружены…только в одном из грунтовых некрополей у стен Неа поля
Скифского в Центральном Крыму (Битак) – в женских могилах, датируемых от на-
чала до конца II столетия н.э., то есть времени, когда в среде «поздних скифов» вид-
но проникновение сармато-аланских кочевых соседей. Эти тамги найдены на вещах
(миниатюрное зеркальце-амулет и краснолаковая миска), которые специалисты
по «поздним скифам» сейчас склонны считать женскими брачными атрибутами
(женщин-сарматок, выходивших в контактной зоне замуж за «поздних скифов»).
Первый (и более ранний по появлению в Европе) из этих знаков (Рис. 6, 1)
имел в Сарматии завидую судьбу. Это очень редкая разновидность сложной свасти-
ки, повернутой по часовой стрелке. В Сарматии, однако, она входит в число всего
8-ми типов знаков, которые четыре и более раз представлены в скоплениях («энци-
клопедиях») в особо значимых, межрегиональных по характеру, святилищах (Рис.
6, 3-6). Хотя в этих скоплениях наш знак не занимает самого центра композиций
и не отличается от прочих более крупными размерами (т.е. его хозяева не являлись
организаторами соответствующих церемоний, приведших к появлению таких ско-
плений), само его частое присутствие говорит о многом. Знатный клан, использо-
вавший эту тамгу, соответственно, играл особую политическую роль на обширных
территориях между Волгой и Дунаем [Яценко, 2001. С. 86, рис. 19]. Но локализовать
земли его владельцев удалось совсем недавно: в Центральном Крыму в женской мо-
гиле 40/2 1-й четверти II в. н.э. некрополя Битак этот знак был процарапан на крас-
нолаковой тарелке [Пуздровский, 2011. С. 378, рис. 2, 1; Яценко, 2014. Рис. 2, 2]
(Рис. 6, 2).
Точная аналогия второму сложному знаку из древнейшей цитадели Тур-
кестана (Рис. 7, 1) известна только одна и, как отмечалось, – в том же могильни-
ке Битак, также в женской могиле (№56), на характерном сарматском (брачном)
279
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
зеркале-подвеске; она датируется чуть более поздним временем и более широко: 2-я
половина II – начало III в. [Пуздровский, 2007. Рис. 129, 17; Яценко, 2014. Рис. 2, 3]
(Рис. 7, 3). В тот же период в другом конце Приазовья – недалеко от устья Дона,
в нек рополе городища Кобяково на тех же брачных зеркальцах сарматок, но уже
в их контактной зоне с оседлыми меотами мы неоднократно встречаем близкород-
ственный знак (с добавочной точкой в центре) (Рис. 7, 3-5).
В середине II в. у устья Дона воцарилась группировка «поздних сарматов» –
новая волна кочевников, пришедшая, по мнению В. Ю. Малашева, через Южное
Приуралье из Центрального или Северного Казахстана; вероятно, она была также
политически связана с Кангюем. Сегодня именно с ее миграцией можно связать со-
общение «Хоуханьшу» о переименовании Яньцай в Аланьляо, по т.н. отчету Бань
Юна 125 г. н.э., – не ранее 94 г. н.э.: до этого никакой свежей информации о За-
падном Крае в Китай не поступало около 100 лет; видимо, они также именовалась
аланами [Яценко, 2011. С. 200–202]. Что касается носителей среднесарматской куль-
туры, то сегодня среди сарматологов по поводу датировки их миграции в Европу
еще конкурируют версия В. П. Глебова (сер. I в. до н.э.) и версия И. В. Сергацкова
(нач. I в. н.э.).
Итак, оба сложных знака, известных на сегодня из вещей хозяев «замка» в ци-
тадели древнейшего Ясы/Туркестана, имеют аналогии у аристократии двух волн
кочевников Сарматии, исходно связанных с Кангюем/Кангхой того времени – на ру-
беже н.э. и в середине II в.н.э. Миграция в Европу предков донских аланов, а также
периербидов, сарматов-конеедов и прочих известных римским авторам носителей
среднесарматской культуры в бассейн Дона произошла, вероятно, в конце I в. до н.э.,
и в ее ходе хозяева двух упомянутых клановых знаков Культобе оказались далеко
на западе. Очень важно, что обе эти тамги в разное время попали именно из одного
и того же пункта в единственный другой пункт (!!!), что на практике проследить
никогда не удавалось. К сожалению, эти знаки пока не имеют аналогий в погребаль-
ных памятниках «кочевой империи» Кангюй, а также в посткангюйских памятниках
Средней Сырдарьи V – начала VIII в. (по которым коллекция уже велика и которые
в ряде случаев явно связаны со знатью).
В более поздних слоях цитадели древнего Туркестана I–III вв. н.э. (на участке,
прилегающем к крестовидному «замку») в ходе сезонов 2012–2014 гг. была добыта
новая серия тамг на керамике. Эта коллекция включает в себя 24 типа знаков (Рис.
8, 2-10, 12, 14-27). Однако знаки, имеющие близкие аналогии в сарматском мире,
напротив, в коллекции малочисленны. Это фрагментированный знак на ребре кув-
шина (Рис. 8, I), видимо, близкий по схеме некоторым боспорским «триденсам»
того же времени [Яценко, 2001. Рис. 14-15], а также знак на ножке крупной куриль-
ницы (Рис. 8, II) с пола сгоревшего здания в углу «цитадели» [там же. Рис. 4, 2],
который близок некоторым знакам Сарматии середины II – середины III в. н.э.
[там же. Рис. 6, 84].
280
ЧАСТЬ 3
Не всегда мы можем сегодня дать ясную этнокультурную атрибуцию некото-
рым скоплениям тамг. Интересный пример такого рода – т.н. точильный камень,
найденный в Сидаке и связанный со слоем VII–VIII вв. (рис. 9). Это, конечно, не осе-
лок, т.к. он сделан из очень твердой и редкой породы и при этом никогда не исполь-
зовался для заточки. Но на его единственную гладкую (и заполированную) поверх-
ность с немалым трудом (стальное лезвие часто давало ненужные «осечки» и при-
ходилось начинать снова) была нанесены в ряд три знака весьма разных размеров.
Суть в том, что все три знака известны как в ранних комплексах региона Средней Сыр-
дарьи и у сармато-аланов, так и у более поздних кочевых тюрков тех же VII–VIII вв.
В такой ситуации возникает опасность исследовательского «произвола» и субъекти-
визма: если автору лично «дорога» древняя империя Кангюй, он будет настаивать
на культурной преемственности этой серии от кангюйцев; если же он увлечен тюр-
ками времен первых Каганатов, он будет убежденно атрибутировать их как ранне-
тюркские. Думаем, в такой ситуации находку лучше не привлекать активно к рабо-
те, а подождать новых дополнительных материалов.
Особая проблема – это наличие у кочевых сармато-аланов Европы серии
тамг, имеющих точные и близкие аналогии у знати монгольских хунну [см. Торбат,
Батс=х, Баярх==н, 2012] (Рис. 10). Речь идет также о сходстве типов вещей, на кото-
рых эти знаки представлены. Таких сходных тамг на сегодня известно сравнитель-
но немного (около 20), однако недооценивать этот факт нельзя (не стоит, впрочем,
его и переоценивать, как это пытался сделать в своей недавней статье С. В. Вороня-
тов [Воронятов, 2013]). Скорее всего, такие параллели реально могли возникнуть
в конце I в. до н.э. и в I в. н.э. на окраинных землях в орбите Кангюя, где частично
соприкасались как еще не обретшие европейскую родину сарматы, так и проник-
шие сюда после 36 г. до н.э. группы хунну. Иными словами, без кангюйского посред-
ничества здесь вряд ли обошлось.
Таким образом, знаки Туркестанского оазиса доисламского времени дают
нам ценную и подчас неожиданную информацию о политических и этнокультурных
связях Кангюя и пост-кангюйских обществ среднего течения Сырдарьи с окружаю-
щими кочевыми иранскими и тюркскими группировками.
Бабаяров Г. Древнетюркские монеты Чачского оазиса (VI–VIII вв. н.э.). Таш-
кент: Изд-во Нац. библиотеки Узбекистана, 2007.
281
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Богомолов Г. И. Тамгообразные знаки на керамике Ташкентского оазиса //
Туран-Туркестан: проблемы культурно-исторической преемственности. Древность
и средневековье. Туркестан: Музей «Азрет-Султан», 2006. С. 122–133.
Воронятов С. В. Центральная Азия и Северное Причерноморье: параллели
предметов с тамгами // Нижневолжский археологический вестник. 2013. Вып. 13.
С. 48–59.
Досымбаева А. М. Тамги // Западный Тюркский каганат. Атлас. Астана: Service
Press, 2013. С. 403–428.
Драчук В. С. Системы знаков Северного Причерноморья. Киев: Наукова дум-
ка, 1975.
Ильясов Дж.Я. О происхождении тамги самаркандских правителей // Мате-
риалы международного семинара, посвященного 2750-летию Самарканда. Ташкент;
Самарканд, 2007. С. 146–149.
Пуздровский А. Е. Крымская Скифия II в. до н.э. – III в. н.э. Погребальные па-
мятники. Симферополь: Бизнес-Информ, 2007.
Пуздровский А. Е. Граффити на краснолаковой посуде из могильников Крым-
ской Скифии // Боспорский феномен. Население, языки, контакты. СПб.: Нестор-
История, 2011. С. 373–381.
Рогожинский А. Е. Удостоверительные знаки кочевников нового времени
и средневековья в горных ландшафтах Семиречья, Южного и Восточного Казахста-
на // Наскальное искусство в современном обществе. Материалы международной
научной конференции. Т. 2. Кемерово: изд-во КГУ, 2011. С. 217–225.
Рогожинский А. Е. Проблемы изучения удостоверительных знаков средневеко-
вых кочевников Казахстана // Известия НАН РК. Серия общ. и гум. наук. 2013. № 3.
С. 226–240.
Смагулов Е. А. К реконструкции погребального обряда Южного Казахстана
раннесредневековой эпохи // Интеграция археологических и этнографических ис-
следований. Алматы, Омск: Наука, 2004. C. 252–256.
Смагулов Е. А. К изучению мелкой культовой пластики древнего Туркестана
// Восхождение к вершинам археологии. Сб. материалов межд. конференции «Древ-
ние и средневековые государства на территории Казахстана», посвященной 90-ле-
тию со дня рождения К. А. Акишева. Алматы: Ин-т археологии им. А. Х. Маргулана,
2014. C. 548–577.
Смагулов Е. А., Ержигитова А. А. Цитадель древнего Туркестана: некоторые
итоги археологического изучения. 2011–2012 гг. // Известия НАН РК. Серия общ.
и гум. наук. 2013. № 3. С. 82–99.
Смагулов Е. А., Яценко С. А. Знаки – нишан и сюжетные граффити V–VIII вв.
на керамике городища Сидак на Средней Сырдарье // Отзвуки Великого Хорезма. К
100-летию со дня рождения С. П. Толстова. М.: ИЭА РАН, 2010. С. 190–221.
282
ЧАСТЬ 3
Смагулов Е. А., Яценко С. А. Новые серии клановых знаков на доисламской ке-
рамике Сидака и Туркестана на Средней Сырдарье // Вестник МИЦАИ. Вып. 19. Са-
марканд, 2014 (в печати).
Торбат Ц., Батс=х Дю, Баярх==н Н. Хуннугийн археологийн тамгууд Люань-
ди овгийн тамга болохнь // Археологийн судлал (Studia Archaeologica Instituti
archaeologici Academiae Scientarum Mongolicae). 2012. T. XXXII. Fasc. 1–20. C. 136–161.
Шагалов В. Д., Кузнецов А. В. Каталог монет Чача III–VIII вв. Ташкент: Фан,
2006.
Яценко С. А. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего средне-
вековья. М.: Восточная литература, 2001.
Яценко С. А. Древние тюрки: мужской костюм в китайском искусстве 2-й пол.
VI – 1-й пол. VIII в. (образы «Иных») // Transoxiana. Número 14 (Agosto 2009), Buenos
Aires. Электронный ресурс: http://www.transoxiana.org/14/yatsenko_turk_costume_
chinese_art-rus.html.
Яценко С. А. Знаки собственности сарматского облика (gakk/nishan) в сель-
ских районах Боспорского царства I–III вв. н.э. // Древности Боспора. Т. 13. М.,
2009а. С. 539–552.
Яценко С. А. Скопление клановых знаков-nishan позднеантичного времени
на камнях святилища в районе Мерке Жамбылской области // Казахстан и Евразия
сквозь века: история, археология, культурное наследие. Алматы: ТOO «Археологиче-
ская экспертиза», 2010. С. 114–122.
Яценко С. А. К дискуссии об оформлении позднесарматской этнокультурной
общности 2-й пол. II –1-й пол. III вв. н.э. // Нижневолжский археологический вест-
ник. Вып. 12. Волгоград, 2011. С. 197–213.
Яценко С. А. О некоторых формах контактов сарматов с внешним миром //
Сарматы и внешний мир. Материалы VIII Всероссийской конференции «Проблемы
сарматской археологии и истории», ИИЯЛ УНЦ РАН, 12–15 мая 2014 г. Уфа: ИИЯЛ
УНЦ РАН, Центр «Наследие», 2014. С. 257–262.
283
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
А. К. ТАЛАСБАЕВА
РОДОПЛЕМЕННЫЕ ТАМГИ НАЙМАНОВ ПО АРХИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ XVIII–XIX ВВ.
Одним из основных и самых многочисленных племен казахов Среднего жуза
являются найманы. По данным сельскохозяйственной переписи 1897–1911 гг.,
на территории Российской империи их насчитывалось 394,5 тыс. человек, в том чис-
ле 95,8% казахского населения Усть-Каменогорского уезда, 92% Лепсинского, 88,3%
Зайсанского, 47% Атбасарского, 34,4% Копальского и 24,8% Семипалатинского уез-
дов [Востров, Муканов, 1968. С. 256]. Найманы расселялись в основном в восточном
и юго-восточном регионах Казахстана, от Алатайских гор до Джунгарского Алатау.
Часть найманов кочевала в западной части Сарыарки и по берегам среднего тече-
ния Сырдарьи, на территории Каркаралинского и Перовского уездов [та м же].
История найманов уходит своими корнями в глубь веков; ее изучению по-
священы труды многих отечественных и зарубежных ученых. Трудно переоценить
значение трудов российских исследователей XVIII–XIX вв., которые в большинстве
являлись чиновниками колониальной администрации и, находясь по службе в Ка-
захской степи, проводили сбор исторических преданий, этнографических сведений
о племенах Среднего жуза, в том числе о расселении найманов и о тамгах их ро-
дов. Особенно ценные для нашей темы материалы содержатся в работах И. Г. Ан-
дреева, А. И. Левшина, Л. Л. Мейера, Н. И. Гродекова, Н. Я. Коншина и других. Среди
исследователей советского периода необходимо отметить труды М. Тынышпаева,
М. С. Муканова и В. В. Вострова. Изучением родоплеменных тамг казахов также за-
нимаются современные ученые Казахстана [Сейдімбеков, 2010].
Одним из важных направлений современной этнографии и исторической на-
уки представляется изучение родоплеменной структуры найманов, определение ос-
новных этапов ее формирования. Для решения этих сложных вопросов наряду с дан-
ными устной генеалогической традиции казахов и письменными историческими
источниками важную роль играет изучение родоплеменных знаков. Как известно,
удостоверительные знаки-тамги могут служить ценными указателями происхожде-
ния отдельных племен и родов в составе более крупных этносоциальных и полити-
ческих объединений [Ама нжолов, 1959. С.286]. В связи с этим возрастает значение
полноты и достоверности привлекаемых источников – точно установленных графи-
ческих форм знаков, их традиционных названий, смысловых значений и, конечно,
выяснения их принадлежности тому или иному роду и племени.
284
ЧАСТЬ 3
В источниках XVIII–XIX вв. зафиксирована сложная структура племенного объ-
единения найманов, в состав которой входили следующие основные подразделения:
балталы, баганалы, каракерей, матай, ергенекты, садыр и теристанбалы [Ар8ын баев,
М7�анов, Востров, 2000. 74 б.]. Своеобразным отражением этой сложной структу-
ры и неоднородности объединения найманов служит разнообразие их знаков-тамг,
которое позволяет судить о степени генеалогической близости отдельных племен.
Известно также, что тамги бывают общеплеменными и родовыми, поэтому выяс-
нение принадлежности знаков отдельным родам или группе родов становится важ-
ной задачей исследования внутренней структуры всего объединения. Так, опираясь
на данные дореволюционных востоковедов, М. С. Муканов пришел к заключению,
что «ни у одного племени Среднего жуза не встречается такого многообразия родо-
вых тамг, как у найманов», но «общей для найманов является тамга » [Муканов,
1974. С. 45–46]. Проведенный нами анализ основных литературных источников,
а также результаты специальных архивных изысканий позволяют сегодня пересмот-
реть некоторые устоявшиеся представления по данному вопросу. Исследования вы-
полнялись автором в 2012 и 2014 гг. под руководством А. Е. Рогожинского в рамках
научного проекта КазНИИ культуры МКиС РК «Проведение прикладных научных
исследований по изучению истории, археологии, этнографии, культуры и искусства
номадов» (рук. И. В. Ерофеева), итогам реализации которого посвящена прошедшая
18 – 19 ноября 2014 г. в Астане конференция. Данная статья знакомит с основными
результатами наших изысканий по родоплеменным знакам найманов, касающиеся
проблемы существования у них общеплеменной тамги, которая действительно мог-
ла бы признаваться общей эмблемой всего родоплеменного объединения найманов.
Анализ научной литературы по данному вопросу позволяет определить харак-
тер источников информации по найманским тамгам, которыми пользовались раз-
ные авторы, установить степень самостоятельности исследователей в установлении
исторически достоверных форм удостоверительных знаков, их принадлежности тем
или иным племенам, а вместе с тем, – оценить степень достоверности суждений
о существовании общеплеменной тамги у найманов.
Фиксация родоплеменных знаков казахов Среднего жуза, в том числе найма-
нов, началась в Прииртышье и в оренбургских степях уже в конце XVIII – начале
XIX в. Первые сведения о тамгах казахских племен Среднего жуза встречаются в за-
писках капитана И. Г. Андреева, знакомившегося с жизнью казахов в прииртышских
степях в 1760–1780-х гг. Этим исследователем указываются формы родовых знаков
трех подразделений найманов – теристанбалы, матай и сарыжомарт (бура) [Андре-
ев, 1998. С. 46]. При этом две из них сходны по начертанию, а тамга «буранайманов-
ской волости» существенно отличается по виду. В целом, эти данные И. Г. Андреева,
свободно владевшего казахским языком и часто по делам службы бывавшим в Сте-
пи, заслуживают доверия и подтверждаются как сведениями других исследователей
более позднего периода, так и собранными нами архивными материалами.
285
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
Почти полвека спустя А. И. Левшин в своем известном «Описании киргиз-ка-
зачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей» вновь публикует небольшую серию
тамговых знаков казахских племен Младшего жуза и четыре тамги племен Среднего
жуза, включая тамгу «найманского» рода. Именно здесь впервые в историко-этно-
графических исследованиях в качестве тамги найманов появляется знак, напомина-
ющий букву «V» латинского алфавита [Левшин, 1996. С. 428]. Заметим, что в отли-
чие от И. Г. Андреева, хорошо осведомленного о многочисленности найманских пле-
мен и существовании у них отличающихся по форме особых родоплеменных знаков,
А. И. Левшин указывает лишь один знак, как тамгу всего племени найман.
Известно, что после назначения на службу в Оренбургскую пограничную ко-
миссию А. И. Левшин получил доступ архивным материалам, касавшихся казахских
дел. Отсюда, по-ви димому, и были почерпнуты им основные сведения о тамгах раз-
личных казахских племен. При этом тамги племен Младшего жуза у А. И. Левшина
численно преобладают, а сведения о тамгах Среднего жуза явно ограничены лишь
данными о племенах, расселявшихся в непосредственной близости от кочевий каза-
хов западной части Казахстана. Среди найманских племен это могли быть багана-
лы, занимавшие западные и юго-западные области всего обширного ареала рассе-
ления найманов. Именно баганалы, как известно, имеют племенную тамгу в форме
вертикальной линии с раздвоенной вершиной – бакан, которая не имеет сходства
с удостоверительными знаками других найманских племен. На наш взгляд, неточ-
но воспроизведенная, усеченная графическая форма тамги баганалы – без нижней
вертикальной линии – в свое время послужила А. И. Левшину образцом племенного
знака всех подразделений найманов.
Более точные сведения о форме знаков найманских племен были собраны и опу-
бликованы во второй половине XIX в. такими исследователями, как Л. Л. Мей-
ер и Н. И. Гродеков [Мейер, 1865. С. 89–92; Гродеков, 1889. Приложение V, С. 6].
Но именно в фундаментальном труде Н. И. Гродекова, в котором в 1889 г. впервые
были опубликованы известные на тот период тамги казахских племен всех трех
жузов, вновь появилось изображение тамги найманов, заимствованное из рабо-
ты А. И. Левшина. Этот неточно воспроизведенный знак, ошибочно определенный
в свое время А. И. Левшиным как общая тамга найманов, а не отдельного племени,
был включен Н. И. Гродековым в сводную таблицу родоплеменных казахских тамг
наряду с вполне достоверными изображениями многих найманских родов и пле-
мен, собранными по его заданию А. Н. Вышнегорским на юге Казахстана [Рогожин-
ский, 2010]. К сожалению, в последующие десятилетия почти все исследователи,
опиравшиеся на данные таких авторитетных ученых, как А. И. Левшин и Н. И. Гро-
деков, воспринимали V-образный знак «найманской» тамги как установленный
их предшественниками исторический факт. Лишь немногие исследователи, которые
в своих изысканиях опирались на документальные архивные материалы, состав-
ленные самими представителями найманских родов, или на собственные данные
286
ЧАСТЬ 3
этнографических опросов, сумели избежать досадного заблуждения относительно
«общей» тамги найманов.
Для окончательного выяснения вопроса нами было предпринято специальное изуче-
ние архивных материалов дореволюционных фондов Центрального государствен-
ного архива Республики Казахстан. Аутентичность и достоверность источников, от-
носящихся к концу XVIII – XIX столетию, в данном случае не вызывает сомнений,
поскольку вплоть до начала XX в. казахи еще хорошо знали и традиционно пользо-
вались своими тамгами.
На данный момент автором изучено более 170 дел из 19 фондов Централь-
ного государственного архива Казахстана. Наиболее информати вными для нашей
темы оказались материалы следующих фондов: И-3 (Начальник Алатавского округа
и киргизов Большой орды, г. Верный, 1848–1867 гг.), И-15 (Семипалатинское об-
ластное правление Министерства внутренних дел, г. Семипалатинск, 1854–1919 гг.),
И-338 (Омское областное правление Министерства иностранных дел, г. Омск,
1822–1838 гг.), И-345 (Областное правление Сибирскими киргизами Министерства
внутренних дел, г. Омск, 1798–1867 гг.), И-347 (Каркаралинский окружной приказ
Министерства внутренних дел, г. Каркаралинск, 1826–1867 гг.), И-374 (Погранич-
ное управление сибирскими киргизами Министерства иностранных дел, г. Омск,
1826–1857 гг.). Изученные нами документы охватывают хронологический интервал
с 1799 по 1910 г. и по содержанию разделяются на несколько категорий:
о принятии русского подданства отдельных лиц или родов;
прошения (жалобы) частных лиц и коллективных представителей аулов, во-
лостей к колониальной администрации;
следственные документы (протоколы допросов, свидетельские показания);
о барымте;
об ограблении;
об административном переводе казахов разных родов из одних областей
в другие;
о земельных спорах.
Значительную часть изученных документов образуют переводы с чагатайс-
кого на русский язык, приложенные к оригинальным текстам с тамгами. Другую
группу представляют написанные по-русски тексты с оригинальными тамгами за-
явителей. К сожалению, при изучении этих уникальных документов в перечислен-
ных фондах архива обнаружено немало дел, в которых сохранились лишь переводы
подлинных текстов, а сами оригиналы с указанием родовой принадлежности их ав-
торов и с «своеручными» тамгами уничтожены, вероятно, как малоценные докумен-
ты в ходе макулатурных кампаний советского времени.
В целом, благодаря проведенным исследованиям удалось выявить и иден-
тифицировать крупные серии тамговых знаков всех основных подразделений
287
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-ТАМГИ И ЭПИГРАФИКА КОЧЕВНИКОВ...
найманов. Обобщенные результаты работы с архивными материалами представле-
ны в таблице (рис. 1).
Прежде всего следует отметить большое сходство и даже совпадение наших
атрибуций знаков по архивным материалам с данными И. Г. Андреева и Н. Я. Кон-
шина, что еще раз служит подтверждением их достоверности как источников. Кро-
ме того, выявлено сходство форм удостоверительных знаков таких подразделений,
как каракерей, матай и садыр, что не согласуется с данными большинства исследо-
вателей XIX–XX вв. и современности. Наконец, возвращаясь к вопросу о форме зна-
ка и самом возможном существовании «общеплеменной» тамги найманов, следует
подчеркнуть, что в изученных нами материалах до настоящего времени не обнару-
жено ни одной тамги в форме буквы «V», принадлежавшей бы какому-либо подраз-
делению найманов.
Аманжолов С. А. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Алма-
Ата, 1959.
Андреев И. Г. Описание Средней орды киргиз-кайсаков / Составление, транс-
крипция скорописи XVIII в., специальное редактирование текста и комментарии
И. В. Ерофеевой. Алматы, 1998.
Ар8ынбаев Х., М7�анов М., Востров В. �аза� шежiресi ха�ында. Алматы, 2000.
Востров В. В. , Муканов М. С. Родоплеменной состав и расселение казахов (ко-
нец XIX – начало XX в.). Алма-Ата. 1968.
Гродеков Н. И. Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области. Юридиче-
ский быт. Т. I. Ташкент, 1889.
Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей.
Алматы, 1996.
Мейер Л. Л. Киргизская степь Оренбургского ведомства. Материалы для геогра-
фии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Т. 10. Спб., 1865.
Муканов М. С. Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза. Алма-
Ата, 1974.
Рогожинский А. Е. Мы, нижеприложившие истинные тамги… (опыт иденти-
фикации родоплеменных знаков казахов Старшего жуза) // Роль номадов в форми-
ровании культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н. Э. Масанова:
Сборник материалов международной научной конференции, г. Алматы, 23–24 апре-
ля 2009 г. Алматы: Prinr-S, 2010. С. 101–127.
Сейдімбеко в А. �аза�ты� ауызша тарихы. Алматы, 2010.
288
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Абжанова Гульмира Нурлановна – Евразийский национальный университет
им. Л. Н. Гумилева, студентка 3 курса, г. Астана
Аршабеков Темиргали Тлеубекович – Карагандинский областной музей
изобразительного искусства, заместитель директора, г. Караганда
Бабаяров Гайбулла Баллыевич – доктор истор. наук, Международная Тюрк-
ская академия, научный эксперт, г. Астана
Базылхан Напил – канд. филол. наук, КазНИИ культуры Министерства куль-
туры и спорта РК, ведущий научный сотрудник, г. Алматы
Боранбаева Сауле Жумабаевна – Казахский национальный университет ис-
кусств им. Коркыта, ведущий научный сотрудник, г. Астана
Бурыкин Алексей Алексеевич – доктор филол. наук, доктор истор. наук, Ин-
ститут лингвистических исследований РАН, ведущий научный сотрудник, г. Санкт-
Петербург
Горбунов Алдар Петрович – доктор геогр. наук, профессор, Институт мерзло-
товедения СО РАН, главный научный сотрудник, г. Якутск.
Джандосова Заринэ Алиевна – канд. истор. наук, доцент, Санкт-Петер-
бургский государственный университет, кафедра Центральной Азии и Кавказа вос-
точного факультета, г. Санкт-Петербург
Ерофеева Ирина Викторовна – канд. истор. наук, доцент, КазНИИ культуры
Министерства культуры и спорта РК, ведущий научный сотрудник, г. Алматы
Ерботина Динара Жумабаевна – КазНИИ культуры Министерства культуры
и спорта РК, научный сотрудник, г. Алматы
Кожахметова Салтанат Тулеубаевна – Евразийский национальный универси-
тет им. Л. Н. Гумилева, магистрант, г. Астана
Кубатин Андрей Викторович – Международная Тюркская академия, науч-
ный сотрудник, г. Астана
Кульганек Ириина Владимировна – доктор филол. наук, Институт восточ-
ных рукописей РАН, заведующая сектором Центральной и Южной Азии, г. Санкт-
Петербург
Курумбаев Айбулат Шамуратович – магистр гуманитарных наук, ТОО «Реги-
он Холдинг», заместитель директора, г. Уральск
Курумбаева Жанар Шынболатовна – Международная гимназия им. Х. Ка-
панова, учитель, г. Уральск
Медерова Дина Есергеповна – канд. истор. наук, Институт востоковедения
им. Р. Б. Сулейменова Министерства образования и науки РК, ведущий научный сот-
рудник, г. Алматы
Муминов Аширбек Курбанович – доктор истор. наук, Евразийский нацио-
нальный университет им. Л. Н. Гумилева, г. Астана
289
Мухарева Анна Николаевна – канд. истор. наук, доцент, Кемеровский госу-
дарственный университет, кафедра археологии, г. Кемерово
Мырзагалиева Гулмару Самиголлакызы – магистр филологии, Бокейординс-
кий историко-музейный комплекс, заведующая отделом, п. Хан ордасы Бокейординс-
кого р-на Западно-Казахстанской обл.
Нурманова Айтжан Шаймерденовна – канд. истор. наук, Институт востоко-
ведения им. Р. Б. Сулейменова Министерства образования и науки РК, ведущий на-
учный сотрудник, г. Алматы
Оразбек Ернар Жумагалиулы – КазНИИ культуры Министерства культуры
и спорта РК, старший научный сотрудник, г. Алматы
Оспанов Баймурат Ермагамбетович – канд. педагогич. наук, Казахский на-
циональный педагогический университет им. Абая, начальник управления науки,
г. Алматы
Рогожинский Алексей Евгеньевич – канд. истор. наук, КазНИИ культуры
Министерства культуры и спорта РК, ведущий научный сотрудник, г. Алматы
Семби Марат Катаевич – КазНИИ культуры Министерства культуры и спорта
РК, старший научный сотрудник, г. Алматы
Скрынникова Татьяна Дмитриевна – доктор истор. наук, Институт восточ-
ных рукописей РАН, заведующая отделом Южной и Центральной Азии, г. Санкт-
Петербург
Смагулов Ербулат Акижанович – канд. истор. наук, Институт археологии
им. А. Х. Маргулана Министерства образования и науки РК, главный научный со-
трудник, г. Алматы
Сулейменов Мухаммеджан Шыдыханулы – доцент, Казахская национальная
академия искусств им. Т. Жургенова, кафедра живописи, г. Алматы
Султанова Мадина Эрнестовна – канд. искусствоведения, Казахский нацио-
нальный педагогический университет им. Абая, старший преподаватель, г. Алматы
Таласбаева Асель Канатовна – КазНИИ культуры Министерства культуры
и спорта РК, научный сотрудник, г. Алматы
Толен Кайыргазы Ашимбекулы – профессор, Казахская национальная ака-
демия искусств им. Т. Жургенова, г. Алматы
Хазбулатов Андрей Равильевич – доктор философии (Ph.D), КазНИИ культу-
ры Министерства культуры и спорта РК, Генеральный директор, г. Астана
Шайгозова Жанерке Наурызбаевна – канд. педагогич. наук, Казахский наци-
ональный педагогический университет им. Абая, старший преподаватель, г. Алматы
Яхонтова Наталья Сергеевна – канд. исто р. наук, Институт восточных руко-
писей РАН, старший научный сотрудник, г. Санкт-Петербург
Яценко Сергей Александрович – доктор истор. наук, профессор, Российский
государственный гуманитарный университет, кафедра истории и теории культуры,
г. Москва
290
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи Историко-до-
кументального департамента Министерства иностранных
дел Российской Федерации (г. Москва)
ГАОрО – Государственный архив Оренбургской области
ИВР РАН – Институт восточных рукописей Российской академии наук
(г. Санкт-Петербург)
ИИЯЛ УНЦ РАН – Институт истории, языка и литературы Уфимского научного
центра Российской Академии наук
ИЭА РАН – Институт этнологии и антропологии Российской Академии
наук
МИЦАИ – Международный институт центральноазиатских исследова-
ний ЮНЕСКО (г. Самарканд)
НА КазНИИ ПКНН – Научный архив Казахского научно-исследовательского ин-
ститута по проблемам культурного наследия номадов Минис-
терства культуры Республики Казахстан
НАН РК – Национальная Академия наук Республики Казахстан
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив
(г. Москва)
СПбФ АРАН – Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии
наук (г. Санкт-Петербург)
ЦГА РК – Центральный государственный архив Республики Казахстан
(г. Алматы)
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Казахский научно-исследовательский институт культуры
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯНЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯНАРОДОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ТОПОНИМИКА, ЭПИГРАФИКА, ИСКУССТВО
Сборник материалов международной научной конференции
г. Астана,
18–19 ноября 2014 г.
Верстка и дизайн: Ивахнова Н.
Подписано в печать: 27.12.2014 г.
Формат: 60х84 1/16
. Кол-во п.л. 27,5 б.т.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «CharterITC».
Тираж 500 экз.
Отпечатано в типографии «Evo Press» ,
ул. Макатаева, 129/1
тел.: 8 (727) 279 71 34, 352 82 02
К статье Муканова М., Сулейменова М. ТЕХНОЛОГИЯ «ГИБКОГО ЧИЯ»
В ИСКУССТВЕ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСКОГО ГОБЕЛЕНА
М. Муканов. Гобелен «Кочевни-
ки», 1996 г., 110 × 200 см.
Рабочий процесс создания соломинок «гибкого чия».
«Спираль», 2003 г., 110 × 110 см.
«Триединство», 2007 г., 110 × 200 см. Крепление соломинок
«гибкого чия» к гобелену.
«Нойон», 2012 г., 110 × 110 см. «Нойон. Спираль», 2012 г.,
110 × 170 см.«Четыре тополя», 2011 г.,
100 х110 см.
К статье Ерофеевой И.В.ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА КАЗАХСТАНА
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОМАДОВ
Рис. 1. Карта Русской Московии и Тартарии А. Дженкинсона. 1562 г. В оригинале:
Russiae Moscoviae et Tartariae descriptio. Auctore Antonio Jenkinsono Anglo, edita Londini Anno. 1562
et dedicate illus triss: D. Henrico Sydneo Wallie presidi.
Рис. 2. Чертеж всей малопроходной каменной степи С. У. Ремезова. 1696 г. / Чертежная
книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г.
Факсимильное издание. М., 2003.
К статье Бабаярова Г., Кубатина А.К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ДОИСЛАМСКИХ МОНЕТАХ ОТРАРА
Рис. I. Доисламские монеты Отрара.
Рис. II. Монеты Отрара с титулом «Тутук Алп-каган».
Рис. VII. Монеты Западно-Тюркского каганата с парным изображением, относящиеся к трем этапам:
1-2 – «жабгу»; 3-4 – «жабгу-каган»; 5-6 – «каган».
Рис. IX. Монеты Средней Азии с изображением парного портрета:
монеты Западно-Тюркского каганата / Чач (1), Согд (2), Чаганиан / Тохаристан (3), Бухара (4), Отрар (5).
К статье Ерботиной Д.Ж.МАЛОИЗВЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И. М. КАЗАНЦЕВА
ПО РОДОСЛОВИЮ АБУЛХАИР-ХАНА
И. М. Казанцев. «Родословная ханов и султанов Меньшей и Внутренней Киргиз-кайсацкой орды от вступившего
в подданство России Абулхаир хана», приложение 7 [Архив РГО. Р. 64. Оп. 1. Д. 13. Приложение. Л. 3.].
К статье Муминова А. К., Нурмановой А. Ш., Медеровой Д. Е.ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КАК ИСТОЧНИК ПО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
И ДУХОВНОЙ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА
Рис. 1. Некрополь «Маулимберди». Кулпытас Хаджж ‘Али ибн Мауламберди.Рис. 3. Некрополь «Маулимберди».
Кулпытас Мулла Ни‘маталлаха,
сына Маулимберди Хазрата.
Рис. 4. Святое место –
Матен-кожа («М_тен-`ожа _улие»).
Кулпытас Матен-кожа.
Рис. 2. Некрополь «Маулимберди». Кулпытас мулла ‘Абд ал-Карим,
сын Шир-‘Али ал-Хаджж ал-Баликлави.
Рис. 5. Некрополь «Тайкожа».
Кулпытас Итемген
Жанмырзаулы.
Рис. 6. Некрополь аула «Ески
Есим» – «Тhре зираты». Кулпытас
Иш-‘Али-хан Нур-‘Али-улы.
Рис. 7. Святое место – Матен-
кожа («М_тен-`ожа _улие»).
Мазар и кулпытас Матен-кожа.
Рис. 8. Некрополь «Саjmыры`». Кулпытас старшины Ак-Булат Санггырак.
К статье Мухаревой А. Н. ИЗОБРАЖЕНИЯ ТАМГ НА ПАМЯТНИКАХ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
СЕВЕРА МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ
Рис. 1. Расположение памятников Улазы,
Городовая стена и Маяк.
Рис. 2. Писаница на утёсе Городовая стена по
рисунку Карла Шульмана от 18 февраля 1722 г.
[по: Кызласов, Леонтьев, 1980].
Рис. 3. Гора Большой Улаз. Изображения тамги, преобладающей в количественном отношении
над другими тамгами комплекса.
Рис. 4. Гора Большой Улаз. Композиция из тамг родственных типов, выбитых на одной плоскости.
Рис. 5. Гора Большой Улаз. Композиция из тамг различных типов, выбитых на одной плоскости;
фотография, прорисовка.
Рис. 6. Гора Большой Улаз. Прорисовки тамг, составляющих «энциклопедии».
Рис. 7. Гора Большой Улаз. Композиция из тамг
различных типов, выбитых на одной плоскости.
Рис. 8. Местонахождение Улазы III. Сцена
с изображениями животных и Y-образных тамг.
Рис. 9. Местонахождение Маяк. Композиция из тамг различных типов, выбитых на одной плоскости.
Рис. 10. Гора Большой Улаз. Композиции из тамг различных типов, выбитых на одной плоскости.
Рис. 11. Тамги. 1 – гора Большой Улаз, 2 – местонахождение Улазы IV.
К статье Г. С. Мырзагалиевой ИЗУЧЕНИЕ НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ НЕКРОПОЛЯ ХАН ЗИРАТЫ
(фотографии Г. С. Мырзагалиевой)
Рис. 1. Кулпытас А. Сангрыкова,
1851 г.
Рис. 2. Кулпытас К. Жаналиева,
1835 г.
Рис. 3. Кулпытас К. Караулова,
1844 г.
Рис. 4. Кулпытас Ханзады,
дочери хана Жангира, 1829 г.
Рис. 5. Кулпытас Зияддина Губайдуллина,
1919 г.
Рис. 6. Кулпытас Зухры, дочери хана Жангира, 1844 г.
Рис. 7. Кулпытас Ермекжан ханым Ормановой, 1850 г. Рис. 8. Кулпытас Шанкары
Карауылходжиной, 1848 г.
К статье Смагулова Е. А., Яценко С. А. НОВЫЕ НАХОДКИ СЕРИЙ ДОИСЛАМСКИХ ЗНАКОВ/ТАМГА/НИШАН
В ТУРКЕСТАНСКОМ ОАЗИСЕ (ГОРОДИЩА КУЛЬТОБЕ И СИДАК):
СВЯЗЬ С КОЧЕВЫМ МИРОМ
Рис. 1. Знаки, обнаруженные в Сидаке в сезоны
2001–2008 гг.: 1-70 – типы знаков в парадном
(«печатном») виде; 71-77 – скопления знаков.
Рис. 2. Знаки, обнаруженные в Сидаке в сезоны
2009–2012 гг. (типы знаков в парадном,
«печатном» виде): 71-91 – знаки, описанные до 2014 г.;
92-102 – знаки, выявленные при осмотрах 2014 г.
Рис. Знаки тюркского облика (2-9) и тюркская монета (1) из Сидака.
Рис. 4. Знаки кангюйско-сарматского облика из верхнего строительного горизонта Сидака.
Рис. 5. Крестовидная «цитадель» Культобе (г. Туркестан), II–I вв. до н.э.
Рис. 6. Знак на хуме из раскопок крестовидной «цитадели» на Культобе 2011 г.,
II–I вв. до н.э. (1) и его употребление сарматами в I – нач. III вв. н.э.: могильник Битак
(Центральный Крым), могила 40/2 (2); Танаис (Новочеркасский музей) (3-4);
Пантикапей (5); Кривой Рог (6) (на каменных плитах знак отмечен значком «А»).
Рис. 7. Знак на хуме из Культобе, 2011 г.,
II–I вв. до н.э. (1), могильник Битак,
могила 56 (2); Кобяково, мог. 65/1957,
23/1962 и 25/1962 (3-5), I – нач. III в. н.э.
Рис. 8. Типы знаков, обнаруженных на Культобе
в 2012–2014 гг. в слоях I–III вв. н.э.:
1-27 – типы знаков в парадном («печатном») виде;
I-II – знаки кангюйско-сарматского облика.
Рис. 9. «Точильный камень» из верхнего слоя Сидака и знаки на нем.
Рис. 10. Образцы знаков хунну: 1-2 – фото С.А. Яценко; 3-4, 6 – по: Воронятов, 2013;
5 – по: Торбат, Батсzх, Баярхzzн, 2012.
К статье Таласбаевой А. К. РОДОПЛЕМЕННЫЕ ТАМГИ НАЙМАНОВ
ПО АРХИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ XVIII–XIX ВВ.
К статье Рогожинского А. Е.СОСЛОВНО-ДИНАСТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ КАЗАХСКИХ ТОРЕ
Рис. 1. Схема сравнительного анализа основных литературных источников и архивных данных по тамгам найманов.
Рис. 1. Сравнительный анализ источников по тамгам джучидов конца XVIII – начала XX в.
Составитель А. Е. Рогожинский. 2014 г.
Ри
с. 2
. Ф
ам
ил
ьн
ые
ра
зно
ви
дн
ос
ти
та
мги
ка
зах
ски
х т
ор
е к
он
ца
XV
III
– н
ач
ал
а X
X в
. С
ос
та
ви
те
ль
А.
Е.
Ро
гож
ин
ски
й.
20
14
г.
Рис. 3.Распределение
разновидностей тамги торе
по хронологиии отдельнымфамильным
ветвям.Составитель
А. Е. Рогожинс кий. 2014 г.
Рис. 4. Распределение разновидностей тамги торе по отдельным фамильным ветвям (султанши).
Составитель А. Е. Рогожинский. 2014 г.
Рис. 5. Тамги султана Ишмухаммеда Айтанова на прошении о принятии российского подданства (вверху)
и присяжном листе. 1852 г. ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 416а. Л. 89, 99.