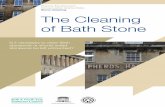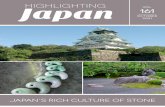Inverse models of gravity data from the Red Sea-Aden-East African rifts triple junction zone
E. Kashina. Mobile Art of the East European Forest Zone Final Stone Age
Transcript of E. Kashina. Mobile Art of the East European Forest Zone Final Stone Age
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
_____________________________________________________________________________
На правах рукописи
Кашина Екатерина Александровна
Искусство малых форм неолита–энеолита лесной зоны Восточной Европы
Исторические науки: 07.00.06 – археология
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук
Москва 2005
Содержание Введение………………………………………………………………………………… 3
Глава 1. История изучения искусства малых форм неолита–энеолита……………... 12
лесной зоны Восточной Европы
Глава 2. Антропоморфные изображения……………………………………………… 21
Раздел 1. Ретушированные изображения……………………………………………… 21
Раздел 2. Лепные изображения………………………………………………………… 30
Раздел 3. Резные изображения…………………………………………………………. 48
Раздел 4. Графические изображения…………………………………………………... 64
Заключение……………………………………………………………………………… 69
Глава 3. Зооморфные изображения……………………………………………………. 73
Раздел 1. Изображения птиц…………………………………………………………… 73
1. Резные изображения птиц…………………………………………………………. 73
2. Лепные изображения птиц………………………………………………………… 85
3. Ретушированные изображения птиц……………………………………………… 93
4. Графические изображения птиц…………………………………………………... 97
Раздел 2. Изображения млекопитающих……………………………………………… 105
1. Резные изображения млекопитающих………………………………………… 105
2. Ретушированные изображения млекопитающих……………………………... 118
3. Лепные изображения млекопитающих………………………………………... 123
Раздел 3. Изображения змей и рыб……………………………………………………. 127
1. Изображения змей………………………………………………………………. 128
2. Изображения рыб……………………………………………………………….. 132
Заключение……………………………………………………………………………… 135
Заключение. Роль и значение предметов искусства малых форм …………………... 139
в жизни древних обществ лесной зоны Восточной Европы
Список использованной литературы………………………………………………….. 153
Список сокращений…………………………………………………………………….. 165
Приложение 1. Каталог предметов искусства малых форм
неолита–энеолита лесной зоны Восточной Европы
Приложение 2. Альбом иллюстраций к каталогу
2
Введение. Изучение различных аспектов духовной жизни и мировоззрения древних обществ
является одной из наиболее сложных областей археологического исследования. Основой
для такого исследования может служить особая группа археологических источников, к
которой относятся погребения, «культовые места», а также памятники изобразительного и
прикладного искусства, представленные, в том числе, антропоморфными, зооморфными
или иными изображениями.
Искусство каменного века представляет собой уникальный материал для изучения
духовной жизни древних обществ. Создание изображений было обусловлено
материальными и духовными нуждами человека: необходимостью обеспечения пищей,
продолжения рода, защиты и благополучия человека. Каждое такое изображение
отражало в той или иной степени пути осмысления древним человеком окружающего
мира и было предназначено для передачи определенной ритуальной информации.
Исследователи полагают, что для человека каменного века и рукотворная вещь, а
также природные и социальные явления были равноправны и тождественны: базой всей
структуры мира являлся миф, и, поэтому, любая вещь для него оказывалась носителем
многообразной мифологической информации. Это относится не только к собственно
антропоморфным и зооморфным изображениям, но и к утилитарным (с современной
точки зрения) предметам, которые несут изобразительные черты, например: сосуд с
изображениями на нем птиц, ковш с ручкой, украшенной головой медведя или птицы и
т.д. Любой предмет – это определенный знак и, по существу, любой его признак
выступает как носитель информации о семантике этой вещи (Антонова, Раевский, 1991. С.
212, 215, 218).
При обращении к вопросам семантики искусства каменного века необходимо
привлечение некой дополнительной информации, потому что никакая совокупность
материальных, в том числе, изобразительных, памятников не обеспечивает полноценного
проникновения в мифологию оставившего их коллектива. При изучении искусства более
поздних эпох исследователю помогает синхронный (или не очень отдаленный
хронологически) записанный памятник народной словесности или обобщенные и
обработанные этнографические данные. Основная трудность работы с материалами
искусства каменного века состоит в том, что таких дополнительных данных у нас
немного. Поэтому рассчитывать на всестороннюю реконструкцию мифологии
исследуемого общества невозможно, тем более на воссоздание ее конкретных сюжетов.
Речь может идти лишь о проникновении в принципы мировосприятия носителей этой
мифологии (Антонова, Раевский, 1991, с. 223).
3
По мнению большинства исследователей, методы и понятия искусствоведения не
подходят для изучения памятников первобытной изобразительной деятельности,
поскольку не раскрывают ее семантическую сторону. Вся духовная жизнь древних людей
проходила в единой духовно-мировоззренческой среде, не расчлененной на отдельные
сферы культуры, поэтому говорить об искусстве первобытности можно только в
иносказательном смысле (Шер, 2000. С. 83).
Искусство малых форм неолита-энеолита лесной зоны Восточной Европы
привлекает внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей уже на
протяжении более чем ста лет. История исследования этих материалов будет подробно
изложена в главе 1.
В связи с накоплением материала и появлением отечественных и зарубежных
обобщающих работ становится все более очевидным тот факт, что колоссальная
территория, включающая в себя Фенноскандию, Восточную Балтию и Европейскую
Россию, составляла в неолите и энеолите единый в культурно-хозяйственном отношении
мир со сходным жизненным укладом, орудийно-вещевым набором, и духовными
представлениями (Wyszomirska, 1984; Тимофеев, 1999). В конце IV – первой половине II
тыс. до н.э. на территории лесной зоны Восточной и Северной Европы произошел всплеск
искусства малых форм, который не отмечается ни в более ранее, ни в более позднее время.
Большая часть этого материала в силу разных причин найдена на территории Восточной
Европы.
К настоящему времени общее количество зафиксированных мною предметов
насчитывает 433 экз. Каждый год раскопки приносят по 1-3 новых предмета. Изображения
изготовлены из различных материалов: кремня, кварцита, глины, кости, рога, янтаря,
дерева. Предметы искусства малых форм представляют определенный сюжетный круг,
связанный с образами человека, птицы, наземных млекопитающих, змей, рыб. Эти образы
универсальны для искусства разных коренных народов Северной Евразии и Северной
Америки.
Изучение мелкой пластики неолита и энеолита сопряжено с целым рядом
трудностей. Материалы хранятся в музеях разных стран, поэтому визуально изучить их
пока не представляется возможным. Несмотря на публикацию целого ряда обобщающих
работ, основная масса материала освещена в коротких публикациях. В них не всегда
приводятся качественные рисунки и описания, указываются размеры изображений.
Публикации отдельных вещей часто выполнены на достаточно поверхностном уровне, без
приведения аналогий, но зато в сфере интерпретаций приводится много необоснованных
высказываний. Исследователи бывают невнимательными к методологической базе,
4
полагая, что, собрав и описав материал без выделения строгих критериев его анализа, они
сделали достаточно, чтобы считать данную категорию предметов полностью изученной.
Отечественные и зарубежные исследователи при изучении искусства малых форм
неолита-энеолита традиционно привлекали данные по этнографии коренных народов
Урала и Сибири для расшифровки тех или иных особенностей морфологии или контекста
находки, как правило, отдельных вещей (Loze, 1970, Ozols, 1970, Nunes, 1986).
Привлечение отдельных, выборочных этнографических сюжетов к отдельным,
выборочным вещам не делает выводы достаточно убедительными.
Цели и задачи работы.
Рассмотрение всего круга предметов искусства малых форм на всей территории
лесной зоны Восточной Европы сейчас стало насущной необходимостью. Прежде всего,
оно может позволить выявить особенности древних мировоззренческих и религиозных
представлений. Территориальное и хронологическое соотношение различных групп
изображений может указывать на особенности мировоззрения отдельных древних
коллективов, обитавших в лесной зоне. Распространение на значительной территории
сходных образов, сюжетов и идей, является доказательством существования
определенных связей между отдельными районами.
Таким образом, результатом изучения искусства малых форм неолита-энеолита
лесной зоны Восточной Европы должно являться выделение территориально-
хронологических особенностей мировоззренческих представлений древнего человека на
основе морфологической систематики и изучения контекста находок.
При использовании этнографических данных необходимо выявлять ряд общих,
знаковых образов, значение которых сохранялось в обществах охотников и собирателей
Северной Евразии фактически неизменным, вне зависимости от культуры или региона.
Эти данные позволят уточнить смысловую интерпретацию изображений и увеличить
степень ее доказательности.
Цель этой работы состоит в том, чтобы выяснить а) значение предметов искусства
малых форм для обществ неолита-энеолита лесной зоны Восточной Европы и б)
территориально-хронологические и семантические особенности этих изображений.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд исследовательских
задач, связанных с комплексным исследованием материала. Основные задачи работы на
первом этапе состоят в изучении всех известных сегодня предметов с помощью
специального морфологического анализа (создания целого ряда классификаций), а также
обобщения данных картографирования, хронологии и проведения сравнительного
анализа. Основные задачи второго этапа исследования заключаются в выяснении
5
функционально-смыслового назначения предметов на основе данных о контексте находок,
об их орнаментации, а также путем привлечения материалов этнографических
исследований.
Актуальность и научная новизна темы.
Вопросы изучения духовного мира, особенно исторически отдаленных эпох, всегда
находились в центре внимания исследователей разных дисциплин: истории, этнографии,
философии, культурологии. Изучение мировоззрения древних обществ лесной зоны
Восточной Европы на базе археологических источников с непременным использованием,
прежде всего, этнографических материалов, проводится уже несколько десятков лет и
интерес к этой теме постоянно возрастает.
Научная новизна предлагаемого исследования состоит в том, что в нем предпринята
первая попытка обобщения и систематизации практически всей известной сегодня
коллекции искусства малых форм лесной зоны Восточной Европы эпохи неолита-
энеолита. В этой работе проведена критика источника на новом уровне, впервые создан
свод антропоморфных и зооморфных изображений, и проведена его подробная
морфологическая классификация. Анализ данных картографирования и хронологии
позволил проследить территориально-временные особенности распространения
отдельных групп предметов. На основе данных о технике изготовления, полноте
представленного объекта и способе крепления сформулированы более аргументированные
выводы об их функциональном и смысловом значении. Впервые предпринята попытка
рассмотрения этих предметов в системе универсальных мировоззренческих
представлений охотников-рыболовов-собирателей Северной Евразии.
Методическая основа работы.
Методы, примененные в этой работе, обусловлены особенностями источников.
Целый ряд предметов недоступен для визуального изучения, многие повреждены,
подавляющее большинство вещей не имеет четкой датировки. Существующие
морфологические классификации построены нечетко и охватывают отдельные
(региональные) группы предметов. Выводы о функции и семантике изображений плохо
аргументированы и граничат с фантазиями.
Опыт комплексного изучения предметов искусства малых форм является основным
методом этой работы. На начальном этапе выделены устойчивые морфологические
группы, выявлено их территориальное, морфологическое и хронологическое
соотношение. Исследование зон бытования изображений, их форм и происходящих в них
изменений, является первой частью комплексного исследования. Во второй части на
основе полученных данных формулируются предположения о функциональном
6
назначении, прямом использовании и возможных смысловых значениях предметов. По
такому принципу построены все разделы глав 2 и 3.
Создание общей для всех предметов классификации, основанной на
соподчиненности единого набора признаков, вероятно, пока невозможно. Этого, главным
образом, не позволяет разнообразие сырья: предметы из разных материалов существенно
различаются в наборе структурных элементов фигуры. Так, например, среди
ретушированных изображений известны только полнофигурные, выполненные в
силуэтной манере, однако антропоморфные даны в фас, а зооморфные – в профиль. При
этом имеются исключения: единичные антропоморфные изображения даны в профиль, а
единичные зооморфные – в фас («вид сверху»).
Так как все предметы изучены с разной степенью детальности, а также из-за того,
что подобная работа производится впервые, наиболее рациональным представляется
следующее разделение: 1) по сюжету: антропоморфные и зооморфные изображения; 2) по
технике изготовления тех и других: ретушированные, лепные, резные (техника
изготовления объединяет кость, рог, дерево, янтарь), плоскостные (нанесенные по сырой
глине). Для более полного и всестороннего рассмотрения зооморфных изображений
соблюдается принцип группировки по сюжету: «птицы», «млекопитающие», «змеи и
рыбы». Далее в работе используется три отдельных морфологических классификации. На
основе уникальных, расширенных наборов признаков рассматриваются ретушированные
и лепные антропоморфные изображения (классификации 1 и 2). Это связано с тем, что они
хорошо представлены количественно и изучены более подробно (Kashina, 2002; Кашина,
2004). Краткий универсальный набор признаков (классификация 3) включает в себя
следующие признаки: 1) характер изображения (автономное или зависимое), 2) полнота
(полнофигурное или парциальное); 3) крепление (наличие или отсутствие). На этой основе
подразделены резные антропоморфные и зооморфные (птицы и млекопитающие)
изображения. Остальные изображения (ретушированные зооморфные, лепные
зооморфные, плоскостные птицы и резные пресмыкающиеся и рыбы), составляющие
малочисленные группы, не рассматриваются в рамках развернутой классификации, а
проверяются на соответствие определенным критериям, специфичным для каждой
группы. Так как здесь производится первая попытка систематизации малых групп
материала, в дальнейшем система критериев может быть заменена на более развернутую,
классификационную. Сегодня такая методика представляется наиболее подходящей для
работы с этим материалом.
7
Источники.
Источником исследования являются все известные автору в настоящее время
антропоморфные и зооморфные изображения лесной зоны Восточной Европы IV – первой
половины II тыс. до н.э. Всего учтено 433 экз.
Как уже отмечалось, эти материалы нередко служат почвой для необоснованных и
недостоверных интерпретаций. В один ряд с антропоморфными и зооморфными
изображениями ставятся вещи, которые таковыми не являются или вообще не относятся к
артефактам. В целом, существование уникальных, морфологически единичных
изображений отрицать нельзя. Однако пока единственным критерием «истинности» нео-
энеолитических изображений является их серийность. Морфологическое сходство
предметов, обоснованное исследователем в рамках групп, доказывает их «подлинность».
Во время подготовительной работы мной уже была проведена такого рода сортировка
данных, поэтому ряд вещей, опубликованный как изображения животных и людей, я здесь
не рассматриваю.
Почти все материалы происходят с многослойных памятников, поэтому
археологический контекст многих находок определить затруднительно. Кроме того,
некоторое количество вещей относится к случайным находкам. Из-за многослойности
памятников трудно правильно датировать многие находки. Подразделяя группы
предметов по хронологии, приходится оперировать периодами протяженностью не менее
чем в 500 лет. Относительное датирование большинства вещей производится согласно
хронологии слоя, в котором обнаружена находка, по орудийному комплексу или
керамике. В последние годы получен ряд абсолютных дат для некоторых изображений,
найденных в погребениях и в придонных слоях жилищ. Однако этих дат так мало, что
дробное хронологическое деление материала не будет возможно еще на протяжении
долгого времени, до накопления значительного объема хорошо датированных находок.
Углубленный морфологический анализ, проводимый в этой работе, позволяет более
корректно и обоснованно датировать рассматриваемые материалы.
Для написания этой работы в основном использовались публикации результатов
исследования памятников и сообщения об отдельных находках предметов искусства:
монографии, статьи в научных сборниках и периодических изданиях. Кроме того, были
изучены коллекции Государственного Исторического музея, Государственного Эрмитажа,
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого, музея Института языка,
литературы и истории Республики Карелия, Карельского краеведческого музея,
Ивановского областного краеведческого музея, Тверского государственного
объединенного музея, Археологического музея Ивановского государственного
8
университета, Музея-заповедника «Волоколамский Кремль», Муромского историко-
художественного музея. Несколько неопубликованных экземпляров были любезно
предоставлены Е.Д. Каверзневой, Н.В. Лобановой, Е.Л. Костылевой, за что автор
приносит им свою искреннюю благодарность.
Хронологические рамки работы.
Хронологические рамки исследования – IV – первая половина II тыс. до н.э.
Условная периодизация, принятая в отечественной науке для этого временного интервала
– средний неолит – поздний неолит – энеолит. Из-за нечеткости датировок большинства
изображений хронологические рамки и грани между периодами нечетки: многослойный
характер большинства поселений также затрудняет датирование. Поэтому во многих
случаях при датировании предметов приходится опираться на мнения авторов
публикаций. Однако, если предлагаемые даты по тем или иным причинам вызывают
сомнения, их уточнение производится на основе морфологической классификации и
вещей-аналогов.
Реконструкция процесса смены археологических культур на территории лесной зоны
Восточной Европы в изучаемую эпоху – это отдельная проблема, которая, естественно,
находится за пределами этой работы. По современным научным представлениям, смена
культурных традиций происходила относительно плавно, но при этом почти
одновременно на большой территории. Культурно-историческая общность гребенчато-
ямочной и ямочно-гребенчатой керамики сменяется в начале III тыс. до н.э. рядом
культур, объединенных присутствием керамики с пористой структурой (из-за
органической примеси или асбеста), которые, в свою очередь, в первой половине II тыс.
до н.э. довольно быстро угасают, сменяясь культурно-исторической общностью шнуровой
керамики и боевых топоров. Эпоха III тыс. до н.э. – это время расцвета технологий
обработки твердых материалов и межрегионального обмена некоторыми видами сырья,
прежде всего, янтарем и кремнем, а также и расцвета искусства малых форм.
Географические рамки.
Территория распространения изучаемых изделий представлена на рис. 1. Само
понятие «лесная зона Восточной Европы» требует расшифровки. Этим термином в
отечественной литературе определяется обширная территория в границах бывшего СССР,
охватывающая Север, Запад и Центр Восточной Европы, крайними точками которой
являются: с севера и северо-востока – северо-восточное побережье Кольского п-ва и
побережье Белого моря, с юга и юго-запада – север Пензенской области и юго-восток
Белоруссии, с запада – восточное и юго-восточное побережье Балтийского моря, с востока
– среднее течение р. Волги. В состав этой территории включают: Кольский п-ов,
9
Беломорье, Большеземельскую тундру, Карелию, Приладожье, Восточную Балтию,
Подвинье, Валдайскую возвышенность, Поочье, Верхнее и Среднее Поволжье. Эта
территория включает в себя регионы с различными природно-климатическими условиями:
некоторой разницей среднегодовых температур, характера климатических сезонов, форм
ландшафта, размера водоемов, характера растительности и видового состава животного
мира.
Практическая значимость.
Полученные результаты и материалы могут быть использованы в обобщающих
работах по истории неолита и энеолита лесной зоны Восточной Европы, а также при
создании учебных курсов, археологических и других экспозиций музеев.
10
Апробация результатов работы.
Основные результаты работы изложены в 9 научных публикациях. Среди них –
тезисы докладов на российских региональных и международных конференциях
(Ежегодные научно-методические семинары «Тверская земля и сопредельные территории
в древности и средневековье» (г. Тверь, 2002-2004 гг.), Научные чтения памяти В.А.
Городцова (г. Москва, 2003 г.), международные конференции Европейской ассоциации
археологов (EAA) (г.Фессалоники (Греция), 2002 г., г. Санкт-Петербург, 2003 г.),
Интернационального союза по изучению до- и протоисторических дисциплин (UISPP), г.
Льеж (Бельгия), 2001 г.). Отдельные положения работы обсуждались на заседаниях
Проблемного совета по археологии (ГИМ, 2001 г.), сектора каменного века и сектора
бронзового века ИА РАН (2004, 2005 г.). Научные статьи по теме опубликованы в
нескольких периодических изданиях, таких как «Российская археология», «Тверской
археологический сборник», в ряде зарубежных журналов и в сборниках научных статей.
Структура работы.
Предлагаемая работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
литературы и приложения. Глава 1 посвящена истории изучения материала. В главе 2
рассматриваются антропоморфные изображения; она включает в себя четыре раздела,
посвященные ретушированным, лепным, резным и графическим изображениям. Глава 3
посвящена зооморфным изображениям и включает в себя три раздела (изображения птиц,
млекопитающих, змей и рыб). В главе 4 рассматривается вопрос о предполагаемом месте
и значении изучаемых изображений в системе мировосприятия древнего населения лесной
зоны Восточной Европы. В заключениях к главам подводятся итоги проделанной работы
и намечаются перспективы дальнейших исследований. Приложение состоит из двух
частей: каталога всех изученных материалов и альбома иллюстраций к нему.
11
Глава 1. История изучения искусства малых форм неолита–
энеолита лесной зоны Восточной Европы. Рассматриваемые материалы относят к разряду редких и даже уникальных находок
на памятниках эпох неолита-энеолита. Это вполне справедливое утверждение, если
вспомнить, что примерно за 120 лет найдено всего 433 предмета. Их число ежегодно
увеличивается всего на несколько экземпляров.
До начала планомерных археологических исследований накопление шло гораздо
более медленными темпами, что и определило особенность первого периода их изучения
– XIX-первой трети XX в. Это – период работ любителей древностей, таких как А.С.
Уваров, Н.К. Рерих, В.М. Иверсен, П.П. Кудрявцев, А.А. Иностранцев, В.С.
Передольский. В поле зрения первых четырех авторов попали первые находки кремневых
антропоморфных изображений: это находки Н.К. Рериха при работах на территории
своего имения на оз. Бологое и сборы на берегах других валдайских озер, находки П.П.
Кудрявцева и В.М. Иверсена на Волосовских стоянках. Кроме того, А.С. Уваровым и Н.К.
Рерихом были введены в научный оборот первые случайные находки фигурных топоров-
молотов с головами лося и медведя (Уваров, 1881; Иверсен, 1899; Кудрявцев, альбом;
вещи из собрания Н.К. Рериха опубликованы в: Замятнин, 1948; Carpelan, 1975). Со
стоянки Коломцы под Новгородом происходит первое графическое изображение на
керамике, найденное на территории России (Peredolski, 1905). Работы по прокладке канала
у южного побережья Ладоги дали материал для подготовки обстоятельной работы
петербургского профессора А.А. Иностранцева, включившей в себя не только
археологические, но и остеологические, антропологические, геологические и
геоморфологические данные. Там было обнаружено костяное антропоморфное
изображение, правда, ошибочно определенное автором как орудие особой формы
(Иностранцев, 1882).
Первые находки резных антропоморфных и зооморфных изображений периода
неолита –ранней бронзы Северной Европы и Восточной Балтии были опубликованы за
рубежом в конце XIX – начале XX в. вместе со многими другими эффектными находками
(зооморфными изображениями, украшениями и орудиями) в трудах Р. Клебса, О.
Альмгрена, О. Монтелиуса (Klebs, 1882; Almgren, 1907; Montelius, 1917). Все эти вещи, с
одной стороны, порождали у исследователей множество фантазий, с другой – вызывали
стремление искать аналогии, связи, задумываться о месте и значении территории лесной
зоны Восточной Европы в ряду других регионов (Западной, Южной Европы) в эпоху
каменного века.
12
Лепные изображения впервые привлекли внимание финских исследователей в
начале XX века как необычные глиняные изделия, не относимые к керамике, и при этом
отличавшиеся устойчивостью форм. Б. Цедерварф на поселении Jomala Jettbole (Йетбелле)
на Аландских островах выявил около 60 скульптур и их фрагментов (Cederhvarf, 1907).
Был опубликован ряд предметов и из других областей материковой Финляндии (Ailio,
1909; Äyräpää, 1942). Финские исследователи Й. Айлио и С. Пельси видели в первых
лепных антропоморфных изображениях «петухов» и «фаллические амулеты» (Ailio, 1909;
Pälsi, 1920).
Первые исследователи янтарной и глиняной антропоморфной скульптуры писали об
ее генетической связи с традициями западноевропейской палеолитической и
южноевропейской неолитической скульптуры малых форм (Klebs, 1882; Cederhvarf, 1907).
Эта проблема, неразрешимая на основе немногочисленных материалов того времени, не
решена и сейчас. Последние пятьдесят лет исследователи отстаивают концепцию
автохтонного происхождения изучаемого искусства малых форм (Гурина, 1961; Nunez,
1986).
Еще одной особенностью этого этапа являлись активные международные связи и
дискуссии о новых находках, имели место даже скандалы. В 1880-е гг. Г. де Мортилье
усомнился в подлинности волосовских ретушированных изображений, которые
привлекались в одной из европейских публикаций в качестве аналогий итальянским
кремневым подделкам, т.н. «камням Бреонио» (Замятнин, 1948. С. 85-86). Отечественные
исследователи публиковали сообщения о своих материалах за границей (в частности, В.С.
Передольский, А.А. Спицын); скандинавские исследователи также включали их в свои
сводки (Aspelin, 1877; Ailio, 1922). Большинство вещей, попавших на Антропологическую
выставку 1879 г. в Москве, вошло в атлас А.С. Уварова (Уваров, 1881). Путеводитель по
«региональной» выставке материалов каменного века «ильменско-волховского побережья
и земель Велико-Новгородского державства» был составлен В.С. Передольским
(Передольский, 1893).
Благодаря многим первым публикациям (В.С. Передольского, А.А. Иностранцева, Б.
Клебса, В.В. Кудрявцева), навсегда сохранились крупицы информации о предметах,
бесследно пропавших в последующие годы. Это – несколько фигурных молотов эпохи
бронзы из собрания Рериха, коллекция предметов из Коломцов и Ладожских стоянок,
часть янтарной коллекции Куршской косы, ряд кремневых и костяных изображений
Волосовских стоянок.
Следующий этап – 1930-1960-е гг. – был связан со значительным расширением
полевых работ, прерванным Великой Отечественной войной. Увеличение числа находок
13
(особенно в послевоенный период) привело к первым попыткам применения системного
подхода к изучению вещей, выделения серий, уточнения хронологии культур-носителей
изобразительных традиций.
Многие труды этого времени были посвящены древнейшей этнической истории
лесной зоны Восточной Европы, а предметы искусства рассматривались в отдельном
разделе (Брюсов, 1940, 1951; Фосс, 1952; Гурина, 1961; Янитс, 1954, 1959). Таким
образом, впервые при изучении предметов искусства малых форм лесной зоны Восточной
Европы были подняты вопросы о культурных влияниях и заимствованиях.
Лучшее для своего времени и актуальное до сих пор исследование антропоморфных
и зооморфных ретушированных изображений было проведено С.Н. Замятниным
(Замятнин, 1948). Им была проделана большая работа по изучению материалов музеев,
частных картотек, переписка и личные беседы с краеведами и работниками музеев. Ему
удалось собрать максимум материала, найденного к тому времени. В работе
каталогизировано более 40 находок с указанием места, обстоятельств находки, цвета
кремня, размеров и места хранения вещи. Согласно систематизации С.Н. Замятнина,
существовали изображения человека, мифологических персонажей, млекопитающих,
птиц, пресмыкающихся и рыб, а также символические (принадлежность которых к
искусству малых форм остается спорной). Им была предложена первая классификация
антропоморфных ретушированных изображений, по которой они разделены на две
группы:
1. «Человеческие изображения» – фронтальные, симметричные, обязательно
обладают такими элементами, как голова, туловище, ноги. Руки у ряда скульптур могут
намеренно не моделироваться. Изображения с двумя парами выступов по бокам туловища
(одна передает руки, другая – груди), следует, по мнению автора, считать женскими. К
этой группе так называемых «человеческих» автор относит большинство изображений.
2. «Изображения мифологических персонажей». Обладают тем же набором
признаков, однако «необыкновенность» некоторых элементов (например, своеобразные
очертания головы) заставляет выделять эти изображения в отдельную группу.
Основные проблемы, поставленные С.Н. Замятниным, до сих пор не решены
исследователями, а именно: хронология изображений, характер их связи с петроглифами,
семантика (вопрос о кремне как объекте почитания).
А.Я. Брюсов, М.Е. Фосс и Л.Ю. Янитс (Брюсов, 1940; Фосс, 1952; Янитс, 1959)
признавали большое сходство глиняных изображений из своих раскопок с так
называемыми финскими «фигурками с бобовидным торсом», однако, предпочитали
определять их как зооморфные изображения (птицы, медведя).
14
Исследования серий лепных антропоморфных скульптур и графических
изображений птиц были проведены М.Е. Фосс и Н.Н. Гуриной в рамках крупных
монографий и в статьях (Фосс, 1952; Гурина, 1961, 1972). Обе исследовательницы отнесли
эти вещи к кругу культур с гребенчато-ямочной керамикой на территории южной
Финляндии, Карелии и Восточного Прионежья. М.Е. Фосс отмечала сходство лепных
изображений со стоянки Кубенино с фигурками не только материковой Финляндии, но и
Аландских островов, ставя, таким образом, вопросы о межплеменных связях, при этом, не
отрицая существования на изучаемых территориях различных этнических общностей. Она
впервые использовала этнографический материал для понимания этих находок, связывая
изображения с возникновением культа предков (Фосс, 1952. С. 38, 76). Н.Н. Гурина
объясняла появление графических изображений на керамике важным хозяйственным
значением водоплавающей птицы в жизни северного неолитического населения и
предполагала существование в эту эпоху развитого культа животных (Гурина, 1961. С.
148, 152).
Л.Ю. Янитс, изучивший на территории Эстонии некоторое количество лепных и
резных изображений, относил их к культовым предметам, однако вполне справедливо
считал имеющееся количество находок недостаточным для интерпретации древних
верований. Тезис автора о подчеркнутом схематизме антропоморфных и реализме
зооморфных изображений представляется противоречивым, так как Л.Ю. Янитс не
включил в публикацию по меньшей мере три лепных зооморфных изображения, объяснив
это фрагментарностью предметов (Янитс, 1959. С. 276-277).
В связи с расширением полевых работ в 1930-60-ых гг. (и проведением, в том числе,
первых охранных раскопок), коллекция предметов искусства малых форм значительно
пополнилась. Эти работы открыли новые возможности для сопоставления новых и ранее
найденных предметов и обсуждения их роли и места в жизни древнего населения лесной
зоны Восточной Европы (Земляков, 1936; Смирнов, 1941; Репман, 1957; Раушенбах, 1969;
Цветкова, 1961, 1969; Чернявский, 1967, 1969; Микляев, 1967; Микляев, Минасян, 1968;
Ванкина, 1970). Сенсацией этого периода стала полная публикация Н.Н. Гуриной
материалов Оленеостровского могильника (Карелия) (Гурина, 1956). Найденные там
антропоморфные и зооморфные скульптуры эпохи позднего мезолита обнаруживают
аналогии с рядом нео- и энеолитических предметов искусства малых форм.
Исследования финских археологов в области неолитического искусства не
ограничивались территорией Финляндии. Несомненным достоинством их работ было не
только скрупулезное морфологическое описание публикуемых предметов, но и отличное
знание российской археологической литературы конца XIX-первой половины XX вв.
15
Наиболее примечательны работы А. Яюряпяя и Т. Миеттинена, в которых подробно
рассматриваются финские лепные антропоморфные изображения (как старые, так и новые
материалы), разрабатывается их морфологическая систематика и вопросы смыслового
значения (Äyräpää, 1942; Miettinen, 1965). Заслуживают внимания публикации А. Яюряпяя
и Т. Эдгрена, посвященные графическим изображениям птиц на керамике, которые
наиболее широко были распространены в Финляндии (Ayrapaa, 1953; Edgren, 1967).
Основная цель всех этих работ – подробная и точная публикация материалов с указанием
всей предшествующей литературы по вопросу, номеров хранения, обязательное наличие
хорошего рисунка или хорошей фотографии с указанием масштаба. В гораздо меньшей
степени авторы стремились анализировать и сравнивать между собой описываемые
предметы искусства. Относительно назначения и смысла изображений они обычно
ограничивались общими замечаниями об их ритуально-магическом характере.
В 1970-1980-е гг. подход к изучению первобытного искусства вообще, и, в
частности, на рассматриваемой территории эпохи неолита-энеолита претерпел
значительные изменения. Работы по теории семантики и семиотики помогли по-новому
взглянуть на первобытное искусство малых форм. Многие публикации посвящены сериям
изображений (одной культуры, одного региона или из одного сырья), гораздо шире стали
привлекаться этнографические данные. Обращает на себя внимание чересчур «вольное»
(на современный взгляд) использование этнографических данных: именно в этот период в
археологии возникает своеобразная «мода» на изучение семантики древнего искусства.
Особенно часто и уверенно в зарубежных работах используются материалы по
этнографии Сибири (Indreko, 1964; Ozols, 1970; Nunez, 1986).
В работах И.А. Лозе неоднократно рассматривалась коллекция искусства малых
форм Восточной Балтии, особенно подробно – лепные и резные изображения (Лозе, 1970,
1973; Loze, 1970, 1995). Морфологическая систематика лепных изображений была
построена довольно расплывчато и основывалась на анализе всего 12 предметов, но
впоследствии автор поместила восточно-балтийские материалы в морфологическую
схему, предложенную финскими исследователями. И.А. Лозе в своих работах также
рассматривала восточно-балтийскую резную скульптуру в своих работах, но, к
сожалению, ограничиваясь только общим описанием морфологии разных предметов.
Основные принципы подразделения, предложенные исследовательницей – это сырье
(кость, рог, дерево, янтарь) и сюжет (антропоморфные и зооморфные) (Лозе, 1973; Loze,
1970, 1983). В одной из работ она высказала мысль о стилистическом сходстве костяных и
янтарных скульптур Тамулы и Йодкранте и возможности связи обеих групп находок с
культурой шнуровой керамики (Loze, 1970). Разделение автором всей резной скульптуры
16
на три временных этапа вызывает сомнение: ни случайные находки, ни ряд предметов
искусства из слоя многослойных поселений, на мой взгляд, не могут датироваться столь
четко (Лозе, 1973. С. 179). Резные изображения млекопитающих были классифицированы
исследовательницей следующим образом: по сюжетам и лишь на втором этапе – по сырью
и функции. Неясно, кто делал определения видов животных в этой работе; некоторые из
них, по нашему мнению, ошибочны. Также недоумение вызывают никак не обоснованные
в работе датировки всех предметов, включая недокументированные материалы сборов
подъемного материала, а также вещи, найденные в культурных отложениях многослойных
поселений (Loze, 1970). Широкое использование И.А. Лозе этнографических данных по
Сибири для интерпретации функционально-смыслового назначения различных зоо- и
антропоморфных изображений представляется не всегда обоснованным, поскольку автор
проводит сопоставление отдельных вырванных из контекста этнографических фактов и
отдельных же предметов или групп материала из раскопок. Тем не менее, несомненной
заслугой автора является изучение ярких материалов Восточной Балтии по особенностям
различных сырьевых и сюжетных групп.
С.В. Студзицкая является автором серии статей, посвященных обобщению, прежде
всего, средне- и северорусских материалов. В этих работах доминирует проблема
культурных связей между регионами лесной зоны Восточной и Северной Европы,
которую автор разрабатывает на материале антропоморфных и зооморфных изображений.
Близость различных категорий изображений по стилистике и технологии изготовления от
Финляндии до Урала автор объясняет общностью происхождения культур этой
территории III – начала II тыс. до н.э. Особенно тесные связи, по мнению автора,
связывали территории Волго-Окского междуречья и Восточной Балтии в III тыс. до н.э.
(Студзицкая, 1971. С. 43-45). Автором была составлена наиболее полная сводка
восточноевропейских изображений с подведением итогов изучения их морфологии,
хронологии и смысловой нагрузки (Студзицкая, 1985). С.В. Студзицкая отмечала, что
резные антропоморфные (и зооморфные) изображения лесной зоны Восточной Европы
изготовлены с применением двух разных базовых техник: «плоской резьбы» и «круглой
скульптуры» (Студзицкая, 1985. С. 108-110). «Плоская резьба» предполагает работу с
плоской и относительно тонкой заготовкой однородной толщины - пластиной.
Изображение вырезается по контуру и снабжается необходимыми деталями с
использованием приемов объемной резьбы или гравировки. Изделие ориентировано на
восприятие только спереди или только сзади. «Круглая скульптура» предполагает работу
с объемной заготовкой, имеющей округлое или подтреугольное сечение. Изображение
создается приемом объемной резьбы, иногда с применением гравировки. Изделие
17
ориентировано на восприятие с разных сторон: спереди, сзади, сбоку. Однако, на
современном этапе изучения резной скульптуры выяснилось, что четкое разграничение
скульптур по этим двум признакам не всегда возможно.
Для антропоморфных изображений, в целом, автор отмечает единообразие общей
изобразительной схемы предметов из глины, доминанту мужского образа и устойчивую
иконографию в трактовке лица восточно-балтийских скульптур из кости, рога и янтаря
(Студзицкая, 1985. С. 105-113). Выделение особого комплекса костяных и кремневых
изображений, характерного именно для круга волосовских древностей, является особой
заслугой автора. Однако поддержка С.В. Студзицкой необоснованной гипотезы Д.А.
Крайнова о доминировании культа медведя у волосовцев представляется мне ошибочной.
Волосовские скульптурные изображения медведя известны всего в трех экземплярах и
выполнены из кремня. Их датировка расплывчата. Отнесение Д.А. Крайновым к «культу
медведя» так называемых «фаллических» предметов недоказуемо (Крайнов, 1988). Более
подробная аргументация на этот счет изложена в главе 3 настоящей работы.
В эти годы количество новых материалов заметно увеличивается. В основном, в
работах представлены «региональные» серии, образованные как старыми, так и новыми
находками в Восточной Балтии (Rimantiene, 1984, 1989; Загорскис, 1983; Лозе, 1983),
Карелии (Журавлев, 1972, 1976), Восточном Прионежье (Ошибкина, 1978), на северо-
западе России (Зимина, 1981) и в центральной России (Цветкова, 1973; Крайнов, 1978,
1988).
В зарубежных работах рассматриваемого периода намечаются те же тенденции.
Монография Б. Вышомирской охватывает материалы искусства малых форм Северной
Европы, а также частей Центральной и Восточной Европы (Wyszomirska, 1984). Так как
основная цель работы связана с анализом погребального обряда, то интересующие нас
материалы рассмотрены с разной степенью подробности. Видимо, из-за иной
направленности работы и большого количества материала выводы работы довольно
неглубокие и имеют общий характер. Функциональная и смысловая нагрузка
изображений, представляющих искусство малых форм, автор связывает с: погребальным
обрядом, охотничьей магией, шаманскими действиями, игрушкой. На наш взгляд, эти
заключения довольно спорны. Наиболее важным представляется тезис о существовании
на указанных территориях в позднем каменном веке «единого культурного организма» с
одинаковым экологическим и экономическим потенциалом, содержащего аналогичные
феномены как в материальной культуре, так и в духовной жизни.
Лепные антропоморфные изображения Финляндии были великолепно обобщены М.
Нуньесом (Nunez, 1986). Он выделил три основные группы глиняных изображений: «W»
18
(«западная») – выпрямленные без проработанных черт лица, «E» («восточная») –
согнутые, «А» («аландская») – выпрямленные с проработанными чертами лица. Он
соотносит группу «W» с ранним периодом культуры гребенчатой керамики, группу «E» –
с «типичным» и поздним периодами культуры гребенчатой керамики, группу «А» – с
периодом бытования культуры шведской ямочной керамики. Автор, как и его
предшественники, не ставил перед собой задачу создания строгой классификации и
выделил лишь самые основные группы, как и его предшественники. Его выводы
базируются на анализе как минимум полусотни финских глиняных скульптур. Помимо
морфологической классификации глиняных скульптур он выдвинул ряд гипотез об их
функциональном и смысловом назначении.
Очевидное отличие зарубежных работ 1970-1980-х гг. от более ранних – это очень
слабое знакомство с советской литературой. Цитируются лишь несколько работ,
вышедшие до 1960-ых гг. К сожалению, это явление было обоюдным и имело
объективные, политические причины. Приятным исключением является работа К.
Карпелана, посвященная анализу предметов древнего искусства с головами лося и
медведя в Северной Евразии (Carpelan, 1975), в которой автор со всей возможной
полнотой рассматривает материалы «по обе стороны границы». Автор подразделяет
изображения на автономные и сопряженные (работа посвящена вторым), которые делятся
им на функциональные категории (топоры-молоты, кинжалы и ножи, ложки и черпаки,
другие навершия), и уже в последнюю очередь рассматривается вид животного (лось,
медведь). Интересен подход автора к датированию предметов на основе выделения
разных стилистических групп изображений голов лося и медведя. Автор оговаривается,
что эти группы условны, что возможны изменения в датах. Действительно, описание этих
различий очень нечеткое; некоторые российские материалы эпох неолита-бронзы
отнесены по стилистическим особенностям к мезолиту и т.д. Тем не менее, автором была
затронута колоссальная по сложности проблема стиля, решению которой до сих пор
препятствует ограниченное количество материала.
С 1990-ых гг. наблюдается стремление исследователей России и стран Восточной
Балтии к анализу больших объемов материала, динамики изменения форм изображений,
выработке морфологических классификаций и созданию на их основе различных
интерпретаций. Целый ряд работ посвящен многочисленным собраниям искусства малых
форм лесной зоны Восточной Европы: ретушированных антропоморфных изображений
(Уткин, Костылева, 1996; Kashina, 2002; Кашина, 2005); лепных изображений (Loze, 1995;
Кашина, 2004); резных антропоморфных (Butrimas, 2000) и зооморфных изображений:
лося (Студзицкая, 1997; Irsenas, 2000) и птиц (Кашина, Емельянов, 2003).
19
А.В. Уткин и Е.Л. Костылева заново обобщили накопленные материалы
антропоморфных ретушированных изображений и предложили их новую классификацию,
согласно которой скульптуры подразделяются на четыре типа (Уткин, Костылева, 1996):
1) «Канонические изображения человека» – голова пропорциональна туловищу, ноги
показаны широко расставленными, руки – раскинутыми в стороны или прижатыми к
туловищу (в последнем случае С.Н. Замятнин видел изображение без рук); 2) «Женские
изображения» – туловище расширяется в области таза (или живота) (как упоминалось
выше, С.Н. Замятнин считал, что дополнительные выступы по бокам показывают груди);
3) «Изображения существа, напоминающего стоящего на задних лапах медведя» – голова
крупная, либо приплюснутая, либо с «ушами» (то есть с выступами), массивное туловище,
обычно «кривые» ноги. Авторы относят к этому типу наибольшее количество
изображений; 4) «Изображения фантастических (мифологических) существ» – похожих на
людей, одетых в причудливые головные уборы и накидки; воплощают служителей культа,
хранителей и толкователей мифов (по составу этот тип отчасти повторяет группу 2
«мифологических персонажей», выделенную С.Н. Замятниным).
Значительное количество работ по-прежнему посвящено публикации отдельных
новых находок или небольших серий из самых различных регионов: Литвы, Карелии,
Вологодчины, Валдая, Мещеры, Поочья, Поволжья (Гирининкас, 1990; Жульников, 1999;
Жульников, Спиридонов, 2003; Витенкова, 2002; Журавлев, 1991; Недомолкина, 2000;
Черных, 1996; Каверзнева, Емельянов, 1996; Гонозов, 2003; Овчинникова, 2000; Габяшев,
1992). В зарубежной литературе последних пятнадцати лет интерес к искусству малых
форм Северной и Восточной Европы практически отсутствует. Единичные работы,
посвященные публикации новых материалов (прежде всего, лепных зоо- и
антропоморфных изображений), выполнены при разработке охранных региональных
проектов (Taavitsainen, 1982; Edgren, 1992; Karjalainen, 1997; Pesonen, 1996, 2000).
Перспективы изучения искусства малых форм лесной зоны Восточной Европы
связаны с его рассмотрением вместе с синхронным ему искусством Фенноскандии.
Исследования последнего десятилетия подтверждают, что население обширных
территорий лесной зоны Восточной Европы и Скандинавии длительное время составляло
единый мир, тесно связанный многими нитями взаимодействий. Есть основания
предполагать, что на этой территории, начиная с эпохи мезолита и раннего неолита,
существовали сходные обряды и обычаи, что подтверждается данными о духовной
культуре – материалами погребального обряда и произведениями искусства (Wyszomirska,
1984; Тимофеев, 1999).
20
Глава 2. Антропоморфные изображения. Раздел 1. Ретушированные изображения.
Введение.
На земном шаре существует всего несколько регионов, где кремень (или обсидиан)
применяли для изготовления скульптур. Помимо нашей территории, подобные вещи
известны на Дальнем Востоке, на Аляске, в отдельных областях Канады и США, Мексики,
Гондураса и Патагонии (Замятнин, 1948).
Антропоморфные скульптуры, выполненные из кремневых сколов в технике ретуши,
являются характерными предметами изобразительного искусства позднего неолита и
энеолита лесной зоны Европейской России. Антропоморфные кремневые изображения
часто фигурируют в публикациях, посвященных не только Европейской России, но и
Уралу и Сибири. В изучении этих изображений наиболее трудноразрешимыми являются
проблемы их датировки, выяснения культурной принадлежности, генезиса и особенностей
распространения. В последние десятилетия интерес к первобытному искусству постоянно
возрастает. Наиболее часто обсуждаются проблемы интерпретации, как смысловой (т.е.,
что эти изображения означали, какие образы были воплощены в них), так и
функциональной (т.е., для чего и как они использовались).
Со времени выхода работы С.Н. Замятнина (Замятнин, 1948) количество находок
увеличилось почти в три раза и сейчас их насчитывается 81 экз. Материал происходит в
основном с многослойных памятников, что создает трудности для датирования.
Случайных находок известно около 20 экземпляров. Еще меньшее количество изделий
происходит из дореволюционных и довоенных раскопок. Скульптуры, найденные в
разных регионах Европейской России, отнесены исследователями к разным культурам: из
бассейнов Волги и Оки – к волосовской культуре, с Валдайской возвышенности и из
бассейна р. Мсты – к мстинской, c восточного берега Онежского озера – к культуре
асбестовой керамики, из Архангельской и Вологодской областей – к каргопольской, с
южного побережья Белого моря – беломорской (Крайнов, 1992; Зимина, 1992; Ошибкина,
1992; Жульников, 1999). Все эти культуры относятся к энеолитической эпохе и в целом
датируются III тыс. до н.э.
Около 1/3 материала изучено мной непосредственно, остальные – по публикациям.
Изучение было сопряжено с рядом трудностей. Предметы разбросаны по разным музеям,
в публикациях не всегда содержатся сведения о контексте находок, не приводятся
рисунки, не указывается масштаб.
21
Техника изготовления.
Общей техникой изготовления для всех рассматриваемых изображений является
ретуширование. Материалом является кремень (исключение составляет скульптура из
кварцита, № 77). Кремень, применявшийся для изготовления антропоморфных
изображений имеет каменноугольное происхождение; его выходы распространены
широкой полосой от Подмосковья до Восточного Прионежья (Ковнурко, 1973. С. 39-40).
Цветовая гамма этого кремня ярка и разнообразна. Размеры изделий существенно
различаются: самое маленькое по высоте изображение – 1,7 см (№ 40), самое большое – 8
см (№ 76). Заготовкой могли быть как отщепы, так и пластины, а ретуширование могло
производиться как по краю, так и по всей поверхности. Скульптуры с двухсторонней
покрывающей ретушью составляют меньшинство (около 16 экз.). Очень редко предмет
обрабатывался только с одной стороны.
Морфология.
Несмотря на то, что все предметы, рассматриваемые здесь, изготовлены в
относительно сходной манере, среди них невозможно найти двух одинаковых – каждое
обладает индивидуальными морфологическими особенностями. Основная черта,
отличающая кремневые изображения от остальных неолитических скульптур (лепной и
резной), – это их схематизм. Мастер уделял основное внимание силуэту изображения, что
вполне естественно, так как при работе с кремнём затруднительно показать, например,
детали лица. Необходимым было, вероятно, отразить у фигуры наличие головы, пары ног
и (у большинства скульптур) рук. Четкости, тщательной проработке этих деталей,
внимание уделялось далеко не всегда; возможно, что здесь определенную роль играло
индивидуальное мастерство.
Морфологическая группировка скульптур базировалась обычно на выявлении
разных сочетаний некоторых «конструктивных» элементов человеческой фигуры. С.Н.
Замятнин впервые объединил все известные в то время кремневые скульптуры и
предпринял первую попытку их классификации, а также предложил их смысловую и
функциональную интерпретацию на интуитивном уровне (Замятнин, 1948). Согласно
классификации А.В. Уткина и Е.Л. Костылевой, созданной почти на пятьдесят лет позже
на базе гораздо большего объема материала, скульптуры подразделяются на четыре типа
(Уткин, Костылева, 1996) (см. главу 1). В подходах к интерпретации отдельных групп у
этих исследователей много общего. На мой взгляд, обе классификации основаны на не
вполне четких признаках (особенно при описании «фантастических существ»
антропоморфного облика). Предлагаемая мной классификация основана на таких
22
признаках, которые могут быть наиболее чётко выявлены визуально у всех без
исключения изображений. Классификация представлена на схеме (рис. 2).
Массив антропоморфных кремневых изображений может быть разделен на четыре
группы по следующим трем признакам:
1) Позиция изображаемого объекта; имеет два значения: «фронтальная» и «профильная».
2) Выступы-«руки» 4также характеризуется двумя значениями: «наличие» и
«отсутствие».
3) Пары дополнительных выступов помимо рук («ноги») характеризуется точно такими
же значениями («наличие» и «отсутствие»).
Выделено четыре группы изображений: 1) изображения в фас с руками и ногами (60
экз.); 2) изображения в фас с руками, ногами и парой дополнительных выступов помимо
рук (11 экз.); 3) изображения в фас с ногами, но без рук (9 экз.); 4) профильное
изображение; ноги даны в профиль, руки не показаны (1 экз.).
Территориальное распространение.
Территориальное распределение изображений (рис. 3) указывает на то, что
определенные и узнаваемые антропоморфные образы были известны в самых разных,
удаленных друг от друга районах лесной зоны Европейской России. Как видно на карте-
схеме, изображения выделенных групп достаточно равномерно встречаются по всей
территории лесной зоны. Возможно, здесь существовали разные традиции
воспроизведения образов, причем не только на всех памятниках в целом, но и в пределах
одного коллектива, жившего на конкретном памятнике. Доказательством могут являться
23
морфологические различия внутри серий скульптур, представляющих группы 1-2-3,
например, с памятников Репище и Волосово. Пока все предметы найдены по отдельности
(«клады» скульптур отсутствуют) и хронологический разрыв между изображениями
одного памятника не известен.
Очевидно, что фронтальные фигуры с руками и ногами (группа 1) являлись наиболее
распространенными в среде древнего населения этих территорий. Всего их насчитывается
58 экз. Остальные группы количественно значительно уступают первой. Поэтому, можно
предположить, что они создавались реже, вероятно, в связи с какими-то особыми
надобностями.
Обращают на себя внимание существенные различия в моделировке головы
изображений. Ее силуэт может быть как округлым, так и заостренным сверху, и даже
раздвоенным – «рогатым». Совершенно особый, ассиметричный тип головы – у
профильного изображения. Предметы с головами разных форм распределены по всей
территории достаточно равномерно.
Следует отметить, что такой же характер территориального распространения – у
скульптур, выполненных с помощью разных технических приемов. С.Н. Замятнин считал,
что для изображений Валдайской возвышенности более характерно ретуширование по
контуру и вытянутые пропорции, а для изображений бассейна Оки – ретуширование по
всей поверхности и приземистые пропорции. Согласно моим наблюдениям, разные виды
ретуширования (включая одно- и двухстороннюю обработку изделий краевой или
покрывающей ретушью) встречаются в самых разных районах. Пропорции скульптур –
отношения их длины к ширине (ширина измерялась в самой широкой части) – можно
математически выразить как 3:1 («вытянутые») и 2:1 («приземистые»). Ряд экземпляров
обладает промежуточными пропорциями. Территориальное распределение скульптур
разных пропорций не обнаружило каких-либо закономерностей, хотя изображения,
имеющие пропорции 2:1, преобладают количественно. Располагая менее чем половиной
из ныне известных материалов, С.Н. Замятнин, возможно, справедливо указывал на
преобладание на Валдае вытянутых изображений с краевой ретушью. За прошедшие
полвека основной «прирост» находок происходил в южной половине ареала
распространения этих предметов: Московской и Рязанской областях, на Средней Волге.
Но находки «приземистых» скульптур были сделаны и в северной половине ареала – в
Новгородской и Вологодской областях.
Некоторые данные свидетельствуют о том, что территориальное соотношение
изображений разных групп все-таки не полностью бессистемно: восточная и юго-
восточная части ареала распространения находок заполнены, преимущественно,
25
изображениями группы 3 – без рук. По набору морфологических элементов они наиболее
«лаконичны» и из-за этого могут возникнуть некоторые сомнения об их принадлежности
к скульптуре вообще. В энеолите Волго-Окского междуречья довольно распространены
т.н. «орудия с пуговкой» - ножи, скребки, сверла, на конце которых выполнены две
выемки. Таким образом, орудия снабжались как бы «головкой» (возможно, для ношения
орудия с собой), практически идентичной по форме головам ретушированных
антропоморфных скульптур. Однако редкость находок предметов группы 3
свидетельствует именно в пользу их изобразительного характера. Очевидна зональность в
их распределении (рис. 3). Они найдены в бассейнах Средней Оки, Мокши и Средней
Волги. Единственное изображение происходит из Верхнего Поволжья (№ 39).
Хронология.
Хронология изображений в настоящее время ясна не до конца. Существуют всего
три находки из закрытых комплексов (погребений с изделиями из янтаря на стоянках
Репище и Иловец I; № 13, 14, 32), которые, вероятно, относятся к середине III тыс. до н.э.
(Зимина, 1992; Урбан, 1973). Предположительная датировка всех скульптур – вторая
половина III тыс. до н.э. Не исключено, что эти предметы существовали и в начале II тыс.
до н.э. Особенно это вероятно для территорий побережья Белого моря (№ 2), Средней Оки
(№ 67, 70), а также Средней Волги и Примокшанья (№ 78, 80). Дело в том, что
значительную массу археологического материала на перечисленных памятниках
составляет либо «постволосовский» (керамика дубровичского типа, шагарского типа
(примокшанская), эпохи средней и поздней бронзы; ланцетовидные наконечники
Беломорья), либо «родственный» волосовскому инвентарь (имерская керамика).
Скульптуры без рук, распространенные в ограниченной зоне, найдены на памятниках,
содержащих большое количество «постволосовских» материалов. Поэтому можно с
осторожностью предположить, что эти изображения могли частично относиться к более
позднему времени, чем основная масса скульптур.
Функциональное значение.
Контекст обнаружения скульптур совпадает на многих памятниках. Подавляющее
большинство обнаружено в слое поселений (возможно, значительная часть – в жилищах,
но хорошо документированных данных слишком мало; всего лишь два изображения
достоверно происходят из придонной части жилищ (№ 70, 80) (Овчинникова, 2000;
Kashina, 2002)). Вполне вероятно, что такой контекст является свидетельством частого и
обычного использования ретушированных скульптур в повседневной жизни.
Напротив, в погребениях их находки единичны. Это две скульптуры со стоянки
Репище, одна – со стоянки Иловец I, и еще одна – со стоянки Мышецкая (№ 13, 14, 32, 48).
26
О двух предметах из Сахтыша IIA сообщается, что они найдены вблизи погребений (№ 41,
42). Вероятно, антропоморфные скульптуры из кремня играли определенную роль в
погребальном обряде, но насколько широко эта традиция была распространена – пока
сказать невозможно.
Любопытное мнение было высказано немецким исследователем Я. Озолсом (Ozols,
1973), который считает, что изображения нашивались на одежду. Его работа в целом
вызывает много возражений, так как в ней необоснованно отождествляются отдельные
предметы искусства малых форм (по материалам М.Е. Фосс и С.Н. Замятнина) с
отдельными ритуальными предметами шаманских комплектов сибирских аборигенов.
Однако имеются сведения, которые не позволяют полностью отвергнуть предположение о
подвешивании или ношении кремнёвых антропоморфных изображений на одежде. Одно
из них (№ 70) было намеренно изготовлено на отщепе с естественным отверстием, и,
таким образом, вполне приспособлено для продевания шнура и ношения. Нельзя
утверждать, что все изделия носились подобным образом – это только лишь
предположение. Согласно устному сообщению Е.Л. Костылевой, некоторые кремневые
скульптуры Сахтышских стоянок подвергались трасологическому исследованию, и на них
были выявлены «следы привязывания» (в частности, в области «шеи»). Однако эти
данные пока не опубликованы и не проверены на материалах других регионов.
Антропоморфные скульптуры из кремня обнаруживают очевидное сходство с
резными (обычно костяными) антропоморфными скульптурами – уплощенными, со
сквозными отверстиями, вероятнее всего, предназначенными для пришивания или
подвешивания, которые особенно распространены в Восточной Балтии. Будучи
полнофигурными фронтальными изображениями, они сходны между собой не только по
формам, но и по своим небольшим размерам. Находка похожей резной скульптуры
происходит из погребения могильника на стоянке Сахтыш IIА (№ 167). О ее сходстве с
кремневыми изображениями сообщают А.В. Уткин и Е.Л. Костылева (Уткин, Костылева,
1996). Следует отметить, что резные (костяные) уплощенные изображения птиц и
млекопитающих с отверстиями для крепления также находят определенные параллели в
кремневых изображениях.
Смысловое значение.
Устойчивость моделировки разных групп изображений указывает на существование
на обширных территориях лесной зоны Восточной Европы, по крайней мере, трех
различных антропоморфных «героев» (профильное изображение пока является
уникальным). Я согласна с мнением исследователей, что в изображениях могли быть
воплощены конкретные мифологические персонажи (Замятнин, 1948; Уткин, Костылева,
27
1996). Предположительно истолковать смысл разницы в «конструкции» фигуры можно
следующим образом. В группе 1 (60 экз.) объединены изображения с руками и ногами.
Возможно, так изображался реально существовавший человек (предок?). Группа 2 (11
экз.) включает фигуры с руками и парой дополнительных выступов по бокам туловища.
Вероятно, можно согласиться с мнением исследователей, предлагавших считать эти
фигуры изображениями женщин (предков?) – другую трактовку предложить сложно. Не
исключено, что дополнительные выступы символизировали особую одежду или какие-то
сопровождающие предметы. Скульптуры группы 3 (9 экз.) подразумевают фигуру без рук
и, вероятно, отображают некое мифическое существо антропоморфного облика, может
быть, тоже предка, воспринимавшегося отличным по строению тела от обычного
человека. Возможно, что руки показаны прижатыми к туловищу или же это вообще была
особая («юго-восточная»), более поздняя (?) схема передачи антропоморфного образа.
Группа 4 (1 экз.) представляет фигуру в профиль с немного согнутыми в коленях ногами,
возможно сидящую или движущуюся (например, танцующую). Совершенно необычное
изображение выделяет ее среди всех. Вещь является случайной находкой, аналогий ей не
известно.
Среди мифологических персонажей могли быть и некие зооантропоморфные,
синкретические герои. С.В. Студзицкая обратила внимание на сходство кремневого и
костяного антропоморфных изображений с оз. Пено и из Кубенино (№ 30, 128),
обосновывая появление синкретического образа человека-лося именно на территории
лесной зоны Восточной Европы во второй половине III тыс. до н.э. (Студзицкая, 1994).
Позднее оказалось, что такими признаками, как округлый живот и расставленные ноги,
обладает целый ряд кремневых изображений как первой так и третьей группы.
Отдаленное сходство одной фигуры онежских петроглифов (мыс Карецкий) с подобными
изображениями было подчеркнуто С.Н.З амятниным (Замятнин, 1948). Завершение
нижних конечностей этого изображения, а также фигурок с оз. Пено и из Кубенино
традиционно рассматривалось всеми исследователями как передача лосиных копыт
(Замятнин, 1948; Фосс, 1940; Ошибкина, 1978, 1992; Студзицкая, 1994; Kashina, 2001).
Однако «копыта» фигур с оз. Пено и мыса Карецкий – копьевидной формы, а «копыто»
Кубенино – совершенно другой; оно образовано широкой канавкой на месте
«щиколотки». Таким образом, ни та, ни другая форма «копыт» не являются, по крайней
мере, реалистическим изображением лосиного, раздвоенного копыта. Поэтому, вопрос о
«звериных ногах» этих предметов пока остается открытым.
Существование в ретушированной скульптуре образов синкретических существ
может подтверждаться наличием у ряда изображений голов сложных форм, которые
28
можно интерпретировать как головы млекопитающих, например, с вытянутой мордой,
ушами или рогами. Исследователи неоднократно называли некоторые из них
изображениями медведя на задних лапах, однако для этого нет достаточных оснований.
Прежде всего, они фронтальные и этим серьезно отличаются от группы профильных
кремневых изображений млекопитающих, интерпретированных как лось и медведь. Среди
нео-энеолитических резных скульптур ни разу не встречено изображение медведя,
стоящего на задних лапах.
С.Н. Замятнин предполагал существование у древнего населения лесной зоны
Восточной Европы «культа кремня», связанного, как он считал, с переходом к
использованию металла, а также со сходством изображений по сырью, технике
изготовления и своим размерам с наконечниками (Замятнин, 1948). Существует мнение,
что кремневые скульптуры бытовали именно на тех территориях, где он был
распространен в избытке (Ошибкина, 1978). Их единичность в Карелии, малое количество
– на Русском Севере и отсутствие в Восточной Балтии и Финляндии как будто
подтверждает это мнение. С кремнем также могли быть связаны определенные духовные
представления. Проявление этого можно усмотреть в так называемых «кладах»
волосовских кремневых орудий, связанных, как полагают исследователи, с погребениями
и «ритуальными площадками» (Цветкова, 1973). Возможно, кремень играл определенную
роль и в религиозных представлениях об огне. Одушевление его, как и массы других
природных объектов, столь характерное для первобытных обществ, также могло сыграть
роль в развитии традиции изготовления ретушированных изображений.
Выводы.
Ретушированные изображения являются наиболее многочисленной группой среди
остальных антропоморфных скульптур малых форм. Вероятнее всего, это объясняется
сохранностью кремня. Огромная территория их распространения может рассматриваться
как доказательство существования здесь единого комплекса духовных представлений и
прочных культурных связей.
Массив изображений достаточно однороден по таким параметрам, как
использованное сырье, размеры, контекст большинства находок, территориальная
разобщенность морфологических групп и техник ретуширования. У подавляющего
большинства изображений контекст их обнаружения не зафиксирован. Однако все же
удалось локализовать распространение одной из выделенных групп (третьей, изображения
без рук) – это бассейны Средней Оки, Мокши и Средней Волги.
Нижние рамки существования изображений могут быть определены приблизительно
серединой III тыс. до н.э. Верхняя граница остается нечеткой. Нельзя исключать
29
длительного бытования этих предметов. Возможно, что в ряде регионов они могли
сохраняться довольно долго и в бронзовом веке. Конкретных доказательств этому пока не
существует, однако антропоморфные и зооморфные изображения из кремня на Дальнем
Востоке известны на разных памятниках, как в позднем неолите, так и в средневековье
(Шоссоннэ, 1996).
Контекст находок может свидетельствовать о том, что эти предметы были обычны
для использования в повседневной жизни. Еще более осторожное предположение может
быть сделано относительно прямого использования скульптур: они могли нашиваться на
костюм или подвешиваться. В таком случае, их значение следовало бы считать
охранительным, согласно многочисленным этнографическим данным.
Изучаемые предметы искусства могли передавать определенные образы, известные,
по-видимому, всему населению Севера и Центра Европейской России. Согласно
исследованиям прошлых лет, в них могли быть воплощены как условно реалистические,
так и синкретические образы. Предложить более четкую интерпретацию пока
затруднительно. Антропоморфный образ с подчеркнуто округлым животом и
расставленными ногами имеет богатую этнографическую основу для интерпретации
(Kashina, 2004), однако весьма ограниченное количество подобных кремневых скульптур
пока не позволяет использовать эти данные.
«Культ кремня» (выражаясь словами С.Н. Замятнина), или, иначе говоря, особые
духовные представления о кремне и, возможно огне, вероятнее всего имели место в
рассматриваемую эпоху и могли повлиять на появление и развитие ретушированных
изображений.
Коллекция антропоморфных кремневых скульптур пополняется каждый год.
Тщательная фиксация контекста будущих находок и накопление новых данных по
морфологии и распространению, возможно, позволят сделать более твердые выводы по
этой проблематике.
Раздел 2. Лепные изображения.
Введение.
Древние изображения человека из глины использовались в разных регионах земного
шара и в разные эпохи. Среди них наиболее распространенными в Восточной Европе
являются предметы мелкой пластики раннеземледельческих культур. Однако существует
значительно меньшая по количеству группа изображений из глины, созданная населением
Северной и Восточной Европы в неолите и энеолите (Кашина, 2004).
Образцы мелкой пластики из глины известны в Карелии, Архангельской,
Вологодской, Ленинградской, Ярославской, Ивановской, Московской, Владимирской
30
областях, в Литве, Латвии, Эстонии. Их общее количество сегодня составляет 46 экз.
Синхронные им антропоморфные изображения из глины известны на территории
Финляндии, от Финского залива и почти до Северного Полярного круга, а также на
Аландских островах. Всего на территории Финляндии найдено более 100
антропоморфных изображений из глины и их фрагментов (Núñez, 1986).
Большинство изображений принадлежит кругу культур гребенчато-ямочной
керамики IV – первой половины III тыс. до н.э. (на территории Восточной Балтии,
Карелии, Северо-Запада и Севера России). Меньшая часть относится к культурам ямочно-
гребенчатой керамики (Центр Европейской части России, конец IV – начало III тыс. до
н.э.), и встречена на памятниках с пористой (Восточная Балтия) и асбестовой керамикой
(Карелия) середины III – начала II тыс. до н.э.
Целый ряд специфических особенностей этого источника делают его трудным для
изучения. К ним относятся хрупкость самого материала и связанная с этим сложность
сохранения фигурок в слоях многослойных памятников, а также то, что некоторые из них,
возможно, преднамеренно разбивались. Все это – причины того, что большая часть
изображений дошла до нас во фрагментах. Значительная часть находок происходит из
старых раскопок, поэтому их контекст часто неизвестен; лишь единичные вещи из
раскопок, преимущественно, последних десяти лет, имеют абсолютную датировку по
радиоуглероду, полученную по образцам из погребений и слоя пола жилища.
Непосредственное изучение этих предметов сопряжено с целым рядом трудностей, так
как они хранятся в разных музеях. При подготовке работы мною визуально было
исследовано около половины всех рассматриваемых здесь предметов; это, прежде всего,
материалы из памятников Европейской России. Остальная часть изучена по публикациям.
К сожалению, несколько экземпляров известны только по описаниям, изданы без
иллюстраций и точное место их хранения пока неизвестно.
Так как лепные антропоморфные изображения были найдены в значительных
количествах, как на территории СССР, так и Финляндии, отечественные и финские
исследователи уже около ста лет периодически обращаются к анализу этих изображений:
количество этих находок медленно, но неуклонно растет. Полученные исследователями
выводы в обобщенном виде сводятся к следующему:
1) глиняные скульптурные изображения в Восточной Европе морфологически
подразделяются на две большие группы: «эмбрионовидные» (термин, предложенный Т.
Миеттиненом), относящиеся к концу IV – III тыс. до н.э., и «прямые с приподнятым
плоским лицом», аналоги которым в значительном количестве известны на Аландских
островах и которые относятся ко второй половине III тыс. – началу II тыс. до н.э.;
31
2) изображения изготавливались и использовались населением с общим кругом
идеологических воззрений, и образ человека был подчинен единому, по их мнению,
«канону», хотя «иконография» менялась;
3) эти фигурки следует считать культовыми предметами, вероятно связанными с
магическими обрядами, культом плодородия и домашнего очага;
4) их значительное сходство несомненно отражает разного рода взаимные влияния и
связи неолитического населения в пределах Северной лесной зоны.
Основные исследовательские задачи сейчас состоят в изучении всех известных на
данный момент глиняных изображений на основе более углубленного морфологического
анализа, а также в рассмотрении проблем функционально-смыслового назначения
изображений с привлечением не только контекста находок, но и особенностей их
орнаментации. Основное внимание будет сосредоточено на восточноевропейских
материалах лесной зоны. В связи с тем, что подробное исследование финских материалов
уже проводилось (Wyszomirska, 1984; Núñez, 1986), здесь они будут привлекаться в
качестве аналогий.
Техника изготовления.
Специфический внешний вид этих изображений послужил основной причиной
споров о трактовке образа. Исследователи долгое время сомневались, считать ли их
только зооморфными, или выделять среди них как зооморфные, так и антропоморфные
изображения. В отечественных и зарубежных работах последних двадцати лет
применительно к ним господствует определение «антропоморфный», которое кажется мне
более оправданным по причинам, изложенным ниже.
Изображения изготавливались из глиняного теста, а затем подвергались обжигу.
Изделие формовалось, видимо, из одного куска теста, хотя имеются и исключения: три
изображения (№ 82, 83, 125) были снабжены руками, которые формовались отдельно и
крепились по обеим сторонам туловища. Руки еще одного изображения (№ 126)
выполнены из одного куска вместе с туловищем. Изображения лепились, как
представляется, «на скорую руку» и не подвергались никаким вторичным
«косметическим» операциям (например, лощению). На их поверхности удается
рассмотреть отпечатки пальцев мастера. При оформлении деталей изображения
применялись: пальцевые защипы, нарезки, наколы (палочкой или соломинкой?).
Орнаментация изделий будет отдельно рассмотрена ниже.
Морфология.
Высота изделий достаточно невелика и колеблется от 38 мм до 90 мм (данные по
целым изображениям). Среди этих предметов нет двух абсолютно одинаковых, каждый
32
по-своему уникален и обладает своими мелкими особенностями. По этой причине их
вообще очень трудно описывать и анализировать по какой-то единой морфологической
шкале. Классификации, предложенные И.А. Лозе и М. Нуньесом (Loze, 1970; Núñez, 1986)
структурированы нечетко и охватывают изображения в рамках отдельных регионов. В
основе предлагаемой классификации лежит принцип двухэтапного рассмотрения
изображений. На первом этапе определяется: 1) их принадлежность к скульптурным или
рельефным; 2) положение – самостоятельное или зависимое (на сосуде) и 3) степень
полноты изображения (полнофигурное или только голова). На втором этапе
рассматриваются внутренние особенности только группы полнофигурной скульптуры (по
причине крайне малого числа предметов в остальных группах).
Итак, на первом этапе все глиняные изображения разделяются на пять групп (рис. 4):
1) полнофигурная скульптура (26 экз.);
2) полнофигурная скульптура на сосуде (3 экз.);
3) скульптура головы на сосуде (8 экз.);
33
4) полнофигурный рельеф на сосуде (2 экз.);
5) рельеф головы на сосуде (1 экз.).
Полнофигурная скульптура представляет собой изображение, включающее такие
элементы, как: голова, туловище, руки и ноги (последние два элемента встречаются
редко). Элементы полнофигурной скульптуры на сосуде: голова, туловище, руки. Концы
рук крепятся на краю сосуда сверху, низ туловища – на венчике или стенке. Изображение
ориентировано лицом внутрь сосуда. Скульптура головы на сосуде имеет в своем составе
единственный элемент. Она закреплена на венчике сверху и ориентирована лицом внутрь
сосуда. Полнофигурный рельеф на сосуде включает голову, туловище, руки и раздельно
выполненные ноги. Изображение расположено в верхней части сосуда, голова доходит до
его края. Черты лица отсутствуют, поэтому выяснить, в какую сторону оно обращено,
сложно. Рельеф головы на сосуде расположен так же, как изображения предыдущей
группы. Наличие черт лица позволяет определить, что оно обращено наружу.
Помимо полнофигурной скульптуры, к которой было приковано наибольшее
внимание всех исследователей, существует ряд изображений иного характера, которые
нельзя игнорировать. Немногочисленные антропоморфные головки и скульптуры,
закрепленные на краю сосудов, рассматривались некоторыми исследователями как
сходные, но не сопоставимые напрямую со скульптурой. Большое сходство в оформлении
лица скульптуры и головок, закрепленных на сосудах, отмечает А.М. Жульников
(Жульников, 1999. С. 71). Существуют также три рельефных изображения, место которых
в ряду остальных пока совершенно не ясно.
Рассмотрим более подробно особенности первых трех групп изображений.
1) Полнофигурная скульптура.
Внутри этой группы изображения различаются, прежде всего, по их размеру и
степени согнутости фигуры. Первый признак имеет два значения – «мелкие» (до 4,5 см) и
«крупные» (более 6,0 см). Скульптура высотой от 4,5 до 6,0 см практически отсутствует.
Поэтому отмеченные размерные особенности, скорее всего, имеют объективный характер.
По второму признаку скульптуры разделяются на «сильносогнутые» (угол в центральной
части скульптуры составляет около 90°), «слабосогнутые» (угол около 120°) и «прямые»
(угол около 180°).
Отмечено, что у всех целых форм длина головы составляет не более половины
длины всей фигуры. Это позволяет при изучении фрагментов скульптур использовать
34
данные об их общих пропорциях. Опираясь на данные по целым изображениям, можно с
некоторой долей вероятности делать заключения и о фрагментах. Поэтому, если длина
головы составляет примерно 3-3,5 см, то целая фигура при этом никак не может быть
высотой менее 6 см. Таким образом, выделяется 4 основных подгруппы (рис. 4):
1) мелкие сильносогнутые (15 экз.);
2) крупные слабосогнутые (4 экз.);
3) крупные прямые (5 экз.);
4) мелкие прямые (2 экз.).
Необходимо упомянуть некоторые характерные особенности изображений, которые
являются сугубо индивидуальными и, поэтому, не могут быть использованы в
систематике.
У скульптур 1 подгруппы обычными являются выступающий нос, спинной гребень,
выполненный защипами, круглое в сечении туловище, иногда – разделенные ноги. Глаза
выполнены наколами или отсутствуют, уши смоделированы в виде выступов. У скульптур
2 подгруппы гребень отсутствует, нос менее выступающий, часто уплощенное в сечении
туловище, глаза выполнены наколами или овальными вдавлениями (иногда обоими
способами), рот (если имеется) показан единичным наколом. Скульптуры подгрупп 3 и 4
имеют плоские туловище и голову, пропорциональное лицо, близкое по форме кругу,
овалу или ромбу. Черты лица выполнены так же, как у предыдущей подгруппы, рот (если
изображен) передан горизонтальной нарезкой.
Таким образом, при всем многообразии индивидуальных особенностей
скульптурные изображения обладают весьма существенными общими чертами, которые
вполне поддаются систематике.
Следует отметить, что существует несколько целых или слабо поврежденных
скульптур, которые не укладываются в рамки выделенных подгрупп и обладают
смешанным набором признаков: крупная сильносогнутая, мелкая слабосогнутая и
слабосогнутая размером около 50 мм (№ 94, 98, 126).
2) Скульптуры на сосуде.
Две группы скульптур на сосудах специфичны: у полнофигурной скульптуры
нижняя часть сливается со стенками сосуда, а у скульптуры головы невозможно оценить
степень согнутости. Малое количество этих находок может косвенно указывать на их
особое положение внутри массива глиняной скульптуры. Однако, полнофигурная
35
скульптура на сосуде по своему размеру и степени согнутости близка к подгруппе 2 –
«крупные слабосогнутые» (отличие – только в изображенных руках), а скульптуры голов
на сосуде близки к той же подгруппе (2) по своему размеру (3-3,5 см) и по наличию
аморфного лица с умеренно выступающим носом.
3) Рельефные изображения.
Место трех рельефных изображений в морфологической классификации, к
сожалению, определить пока затруднительно. Два из них (№ 123, 127), хотя и близки по
своим размерам к подгруппам 2 и 3 («крупные слабосогнутые» и «крупные прямые»),
однако не имеют черт лица. Они показаны с широко раскинутыми руками и ногами, что
полностью обособляет их от остальных групп изображений. Рельеф из Волосово
орнаментирован рядом отпечатков узкого редкозубого гребенчатого штампа, по «каркасу»
фигуры. Следы этого же штампа видны на стенке сосуда рядом с фигурой. Рельефное
изображение головы (№ 122) размером чуть более 1 см отличается весьма экспрессивно
выполненными чертами лица. Глаза и рот выполнены овальными вдавлениями, нос –
небольшим выступом. Среди глиняных скульптур в единичных случаях встречена такая
манера выполнения глаз, но манера оформления рта является уникальной. Возможно,
данный персонаж изображен кричащим или поющим.
Территориальное распространение.
На карте (рис. 5) видно, что изображения разных групп, а также подгрупп
полнофигурной скульптуры имеют разное распространение. Скульптуры на сосуде
локализованы достаточно узко – в целом, в пределах Южной Карелии. Среди
полнофигурной скульптуры территориально наиболее широко распространены
изображения подгруппы 1: от Восточной Балтии до Центральной России. Изображения
подгруппы 2, близкие скульптурам на сосуде, тяготеют к ним и территориально,
захватывая кроме Карелии только Восточное Прионежье. Изображения подгрупп 3 и 4
найдены только в Латвии. Близкой аналогией им являются изображения, найденные на
Аландских островах, которые формально могут быть причислены к этим двум группам.
Единичные рельефные изображения и полнофигурные скульптуры со смешанным
набором признаков найдены на значительном отдалении друг от друга. Таким образом,
выделенные группы и подгруппы изображений имеют относительно четкую
географическую принадлежность, хотя в некоторых случаях зоны их распространения
пересекаются.
36
Хронология.
Схема на рис. 6 показывает относительное время бытования изображений на
рассматриваемой территории. К культуре с гребенчато-ямочной керамикой IV – начала III
тыс. до н.э. относятся сильносогнутые скульптурные изображения и скульптуры голов на
сосуде. Для культур с поздней гребенчато-ямочной и асбестовой керамикой середины –
второй половины III тыс. до н.э. характерны слабосогнутые скульптуры и полнофигурные
скульптуры на сосуде. Прямые скульптурные изображения Восточной Балтии делались
носителями культур с пористой керамикой второй половины III тыс. до н.э. и шведской
ямочной керамики второй половины III – начала II тыс. до н.э. на Аландских островах.
Два полнофигурных рельефных изображения были подробно рассмотрены С.В.
Студзицкой (Студзицкая, 1980) и отнесены ко второй половине III тыс. до н.э. Если
изображение из Швянтойи III могло принадлежать к III тыс. до н.э. (Римантене, 1975;
Butrimas, 2000), то принадлежность изображения из Волосово к волосовской культуре
может быть пересмотрена. Не исключена его принадлежность к эпохе бронзы (согласно
устному сообщению А.В. Емельянова). Рельефное изображение головы со стоянки Оса
(Загорскис, 1984) отнесено к ранненеолитической нарвской культуре. В заключение
хотелось бы отметить, что эти три изображения не имеют аналогий в синхронных
материалах соседних территорий.
38
С.В. Студзицкая, характеризуя общее развитие глиняной скульптуры, выделяет две
ступени: первая – согнутые фигурки, вторая – прямые. Некоторые изобразительные
приемы, такие как обобщенность в передаче ног и отсутствие рук у большинства
изображений, сохраняются (Студзицкая, 1985. С. 106). Кроме того, как мне кажется,
можно выявить еще и среднюю ступень «развития» – это крупные слабосогнутые
изображения и относительно одновременные им скульптуры на сосуде (полнофигурные и
изображения голов), которые сходны между собой по пропорциям, размеру, моделировке
головы. Изображения голов сходны с остальными только по двум последним параметрам.
Разница в размерах между ранними и поздними скульптурами (2-2,5 см) достаточно
существенная. По-видимому, некая традиция регламентировала не только набор
необходимых элементов скульптуры, но и размер изображения. Если обычно
сильносогнутые скульптуры по высоте не превышают 4,5 см, то в Финляндии известны
предметы высотой 5,5 см (Núñez, 1986. P. 32. Tab. 5), однако и там они редки.
Несколько скульптур, обладающих смешанным набором признаков, возможно,
являются свидетельством смешения традиций различных хронологических этапов в
конкретных районах или на отдельных памятниках.
Функциональное значение.
Исследователи не раз отмечали небрежную манеру исполнения изображений,
связывая эту особенность с их, вероятно, кратковременным использованием. Мысль об
использовании в магических действиях и последующем уничтожении (намеренном
разбивании) скульптурных изображений Аландских о-вов, которые все найдены
фрагментированными, была высказана М. Нуньесом (Núñez, 1986. P. 26). Напротив,
согласно его данным, большинство согнутых скульптур Финляндии дошло до нас более
или менее целыми. К сожалению, эту мысль нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Часть
«разбитых» аландских скульптур достаточно крупные – до 12 см, кроме того, пористая по
структуре формовочная масса могла способствовать повреждениям, в то время как
скульптуры периода гребенчато-ямочной керамики Финляндии и были в два раза меньше
по высоте, и изготавливались из более плотной формовочной массы.
Имеется три группы фактов, которые позволяют говорить о существовании особых
функций этих предметов:
1) отличие их от керамики по составу формовочной массы;
2) окрашенность ряда изображений охрой;
2) особый контекст обнаружения некоторых находок.
В ряде случаев формовочная масса фигурок отличалась от формовочной массы
сосудов. Несколько скульптур характеризуется малым содержанием дресвы и песка в
39
формовочной массе (Журавлев, 1972. С. 91-92). Другие изображения отличаются по
составу формовочной массы от гребенчато-ямочной керамики отсутствием дресвы или
содержат много песка при отсутствии дресвы (определение сделано Ю.Б. Цетлиным, за
что автор выражает ему искреннюю благодарность). Две скульптуры на венчике сосуда
асбестовой керамики изготовлены из той же формовочной массы, что и сам сосуд
(Жульников, 1999).
Некоторые изображения были покрыты охрой. Скульптуры на сосудах асбестовой
керамики (№ 82, 83) покрыты ею по всей поверхности, а у фрагмента скульптуры
пористой керамики (№ 116), согласно описанию, покрыта охрой нижняя часть лица. Есть
сведения о том, что многие аландские скульптуры также несут на себе следы окраски
охрой (Núñez, 1986. P. 21). Однако, данные об окрашивании охрой ранних изображений
мне не известны.
На ряде стоянок фигурки найдены в слое над полом жилищ (Фосс, 1940. С. 35;
Moora, 1952. P. 19; Жульников, 1999. С. 71; Витенкова, 2002. С. 84). Среди них –
скульптуры на краю сосуда, крупные слабосогнутые, крупные и мелкие прямые.
Некоторые скульптуры голов на сосуде и крупные прямые были найдены у очага
(Витенкова, 2002. С. 84; Loze, 1998. P. 41). Данных о находках в жилище самых ранних
сильносогнутых фигурок из глины пока нет. Важно отметить также, что на поселении
Йетбелле (Аландские о-ва) скульптуры и их фрагменты были сгруппированы на
ограниченном участке (Götherström et al., 2002. P. 45).
Тот факт, что фигурки из глины известны в погребениях, в слое пола жилищ, у
очага, вероятно, отражает существенное разнообразие способов их использования.
Скульптура из погребения № 221 взрослого индивида могильника Звейниеки (№ 112)
была найдена у левой ноги (Zagorskis, 1987). Скульптура из женского погребения № 65 на
стоянке Сахтыш IIА (№ 124) лежала под шейным позвонком (Крайнов, Костылева, Уткин,
1993). Обе они относятся к группе наиболее ранних – сильносогнутых скульптур. Данных
о связи других изображений с погребальным обрядом нет.
Особое назначение не только скульптур, но и сосудов, на которых закреплены
скульптурные изображения, не раз отмечалось исследователями (см., напр., Мошинская,
1976). Сосуды с головами животных, а иногда и людей, широко известны на территории
Евразии с эпохи неолита. Эти изображения традиционно интерпретируются как
охранители сосуда и его содержимого. В связи с этим особое внимание привлекают
карельские скульптуры на сосудах. Все они ориентированы лицом вовнутрь сосуда.
Согласно реконструкции сосуда с поселения Войнаволок XXV (Жульников, 1999. Рис.
72), скульптурные изображения крепились к нему нижней частью и руками, как будто бы
40
обнимая сосуд и слегка наклоняясь над ним. Сосуд из Черной Губы IX, украшенный
скульптурными головами (№ 84-87), имеет следы починки в виде отверстий и фрагментов
смолы, что свидетельствует о бережном отношении к нему (Витенкова, 2002. С. 84).
Все изложенные данные свидетельствуют о том, что спектр функций глиняных
изображений был, вероятно, довольно широким. Помещение их в жилищах у очага, в
захоронениях, прикрепление к сосудам, окрашивание их охрой, использование особых
рецептов формовочной массы, отличающихся от рецептов глиняной посуды – все эти
данные, скорее всего, отражают не только территориальные и хронологические
особенности использования этих изображений древним человеком, но и их большую роль
в обрядовой практике. На раннем этапе они, вероятно, были связаны с погребальным
обрядом, позднее – с жилищем и очагом, а также с сосудом и его содержимым.
Смысловое значение.
1) Орнаментация изображений.
Допустимо предположить, что общая смысловая связь фигурок с сосудами
проявляется не только в их расположении на краю сосуда, но и в способах орнаментации
разных видов глиняной скульптуры. М.Е. Фосс еще пятьдесят лет назад высказала мысль
о том, что орнамент на сосудах мог являться копией реально бытовавшей татуировки или
раскраски (Фосс, 1952). В подтверждение она приводила некоторые этнографические
примеры почти полного соответствия мотивов татуировки и орнаментации керамики. Она
также отмечала тождественность орнаментов на скульптурах из Пурциемса и Йетбелле
орнаментам на керамике этих стоянок (Фосс, 1952. С. 73). Окрашенность только нижней
части лица скульптуры из Дипка А (Латвия), возможно, тоже следовало бы трактовать как
имитацию реальной раскраски человеческого лица. Другое мнение высказывает М.
Нуньес (Núñez, 1986. P. 26): он интерпретирует орнаментацию лиц аландских скульптур
как маски, а сплошную орнаментацию туловища фигурок – как одежду, сопоставляемую
им с костюмом сибирских шаманов, украшенным разнообразными привесками, перьями и
пуговицами.
Половина скульптур (21 экз.) не орнаментирована совсем. Значительную их часть
(14 экз.) составляют самые ранние по времени бытования, сильносогнутые скульптуры.
Наиболее часто орнаментирована лицевая часть головы (в 21 случае), и только у
пяти скульптур встречен орнамент на туловище. Имеется еще одна скульптура с
утраченной головой и орнаментированным туловищем.
Рассмотрим особенности орнаментации головы скульптур. Выявлено наличие
следующих элементов орнамента: отпечатки гребенчатого штампа, накола
(продолговатого или точечного) и следы неглубокой нарезки. Мотивы орнаментации
41
изображений можно разделить на 6 видов (рис. 7): 1) ряд наклонных гребенчатых
отпечатков; 2) трезубец, образованный серией гребенчатых отпечатков; 3) трезубец,
образованный серией накольчатых отпечатков; 4) трезубец, выполненный нарезками в
сочетании с фигурными отпечатками; 5) ряды параллельных нарезок; 6) смешанный
мотив: трезубец, выполненный гребенчатыми отпечатками в сочетании с рядами
параллельных нарезок.
Выделенные мотивы орнаментации имеют явные территориальные особенности
(рис. 8). Кратко их можно сформулировать следующим образом.
1) Ряд наклонных отпечатков гребенчатого штампа на карельских скульптурах голов
на сосуде (примерно первой половины III тыс. до н.э.), скорее всего, покрывал край сосуда
по всему периметру. Такая орнаментация венчика считается характерным признаком
поздней гребенчато-ямочной керамики и в данном случае, видимо, отражен переход от
орнамента края сосуда к орнаменту на скульптурной головке.
2) Мотив «трезубца», как бы подчеркивающий линии бровей и носа, выполненный
гребенчатым штампом, встречен на сильно- и слабосогнутых скульптурах и скульптурах
голов на сосуде из Карелии, Восточного Прионежья, Латвии и Финляндии (Miettinen,
1965. P. 39; Edgren, 1967. P. 16. Abb. 6)), датируемых приблизительно первой половиной
III тыс. до н.э.
3) Этот же мотив, выполненный наколами, присутствует на скульптуре на сосуде из
Ярославской области.
42
4) Мотив «трезубца», выполненный нарезкой, встречен на прямой скульптуре
Латвии второй половины III тыс. до н.э. Он сопровождается фигурными отпечатками в
виде прямых, пунктирных и зигзагообразных линий на щеках и подбородке.
5) Мотив из группы нарезок и пунктирных нарезных линий над глазами, на щеках и
подбородке характерен для скульптур из Йетбелле (Аландские о-ва, вторая половина III –
начало II тыс. до н.э.) (Cederhvarf, 1912) (см. таблицы).
6) Смешение орнаментальных мотивов 2) и 4) в одном изображении характерно для
нескольких скульптур Южной Финляндии, Карелии и Прионежья, датируемых примерно
второй половиной III тыс. до н.э. (Edgen, 1992; Miettinen, 1965; Фосс, 1940; Äyräpää, 1942;
материалы раскопок пос. Черная Речка III Н.В. Лобановой (Автор выражает Н.В.
Лобановой огромную признательность за возможность использования этого
неопубликованного изображения). Две скульптуры (№ 95, 98), украшенные рядами
параллельных нарезок, хотя и не несут никакого другого орнаментального мотива, близки
43
по форме к сильно- и слабосогнутым скульптурам и, таким образом, демонстрируют,
вероятно, смешение не только мотивов, но и форм скульптуры.
Наконец, углубленные отверстия на макушке, фиксируемые у некоторых скульптур
Йетбелле (Аландские о-ва) и предназначенные, как считается, для того, чтобы вставлять
веточки или перья, имеют параллель в скульптурах на сосуде асбестовой керамики
(Núñez, 1986; Жульников, 1999).
Имеющиеся немногочисленные находки показывают, что орнамент покрывает всю
поверхность туловища. Здесь выделены следующие мотивы (рис. 7): 1) ряды наклонных
отпечатков гребенчатого штампа; 2) пунктирные нарезки; 3) нарезная сетка; 4)
смешанный мотив: нарезная сетка в сочетании с рядами отпечатков гребенчатого штампа.
Мотив из рядов гребенки встречен один раз в сочетании с гребенчатым трезубцем.
Мотивы 2-3 характерны только для прибалтийской скульптуры второй половины III тыс.
до н.э. и синхронной им скульптуры Аландских о-вов. Смешанный мотив (нарезные
ромбы и ряды гребенчатых отпечатков) также единичен и представлен на скульптуре из
района Выборга.
Исследователи глиняных изображений разных территорий рассматривали их
морфологические особенности как показатель разного рода взаимных влияний и связей в
пределах лесной зоны (Ошибкина, 1978; Студзицкая, 1985). Проведенный анализ
позволяет уточнить и расширить географию этих связей и взаимовлияний, а также
наметить некоторые хронологические этапы, в пределах которых происходили
заимствования и местная переработка исходных мотивов. По-видимому,
неорнаментированная скульптура является самой ранней, украшенная гребенчатым
орнаментом – несколько более поздней, а украшенная нарезным орнаментом – самой
поздней. Скульптура со смешанными мотивами (гребенчатые и нарезные в одном
изображении) относится ко второй половине III тыс. до н.э. и отражает, вероятно, период
наиболее активных контактов между населением Балтийского побережья и
континентальными районами Русского Севера.
2) Семантика лепных изображений.
По результатам анализа изменения форм изображений во времени выявляется линия,
если можно так выразиться, их постепенного «очеловечивания»: изображения с
выраженными зооморфными (или даже фантастическими?) чертами постепенно
приобретают антропоморфные черты лица, плечи, а изображения, помещенные на край
сосуда – руки. Тем не менее, некая общая основа изображения сохранялась на протяжении
примерно 1000 лет.
44
Отсутствие орнамента на ранних фигурках, в том числе, характерного для
синхронной им керамики, вероятно, может свидетельствовать о том, что на начальном
этапе своего бытования глиняная скульптура в принципе могла осмысливаться
независимо от сосуда и связываться с какими-то иными идеями. Ее зооморфно-
фантастические черты могут указывать именно на это.
О некоторых особенностях древних представлений могут свидетельствовать данные
о возможном использовании некоторых изображений попарно. Скульптуры в Кубенино и
Пурциемсе были найдены на незначительном расстоянии друг от друга и в пределах
одного жилища. Скульптуры из поселения Войнаволок XXV, как уже отмечалось выше,
крепились на один сосуд. Все три пары, хотя и принадлежат каждая к определенным
группам, имеют некоторые различия в деталях (например, одна скульптура из Кубенино
чуть массивнее, чем другая; у фигурок из Войнаволока XXV, соответственно, два и три
углубления на макушке). Парные образы находят широчайшее отражение в мифологии
разных народов, и можно только гадать, воплощены ли в этих парах близнецы,
антагонистические герои или родоначальники (Иванов, 1970).
Уникальными являются четыре скульптуры голов на венчике, закрепленные друг
против друга на одном сосуде (Витенкова, 2002). Вероятно, такие изображения
создавались редко, и пока они не поддаются объяснению.
Остается также неясным, считать ли глиняные скульптурные изображения
мужскими или женскими. За редким исключением они не имеют признаков пола. Пара
выступов в верхней части туловища у одной из аландских скульптур интерпретируется
как изображение женской груди (Núñez, 1986). И.А.Лозе упоминает о находке на
поселении Дипка А мелкого фрагмента подобной скульптуры, а также интерпретирует ряд
изображений с территории Латвии как мужские, из-за нарезного орнамента на подбородке
и сужающейся нижней части лица скульптур (Loze, 1995, 1998). Однако следует заметить,
что геометризация лица и нарезной орнамент в разных его частях вообще характерны для
группы прямых скульптур и, поэтому, вряд ли могут рассматриваться как черты,
специфические для мужских изображений.
Исследователи неоднократно выдвигали разные гипотезы о смысле этих
изображений. Помимо общих заключений об их культово-ритуальном характере, был
высказан и ряд более конкретных гипотез. М. Нуньес интерпретирует аландские
скульптуры как изображения шаманов в ритуальных масках и одеждах (Núñez, 1986). И.А.
Лозе предположила связь согнутых изображений с идеей домашнего очага, а прямых с
поднятым лицом – с идеей плодородия (Лозе, 1970а. С. 60). Т. Миеттинен, предложивший
термин «эмбрионовидные», предполагал, что в согнутых изображениях воплощен именно
зародыш, так как основными элементами изображения, которые первыми бросаются в
45
глаза, являются крупная голова и позвоночник-гребень (Miettinen, 1965. P. 36).
Действительно, при явной «зооморфности», их невозможно сопоставить с каким-либо
реально существующим животным. Хотелось бы отметить, что даже поздние, прямые
скульптуры с выраженными человеческими чертами (проработкой лица, плеч) не имеют
отдельно проработанных рук и ног, поэтому орнаментация их туловища в принципе
позволяет рассматривать фигуру не столько как одетую, сколько как обернутую или
спеленатую.
Исследователи склонны связывать распространение керамических традиций с
направлениями брачных связей (см. напр.: Жульников, 1999. С. 23). Согласно
предположениям, в эпоху неолита именно женщины изготавливали глиняную посуду
(Гурина, 1947. С. 70; Цетлин, 1998. С. 61). Это позволяет с большей долей вероятности
предполагать, что и скульптуры из глины, в особенности, скульптуры на сосуде, тоже
делали женщины.
Контекст находок некоторых глиняных скульптур (в жилище, у очага,
использование охры, группировка), гипотеза Т. Миеттинена о «зародыше» и
предположение о том, что именно женщины создавали глиняные изображения, позволяют
высказать мысль о связи этих образов с универсальным комплексом женских
представлений, основанном на таких понятиях, как очаг, сосуд, дитя.
Важное, если не центральное, место подобных представлений в земледельческих
культурах не подлежит сомнению, и много раз обсуждалось в разнообразной литературе
(Антонова, 1977). Однако в среде охотников-собирателей такие верования, естественно,
не могли быть отражением культа «аграрного» плодородия, урожая. Их функциональная
направленность, по-видимому, была тесно связана с миром семьи или отдельных ее
членов, женщин и детей, а смысл – с обеспечением родового благополучия или
благополучия жилища.
Выводы.
Рассматриваемые глиняные изображения относительно редко встречаются в
материалах памятников эпохи неолита-энеолита. Сейчас их количество на всей
территории Восточноевропейской лесной зоны составляет не более полусотни. Кроме
того, они мало подчинены единому стандарту и каждое из них по-своему уникально. Это
создает особые сложности их сравнительного изучения. Именно поэтому мной была
использована двухэтапная систематика, с помощью которой удалось не только
рассмотреть все известные сегодня глиняные изображения, но и исследовать самую
многочисленную группу полнофигурной скульптуры с большей степенью подробности. В
результате удалось проследить хронологическую эволюцию форм изображений:
изменения пропорций, деталей и размеров фигур во времени. Общий облик глиняной
46
скульптуры, наделенный на раннем этапе зооморфно-фантастическими чертами,
постепенно развивается в сторону более реалистичного отображения человеческой
фигуры.
Подходы к интерпретации функционального назначения изображений основывались
на данных о раскраске изображений охрой, особом составе формовочной массы и на
контексте некоторых находок. Судя по имеющимся данным, на раннем этапе глиняные
изображения были связаны преимущественно с погребальным обрядом. Более поздние
обнаруживают тесную связь с жилищем и очагом, а некоторые – с сосудом как особым
символом. Охранительная функция последних весьма вероятна, судя по аналогичным
находкам этой эпохи из других регионов Евразии. Они представлены как скульптурными
зооморфными, так и рельефными антропоморфными изображениями голов на сосудах
(Мошинская, 1976; Хлобыстин, Константинов, 1996).
Подробное рассмотрение орнаментации глиняных изображений потребовало
выделения отдельных мотивов декора головы и туловища. Удалось выяснить, что для
разных хронологических этапов в целом были характерны разные мотивы. Орнамент мог
имитировать реально существовавшую татуировку или раскраску. По всей видимости,
самые ранние изображения не орнаментировались. Позднее для орнаментации глиняных
скульптурных изображений и керамики определенных территорий применялись одни и те
же технологические приемы. С изображениями первой половины III тыс. до н.э. связан
орнамент в виде рядов гребенчатых отпечатков, а с рядом изображений второй половины
III – начала II тыс. до н.э. – в виде фигурных или параллельных нарезок. Сложная картина,
отражающая различные варианты смешения мотивов, наблюдается именно на этом,
позднем, хронологическом этапе. Сходные мотивы встречены в разных регионах, что
может свидетельствовать о неких связях между этими группами населения.
На сложность круга представлений, связанных с глиняными скульптурами,
указывают данные о находках таких изображений попарно. Отдельной загадкой является
отсутствие у скульптур выраженных признаков пола.
Исходя из предположений о том, что в эту эпоху изготовлением посуды занимались
женщины, можно приписывать им и изготовление глиняных изображений. Их возможная
связь с кругом «домашних» представлений подтверждается целым рядом данных, и
прежде всего, контекстом находок.
Выявленная эволюция форм изображений (от зооморфно-фантастических к
стилизованным антропоморфным), вероятно, отражает изменения в древних религиозных
представлениях, проникновение в особенности которых нам пока недоступно.
47
Раздел 3. Резные изображения.
Введение.
Самые ранние резные антропоморфные изображения относятся к верхнему
палеолиту. Среди памятников этой эпохи известны женские скульптурные изображения,
ряд мужских, миксаморфных, а также скульптур, передающих отдельные части фигуры.
Не первый десяток лет исследователи стремятся приоткрыть завесу над духовными
представлениями, которые были связаны с этими изображениями.
Обращает на себя внимание крайняя малочисленность резных антропоморфных
изображений в мезолите лесной зоны Восточной Европы. До сих пор не выделено ни
одной серии скульптур; редкие находки сильно различаются морфологически. Кроме трех
резных изображений из Оленеостровского могильника (Гурина, 1956) известны лишь
единичные предметы такого рода на мезолитических памятниках (Лобанова, 1995).
Ни одного резного антропоморфного изображения достоверно не отнесено к периоду
V–IV тыс. до н.э. Однако на протяжении III тыс. до н.э., в основном на северо-западе
Восточной Европы, такие предметы известны в культурных отложениях поселений и в
погребальных комплексах. Сейчас их количество на всей территории
восточноевропейской лесной зоны составляет 40 экз.
По количеству резные антропоморфные изображения немного уступают как
ретушированным, так и лепным. Такая ситуация связана прежде всего с различной
сохранностью органических материалов (кости, рога, янтаря и дерева) в культурных слоях
памятников. Общее количественное распределение резных изображений по видам
использованного сырья следующее: кость – 23 экз., янтарь – 8 экз., рог – 6 экз., дерево – 2
экз., кость крупных пород рыб – 1 экз. Предметы известны на территории
Калининградской области, Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси, Архангельской,
Псковской, Ленинградской, Ивановской областей. Основная часть происходит с
территории стран Восточной Балтии. Размеры изображений в целом невелики, но даже в
этих рамках они довольно сильно различаются. Самое малое изображение имеет высоту
3,1 см (131 см), а самое крупное – 14,3 см (№ 146).
Так как большинство материалов хранится за рубежом, и непосредственно
познакомиться с ними мне пока не удалось, то основная масса предметов была изучена по
публикациям. Визуально были исследованы 6 экз. Основная масса находок происходит из
культурных отложений поселений. Случайные находки резных изображений единичны.
Помимо изображений из р. Пярну (Эстония) и из устья р. Малмуты (Латвия),
относительно «случайный» характер имели находки изображений при обследовании
стоянок во время проведения земляных работах по устройству Сясьского канала и на
Куршской косе (Иностранцев, 1882; Klebs, 1882).
48
Подавляющее большинство предметов не имеет точной датировки; причина уже
была обозначена в работе, это – многослойный характер памятников. Если пятьдесят лет
назад эту группу находок связывали с рубежом III–II и первой половиной II тыс. до н.э., то
впоследствии, в связи с уточнением датировок, в том числе, и с появлением серий
абсолютных дат, средняя точка предлагаемых датировок сместилась в область середины
III тыс. до н.э. (Фосс, 1952; Янитс, 1959; Чернявский, 2004; Римантене, 2004; Loze, Liiva,
2004).
Маска из лопаты лосиного рога, найденная в составе некого ритуального объекта на
стоянке Сахтыш IIА (Крайнов, 1992), не будет рассмотрена в рамках этой работы, так как
пока является специфической и уникальной находкой и не имеет никаких аналогий.
Существуют также два монументальных деревянных антропоморфных изображения,
происходящих с поселений Сарнате (Латвия) и Швянтойи IIВ (Литва), которые ввиду
своих размеров (1,68м и 1,90 м) не будут специально рассматриваться в этой работе
(Ванкина,1970; Римантене, 1970).
Техника изготовления.
Для изготовления резных антропоморфных изображений применялись разные виды
сырья. Наибольшее количество экземпляров выполнено из кости и рога. Костяные
изделия, как правило, изготовлены из компактной массы крупных костей крупных
млекопитающих. Исходя из данных фаунистических определений костных остатков и
костяных орудий, происходящих с рассматриваемых памятников, использовались, скорее
всего, трубчатые кости лося и медведя (Андреева, 1974; Кириллова, 1996). Могли
использоваться и другие кости, в том числе, млекопитающих меньшего размерного
класса, на что также указывает небольшая толщина плоских и уплощенных фигурок с
остатками губчатой массы на одной стороне. Далеко не всегда в публикациях содержится
информация, из кости какого именно млекопитающего сделана вещь. Использование для
изготовления ряда изделий лосиного рога неоднократно отмечалось в публикациях. По-
видимому, использовалась компактная часть рога – отростки. Однако для изготовления
крупных предметов могли использоваться и другие части, а именно, широкая и плоская
лопата у основания рога (Микляев, 1967; Kostyleva, Outkin, Ramseyer, 2001).
Прибалтийский янтарь также использовался в качестве сырья для изготовления
резных изображений. При работе с этим более хрупким, чем кость и рог, материалом
выполнить тонкое пластинчатое изображение не представлялось возможным. Некоторая
асимметрия и диспропорция ряда янтарных скульптур указывает на большую зависимость
от формы и качества заготовки, чем при работе с костью.
Помимо янтаря, сырьем для изготовления уникальных скульптур малых форм
послужили дерево и кость балтийского осетра.
49
Рассматривая изделия, можно судить только о заключительных этапах их
производства. По-видимому, все изображения следует считать законченными, о чем
свидетельствует их тщательная заполированность. Для оформления внешнего вида
изделий, вероятно, использовался прием шлифовки абразивными плитками, затем с
помощью резания и сверления наносились детали изображений. Многие вещи имеют
отверстия для крепления, высверленные с двух сторон навстречу. С двух сторон сверлили
даже тонкую плоскую скульптуру. После оформления деталей изображений изделия
полировались (Кашина, Емельянов, 2003). В целом можно утверждать, что при работе со
всеми перечисленными выше твердыми материалами применялись одинаковые приемы
обработки в строго определенной последовательности. Достаточно точно выдержанная
симметрия большинства изображений, отсутствие значимых изъянов, полученных в
результате их изготовления, отражает мастерство их создателей.
Морфология.
Исследователи не раз обращались к рассмотрению этой группы предметов с точки
зрения их морфологической группировки по сюжету (одна общая группа антропоморфных
изображений) или по двум «базовым техникам» (см. главу 1 настоящей работы) (Loze,
1970; Студзицкая, 1985). Однако в процессе изучения изображений выяснилось, что
разграничение первой и второй техники провести практически невозможно. Прежде всего,
использование правильной заготовки-пластины в основе изображения фиксируется далеко
не всегда. Применение абразивной шлифовки нередко служило методом «утончения»
заготовки, а также формообразования нужного изделия. Просто «вырезать» изображение
по контуру таким способом было недостаточно: изделие совершенствовалось при помощи
полировки, которая часто уничтожала грани на стыке плоскости и поперечного среза.
Если «пластина» была достаточно толстой, то готовое изделие скорее выглядело
объемным и могло бы считаться «круглой скульптурой». Это проявляется, в первую
очередь, на примере некоторых янтарных скульптур, которые никогда не выполнялись на
пластинчатых заготовках из-за хрупкости сырья. Не имея деталей на боковой плоскости
(например, ушей), они, тем не менее, смотрятся в профиль именно как «круглая
скульптура».
В этой работе предлагается другой подход к группированию резных
антропоморфных изображений. Первый признак, по которому производится
группирование предметов – их значение, которое может быть самостоятельным и
сопряженным. Самостоятельное значение подразумевает, что скульптура существовала
автономно, сопряженное – что она дополняла собой какое-либо иное изделие,
выполненное на той же заготовке. Второй признак – это полнота изображения, которое
может быть полнофигурным или парциальным (частичным, причем представленной
50
частью всегда является голова). Третьим признаком группирования является наличие или
отсутствие у скульптуры элемента, служившего для ее соединения с чем-либо –
крепления. Важность учета последнего признака обусловлена тем, что, во-первых,
наличие/отсутствие элемента крепления легко устанавливается визуально (кроме случаев,
когда изделие сильно фрагментировано или имеет очень плохую сохранность); во-вторых,
именно крепление позволяет сделать более обоснованное заключение о функции и,
отчасти, о смысловом назначении изображения. К элементам крепления без сомнения
могут быть отнесены сквозные сверленые отверстия. Служили ли для крепления
прорезные отверстия (между руками и корпусом), неясно.
Всего по вышеуказанным признакам выделяется 4 группы резных изображений
(рис. 9):
1) автономные полнофигурные без крепления (10 экз.);
2) автономные полнофигурные с креплением (9 экз.);
3) автономные парциальные с креплением (13 экз.);
4) сопряженные парциальные без крепления (6 экз.).
Два фрагмента голов не могут быть достоверно отнесены ни к одной из перечисленных
групп.
Последняя (четвертая) группа изделий с изображением головы является наименее
информативной из-за своей разнородности: скульптурные головы могли дополнять очень
разные по функции и размерам предметы, которые иногда фрагментированы. Поэтому в
ряде случаев сделать предположение о функции изделия, украшенного скульптурой
головы, невозможно.
51
Рассмотрим изображения указанных групп по следующим параметрам: набору
представленных элементов фигуры, особенностям позы (для полнофигурных) и размерам;
затем остановимся на особенностях исполнения черт лица, так как у подавляющего
большинства изображений именно лицо выполнено наиболее тщательно.
Группа 1. Полнофигурные изображения без крепления (10 экз.).
Они неоднородны по всем перечисленным параметрам. Некоторые не имеют
прор к (Klebs, 1882. Taf.
IX; Я
аботанных черт лица или выделяются раскинутым положением ру
нитс, 1954. С. 196. рис. 23, 2). Остальные скульптуры демонстрируют позу «руки на
бедрах», т.н., «фертообразную» (Микляев, 1967. С. 288. Рис. 1; Лозе, 1973. С. 175. Рис. 1;
Loze, 1970. P. 12. Att. 1-5; Крайнов, Костылева, Уткин, 1994. С. 104. Рис. 1). Ноги у
скульптур параллельны, либо разведены. Изображения Севера России объединяет
отсутствие рук, а размеры сильно различаются (Фосс, 1952. С. 37-38. Рис. 10, 5; Рис. 11).
Наиболее крупными размерами в группе отличаются две скульптуры: из Абора I и Усвят
IV (№ 146, 163).
Группа 2. Полнофигурные изображения с креплением (9 экз.).
Количество креплений, выполненных в виде круглых сверленых отверстий, на одном
предм ены в области лба или
живо
руки сливаются с
торсо
соту
около
ете колеблется от одного до шести. Они могут быть располож
та изображения. Некоторые скульптуры передают «фертообразную» позу, хотя в
ряде случаев наблюдается поза с прижатыми к телу руками (Klebs, 1882; Jaanits, 1961).
Сквозные сверлины расположены в зоне подмышек и кистей рук. В основном это
янтарные изделия; сделать в янтаре прорезные отверстия, вероятно, было технически
сложно, поэтому мастера ограничивались лишь канавкой, разделяющей руки и туловище
скульптуры. Ноги изображались параллельными, либо разведенными.
Три уплощенных костяных изображения в данной группе обособлены: они имеют
раздвоенную голову, черты лица не проработаны, ноги сомкнуты,
м (№ 133, 142, 151) (Ошибкина, 1992. С. 58. Рис. 75; Loze, 1970, P. 14. Att. 3, 1).
По размеру предметов эта группа делится на две равные части. Пять экземпляров
(три вышеупомянутые костяные и две крупные янтарные скульптуры) имеют вы
10 см, остальные – примерно в половину меньше.
Группа 3. Парциальные изображения с креплением (14 экз.).
Эта наиболее обширная группа объединяет изображения голов с 1-4 сквозными
сверл верхней части головы.
Два
инами. Большинство имеет одно отверстие, расположенное в
экземпляра примечательны тем, что на них выделена шея (Zagorskis, 1987. Tab.
XXVIII, 2-3). На трех предметах глаза и рот обозначены сквозными сверлинами-
креплениями (Jaanits, 1957. S. 87. Abb. 4, 11-13). Необычно изображение глаз,
выполненных сквозными овальными прорезями (Burtrimas, 2000. Fig. 29). Остальные
52
более-менее однородны (Гурина, 1997. Рис. 52, 5; Loze, 1983. P. 118, Att. 88; Butrimas,
2000. Fig. 30-32; Aspelin, 1877).
Группа 4. Сопряженные парциальные изображения без крепления (6 экз).
Какие конкретные изделия дополнялись скульптурными изображениями голов (7
экз.), ме одного
фраг
всегда
можн
мн а а
енной плоскостью,
нос и
во всех случаях неясно. Все эти предметы стержневидные. Все кро
ментированы. Единственное целое изделие определялось М.Е. Фосс как кочедык, но
трасологическому исследованию не подвергалось (Фосс, 1952). И.А. Лозе предположила,
что голова из Лагажа (Латвия) украшала перекрестье костяного кинжала (Loze, 1970). На
наш взгляд, несомненным является только то, что этот предмет – рукояточная часть
орудия. Самые крупные, деревянные предметы из Асавца II и устья р. Малмута считаются
«идолами» в форме головы на стержне, который был вкопан в землю (Loze, 1970).
Анализ особенностей изображения черт лица резных скульптур затруднен
опосредованным знакомством с материалами: по рисункам или фотографиям не
о точно распознать манеру и технические приемы их передачи. Тем не менее,
некоторые особенности оформления достаточно очевидны и могут быть
охарактеризованы по имеющимся в нашем распоряжении источникам.
В литературе бытует ение, что лиц большинств резных изображений Северной
Евразии выполнены по одной схеме: щеки и глаза переданы нераздел
лоб образуют вышележащий уровень (Мошинская, 1976. С. 99-100). Применение
такой изобразительной схемы для рассматриваемой резной скульптуры отмечалось С.В.
Студзицкой (Студзицкая, 1985. С. 112-113). Однако такая четкая «двухуровневость» лица
соблюдается далеко не у всех изображений. С известной вероятностью для предметов
групп 1-4 можно выделить шесть основных вариантов передачи лица.
1) Двухуровневое лицо: лоб и нос даны в одной плоскости и находятся выше, чем
щеки и подбородок (13 экз.). В некоторых случаях глаза обозначены неглубокими
сверлинами, рот – таким же способом или горизонтальной нарезкой.
2) Подковообразное лицо: зона щек, глаз и под носом значительно углублена по
сравнению с носом, лбом и внешним контуром лица (5 экз.). По манере и техническим
приемам обозначения глаз и рта изображения, относимые к вариантам 1 и 2, аналогичны.
3) Двухгранное лицо: голова скульптуры имеет три выраженные грани, две из
которых занимает лицо, по манере передачи напоминающее подковообразное (вариант 2):
щеки выемчатые, а на центральном ребре всегда двумя (!) неглубокими насечками
показаны, соответственно, углубление под носом и линия рта (5 экз.).
4) Сложно-рельефное лицо: изобилует выпуклостями и вогнутостями,
детализировано (2 экз.). Помимо носа и подбородка, выпуклостями выделены надбровья,
53
уши, ображен скулы и губы. В контуре лица подчеркнуты челюстные выступы, рот из
открытым.
5) Лицо со сверлеными деталями: на плоской поверхности лица глаза и рот перед
круглыми с
аны
верлинами (сквозными или нет) (3 экз.). Среди сопряженных изображений не
известно.
6) Не детализированное лицо: без каких-либо выделенных черт (4 экз.). Аналоги
среди зависимых изображений отсутствуют.
ажению большую индивидуальность. Они
выпо
р .
.
о позволяет усомниться в
прин
й зоны Восточной и Северной
Евро орфные изображения тяготеют к северо-западу
Вост
и
Часть изображений содержит дополнительные элементы, которые детализируют
черты лица и части тела, придавая изобр
лнены с применением разной техники: рельефа и гравировки (нарезной линией
разной длины или неглубокими ямками-сверлинами) и относятся к разным частям
фигуры. Головы изображений бывают: с заостренной верхней частью, с двумя выступами
(«рогатая»), раздвоенной формы, «волосами», «косой», «бородой» и «усами». Видимо, эти
детали передают особенности головных уборов и причесок. Некоторые изображения несут
на себе графический орнамент, имеющий абстрактно-геометрический характер.
Возможно, в ряде случаев так показаны детали одежды. Орнамент выполнен нарезными
линиями азной длины К сожалению, далеко не все иллюстрации показывают
изображение в нескольких ракурсах, поэтому данные, касающиеся видов дополнительных
деталей и графического орнамента, могут являться неполными
В уникальной манере выполнены изображения из Верхнего Веретья, р. Пярну,
Дяздицы (№ 130, 134, 164). Их своеобразие настолько велико, чт
адлежности этих предметов к эпохе неолита-энеолита.
Выявленные варианты манеры передачи лица не обнаруживают корреляции с
четырьмя описанными выше морфологическими группами.
Территориальное распространение.
Анализ распространения находок на территории лесно
пы показывает, что резные антропом
очной Европы (рис. 10). Не нужно забывать о различной сохранности органических
материалов в отложениях разного состава и в разных физико-географических условиях.
Гипотетически, на территориях Скандинавии, Карелии и Русского Севера могло
существовать множество не дошедших до нас изображений. Однако в отложениях
многослойных памятников Центральной России, сследовавшихся широкомасштабными
раскопками, где кость и янтарь сохраняются удовлетворительно, к настоящему времени
обнаружено единственное (!) резное антропоморфное изображение, происходящее из
могильника поселения Сахтыш IIА (Ивановская обл.). Это может свидетельствовать о
54
том, что традиция изготовления резной антропоморфной скульптуры была здесь очень
слабой, либо вовсе отсутствовала.
Также следует отметить тяготение подавляющего большинства автономных
парциальных изображений («голов») к прибрежным зонам Балтии. На территориях
Севе о Б д н
много резной
рной и Центральн й России, еларуси по обных изделий е известно.
Таким образом, может быть намечено разделение территории бытования этих
предметов на «запад» (где много находок скульптур-голов и вообще
55
антро
е антропоморфные изображения,
обсуж дователями неоднократно. И.А. Лозе соотнесла ряд изображений из
стран
к р
тельно были обнаружены скорченные погребения культур
ладье
в п
скульптуры птиц (одна из которых близка материалам Тамула и волосовским),
а та
поморфной скульптуры) и «восток» (где найдены только полнофигурные
изображения, а общее количество находок очень мало).
Хронология.
Вопрос о том, когда и кто изготавливал резны
дался иссле
Восточной Балтии (Йодкранте, Абора I, Тамула) с культурой шнуровой керамики и
датировала находки первой половиной II тыс. до н.э. По ее мнению, появление образа
человека-мужчины в искусстве этой эпохи было обусловлено приходом «первых
индоевропейцев», изменением хозяйственного уклада (развитием скотоводства) и
изменением роли мужчины в коллективе (Лозе, 1979. С. 120). Однако, более углубленное
изучение данных, асающихся всего комплекса езных антропоморфных изображений,
позволяет шире взглянуть на проблему их датировки.
Наиболее надежные хронологические данные относятся к изображениям, найденным
в погребальных комплексах.
Четыре скульптуры из могильника Тамула (погребения VIII (3 экз.) и X (1 экз.)), на
территории которого действи
видных топоров и шнуровой керамики, происходят, однако, из погребений другого
облика. Это вытянутые одиночные трупоположения со следами охры, с инвентарем,
включающим янтарные украшения, подвески из просверленных зубов млекопитающих,
когтевидные сланцевые долота (Jaanits, 1957. S. 83, 87. Abb. 3-4). Особенно важной для
датировки является находка в погребении X костяной фигурки птицы со сквозной
сверлиной для крепления у верхнего края спины. В погребении XIX найдены точно такие
же парные скульптуры-подвески. Эти предметы широко распространены среди
волосовских древностей Центра Русской равнины. На стоянке Тамула преобладает
керамика с примесью толченой раковины, стречены янтарные « уговицы», когтевидные
долота – предметы, находящие параллели в волосовских комплексах. Это позволяет
датировать резные скульптуры из могильника Тамула серединой – второй половиной III
тыс. до н.э. и соотносить их с поздним этапом культурного круга гребенчато-ямочной
керамики.
Погребение № 228 могильника Звейниеки содержало две скульптуры человеческих
голов, две
кже набор круглых янтарных подвесок-«пуговиц» с V-образными сверлинами.
Согласно этим находкам, погребение датируется в рамках III тыс. до н.э., хотя Ф.А.
Загорскис предлагает датировать его концом III – началом II тыс. до н.э. (Zagorskis, 1987.
С. 138).
56
В разрушенном погребении № 172 могильника Звейниеки была найдена плоская
орнаментированная костяная фигурка с не проработанными чертами лица. Ф.А. Загорскис
полаг
костяка было очень
необы
ся волосовским временем, являясь органичной частью
комп
дены в
культ х
ает, что ее орнаментация напоминает широко представленную на предметах из кости
и рога, обнаруженных в слоях поселения Оса (Латвия), датирующихся IV тыс. до н.э
(Zagorskis, 1987. С. 76). Однако по силуэту своей верхней части и наличию креплений они
близки «фертообразным» скульптурам (Тамула) и скульптурам с прижатыми руками и
сверлинами в районе подмышек (Йодкранте, Корснэс (Швеция)). Поэтому вопрос о
датировке этого изображения, а также двух, морфологически близких ему (устье
р.Малмуты и Ладожские стоянки) пока можно считать открытым.
В погребении № 2 на стоянке Кубенино была найдена роговая полнофигурная
скульптура без рук и с расставленными ногами. Положение
чным: вытянутое на животе. Погребение № 2, согласно описанию М.Е. Фосс, было
совершено под культурным слоем, включавшим разновременный материал, и, к
сожалению, не содержало никакого выразительного инвентаря (Фосс, 1940. С. 38-39).
Однако можно допускать, что оно датируется в рамках III тыс. до н.э., хотя бы потому, что
соседнее погребение № 3, совершенное точно на такой же глубине и тоже на животе,
включает материалы «волосовского» облика (массивное костяное желобчатое долото,
крупный наконечник с покрывающей ретушью, подвески из просверленных челюстей
куницы) (Фосс, 1940. Таб. II).
Погребение № 58 на многослойной стоянке Сахтыш IIА совершено в культурном
слое и безусловно датирует
лекса волосовского могильника. Авторы публикации датируют это погребение 2-ой
пол. III тыс. до н.э., согласно радиоуглеродной дате (2480±250 BC (ГИН 6555),
некалиброванная дата), полученной по образцу древесного угля из ямы, которую
перекрывает данный ряд захоронений (Крайнов, Костылева, Уткин, 1994. С. 104).
Имеется ряд хронологических данных о находках резных антропоморфных
изображений на поселениях. Изображения из Кубенино и Нижнего Веретья най
урных отложениях многослойны поселений без определенного контекста (Фосс,
1952). Серия из пяти скульптур поселения Кретуонас IС вероятнее всего относится к
поздненарвской культуре и в соответствии с этим может датироваться началом II тыс. до
н.э.(Butrimas, 2000. P. 23). «Усвятский идол» – автономное полнофигурное изображение
без крепления – был найден в одном из слоев поселения Усвяты IV, содержащем керамику
с растительной примесью. Период бытования поселения с такой керамикой отнесен А.М.
Микляевым согласно радиоуглеродным датам к середине III тыс. до н.э. А.Н. Мазуркевич
относит все предметы искусства из Усвят IV к интервалу от конца IV до конца III тыс. до
57
н.э. (Мазуркевич, 2001. С. 108). Деревянная сопряженная скульптура, найденная в
отложениях поселения Асавец II, где большую часть керамического материала составляли
обломки сосудов с примесью толченой раковины, близкие к восточно-балтийским
образцам (северобелорусская культура). Однако, по мнению М.М. Чернявского,
скульптуру следует соотносить с менее аспространенной в слоях этого памятника
среднеднепровской керамикой со шнуровным орнаментом и датировать изображение
первой половиной II тыс. до н.э. (Чернявский, 1967. С. 292-293). Серии изображений,
найденные в культурных слоях памятников Тамула и Абора I, опубликованы без какого-
либо контекста (Янитс, 1954; Loze, 1970; Лозе, 1973).
К случайным относятся находки из Йодкранте (5 экз.), Нида, Роми-Калнини, устья р.
Малмута, Ича.
р
носятся к периоду начало–середина III тыс. – начало II тыс. до н.э. и были
созда
орки, в настоящее время не представляется возможным проследить смену
стиле
л
о у
з и
Таким образом, все более-менее надежно датированные резные антропоморфные
изображения от
ны носителями синхронных культур нео-энеолитическго круга: шведской ямочной
керамики, типичной гребенчато-ямочной керамики Финляндии, гребенчато-ямочной
керамики Восточной Балтии и Карелии, поздненарвской культуры Литвы, усвятской
Подвинья, северобелорусской Беларуси, волосовской культуры в Центре Европейской
части России.
В связи с известной расплывчатостью датировок и незначительным размером
изучаемой выб
й и традиций изготовления резных изображений. Наличие в сериях изделий,
происходящих с одного памятника (например, из могильника Тамула), морфологически
различных изображений позволяет предполагать, что не только парциальные и
полнофигурные, но и скульптуры с разной манерой оформления лица могли бытовать
синхронно. Представляется, что сходство манеры оформления ица некоторых
изображений может свидетельствовать о наличии определенных связей между
значительно удаленными друг т др га регионами, например, где находились памятники:
Звейниеки (с одной стороны) и Астувансалми (Финляндия) (с другой); Тамула и Корснэс
(Швеция); Кубенино и Сахтыш IIА. На вероятность таких связей указывают и некоторые
другие морфологические особенности изображений: «фертообразность» прибалтийских и
сахтышской скульптуры, прижатые к телу руки со сверлеными отверстиями у
изображений из Йодкранте и Корснэс, единственная сверлина под подбородком у
«головок» и Астувансалми (Восточная Финляндия) и Метсяпиртт Коукунниеми
(Карельский перешеек). Эти данные хорошо согласуются с гипотезой о том, что
58
обширные ерритории лесной зоны Восточной Европы и Скандинавии длительное время
составляли единый мир, связанный многими нитями взаимодействий; на это, в частности,
указывает сходство предметов искусства (Тимофеев, 1999. С. 158).
Функциональное значение.
Как уже неоднократно указывалось исследователями (Loze, 19
т
70; Студзицкая, 1985 и
др.), льптур, снабженных элементами крепления, по своей
функ
рного слоя, разрознены и не содержат каких-либо сведений для решения вопроса о
функ
и 2 к н
роговая скульптура и, как особо отмечала М.Е.Фосс,
тоже
большинство резных ску
ции, вероятнее всего, являлись подвесками. Использовались ли в указанном качестве
«фертообразные» скульптуры, неясно. Исследователи обратили внимание на сильную
залощенность туловища скульптуры из Сахтыш IIА: возможно, шнур протягивался через
фигурку, как через пряжку (Крайнов, Костылева, Уткин, 1994). Подобное предположение
было сделано Л.Ю. Янитсом в отношении одной скульптуры из Тамула (Янитс, 1954. С.
197).
Имеющиеся в нашем распоряжении данные о контекстах находок, происходящих из
культу
ции изображений. Гораздо более информативны находки, встреченные в
погребальных комплексах (9 экз.).
В ун кальном погребении № на стоянке Кубенино остяк лежал вытянуто, а
животе. У левого бедра находилась
лицом изображения вниз. Сопровождающий производственный инвентарь (три
костяных шила) и малый размер костяка позволили сделать вывод, что погребение
женское (Фосс, 1940. С. 38-39). В погребении X могильника Тамула «фертообразная»
скульптура-подвеска встречена совместно со скульптурной подвеской в виде птицы.
Рядом найден неопределенный фрагмент еще одной скульптуры. Этот набор предметов
найден под черепом. В погребении VIII того же могильника три изображения голов с
чертами лица, выполненными в технике сверления, и, вероятно, являвшимися элементами
крепления, располагались между голеней костяка и были встречены совместно с
тринадцатью подвесками из зубов лося. Оба погребения определены как женские (Jaanits,
1957. С. 80-84). В мужском погребении № 228 могильника Звейниеки две скульптуры-
подвески, изображающие головы, найдены вместе с двумя костяными изображениями
птиц (одна из которых – бесспорно подвеска) под нижней челюстью. Интересно, что
скульптуры, кроме одной из голов, были выполнены из кости балтийского осетра.
Остальной инвентарь состоял из семнадцати янтарных подвесок-«пуговиц» с V-
образными сверлинами, расположенных в области груди (Zagorskis, 1987. Tab. XXVIII).
Из разрушенного детского погребения № 172 того же могильника происходит плоская
59
костяная скульптура-подвеска с не детализированным лицом. Ее первоначальное
местоположение в погребении неизвестно (Zagorskis, 1987. C. 76). Инвентарь женского
погребения № 58 на стоянке Сах ыш IIА представлен «фертообразной» скульптурой,
которая находилась справа от шейных позвонков (рядом с ними) ((Крайнов, Костылева,
Уткин, 1994. С. 103).
Приведенные данные, хотя и довольно скудны, все же показывают, что положение
резных изображений
т
в погребениях существенно различалось. Только в четырех случаях
предм
-
ы не являлись исключительно погребальными, а
носи
Финляндия), которые были подняты со дна озера
непо
икнуть в смысл резных изображений неолита-энеолита, исследователи
неодн этнографическим источникам – единственным, позволяющим
хотя
м
еты находились в области головы погребенного (в районе затылка, шеи), причем в
двух (Тамула, погр. X; Звейниеки, погр. № 228) – антропоморфные подвески обнаружены
совместно со скульптурами-подвесками в виде птиц. Скульптуры встречены в
погребениях мужчин, женщин и детей.
Так как большая часть изображений происходит все таки из культурного слоя,
можно предполагать, что эти предмет
лись постоянно или использовались в каких-либо особенных действиях (как,
например, скульптуры без крепления) людьми при жизни. Ломаясь или теряясь, они
оказывались в культурном слое.
Исключительно интересными находками являются три головы-подвески из Ристиина
Астувансалми (Юго-Восточная
средственно около знаменитых писаниц (Gronhagen, 1991). А. Бутримас полагает, что
существовал определенный обряд, в рамках которого подвески намеренно бросались в
озеро. Серия янтарных скульптур из Йодкранте, по его мнению, также была брошена в
воду (Butrimas, 2000. С. 15). Однако пока этот интригующий сюжет беден
доказательствами.
Смысловое значение.
Пытаясь прон
ократно обращались к
бы отчасти прояснить смысловое содержание этих предметов. Изучаемые
изображения неоднократно связывались с культом предков (Фосс, 1940. С. 38; Гурина,
1961. С. 152). И.А. Лозе видела в них атериальное воплощение духа умершего,
охраняющего человека, семью, дом, род (Loze, 1970. С. 19). Для самой общей смысловой
трактовки рассматриваемых в этой работе резных антропоморфных скульптур, как
представляется, больше всего подходит применяемый М.Ф. Косаревым термин «дух-
охранитель». Этим понятием охватывается широкий круг предметов, носимых на теле или
одежде представителями разных народов Северной Евразии. Эти предметы не
60
обязательно имели антропоморфный облик, например, ими могли быть определенные
части тела какого-либо животного или даже камни. Восприним ются они разными
народами также по-разному: как «хозяин» территории «носителя», как муж (жена)
«носителя», и, конечно же, как его предок (Косарев, 2003. С. 226, 229). Неизвестно,
являлись ли древние скульптурные изображения сугубо личными или семейно-родовыми
духами-охранителями. Наши материалы косвенно свидетельствуют о том, что одна и та
же фигурка могла сопровождать человека и при жизни, и после смерти. В последнем
случае, возможно, фигурка обозначала уже «умершего» духа-охранителя или духа-
провожатого покойного.
Ряд вопросов может быть поставлен в предварительном виде и весьма далек от
разрешения. Например,
а
почему некоторые полнофигурные скульптуры переданы в
дина
ом к
ново
л и
)
я в районе головы и включавшие
мичной, «танцующей» позе (Тамула, Кубенино, Сахтыш IIА), тогда как ноги
остальных изображены в положении, параллельном друг другу (Йодкранте, Абора I,
Усвяты IV)? Какой смысл был заложен в этом различии, только предстоит выяснить.
В связи с тем, что прибалтийские скульптуры приписывались культуре шнуровой
керамики, то проявление в некоторых из них мужского образа связывалось с переход
му типу хозяйства (появлению скотоводства) (Лозе, 1979. С. 120). Так или иначе,
количественное соотношение мужских, женских изображений и изображений
неопределенного пола необходимо прояснить. Мужские гениталии выделены у двух
изображений (Абора I, Усвяты IV). Обе ску ьптуры ун кальны по детализации. Борода,
обозначенная несколькими вертикальными нарезными линиями или продолговатым
рельефным выступом, присутствует у четырех изображений (Тамула (2 экз.), Нида,
Кретуонас IС . Три плоские костяные полнофигурные скульптуры, у которых не
детализированы черты лица, по своему силуэту отнесены к женским (Ошибкина, 1992. С.
57-58). Пол остальных изображений, прежде всего, всех подвесок-«голов», у которых нет
четких признаков бороды, определить невозможно. Таким образом, достоверно мужские
изображения найдены только в Восточной Балтии и Псковской области – т.е., в юго-
западной части зоны распространения резных антропоморфных изображений. Можно с
осторожностью предположить, что в данном регионе существовали некие особые
духовные представления, отразившиеся в создании скульптуры с выраженными
признаками мужского пола, но одинаковой по своей общей «фертообразной» форме с
изображениями других территорий лесной зоны.
Особое внимание в семантическом плане привлекают выявленные в погребальном
контексте наборы скульптур, располагавшиес
61
изобр
ски сходных с
костя
в Центре
Евро ч п
к
нхронно и, судя по всему, являлись как предметами
обихо
В
р
П о
ажения человека («голова» или полнофигурное) и птицы (полнофигурное) – парные
или единичные. Так, инвентарь погребения № 228 могильника Звейниеки включал две
скульптуры «голов» и две – птиц; погребение X могильника Тамула – одну скульптуру
птицы и одну полнофигурную «фертообразную» антропоморфную скульптуру. Вероятно,
до нас дошла лишь ничтожно малая часть предметов, существовавших некогда в этом
погребальном контексте. В том же могильнике Тамула в погребении XIX с плохой
сохранностью кости, около нижней челюсти костяка найдена пара скульптур птиц, но не
встречено человеческого изображения (Jaanits, 1957. S. 87. Abb. 4, 16-17).
Возможно, подобные наборы вещей изготавливались и из янтаря: на территории
Латвии известно несколько янтарных скульптур птиц, морфологиче
ными, также имеющих сквозные отверстия, но немного менее изящных.
Особый интерес вызывает широкое распространение костяных и роговых
изображений птиц на памятниках волосовской культурной общности
пейской асти России (Кашина, Емельянов, 2003). Они одразделяются на две
большие группы: 1) полнофигурные с ульптуры, аналогичные восточно-балтийским (20
экз.); 2) парциальные, которые изображают птичью голову, переходящую в стержень с
отверстием или канавкой для крепления на конце (55 экз.). И те, и другие найдены
преимущественно в культурных слоях стоянок; лишь 4 экз. (все парциальные (!))
встречены в погребениях. В погребении № 18 могильника стоянки Шагара I (Рязанская
область) обнаружен набор из двух парциальных изображения птиц и подвесок из зубов
млекопитающих (Каверзнева, 1992).
Таким образом, антропоморфные и орнитоморфные подвески лесной зоны
Восточной Европы существовали си
да, так и погребального убранства. При сравнении территориального
распространения тех и других можно условно выделить три зоны: «западную»,
«центральную» и «восточную». рамках «западной» зоны бытовали только
антропоморфные, «восточной» – только орнитомо фные подвески. В «центральной»,
включающей памятники Беларуси, ск вской области, Латвии, Эстонии и Ивановской
области известны как первые, так и вторые виды подвесок. Такая картина позволяет
сделать осторожное предположение о том, что в рассматриваемых подвесках были
воплощены какие-то сходные идеи, выраженные на разных территориях в разных образах
(человека и птицы). В контактных зонах этих территорий оба образа могли
восприниматься наравне или в сочетании друг с другом.
62
Выводы.
Резные антропоморфные изображения, сделанные из органических материалов,
очень редко встречаются в материалах памятников эпохи неолита-энеолита. Большая
часть найдена в культурных отложениях поселений, однако около четверти является
элементом погребальных комплексов. По-видимому, основной зоной распространения
резных антропоморфных изображений являлась территория Северо-Запада лесной зоны
Восточной Европы, а также береговые области Южной Финляндии и Юго-Восточной
Швеции.
С помощью новой классификации, предложенной в этой работе, материалы удалось
изучить более подробно и, как нам кажется, объективно. В результате соединения данных
классификации с данными картографирования и хронологии, удалось выявить
предполагаемую синхронность существования большинства морфологически различных
резных изображений с разной манерой отображения черт лица. Кроме того,
картографирование находок позволило говорить о том, что автономные скульптуры голов
являются характерными только для западной, «приморской» зоны всей территории
распространения изображений. Параллели в манере передачи черт лица, выявленные в
изображениях различных регионов, позволяют наметить некие протяженные связи,
существовавшие в ту эпоху между памятниками на территории Латвии и Ивановской
области, Латвии и Юго-Восточной Финляндии, Литвы и Юго-Восточной Швеции.
Функциональное назначение большинства изображений определено наличием у них
элементов крепления: по всей видимости, они подвешивались на шнурке, нашивались на
одежду или даже в некоторых случаях выполняли функцию пряжки. Назначение
предметов, украшенных скульптурами человеческих голов по причине плохой
сохранности и немногочисленности материалов выявить не удалось.
Проблемы смыслового содержания изображений удалось затронуть лишь отчасти,
прежде всего, из-за недостатка данных о контексте находок. Использование резных
скульптур, как в повседневном обиходе, так и в погребальном обряде, подвешивание
(нашивание) их, малые размеры – все это позволяет предполагать, что они изображают
т.н. «духов-охранителей», личных или семейно-родовых, сопровождавших человека и при
жизни, и после смерти. Контекст некоторых погребальных находок позволяет
предполагать, что антропоморфные резные изображения могли носиться в комплекте с
резными изображениями птиц и, возможно, также и с другими типами украшений.
Судя по многочисленным этнографическим данным, памятникам эпической поэзии
и прикладного искусства народов Северной Евразии, смысловое содержание образов
63
челов ицы чрезвычайно богато и многогранно. Очевидно, что установление
харак
ека и пт
тера взаимосвязей, реально существовавших между этими образами в духовной
жизни нео-энеолитического населения Восточной Европы, является сложнейшей
проблемой, разрешение которой требует множества комплексных исследований.
Раздел 4. Графические антропоморфные изображения на керамике.
Введение.
Находки графических антропоморфных изображений на керамике на территории
лесной зоны Восточной Европы малочисленны. Первая находка такого рода была сделана
В.С.
н о
о
й э
себя, в большинстве
случа
д
распр
Передольским на стоянке Коломцы под Новгородом (Peredolski, 1905). Остальные
находки приходятся на 1960-е - 1990-е годы; почти все они были кратко опубликованы.
Некритичное отношение многих исследователей к ах дкам такого рода было связано,
прежде всего, с исключительной редкостью подобных изображений: в ряде случаев
необычные мотивы рнаментации, не имевшие аналогов, были отнесены к
антропоморфным изображениям (Микляев, Мазуркевич, 1994; Журавлев, 1976; Лозе,
1983; Никитин, 1996; Lozovski, 1996).
В этой работе сопоставляются между собой наиболее достоверные, с нашей точки зрения,
образцы антропоморфных фигур на керамике. Выявление их морфологического сходства
позволяет рассматривать эту группу как серию предметов, связанных между собой как в
функциональном, так и в смысловом плане.
Во всех известных нам случаях антропоморфная фигура изображена анфас в полный
рост. Характер ее схематичен: части тела обозначены одинарной линией, реже –
сдвоенной. Голова фигуры в большинстве случаев передана контурно. Высота
изображени – до 10 см. Особенностью тих изображений является их размещение в
общей композиционной схеме орнаментации сосуда, включающей в
ев, геометрические мотивы. Сопровождающий мотив изобразительного характера –
фигуры птиц – редок.
Так как количество предметов очень невелико, обращаться к развернутой классификации
и выделять отдельные группы не представляется необходимым. Достаточно будет
подробно охарактеризовать составные части фигуры, особенности позы и место фигуры в
композиции. На основе этих анных, а также хронологических и картографических,
можно попытаться сделать выводы о культурной принадлежности этих предметов, а также
поставить проблемы их функционально-смыслового назначения. Территориальное
остранение изображений дано на рис. 11.
64
Рис.
е
к.
аники и
лнено
ямкой.
сдвоенными гребенчатыми полосами,
образующими зигзаг, украшавший, по-видимому, все тулово сосуда.
11. Распространение графических антропоморфных изображений.
Техника изготовления.
Изображения на керамик (7 экз.) выполнялись до обжига на наружной поверхности
сосуда, в непосредственной близости к венчику. В целом виде ни один из таких сосудов, к
сожалению, до нас не дошел. Для создания изображения использовались: отпечаток
гребенчатого штампа, отпечаток шнура, точечный накол.
Описание находо
Фрагмент сосуда, происходящий из подъемного материала многослойной стоянки
Векса III (Вологодская обл.), относится к керамике типа Модлона с примесью орг
ракушки в тесте и может датироваться в рамках III тыс. до н.э., возможно, второй
половиной (Недомолкина, 2000) (№ 168). Изображение человека (высота 4 см) выпо
отпечатками узкого гребенчатого штампа. Руки и ноги (от последних сохранилась верхняя
часть), показаны прямыми линиями. Голова показана глубокой подтреугольной
Фигура помещена на пустом поле между
65
Фрагменты сосуда со стоянки Коломцы (Новгородская обл.), составляющие
полный венчик, были найдены в культурном слое поселения (Peredolski, 1905) (№
д относится к гребенчато-ямочной керамике; финский исследователь П.
его к группе типичной гребенчатой керамики (Pesonen, 1996). Скорее всего
уется в рамках конца IV - первой половины III тыс. до н.э. Изображение
высота около 5,5 см) выполнено отпечатками узкого гребенчатого штампа. Руки и
отведены от тела под углом около 60º и немного согнуты в локтях и
танцующая» поза). Сохранившаяся кисть руки, отведенная параллельно
выполнена коротким оттиском гребенки. Точно так же выполнена сохранившая
пня. Голова показана контурным гребенчатым овалом, на ней расположены
коротких прямых отростка («рога»). Уникальность фрагмента из Коломцов состоит в
, наряду с человеческой фигурой здесь представлены изображения птиц, характерные
традиции культур гребенчато-ямочной керамики Финляндии, Карелии, а также
ромбоямочных и льяловских памятников сопредельных территорий. Таким образом
человеческая фигура здесь включена в «птичий фриз». Помимо этого, композиция
включает геометрические мотивы, выполненные гребенчатым и ямочным орнаментом
Фрагмент сосуда, найденный на многослойной стоянке Звидзе (Латвия),
наиболее неоднозначной находкой в этой группе (№ 169). И.А. Лозе относит
нарвско-неманской керамике, орнаментированной точеченым наколом и отличающейся
расчесами на внешней стороне, датируя его рубежом V-IV тыс. до н.э (слой
почти
172).
Сосу Песонен
отнес , он
датир человека
( ноги
коленях
(« плечу,
правая
сту два
том,
что
для ряда
,
.
является
его к
9,
). Голова, руки
и тор которого около 10 см) выполнены двойной линией наколов
(что
а примыкает вплотную к краю
сосуд А. Лозе как овальная, хотя, судя по рисункам, она представлена
двум
о о
ца, ступни показаны
радиоуглеродное датирование образцов угля и дерева) (Лозе, 1988. С. 69-74
с изображения (высота
нехарактерно для остальных изображений), ноги – одинарной. Плечи
перпендикулярны туловищу, предплечья – параллельны, кисти отведены в стороны.
Верхние части ног расставлены под небольшим углом, правая (сохранившаяся) нога
немного согнута в колене («танцующая» поза?). Голов
а и описывается И.
я отростками («рогами»), упирающимися в край. Остальная площадь этого фрагмента
керамики пуста.
Два изображения из поселения Нида (Литва) принадлежат двум разным сосудам
культуры шнуровой (жуцевской) керамики и могут датироваться рубежом III-II тыс. до
н.э. (Rimantiene, 1989) (№ 170, 171). Оба выполнены отпечатками тонкого перевитого
шнура одинарными линиями (высота первого – около 10 см, второго
(фрагментированног ) – около 6 см). Руки и ноги первог изображения прямые и
направлены по диагонали вниз. На руках по три расставленных паль
66
корот
а
37,
2).
я Г
(Utkin, 1989).
ну
кой линией и разведены в стороны. Округлая голова показана контурно.
Орнаментальная композиция состоит из четырех рядов шнуровых отпечатков,
опоясывающих венчик (знаковый атрибут шнуровой орнаментации) и ряда из шести
коротких вертикальных шнуровых линий, спускающихся от нижнего опоясывающего ряда
справа от головы фигуры. У второго изображения сохранилась только верхняя часть
фигуры с расставленными в стороны руками, согнутыми в локтях, с четырехпалыми
кистями на уровне головы. Другие детали композиции – это две разнонаправленные
группы прямых диагональных линий (5 и 4 линии) н д головой изображения. Венчик,
судя по всему, находился выше и не сохранился на этом фрагменте.
Фрагмент с изображением человека с поселения Асавец II (Беларусь) (высота
сохранившейся части – около 2,5 см) выполнен на сосуде шнуровой керамики линейными
отпечатками шнура (№ 173). Короткие плечи перпендикулярны туловищу, предплечья –
параллельны, длинные кисти, показанные линейно, отведены в стороны. Ноги фигуры
почти не сохранились, возможно, они были показаны разведенными, в «танцующей» позе.
Контурная голова ромбической формы почти упирается в орнаментальный ряд из восьми
рядов шнуровых отпечатков, опоясывающих венчик (Археологiя Беларусi, 1997. Мал. 1
Изображение человека со стоянки Литвин I (Беларусь) обнаружено на фрагменте
сосуда с чертами, характерными для поздненеолитической днепро-донецкой культуры
(Исаенко, 1971. С. 211-213) (№ 174). Изображение имеет в высоту около 10 см и
выполнено одинарной линией наколов. Плечи перпендикулярны туловищу, предплечья –
параллельны, кисти отведены в стороны. Через середину туловища проведена короткая
пряма черта. Моделировка ног абсолютно совпадает с моделировкой рук. олова
показана подпрямоугольным контуром. В состав композиции входит ряд ямок под
венчиком, над фигурой. Слева от фигуры помещен объект немного меньшего размера,
выполненный в той же манере, что и человек. Объект фрагментирован, но можно
предположить, что изображена птица (утрачена часть шеи и голова) с поднятым крылом,
подобная изображению птицы на фрагменте льяловской керамики со стоянки Сахтыш IIА
(Ивановская обл.)
Морфология.
Рассматривая морфологические особенности изображений, можно отметить много
общих черт. Поза всех изображений практически одинаковая: руки и ноги всегда
расставлены, часто сог ты в локтях и коленях. Высота изображений – в рамках 6-10 см.
Все изображения даны анфас и находятся на тулове сосуда снаружи, в пространстве ниже
венчика. Разные изображения обнаруживают разные сочетания композиционных
67
элементов и разные способы оформления деталей (прямые или согн тые руки, отогнутые
или «растопыренные» кисти и .п.). При это поза фигуры и е динамичный характер
сходны у всех.
Хронология.
Изображения не имеют четких датировок, однако большинство (кроме фрагмента из
Звидзе), несомненно, относится к синхронным культурам лесной зоны III тыс. до н.э.:
пористой керамики типа Модлона, гребенчато-ямочной керамики, жуцевской и днепро-
донецкой. При всем сходстве фигуры из Звидзе с другими (Коломцы, Литвин I, Асавец II)
в позе и размере, она датируется немного более ранним временем, ве
у
т м е
роятно, в пределах V-
IV ты
ь предположительно связано с охраной содержимого сосуда (Мошинская, 1976. С. 29).
Такое
гурой) (Римантене, 1980. С. 93). На мой взгляд,
интер ким же образом все остальные изображения нельзя, так как на всей
остал
к
с. до н.э. Фрагментарность и малочисленность фигур пока не позволяют установить,
какое место они занимали в общей композиционной схеме сосуда.
Функционально-смысловое значение.
Большинство исследователей полагает, что сосуды с подобными изображениями –
чрезвычайно редкие находки на памятниках позднего каменного века – не относились к
разряду повседневных, а имели культовое значение (Гурина, 1961; Ошибкина, 1992;
Крайнов, 1992). Функциональное назначение изучаемых изображений на керамике может
быт
мнение высказано В.И. Мошинской по отношению к скульптурным зооморфным
изображениям на керамике (. На это может указывать само расположение большинства
фигур – под венчиком, у «входа» в сосуд. Из-за исключительной редкости находок можно
предположить, что их изготовление и использование было приурочено к особым случаям.
Сосуд со стоянки Коломцы был найден вкопанным в землю горлом вверх
(Peredolski, 1905). Не известно, могли ли находиться и остальные сосуды с человеческими
изображениями в подобном контексте. Вероятно, что при таком способе использования
сосудов изображения на них могли быть не видны, а скрыты под землей.
Р.К. Римантене связывает изображения из Ниды с развитием земледелия и
изменением идеологических представлений в начале II тыс. до н. э. По ее мнению, показан
«хозяин» небесных вод, над которым – небо и дожди (ряды горизонтальных и
вертикальных линий над фи
претировать та
ьной территории зарождение производящего хозяйства началось гораздо позднее.
При рассмотрении фигур ни сосудах из Ниды впервые был поставлен вопрос об их
половой принадлежности. Линейное продолжение туловища между ногами в виде
короткого отростка у изображений из Ниды, Асавца II и Литвина I было
интерпретировано ак мужские гениталии (Rimantiene, 1989; Butrimas, 2000). Нельзя не
68
отметить, что все три изображения относятся к западной периферии всей зоны их
распространения. Напомню, что резные изображения мужчин известны на тех же самых
территориях. В.С. Передольский рассматривал изображение из Коломцов как женское,
поско линейные отпечатки гребенчатого штампа, опущенные от подмышек
фигу
таве «птичьего фриза»
имеет уникальной. По своему стилю фигура
близк
льку считал
ры вниз, изображением грудей. Помимо этого, на голове у фигуры тем же приемом
показаны слегка расставленные «рога» (Peredolski, 1905). Половая принадлежность
остальных изображений не ясна.
На большинстве фрагментов сосудов фигура передана в движении, возможно, танцующей.
Эта поза вызывает ассоциацию с позой резных антропоморфных «фертообразных»
изображений того же времени.
Находка на стоянке Коломцы фрагмента сосуда, где в сос
ся человеческая фигура в фас, пока является
а остальным. Ее поза также может быть охарактеризована как динамичная,
танцующая. Связь образов человека и птицы прослеживается и по материалам резных
изображений эпохи неолита-энеолита: некоторые из них, видимо, составляли
погребальные «комплекты». Однако ничего более определенного об этой связи пока
сказать нельзя.
Возможно, в дальнейшем с увеличением количества подобных находок можно будет
высказать какие-то предположения о семантике этого образа. Определенная связь с резной
скульптурой (по размеру и позе фигур) также должна быть учтена в будущих
исследованиях.
Заключение.
Мы рассмотрели антропоморфные изображения эпох неолита-энеолита лесной зоны
Восточной Европы (174 экземпляра), которые представлены в каталоге и альбоме, и
подробно описаны в главах. В соответствии с задачами, поставленными в работе,
антро н п
.
и а
ка
уточн
ч
поморфные изображения были разделены а гру пы согласно различиям в
технологии изготовления; в рамках каждой группы были проанализированы их
морфологические различия Затем был выдвинут ряд предположений о функциональном и
смысловом значении зобр жений разных групп. В ходе этого исследования была
суммирована вся доступная информация об источнике и получены новые данные,
касающиеся морфологических особенностей изображений. Была предпринята попыт
ения этапов их развития, а также освещена проблема их функциональной и
смысловой интерпретации. Итоги изу ения каждой группы изображений приведены в
конце каждой части.
69
Массив ретушированных изображений довольно однороден по использованному сырью,
размерам, контексту большинства находок, территориальной разобщенности
морфологических групп и техник ретуширования. Большинство изображений найдено вне
определенного контекста. Однако все же удалось проследить особенности
распространения одной из выделенных групп (3-ей, изображения без рук) – юго-восточная
часть всего ареала в бассейнах Средней Оки, Мокши и Средней Волги.
В результате двухэтапного
,
изучения морфологии лепных изображений, удалось
ми чертами, постепенно развивается в сторону более
реали
с в я
лица, выявленные в изображениях различных регионов, позволяют
наме
и наблюдениями. Все изображения даны в фас и находятся на тулове
сосуд пространстве ниже венчика. Однако поза разных изображений и ее
динам
м
и
е
сходя из предположений о том, что в эту эпоху изготовлением
проследить хронологическую эволюцию их форм: изменения пропорций, деталей и
размеров фигур во времени. Общий облик глиняной скульптуры, наделенный на раннем
этапе зооморфно-фантастически
стичного отображения человеческой фигуры.
При углубленном рассмотрении резных изображений был сделан вывод о
предполагаемой синхронности существования экземпляров с разной манерой
отображения черт лица. Кроме того, картографирование находок позволило говорить о
том, что автономные кульптуры голов я ляются характерными только дл западной,
«приморской» зоны всей территории распространения изображений. Параллели в манере
передачи черт
тить некие протяженные связи.
Из-за очень ограниченного количества находок графических антропоморфных
изображений на керамике, результаты изучения на данный момент являются лишь
предварительным
а снаружи, в
ичный характер является сходным у всех.
Особенности функционального назначения изображений удалось выявить с разной
степенью подробности.
Контекст находок всех четырех видов изображений ожет свидетельствовать о том, что
изображения могли быть обычными для спользования в повседневной жизни.
Таков, вероятно, был характер использования ретушированных изображений; их роль в
погребальном обряде пока не выяснена.
Судя по имеющимся данным, лепные изображения на раннем этапе могли быть
связаны с погребальным обрядом. Более поздние обнаруживают тесную связь с жилищем
и очагом, а некоторы – с сосудом как особым символом. Охранительная функция
последних весьма вероятна, судя по аналогичным находкам этой эпохи из других
регионов Евразии. И
70
посуды занимались женщины, можно приписывать им и изготовление глиняных
изображений.
Функциональное назначение большинства резных изображений определено наличием у
них элементов крепления: по всей видимости, они подвешивались на шнур
на одежду или даже в некоторых случаях выполняли функцию пряжки. Контекст
некоторых погребальных находок позволяет предполагать, что антроп
ке, нашивались
оморфные резные
изобр
го особого сосуда, используемого в
культ
с з р
человеком или одной семьей.
ажений (от зооморфно-фантастических к
ющих
едставлений. Их смысловая связь с миром семьи и, особенно, с
н. «духов-
и
рных подвесок позволяют предполагать наличие
глуби
большинстве своем изготавливались и использовались носителями синхронных культур
ажения могли носиться в комплекте с резными изображениями птиц. Назначение
предметов, украшенных скульптурами человеческих голов по причине плохой
сохранности и малочисленности, выявить пока не удалось.
Функциональное назначение графических изображений на керамике может быть
предположительно связано с охраной содержимо
овых целях.
Проблемы мысловой интерпретации антропоморфных и об ажений являлись
самыми сложными и неоднозначными; они были решены в наименьшей степени.
Небольшие размеры, характерные для абсолютного большинства изображений,
использование одних для ношения, других - в качестве наверший орудий, оставление
третьих в жилище, четвертых - в погребении, могут свидетельствовать о связи каждого
изображения с одним определенным
Представляется, что рассматриваемые ретушированные изображения передают
определенные образы, которые, по-видимому, были известны населению обширных
территорий. Согласно исследованиям прошлых лет, в них могли быть воплощены как
условно реалистические, так и синкретические герои.
Выявленная эволюция форм лепных изобр
стилизованным антропоморфным), вероятно, отражает изменения соответству
древних религиозных пр
женщинами и детьми представляется весьма вероятной.
Резные антропоморфные изображения-подвески, вероятно, изображали т.
охранителей», личных или семейно-родовых, сопровождавших человека и при жизни,
после смерти. Находки наборов скульпту
нных смысловых связей между образами человека и птицы.
Сходная идея могла быть отражена в композиции на сосуде, где одним из элементов
являлось графическое антропоморфное изображение. Изображение «танцующей» фигуры
находит аналоги в позе некоторых резных изображений.
С большой долей уверенности можно констатировать, что все виды изображений в
71
нео-энеолитическго круга III тыс. до н.э. Немного раньше других появляются, по-
видимому, лепные изображения (в конце IV тыс. до н.э.), а немного позже остальных
,
еском плане (изображения в
качес
по этой теме исследование не является исчерпывающим. Необходимо
уточн у
ф т
исчезают ретушированные изображения и, возможно, часть резных (к середине II тыс. до
н.э.).
Возникновение антропоморфных изображений нельзя рассматривать как
исключительный феномен этой эпохи. Они обнаруживают определенное сходство с
антропоморфными изображениями верхнего палеолита, которое выражается как в
сходстве использованного сырья (кремень, глина, кость, янтарь зуб млекопитающих),
технологических приемов, так, отчасти, и в морфологич
тве наверший орудий, круглая скульптура малых форм), и в сюжетном плане (образы
мужчины, женщины, зооантропоморфного существа).
Проведенное
ять культ рно-хронологическую принадлежность изображений, продолжать
выявление с их помощью направления и характера связей между различными обществами
и процесса ормирования определенных традиций. Для э ого необходимо привлекать
новые источники, а также пытаться уточнить (насколько это возможно) контекст уже
известных находок.
72
Глава 3. Зооморфные изображения. Раздел 1. Изображения птиц.
Введение.
В искусстве нео-энеолитических племен лесной зоны Восточной Европы
значительное место занимал образ птицы. Количество изображений птиц, сделанных из
разных материалов, почти совпадает с количеством антропоморфных (171 и 174 экз.).
Большинство изображений птиц датируется III тыс. до н.э. Известна как скульптурная, так
и графическая (плоскостная) передача образа птицы. Скульптуры изготавливались из
кости, янтаря, дерева, кремня и глины; плоскостные изображения отштампованы на
керамике. Кроме того, образ птицы занимает важное место в монументальном искусстве
(петроглифах) Карелии.
Вопросы, связанные с изображениями птиц, неоднократно обсуждались в
отечественной литературе прошлых лет. Для исследователей наиболее важным
представлялось установить ту роль, которую играли изображения птиц в жизни древнего
населения этой обширной территории. Роль птицы в хозяйстве была весьма значительной,
так как она являлась важным пищевым ресурсом. Кроме того, с птицей были связаны,
вероятно, определенные мировоззренческие идеи древних обитателей лесной зоны
Восточной Европы.
1. Резные изображения птиц. (118 экз.)
Резные изображения птиц изготовлены из кости (82 экз.), рога (15 экз.), дерева (12
экз.), янтаря (7 экз.) и кости крупных пород рыб (2 экз.). В центральной части
Европейской России сосредоточено наибольшее количество костяных и роговых
изображений (регион Верхней Волги и Волго-Окского междуречья). Большинство
деревянных изображений найдено в торфяниковых слоях памятников Восточной Балтии,
хотя единичные находки известны на более обширных территориях. Янтарные
изображения встречены пока исключительно на территории Латвии.
Изображения происходят с территорий Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси,
Архангельской, Псковской, Ленинградской, Ивановской, Ярославской, Тверской,
Московской, Рязанской и Владимирской областей. Размеры изображений довольно сильно
различаются. Самое малое изображение имеет высоту чуть более 2 см (№ 195), а самое
крупное – 34 см (№ 199).
Большая часть предметов была исследована визуально (около 80 экз.), остальные –
по публикациям. Случайных находок насчитывается всего 10 экз. Это скульптуры из
сборов на стоянке Риннюкалнс и отмелях оз. Лубана (Латвия), и из сборов у д. Вешняк и
на оз. Бисеровом (Московская обл.), а также на берегу оз. Шагара (Рязанская обл.).
73
Изображения найдены в основном в культурных отложениях поселений, и лишь 11 экз.
происходит из погребальных комплексов.
Как правило, предметы не имеют точной датировки; причина уже была обозначена в
работе, это – многослойный характер памятников. Уже несколько десятилетий условный
«пик» их распространения обозначается серединой III тыс. до н.э., а в целом они
датируются III тыс. до н.э. (Крайнов, 1978, 1992; Кашина, Емельянов, 2003 и др.).
Техника изготовления.
Для изготовления резных изображений птиц применялись разные виды сырья.
Наибольшее количество экземпляров выполнено из кости и рога; ограниченная серия
предметов – из дерева; встречены предметы из янтаря, уникальными являются вещи из
кабаньего и медвежьего клыка. О других основных особенностях изображений,
вырезанных из разных материалов, подробно говорится в главе 1, части 3 настоящей
работы. Данные, приведенные для антропоморфных изображений, полностью
соответствуют и для резных изображений птиц.
Морфология.
С.В. Студзицкая подразделяла зооморфные (и антропоморфные) изображения лесной
зоны Восточной Европы на две большие группы согласно двум разным базовым
техникам, в рамках которых они изготавливались: «плоской резьбы» и «круглой
скульптуры» (Студзицкая, 1985. С. 108-110). Как и в случае с резной антропоморфной
скульптурой, такое разграничение неприемлемо для исследуемого материала. Янтарные
скульптуры птиц никогда не выполнялись на пластинчатых заготовках из-за хрупкости
сырья. Некоторые костяные предметы имеют пластинчатое тело, но при этом – объемную
голову и пластически выполненный клюв (№ 221, 249, 271). Таким образом, эти два
понятия не могут являться значениями признака в классификации.
Новая попытка систематизации части резных (костяных и роговых) изображений
птиц была предпринята в узком масштабе – только на материалах Мещерской
низменности (Кашина, Емельянов, 2003). Так как эта классификация является
иерархической и открытой, она может быть положена в основу более развернутой
классификации, охватывающей все известные резные изображения птиц лесной зоны
Восточной Европы.
Первый признак, по которому производится группирование предметов – их значение,
которое может быть самостоятельным и сопряженным. Самостоятельное значение
подразумевает, что скульптура существовала автономно, сопряженное – что она
дополняла собой какое-либо иное изделие, выполненное на той же заготовке. Второй
признак – это полнота изображения, которое может быть полнофигурным или
74
парциальным (частичным, причем представленной частью всегда является голова).
Третьим признаком группирования является наличие или отсутствие у скульптуры
элемента, служившего для ее соединения с чем-либо – крепления. К элементам крепления
без сомнения могут быть отнесены сквозные сверленые отверстия, кольцевые канавки и
парные нарезки.
На основе взаимовстречаемости значений этих двух признаков может быть выделено
четыре группы резных изображений птиц (рис. 12):
1) автономные полнофигурные с креплением (30 экз.);
2) автономные парциальные с креплением (53 экз.);
3) сопряженные парциальные без крепления (21 экз.);
4) сопряженные полнофигурные без крепления (5 экз.).
Рис. 12. Резные изображения птиц.
Некоторое количество экземпляров не включено ни в одну из групп по причине их
сильной поврежденности. Однако, большинство фрагментированных предметов, которые
имеют бесспорные аналоги среди целых предметов, было в ней учтено.
Третья и четвертая группы изделий с изображением птиц целиком и их голов
являются наиболее сложными для рассмотрения, так как они дополняют очень разные по
функции и размерам предметы, которые довольно часто дошли до нас во фрагментах.
Поэтому в ряде случаев сделать предположение о функции изделия, украшенного
сопряженным изображением, довольно трудно.
75
Рассмотрим изображения указанных групп по следующим параметрам:
использованному сырью, набору представленных деталей фигуры и других
морфологических особенностей, размерам предметов.
Группа 1. Автономные полнофигурные изображения с креплением (30 экз.).
Предметы сделаны из кости, янтаря, кабаньего и медвежьего клыка. Все они
уплощены и предназначены для восприятия, главным образом, в профиль. Основной
акцент сделан на проработку силуэтной линии. Показана голова птицы, шея,
расширяющаяся при переходе в туловище, и само туловище. Ноги и хвост (когда
присутствуют) изображены короткими выступами. Иногда изображены либо только ноги,
либо только хвост. Выделение деталей не характерно для изображений этой группы:
только несколько предметов имеют рельефно оформленную голову и клюв (без
проработки линии рта), а также глаза, выделенные ямками-сверлинами.
Важной особенностью группы является крепление, выполненное в виде круглой
сверлины. На одном изображении их может быть от 1 (наиболее часто) до 4. Ее
расположение на фигуре варьируется: чаще – на середине туловища сверху, но бывает и в
середине туловища по центру или снизу, на хвосте, ногах, груди. Уникальный характер
имеет скульптура, у которой вместо хвоста находится вторая голова, зеркально
симметричная первой (№ 238). Размеры скульптур в среднем – 5-6 см. Пять изображений
не имеет крепления, но имеют несомненные морфологические аналоги среди остальных
предметов этой группы. Возможно, их следует считать незаконченными (№ 182, 220, 242,
248, 289, 292), поскольку, как было выяснено, сверленое отверстие делалось почти в
последнюю очередь. Некоторые из них отшлифованы, но не отполированы, что напрямую
указывает на их незавершенность.
Группа 2. Автономные парциальные изображения с креплением (53 экз.).
Предметы изготовлены в основном из кости, в редких случаях – из рога. Эта
наиболее представительная группа объединяет изображения, показывающие только часть
фигуры: голову птицы и шею, переходящую в стержень, на конце которого оформляется
крепление. В большинстве случаев изображения детализированы. Глаза показаны ямками-
сверлинами, линия рта - прорезной линией. В редких случаях у изображений имеются
мелкие поперечные насечки на линии рта, которые, возможно, передают особенности
строения клюва некоторых пород птиц, или ноздри; в единственном случае клюв показан
открытым. Для этой группы характерны несколько различных видов креплений, это:
сквозное сверленое отверстие, которое может быть выполнено в разных плоскостях,
76
кольцевая канавка и парные (иногда не 2, а 4) нарезки. Видимо, выбор варианта крепления
зависел от формы сечения стержня. Округлое или овальное сечение предполагает канавку,
уплощенное – отверстие или, в редких случаях, парные нарезки по краям. Размеры
изображений имеют больший разброс, чем в группе 1, однако лишь несколько
экземпляров выделяются своими относительно крупными размерами, тогда как длина
остальных в большинстве своем составляет 5,5±0,5 см. Ряд фрагментированных
изображений (в основном, поврежден стержень) имеет несомненные морфологические
аналоги среди целых предметов этой группы. Два изображения (№ 237, 269) незакончены,
так как следов полировки и крепления они не имеют.
Группа 3. Сопряженные парциальные изображения без крепления (21 экз.).
Они изготовлены из дерева, рога и кости. В этой группе сосредоточены наиболее
разные по форме и размерам изделия, снабженные парциальными изображениями птиц
(голова и шея). При этом в объеме и деталях они очень близки изображениям группы 2.
Девять предметов являются деревянными ковшами-черпаками с «полуяйцевидной»
чашей. Птичья голова с шеей играет роль ручки. Степень детализации головы различна:
иногда детали не выделены, иногда выделена только линия рта, иногда – сверленые глаза
и линия рта вместе. Угол наклона «шеи» по отношению к чаше разный. В большинстве
случаев он близок к прямому, в двух – более пологий и составляет около 140º. Размеры
изделий крупные и колеблются в рамках (у целых) 25-40 см.
Вопрос о назначении второй категории – роговых «г»-образных изделий,
увенчанных птичьей головой (8 экз.) весьма спорный. Ряд исследователей высказывал
мнение о том, что это – фаллические предметы, связанные с культом медведя и обрядами
дефлорации (Крайнов, 1992; Уткин, Костылева, 2000). Автор настоящей работы
предлагает другую гипотезу. На тех же памятниках (например, Сахтышские стоянки,
Черная Гора) существует ряд роговых (и один деревянный) предметов, абсолютно
сходных по форме и размерам с «птицеголовыми», но оканчивающихся плоской
лопаточкой, часто с тонкими насечками. Подобные орудия известны в этнографии
эскимосов и являются огнивом со вставной (сменной?) рабочей частью, служившим для
добычи огня трением, которое приводилось в движение лучком или руками (Шоссоннэ,
1996). Наши предметы имеют такую же продольную канавку на стержне и расширение в
его нижней части – место, где прикручивался рабочий стерженек. Птичьи головы на них
детализированы по-разному: без проработки вовсе, с означенной линией рта, со
сверлеными глазами и линией рта совместно. Как правило, голова и основание шеи
77
расположены под прямым углом к стержню, однако в одном случае угол составляет почти
180º. Размеры предметов (диагональ от конца стержня до конца клюва), судя по целым
формам достаточно крупные: 10-17 см. Четыре сильно фрагментированных предмета
(«головы») из-за своих крупных размеров отнесены к той же категории условно.
Третья и четвертая категории представлены уникальными предметами с одного
памятника – Усвяты IV (№ 204, 203). Оба являются относительно крупными и
объемными. Первый представляет собой костяное орудие неясного назначения (возможно,
лощило), второй, деревянный, интерпретируется как рукоятка весла. Обе скульптуры
относительно слабо детализированы: на первой нарезкой обозначена линия клюва, на
второй – глаза ямками-сверлинами. Последний предмет – это изображение двух
зеркально-симметричных птичьих голов, «вырастающих» из рукояти-стержня и
касающихся его же своими опущенными длинными клювами. Высота первого, целого
предмета – около 30 см, второго (фрагментированного) – 16,2 см (голов – 12 см).
Группа 4. Сопряженные полнофигурные изображения без крепления (5 экз.).
Предметы этой малочисленной группы изготовлены из кости и известны только на
территории Эстонии и Латвии (2 экз. – случайные находки). Все четыре полнофигурные
скульптуры птиц – плоские и не детализированные – очень близки по формам и размерам
скульптурам группы 1. Одно изделие (могильник Тамула, № 178), сохранившееся почти
целиком, интерпретируется как лопаточка (ложка?) (Jaanits, 1957), четыре других (2 -
целые) – как кинжалы (Loze, 1970). Размеры изделий сходны и составляют около 20 см.
В разных изображениях представлены различные по местам обитания виды птиц:
перелетные болотные птицы (кулик, цапля, журавль); перелетные водоплавающие птицы
(утка, гусь, лебедь, чомга); неперелетные лесные птицы (глухарь, тетерев, рябчик). Без
определений специалиста-орнитолога разграничить отдельные породы не всегда
представляется возможным, поэтому в скобках дан набор возможных вариантов.
Рассмотрим видовой состав птиц, переданный в изображениях разных групп. В группах 1
и 2 встречаются как водоплавающие, так и болотные и лесные виды. В группе 3
присутствуют почти исключительно водоплавающие, в группе 4 – только водоплавающие.
Таким образом, можно говорить о некоторых особенностях сочетания образов именно
водоплавающих птиц с несколькими видами орудий. Особое внимание привлекает
довольно широкая распространенность изображений лесной неперелетной птицы в
качестве парциальных скульптур с креплением.
78
Территориальное распространение.
Анализ распространения находок показывает, что большинство находок относится к
зоне Центра Европейской части России (рис. 13). Это может объясняться тем, что на
остальных территориях (например, страны Восточной Балтии, Север Европейской части
России) кость и дерево сохраняется только в торфяных слоях. В свою очередь, в
Центральной России кость сохраняется удовлетворительно в прибрежных песчаных слоях,
но дерево не сохраняется вообще.
Рис. 13. Распространение резных изображений птиц.
Тем не менее, региональные сходства и различия в моделировке изображений
определенно имели место. Только в странах Восточной Балтии на настоящий момент
известны сопряженные полнофигурные скульптуры (группа 4). Исключительно к Центру
79
Европейской части России относятся автономные парциальные скульптуры с креплением
(головы на стерженьках, группа 2). С другой стороны, и на этой территории, и в странах
Восточной Балтии распространены автономные полнофигурные скульптуры с креплением
(плоские с отверстиями, группа 1). Балтийские экземпляры имеют более плавные
очертания, близкие листовидным, российские – подпрямоугольное туловище и более
угловатые очертания. Среди изображений группы 3 (сопряженные парциальные)
категория деревянных ковшей встречается почти по всей лесной зоне, а категория «г»-
образных роговых предметов – только в Центре Европейской части. Таким образом, по
распространению двух категорий резных изображений птиц «восточная» зона (Центр
Европейской части России) может быть обособлена от других регионов: только здесь
встречены изображения птичьих голов на стерженьках и экземпляры «птицеголового
огнива».
Хронология.
Судя по имеющимся хронологическим данным, подавляющее большинство
предметов может датироваться относительно компактно, в рамках III тыс. до н.э.
(Крайнов, 1992; Ошибкина, 1992; Зимина, 1992; Мазуркевич, 2001; Loze, 1970; Ванкина,
1970; Чернявский, 1967), возможно, ряд предметов – его второй половиной (Каверзнева,
1992; Zagorskis, 1987; Girininkas, 1990).
Таким образом, резные изображения птиц были созданы носителями синхронных
культур нео-энеолитическго круга: керамики типа Модлона Севера России, поздней
гребенчато-ямочной или пористой керамики Восточной Балтии, поздненарвской культуры
Литвы, усвятской запада России, среднеднепровской Беларуси, волосовской культуры в
Центре Европейской части России. Наличие практически на каждом рассматриваемом
памятнике серий морфологически различных изображений (отнесенных здесь к разным
группам) позволяет предполагать, что вообще все известные категории резных
изображений птиц могли бытовать синхронно. Морфологическое сходство предметов
одной группы, происходящих из разных регионов лесной зоны, позволяет констатировать
наличие определенных связей между многими значительно удаленными друг от друга
группами поселений.
В связи с условностью большинства датировок и ограниченным количеством
материала, пока не представляется возможным изучить изменение стилей и традиций
изготовления различных категорий резных изображений.
Функциональное значение.
Как уже неоднократно указывалось исследователями (Loze, 1970; Студзицкая, 1985 и
др.), большинство резных изображений птиц (костяных, роговых и янтарных),
80
снабженных элементами крепления, по своей функции, вероятнее всего, являлись
подвесками или нашивками, украшавшими одежду или входившими в состав ожерелий. О
последнем способе свидетельствует ряд данных о находках изображений в погребальных
комплексах.
В погребении подростка (VII) могильника Тамула (Эстония) в районе грудной
клетки костяка была найдена полнофигурная костяная подвеска. Помимо инвентаря,
позволяющего датировать захоронение второй половиной III тыс. до н.э., в могиле, судя
по всему, находилось крыло журавля. Согласно схеме, оно лежало в яме по диагонали и, в
принципе, могло находиться ниже костяка, т.е. подросток мог быть положен на это крыло
(Янитс, 1954). Подобный обряд зафиксирован в одном из погребений культуры эртебелле
в Дании (Albertsen, Brinch Petersen, 1977). В женском погребении X того же могильника у
правого бедра найдена костяная лопатка с полнофигурным изображением птицы и
полнофигурная подвеска под черепом. Кроме того, там же встречен обломок
антропоморфной полнофигурной подвески. В мужском погребении XIX между левым
плечом и нижней челюстью находились две костяные полнофигурные подвески вместе с
подвесками из зубов лося и медведя (Jaanits, 1957).
Мужское погребение № 228 могильника Звейниеки (Латвия) содержало две
полнофигурные подвески в виде птиц и две резные скульптуры человеческих голов,
расположенные в ряд под нижней челюстью, а также набор круглых янтарных подвесок-
«пуговиц» с V-образными сверлинами на груди погребенного. По этим находкам
погребение датируется в рамках III тыс. до н.э., хотя Ф.А. Загорскис предлагает
датировать его концом III – началом II тыс. до н.э. (Zagorskis, 1987. С. 138).
Среди инвентаря двух волосовских погребений на стоянке Сахтыш I (Ивановская
обл.) находились две парциальных подвески, изображающих глухаря и водоплавающую
птицу. О них, к сожалению, известно только, что первая происходит из погребения № 10,
а вторая находилась в районе пояса погребенного (устное сообщение А.В.Уткина).
В коллективном волосовском погребении № 18 на стоянке Шагара I (Рязансккя обл.)
между тазовыми костями двух из погребенных на дне могильной ямы найдены два
автономных парциальных изображения птиц с креплением и десять подвесок из
просверленных зубов млекопитающих (Каверзнева, 1992).
Также существуют данные о находках таких изображений в жилищах. Все
деревянные ковши стоянки Сарнате (Латвия) были найдены в разных жилищах (Ванкина,
1970); ковш из Сахтыш I также происходил из жилища (Крайнов, 1992). В том же
контексте (в придонной части жилищ) найден ряд парциальных и полнофигурных
81
костяных подвесок с поселений Великодворье I (Московская обл.) и Шагара II (Рязанская
обл.).
В яме № 5 на поселении Сахтыш IIА была найдена одна парциальная костяная
подвеска, обломанная по сверлине, вместе со скребками и фрагментами обработанной
кости (устное сообщение Е.Л. Костылевой).
Погребальный контекст ряда резных изображений птиц (Тамула, Сахтыш I, Шагара
I) свидетельствует о том, что они могли составлять часть набора украшений в сочетании с
подвесками из просверленных зубов млекопитающих. Такие наборы могли носить на
голове, шее, возможно, на поясе.
Особенностью скульптур из Кривины 1 (Беларусь) и Сахтыш 1 (Ивановская обл.)
(№205, 206, 219) является зубчатое оформление края изделия (в первом случае – по всему
периметру изображения, во втором – на спине и хвосте), что позволяет рассматривать эти
изображения не только как подвески-нашивки, но и, возможно, как штампы для
орнаментации керамики.
Абсолютное большинство скульптур птиц происходит из поселенческих слоев
рассматриваемых памятников. Это объединяет их с другими, более многочисленными
типами украшений. Очевидно, что все эти предметы использовались в повседневной
жизни и попадали в культурный слой в случае поломки (количество поврежденных
экземпляров значительное) или утери, а не относились исключительно к деталям
погребального убранства.
Гипотеза об использовании ковшей с головами птиц исключительно в особых целях
не раз выдвигалась исследователями (Мошинская, 1976; Крайнов, 1992). Следы починки
(два сквозных отверстия) на ковше из Модлоны указывают на заботу об этой вещи,
стремление сохранить ее (Ошибкина, 1992). Х. Моора, напротив, считал их использование
повседневным, опираясь на контекст находки одного из сарнатских ковшей в жилище
(Moora, 1952). Из-за плохой сохранности дерева, находок такого рода очень мало, однако,
они встречаются хотя бы единично на всех исследованных торфяниковых стоянках.
Вероятно, правомерными можно считать обе точки зрения. Так как для человека той
эпохи, в сущности, не существовало разделения между культовыми и «бытовыми»
действиями, использование такого рода предметов вполне могло быть «бытовым» с
современной точки зрения. Подобную роль могли играть весло, и предмет неизвестного
назначения из Усвят IV, а также «кинжалы» и «лопаточки» из Эстонии и Латвии. Вопрос
об использовании «птицеголового огнива» пока не разработан в должной мере.
82
Смысловое значение.
Материалы по этнографии народов Урала и Сибири свидетельствуют о том, что с
представлениями об умирании и оживании природы был тесно связан культ перелетных
водоплавающих птиц (Косарев, 1988. С. 103). О почитании водоплавающей птицы в
неолите исследователи говорили неоднократно. Н. Н. Гурина связывала культ перелетных
водоплавающих птиц у северного неолитического населения с тем огромным
экономическим значением, которое по ее мнению имела охота на птицу ранней весной (в
особенно голодное для людей время), когда птицы прилетали, а также поздней весной в
период линьки. Изображения птиц на керамике неолита и бронзы, а также в петроглифах,
по предположению ряда исследователей, являлись свидетельством существования и
широкого распространения этих представлений (Гурина, 1951. С. 112; Ошибкина, 1980).
Несомненно, охота на птицу имела определенное хозяйственное значение для
населения лесной зоны Восточной Европы в конце каменного века. Птица давала мясо и
перо; некоторые типы изделий часто изготавливались из костей птиц. Среди орудий труда
— это проколки и кости с кольцевыми канавками на диафизах, которые применялись для
разминания сухожилий; среди украшений — пронизки. Из костей птиц выполнены
флейты, найденные на поселениях Черная Гора, Шагара II и Владычино (Рязанская обл.,
определения проведены А.А. Карху). Таким образом, изготовление резных изображений
птиц могло быть приурочено к неким обрядам магического характера, направленным на
приумножение птицы и (или) обеспечение охотничьего успеха.
Вероятно, образы птиц были связаны не только с охотничьей ритуальной практикой,
но и с охранительной магией. Глубже проникнуть в проблему смысловой интерпретации
резных изображений птиц помогает анализ контекста некоторых находок. На ряде
изображений зафиксированы следы охры (в том числе, на «огниве»), причем в двух
случаях охрой были заполнены глазные сверлины, а в одном – канавка рта (подвески-
«головы»). Важное значение охры в первобытном мышлении и ритуальной практике, в
частности, ее связь с идеей жизни, неоднократно подчеркивалось исследователями
(Столяр, 1985). Являлась ли «обработка» охрой изображений птиц постоянной, или
применялась лишь для определенных изображений или в особых случаях, сказать
затруднительно.
Охранительное значение птиц-подвесок для их владельца подтверждается находками
их в погребальных комплексах. Находки парных изображений в погребениях (Тамула,
Звейниеки, Шагара II), а также двухголовая моделировка фигурки птицы со стоянки
83
Николо-Перевоз, возможно, свидетельствуют о существовании определенных
представлений, связанных с всесилием, могуществом изображаемого существа.
Находки в культурных отложениях многих поселений «г»-образных предметов без
птичьих голов позволяют предварительно охарактеризовать «птицеголовые огнива» как
особые ритуальные предметы, возможно, использовавшиеся в особых случаях. Разведение
старейшинами праздничного костра исключительно с помощью трения – это эпизод,
который не раз встречается в этнографических описаниях разных народов Северной
Евразии (Косарев, 2003. С. 162). Смысловая связь огня - символа благополучия семьи и
рода – и образа водоплавающей птицы, казалось бы, семантически близкой к водной
стихии, нуждается в дальнейшем изучении.
Украшение деревянных ковшей головами птиц имеет параллели в прикладном
искусстве средних веков и даже в современных народных промыслах. Возможно, эти
ковши использовались для зачерпывания воды и, в таком случае, проявлялась
тождественность образов воды и водоплавающей птицы, а возможно и более сложный
семантический ряд: «вода-птица-ковш-чаша-лоно-женщина». Образы водоплавающих
птиц, вероятно, могли отражаться и в космогонических представлениях населения эпохи
неолита-энеолита лесной зоны, так как миф о птице-демиурге имел широчайшее
распространение у всех охотников и собирателей Северной Евразии и, особенно, у финно-
угорских народов (карело-финский эпос, мифология хантов и манси).
Птицы-первопредки широко известны в представлениях различных народов мира, в
частности, у палеоазиатских народов (Мелетинский, 1979). В качестве тотемов родов и
отдельных родовых групп у разных народов Урала и Сибири почитались самые различные
породы птиц, в частности, орел, ястреб, глухарь, журавль, ворон, лебедь, гоголь, филин
(Косарев, 1988). Однако, для сопоставления полнофигурных и парциальных подвесок с
изображенными разными видами птиц и неких тотемных различий между регионами,
никаких данных пока не выявлено.
Широкое распространение в подвесках изображений глухаря (в некоторых случаях,
возможно, тетерева или рябчика) вероятнее всего свидетельствует о том, что достаточно
важное место в хозяйстве и представлениях древних обществ региона Центральной
России занимала именно лесная птица.
Выводы.
Ярко выраженной особенностью искусства нео-энеолитического населения лесной
зоны Восточной Европы является абсолютное численное преобладание образа птицы в
ряду резной скульптуры малых форм. Почитание птицы, как водоплавающей и болотной,
так и лесной, было, по всей видимости, очень развито на этих территориях.
84
Согласно предложенной впервые морфологической классификации, изображения
были разделены на 4 группы, в составе которых находятся автономные изображения
(полнофигурные и парциальные подвески) и сопряженные изображения (ковши, лопатки,
кинжалы, весло, и другие орудия) с головами птиц. В результате соединения данных
классификации с данными хронологии, удалось выявить предполагаемую синхронность
существования большинства морфологически различных изображений.
Картографирование находок позволило говорить о том, что автономные парциальные
скульптуры-подвески и роговые «птицелоговые огнива» характерны только для
«восточной» зоны всей территории распространения изображений. Зона бытования
полнофигурных подвесок и ковшей, напротив, была весьма обширной. Четкие
морфологические параллели, выявленные в подобных изображениях из различных
регионов, позволяют наметить некие протяженные связи, существовавшие в ту эпоху
между памятниками стран Восточной Балтии и Центра Европейской части России.
Весь комплекс рассмотренной скульптуры обнаруживает единство в
технологической схеме изготовления изображений, в серийности на разных памятниках, в
передаче разных (по местам обитания) видов птиц. Особое внимание привлекает
распространенность изображений лесной неперелетной птицы исключительно в Центре
Европейской части.
Функциональное назначение большинства изображений определено наличием у них
элементов крепления: по всей видимости, они подвешивались на шнурке или нашивались
на одежду или головной убор. Они использовались как в повседневном обиходе, так и в
погребальном убранстве. Их смысловое значение, скорее всего, было связано с
охранительной или охотничьей магией. Раскрашивание некоторых подобных вещей
охрой, свидетельствует об их связи с важнейшими духовными представлениями человека.
Функции ковшей и «г»-образных предметов с головами птиц пока не ясны, однако их
ритуальное значение бесспорно. Семантическая связь изображений водоплавающей
птицы не только с водой, но и, возможно, с огнем, указывает на сложность и
многогранность образа птицы в мировоззрения нео-энеолитического населения.
2. Лепные изображения птиц (23 экз.)
Эта малоизученная группа изображений привлекла внимание исследователей
относительно поздно – начиная с 1970-х годов (Журавлев, 1972) – в связи с началом
планомерных раскопок многослойных поселений, хотя некоторые находки были известны
и раньше (Янитс, 1959), однако были описаны очень кратко и отнесены к изображениям
85
птиц предположительно. Впервые эти предметы были обобщены и рассмотрены как
единая группа лишь в 1990-е годы (Уткин, Костылева, 1998), однако за прошедшие шесть
лет количество находок увеличилось на треть. В этой работе изображения птиц будут
рассмотрены с учетом новых материалов, а также с привлечением данных о подобных
находках в Финляндии (Karjalainen, 1997; Pesonen, 2000).
Предметы происходят с территории Литвы, Латвии, Эстонии, Карелии, Республики
Коми, Вологодской, Новгородской, Тверской, Ивановской, Костромской областей. Также
несколько образцов известно на территории Юго-Восточной Финляндии.
Визуально было исследовано 13 экз., остальные 10 экз. изучены по публикациям. Все
находки происходят из культурных отложений поселений.
Техника изготовления.
Лепные изображения птиц изготавливались, как правило, из формовочной массы с
примесями (песок, дресва), характерными для синхронных им типов керамики,
распространенных на тех же памятниках. Иногда наблюдается использование
формовочной массы без всяких примесей (№ 302). Каждый предмет изготовлен из одного
куска массы и обожжен. Часть украшена ямочным, гребенчатым, накольчатым
орнаментом. Иногда заметны следы пальцевых, ногтевых отпечатков и отпечатков
фрагментов органики, сохранившихся при обжиге. В нижней части туловища некоторых
скульптур сделано глубокое (или даже сквозное) отверстие (иногда - два), вероятно, при
помощи щепки или тростинки, нанесенное по сырой массе.
Обращает на себя внимание небрежность лепки многих изображений: на
поверхности видны отпечатки пальцев, на некоторых участках фрагменты массы не
сведены и не заглажены. Возможно, при изготовлении части изображений вообще не
заботились о качестве сырья: многие скульптуры имеют трещиноватую поверхность,
возникшую при обжиге.
Морфология.
Провести морфологический анализ этой группы предметов очень сложно. Прежде
всего, керамические изделия дошли до нас большей частью во фрагментах, иногда очень
малоинформативных. Возможно, многие изображения были не замечены исследователями
и попали в коллекции как «неопределенные изделия из глины». Характерной чертой
многих неолитических поселений являются многочисленные находки неопределенных
предметов из обожженной глины и их обломков. Они имеют формы шариков,
стерженьков (прямых или изогнутых в разных направлениях), петель, просто аморфных
86
комков (Pesonen, 2000). Подобные «невнятные» вещи иногда трактуются как
изобразительные, например, гнутые стерженьки – как змеи (Журавлев, 1972).
Однако без выработки определенных критериев говорить о серии изображений птиц
нельзя. Предлагаются два дополняющих друг друга критерия:
1) изображение имеет поперечное сечение, близкое округлому или овальному, в любом
месте предмета;
2) отдельные части изображения (голова и шея, шея и туловище) смыкаются между
собой под углом в 90-140º; у целого изображения таких перегибов должно быть не менее
двух, у фрагмента – не менее одного.
Выделение подобных критериев производится впервые, поэтому возможно, что в
дальнейшем с накоплением новых материалов некоторые предметы, исключенные на
данном этапе из числа изображений птиц, будут туда возвращены. Так как количество
предметов очень невелико, обращаться к развернутой классификации и выделять
определенные группы не представляется необходимым. Достаточно будет описать
составные части фигуры, орнаментацию, размеры и некоторые дополнительные
морфологические особенности.
Общая изобразительная схема этих предметов очень проста – это зигзаг с двумя
прямыми углами. Базовые составные части фигуры следующие: голова, шея, туловище. У
четырех изображений, относительно сохранных, показан хвост – вытянутый отросток,
направленный по диагонали вверх или вниз. Как правило, детали головы не
прорабатываются подробно; она только утончается на конце. В единственном случае
голова выполнена довольно реалистично: четко изображен клюв водоплавающей птицы;
двумя симметричными аморфными ямками на двух сторонах головы показаны глаза (№
310).
Орнаментированные изображения составляют меньшинство – всего 5 экз. У одного
фрагмента скульптуры (№ 295) линии ямок спускаются от кончика головы («клюва»)
вдоль шеи к туловищу. На шее спереди линии помещены разреженно. Вокруг основания
шеи ямки, видимо, образовывали «ожерелье». Сходные продольные линии, выполненные
рядами наколов, присутствуют на голове и шее другого фрагмента изображения (№ 308).
Ряды гребенчатых отпечатков украшают два фрагментированных изображения (№ 296,
297). На первом одинарная линия гребенчатых отпечатков спускается от «носа» и по шее
сзади, а тройная – по шее спереди. На втором изображении пять продольных рядов
покрывают спину, а один отпечаток – на хвосте сверху. Прочерченный орнамент на
87
очередном фрагменте изображения (№ 298) выполнен неглубокой гладкой канавкой,
проведенной, возможно, щепкой. В основе этой орнаментальной композиции – 3
поперечных линии на спине и 2 продольные на боках. Пространство на спине между
линиями и вокруг них заполнено зеркально-симметричными раппортами из трех линий.
Размер изображений (наибольшая диагональ) можно оценить, даже учитывая
фрагменты. Самые мелкие (около 1,6-2 см) – два изображения из Пурциемс и Звейсалас
(Латвия, № 307, 306). К средней группе может быть отнесена большая часть изображений,
размеры которых – от 4 до 6 см. Как самые крупные изображения (от 6 и, возможно, до
10-15 см) оцениваются четыре фрагмента скульптур (Вигайнаволок I, Черная Речка III (2
экз.), Усть-Валдайка 1) (№ 295, 297, 298, 310).
Из-за схематизма скульптур довольно трудно угадать, какие виды птиц в них
отображены. У изображений с сохранившейся шеей она всегда имеет значительную по
сравнению с головой длину; тогда можно утверждать, что показана водоплавающая птица
– гусь или лебедь.
Из некоторых других морфологических особенностей следует отметить отпечатки
фрагментов органики, сохранившихся при обжиге, имеющие вид тычков щепкой (?),
иногда глубиной более 0,5 см. На головах двух скульптур из Усть-Валдайки I отмечено
более трех таких следов (№ 310, 311).
Самой любопытной морфологической особенностью целой группы лепных
изображений птиц является наличие в нижней части туловища отверстия, проделанного
по сырой глине. Впервые это было отмечено А.В. Уткиным и Е.Л. Костылевой у двух
предметов (Уткин, Костылева, 1998) Всего таких вещей насчитывается сейчас семь (№
293, 297, 299, 300, 312, 313, 314). У двух экземпляров отверстие имеет прямоугольные
(вытянутые) очертания и составляет в глубину около 1 см. Ямка подквадратных
очертаний третьей скульптуры имеет глубину 0,6 см; круглая ямка на четвертой – 0,8 см
глубиной. Ямка подтреугольных очертаний пятой фигурки из Польца – 0,7 см. глубиной.
Шестое и седьмое изображения птиц имеют по две ямки круглых очертаний, проделанных
на туловище одна за другой на расстоянии 1 см друг от друга. У обоих ближняя к шее
ямка – сквозная, у шестого – задняя ямка сделана снизу туловища и несквозная, у
седьмого задняя ямка сквозная. Лепные изображения птиц с подобными ямками известны
в Юго-Восточной Финляндии, например, на стоянках Вихи и Перринмекки (Pesonen,
2000). Таким образом, около одной трети известных нам изображений имеет одну и ту же
особенность – относительно глубокое или даже сквозное отверстие в туловище.
88
Территориальное распространение. Хронология.
По-видимому, все лепные изображения птиц относятся к кругу культур гребенчато-
ямочной (Восточная Балтия, Карелия, Финляндия, Русский Север, Коми), ромбоямочной
(Карелия) и ямочно-гребенчатой керамики (Центр Европейской части России) (рис. 14).
Рис. 14. Лепные изображения птиц.
На это указывает, прежде всего, состав формовочной массы скульптур, наиболее
близкий именно к керамике этих культур (Уткин, Костылева, 1998). Так как все
изображения происходят из многослойных культурных отложений, их точные датировки
произвести невозможно. Вероятно, изображения могут быть датированы в интервале от
середины IV тыс. до н.э. (предметы из слоев льяловской культуры и гребенчато-ямочной
керамики Карелии, Коми и Восточной Балтии) до середины III тыс. (на памятниках
Карелии, содержащих ромбоямочную и позднюю гребенчато-ямочную керамику). В
89
целом можно говорить, что изображения развивались в рамках синхронных и родственных
культур.
Примечательно отсутствие находок лепных изображений птиц в южной зоне ямочно-
гребенчатых памятников – Московской, Рязанской, Владимирской областях. Одна
находка происходит из Костромской области и, возможно, со временем их ареал
расширится.
Функциональное значение.
Исследователи не раз отмечали небрежность, с которой изготовлены изображения
(Журавлев, 1972; Pesonen, 2000). Они полагали, что использование их было
кратковременным, возможно, одноразовым, после чего они выбрасывались или даже
намеренно уничтожались. С такими мнениями предварительно можно согласиться.
Наличие у ряда изображений отверстий в туловище позволяет предположить, что
фигурки могли насаживаться на щепки или тростинки, например, втыкаемые в землю. П.
Песонен считает, что эти палочки имели сугубо утилитарное назначение: предохраняли
фигурку от соприкосновения с землей во время обжига. Однако эта версия не объясняет
отсутствия отверстий у остальных скульптур.
Анализ контекста находок изображений позволяет сделать некоторые
предположения об их использовании.
1) Три изображения (два с отверстием, третье – без) были найдены совместно с
фрагментом антропоморфного лепного изображения, лепной скульптурой
млекопитающего (куница? лиса?) и еще пятью аморфными фрагментами каких-то изделий
на площади 20 кв.м (№ 297-299, 95, 398). К сожалению, из-за потревоженности слоя
охарактеризовать вскрытый объект подробнее не удалось (пос. Черная Речка III, Карелия,
раскопки Н.В. Лобановой, 1999 г.).
2) Фрагмент изображения был найден совместно с антропоморфной скульптурой
головы на керамике, фрагментом сосуда с плоскостными изображениями птиц, двумя
лепными скульптурами змей (№ 294, 92, 333, 422-423) и небольшим количеством
неопределенных лепных фрагментов на площади около 20 кв.м. в линзе с углистым
заполнением. Вскрытый объект пока никак не интерпретирован (пос. Пески IVА, Карелия,
раскопки А.М. Жульникова, 2000-2003 гг.; согласно устному сообщению А.М.
Жульникова, в 2004 г. в границах того же объекта найден еще один крупный фрагмент
скульптуры птицы).
3) Миниатюрное изображение со стоянки Пурциемс, происходящее из довоенных
раскопок, было найдено совместно с тремя полнофигурными лепными антропоморфными
изображениями (№ 307, 113-115) в жилище «С» (Loze, 1998).
90
Ряд изображений опубликован без указания контекста находки и наличия или
отсутствия поблизости сопутствующих лепных изображений. С одного памятника часто
происходят подобные серии предметов, хотя об их близком расположении ничего не
сказано. На поселении Вигайнаволок I помимо двух скульптур птиц найден фрагмент
скульптуры головы на венчике сосуда и серия неопределенных фрагментов лепных
изделий. На поселении Усть-Валдайка I найдены две скульптуры птиц. На поселении
Илекса найдена, помимо птичьей, полнофигурная лепная антропоморфная скульптура. На
поселении Тудозеро найдено еще одно изображение птицы с отверстием (устное
сообщение Е.Л. Костылевой) На стоянке Ломми помимо двух фрагментов лепных птичьих
голов, было найдено лепное изображение млекопитающего и фрагмент керамики с
плоскостными изображениями птиц. На поселении Звейсалас найдено, помимо птичьего,
лепное изображение млекопитающего и есть упоминание о находки лепной скульптуры
змеи (Loze, 1970, примечания). В Финляндии на стоянке Перринмекки помимо
изображения птицы были найдены: лепная скульптура змеи, млекопитающего и фрагмент
сосуда с плоскостными изображениями птиц (Pesonen, 2000).
Можно предположить, что лепные изображения птиц функционировали не как
отдельные вещи, но являлись частью наборов глиняных скульптур (птиц, четвероногих
млекопитающих, змей, человека), а, возможно, и наборов, включавших еще и особые
сосуды (с плоскостными изображениями птиц и антропоморфными головами-налепами).
Неясно, являлись ли два обнаруженных объекта (Пески IVА, Черная Речка III) местами
складирования негодных, но при этом особых вещей, или же комплекты вещей
помещались туда намеренно.
«Насаживание» на палочки глиняных скульптур птиц имеет косвенные параллели
лишь в позднейших этнографических данных (русские масленичные пряники и леденцы-
петушки). Возможно, со временем обнаружатся более древние параллели.
Смысловое значение.
Вопрос о существовании наборов глиняных скульптур и их интерпретации
представляется очень интересным и перспективным. Подобные серии известны в
раннеземледельческих культурах Европы (Балабина, 1998. С. 224-227). Как было
выяснено, они отражают сложные понятия, связанные с иерархическими знаковыми
системами, и, возможно, имеют отношение к созданию модели мира.
Дать даже самую общую интерпретацию рассматриваемых «наборов» пока не
представляется возможным. Изображения птиц с отверстиями в туловище, которые,
возможно, могли использоваться насаженными на щепки или тростинки, заставляют
91
вспомнить универсальный образ птицы, венчающей вертикальный шест (дерево), широко
известный, в частности, в этнографии народов Сибири и Дальнего Востока.
Общая схема моделировки лепных изображений птиц (зигзаг с двумя прямыми
углами) заставляет обратиться к плоскостным изображениям птиц на керамике,
большинство их которых выполнено со строгим соблюдением такого же угла. И первые, и
вторые изображения, являлись предметами, существовавшими синхронно в рамках одних
культур. Возможно, это одно из редких проявлений морфологического сходства между
изображениями одинакового сюжета, сделанными технологически по-разному. Кроме
того, это может косвенно указывать на то, что сосуды с изображениями птиц тоже могли
иметь отношение к предполагаемым наборам.
То, что изображения птиц из набора со стоянки Черная Речка III изготовлены из
одинаковой формовочной массы, но различаются в деталях и размерах (№ 297, 298),
может свидетельствовать о том, что в создании набора могли принимать участие разные
мастера.
Исследователи склонны связывать распространение керамических традиций с
направлениями брачных связей (см. напр.: Жульников, 1999. С. 23). Согласно
предположениям, в эпоху неолита именно женщины изготавливали глиняную посуду
(Гурина, 1947. С. 70; Цетлин, 1998. С. 61). Это позволяет с большей долей вероятности
предполагать, что и скульптуры из глины (в том числе, и изображения птиц, и ряд
остальных) тоже делали они.
Находки рассматриваемых изображений ни разу не были зафиксированы в
определенном и достоверном контексте. Однако можно предполагать их связь именно с
комплексом женских представлений. Сам образ птицы, особенно водоплавающей, у всех
народов Северной Евразии прочно ассоциируется с женским началом, и связан, прежде
всего, с представлениями о добре, душе, ребенке (Косарев, 2003).
Выводы.
Лепные изображения птиц – малочисленная группа изображений, часто трудно
выделяемая в материалах коллекций по причине фрагментарности большей части
предметов. По этим причинам решено было не создавать развернутую морфологическую
классификацию, а отобрать лишь те изображения, которые соответствуют двум
выбранным критериям: сечению определенных форм и наличию определенных углов на
месте стыковки отдельных частей предмета.
Удалось выяснить, что лишь небольшая часть изображений детализирована в
реалистическом плане (показан хвост и клюв), а другая небольшая часть –
92
орнаментирована. Важной особенностью трети изображений явилось наличие
проделанного по сырой глине отверстия в нижней части туловища.
Именно этот факт позволил сделать предположение о способе использования этих,
судя по всему, краткосрочно используемых предметов – насаживании на палочку.
Контекст ряда находок выявил, что изображения птиц могли являться частью наборов
глиняной скульптуры, включавших, вероятно, изображения нескольких птиц, нескольких
змей (в обоих случаях, возможно, двух?), млекопитающего и антропоморфного существа.
Сосуды с плоскостными изображениями птиц и скульптурными антропоморфными
головками на венчике тоже могли иметь отношение к этим наборам.
Смысловое значение лепных изображений птиц пока не изучено, но можно
предположить, что они изготавливались женщинами и в связи с этим отражали
определенные мировоззренческие представления, связанные с понятиями благополучия,
ребенка и души.
3. Ретушированные изображения птиц (14 экз.)
Эта группа изображений птиц никогда ранее не рассматривалась специально, хотя
первые находки были сделаны более ста лет назад – при работах на стоянке Волосово. На
свайном поселении Модлона была найдена самая крупная и выразительная
ретушированная скульптура птицы (Брюсов, 1951). В работе С.Н. Замятнина были
рассмотрены всего несколько известных на тот момент экземпляров (Замятнин, 1948). С
тех пор коллекция таких изображений существенно увеличилась; все они публиковались
по отдельности.
Скульптуры происходят с территории Карелии, Архангельской, Вологодской,
Ивановской, Владимирской), Московской, Нижегородской областей, Республики
Татарстан. Четыре изображения являются случайными находками, одно обнаружено в
погребении, остальные происходят из культурных отложений стоянок. Визуально изучена
половина изображений, остальные – по публикациям.
Техника изготовления.
Общей техникой изготовления для всех рассматриваемых изображений является
ретуширование; а кремень – общим сырьем. Размеры изделий различаются: самое
маленькое по длине – 3 см, самое большое – 8,1 см. Заготовками являлись отщепы, в
большинстве случаев обе стороны изделия обрабатывались краевой ретушью, а в
единичных – по всей поверхности. Изображения, обработанные односторонней краевой
ретушью, составляют меньшинство. Почти все скульптуры дошли до нас целыми или с
незначительными повреждениями. Все ретушированные изображения птиц – профильные.
93
Трактовку «лунниц» как изображений птиц анфас (Крайнов, 1992) я считаю
заблуждением, так как «лунницы» имеют признаки (в том числе и трасологические)
орудий; на эту тему мной готовится отдельная работа.
Морфология.
При выделении ретушированных скульптур птиц из ряда других категорий
изображений исследователи руководствовались расплывчатым доводом «сходства». В
результате стали «открывать» скульптуры, выполненные почти без всякой ретуши, или
причислять к ним фигурные отщепы с ретушью или орудия сложных форм (скобели?)
(Недомолкина, 2000; см. работы Ю.Б. Серикова по первобытному искусству Урала).
Однако, на наш взгляд, без выработки определенных критериев говорить о серии
ретушированных изображений птиц нельзя. Предлагаются три дополняющих друг друга
критерия их «истинности»:
1) как минимум, одна сторона изображения ретуширована по всему периметру;
2) отдельные части изображения (голова и шея, шея и туловище) смыкаются между
собой под углом в 90-160º;
3) соотношение максимальной длины головы и туловища должно быть не менее 1:3
или 1:2,5.
Выделение подобных критериев производится впервые, поэтому возможно, что в
дальнейшем с накоплением новых материалов некоторые предметы, исключенные на
данном этапе исследования из числа изображений птиц, будут туда возвращены.
Так как количество предметов очень невелико, обращаться к развернутой
классификации и выделять определенные группы не представляется необходимым.
Достаточно будет описать составные части фигуры, размеры и некоторые
дополнительные морфологические особенности.
Общая изобразительная схема этих предметов – зигзаг с двумя прямыми углами, два
конца которого сильно различаются в размерах: массивный конец образует туловище,
миниатюрный – голову. Основные части фигуры следующие: голова, шея, туловище.
Практически у всех изображений задний конец туловища сужен и иногда даже заострен:
таким образом показан хвост птицы. У четырех изображений (№ 316, 317, 324, 326) ноги
показаны небольшим выступом внизу туловища, ближе к его задней части. Туловище
изображений имеет как угловатые, подпрямоугольные очертания, так и более округлые,
близкие к листовидным. Головы изображений обычно намечены грубо. Исключением
являются экземпляр (№ 319), где благодаря крупным размерам заготовки, мастеру удалось
показать переход от головы к клюву.
94
На двух изображениях (№ 325, 329) имеются две небольшие малозаметные выемки
на середине туловища, на верхнем и нижнем краях.
Территориальное распространение. Хронология.
Распространение ретушированных изображений птиц, несомненно, имело широкий
характер (рис. 15). Территории распространения их и ретушированных антропоморфных
изображений практически совпадают. Предположительно, все изображения птиц
относятся к одному периоду – середине III-началу II тыс. до н.э. (к сожалению, почти
никакими точными датами мы не располагаем) – и существовали в рамках синхронных и
родственных культур: пористой керамики типа Модлона (Русский Север), волосовской
(Центр Европейской части России) и культуры «волосовского облика» (Среднее
Поволжье).
Рис. 15. Ретушированные изображения птиц.
95
Функциональное и смысловое значение. Данные о контексте находок, обнаруженных в культурных отложениях стоянок,
практически отсутствуют. Один предмет был найден в слое заполнения жилища (№ 316). В погребении № 8 Тенишевского могильника (Республика Татарстан, № 329) скульптура располагалась в области головы (затылка?) и сохранила на своей нижней поверхности следы окраски охрой. Костяк практически не сохранился (найден тлен черепа и эмаль нескольких зубов), предположительно был погребен взрослый. В заполнении ямы в большом количестве встречена красная охра. Инвентарь представлен округлыми плоскими сланцевыми подвесками, найденными на груди погребенного, и крупным кварцитовым наконечником. Погребение датируется энеолитическим временем (Габяшев, Беговатов, 1984).
Так как изделия найдены и в культурных отложениях поселений, и в составе погребального инвентаря, их использование, предположительно носило как повседневный, так и погребальный характер. Можно высказать предположение о ношении изображений (например, в качестве нашивок на одежду), опираясь на находки в Волосово и Тенишево скульптур птиц с двумя выемками. Однако остальные изображения их лишены. Длинный вертикальный выступ на спине изображения из Модлоны рассматривался исследователями как приспособление для крепления фигурки (Брюсов, 1951; Ошибкина, 1992), но так как он не имеет выемок, то вряд ли пригоден для этого.
Из-за схематизма изображений трудно предположить, какие виды птиц представлены в них. Скульптуры с длиной шеей, вероятно, изображают водоплавающую птицу – гуся или лебедя.
Ретушированные и резные полнофигурные изображения птиц (группа 1), сделанные из разных материалов и в разной технике, имеют очень много общих черт. Одинаковы особенности передачи фигуры, такие как хвост, ноги, поднятое крыло (выступ на спине изображения из Модлоны можно рассматривать так). Размеры тех и других изображений почти совпадают. Особенно поразительно сходство пар резных и ретушированных изображений: Волосово – Тенишево (№ 289, 329), Великодворье I – Волосово (№ 248, 324), оз. Шагара – Маслово Болото (№ 252, 323). Это может свидетельствовать о том, что ретушированные изображения использовались как подвески-нашивки и их смысловое значение, вероятно, совпадало со значением подобных резных изображений птиц. Возможно, они каким-то образом были взаимозаменяемы.
Находка кремневой скульптуры птицы из Тенишево имеет несомненную параллель в находке из могильника Тамула (Эстония), где костяная скульптура птицы тоже была найдена под затылком погребенного (Jaanits, 1957) (№ 329, 179). Оба погребения датируются энеолитом.
Возможно, что и на территориях Русского Севера могли изготавливать костяные орнитоморфные подвески. В Восточной Балтии, Беларуси, Финляндии ретушированных
96
изображений птиц не известно. Так как кремень отлично сохраняется в любых почвенных условиях, можно думать, что на этих территориях традиция изготовления ретушированных орнито- и антропоморфных изображений отсутствовала. Вероятно, это явление было характерным исключительно для «восточных» областей лесной зоны Восточной Европы.
Причина обратного количественного соотношения между резными и ретушированными антропоморфными и орнитоморфными скульптурами в зоне волосовских памятников остается под вопросом. В Центральной России найдено относительно большое число резных «птиц», но почти полное отсутствуют резные «люди» и, напротив, здесь же известно огромное количество кремневых «людей» и всего чуть больше десятка кремневых «птиц».
Выводы. Группа изображений птиц из кремня ранее никогда не рассматривалась в целом.
Иногда к ним относили предметы, которые не являются изображениями птиц, а относятся к орудиям сложных форм или фигурным отщепам. Из-за малого количества этих изделий решено было не создавать развернутую морфологическую классификацию, а отсортировать все имеющиеся предметы по трем выбранным критериям: наличие одной ретушированной по всему периметру стороны; схождение частей изображения под углом в 90-160º; соотношение максимальной длины головы и туловища не менее 1:3 или 1:2,5.
Наличие у ряда изображений дополнительных морфологических элементов, таких как хвост, ноги, крылья и их пропорции позволили сопоставить их с группой резных автономных полнофигурных изображений птиц с креплениями (группа 1). Из этого может следовать то, что костяные и кремневые скульптуры птиц могли быть взаимозаменяемыми и/или иметь сходное значение. Отсутствие подобных изображений на «западных» территориях лесной зоны Восточной Европы указывает на возможные различия в существовавших традициях почитания птиц.
4. Графические изображения птиц (16 экз.). Изображения птиц на керамике представлены на территории лесной зоны Восточной
Европы в небольшом количестве. Первая находка в нашей стране была сделана В.С. Передольским на стоянке Коломцы под Новгородом в конце XIX в. В этот же период аналогичные находки были сделаны на территории Финляндии, где к настоящему моменту известно 19 фрагментов сосудов (Pesonen, 1996). Первая обобщающая работа по русским материалам была проведена Н.Н. Гуриной (Гурина, 1961). Она связывала почитание птицы северным неолитическим населением с экономическим значением, которое по ее мнению имела охота на птицу ранней весной (в особенно голодное для людей время), когда птицы прилетали, а также поздней весной в период линьки. На тот момент было известно менее десяти изображений. Со времени выхода этой работы коллекция подобных предметов на изучаемой территории расширилась в полтора раза.
97
До сих пор не известно ни одного целого сосуда с подобными изображениями. Более того, не собрано даже ни одного полного венчика. Это может указывать на редкость и исключительное положение подобных вещей в ряду остальной посуды. Уникальность этих изображений состоит в том, что они никогда не наносились одиночно, а всегда (насколько это видно при изучении фрагментов) образовывали «фриз», опоясывавший сосуд.
Рассмотрим имеющиеся изображения, привлекая по мере необходимости финские находки. Материалы происходят с территории Республики Коми, Эстонии, Латвии, Карелии, Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Ивановской, Брянской областей, Беларуси. Все вещи были найдены в культурных отложениях поселений. Визуально исследовано одно изображение, остальные изучены по публикациям.
Техника изготовления. Все изображения птиц профильные и выполнены по необожженной поверхности
сосудов в той же технике, что и абстрактно-геометрический орнамент. Для этого могли быть использованы следующие элементы: отпечатки гребенчатого штампа (в подавляющем большинстве случаев), лунчатые отпечатки в сочетании с ямочными (№ 330) и ромбоямочные отпечатки (№ 345). Орнамент состоит из: ямочных и гребенчатых отпечатков (большинство), ямчатых и гребенчатых отпечатков (№ 332), ромбоямочных отпечатков (№ 345). Фигуры птиц расположены достаточно близко от венчика, хотя никогда не примыкают к нему вплотную. На сосуде из Оутокумпу Сятос птичий «фриз» расположен точно посередине тулова (Edgren, 1966. S. 11).
Порядок нанесения изображений птиц и окружающего их орнамента, по-видимому, мог быть разным: на фрагменте из Черной Губы IX (332) изображение птицы деформирует ямку, а на фрагменте из Квапану II (340) – ямка перекрывает линию изображения.
Морфология. Иногда встречаются публикации, в которых авторы описывают новые находки
изображений птиц на керамике, руководствуясь кажущимся сходством форм (Древности Северо-Запада России, 1995). Однако без выработки определенных критериев говорить о серии изображений птиц нельзя. Предлагаются два дополняющих друг друга критерия:
1) отдельные части изображения (голова и шея, шея и туловище) смыкаются между собой под углом в 60-90º; у целого изображения таких перегибов должно быть не менее двух, у фрагмента – не менее одного.
2) соотношение максимальной длины и ширины головы и туловища должно быть не менее 1:3 или 1:2,5.
Выделение подобных критериев производится впервые, поэтому возможно, что в дальнейшем, с накоплением новых материалов, некоторые предметы, исключенные на данном этапе из числа изображений птиц, будут туда возвращены.
98
Так как количество предметов очень невелико, обращаться к развернутой классификации и выделять определенные группы не представляется необходимым. Достаточно будет описать составные части фигуры, орнаментацию, некоторые дополнительные морфологические особенности и размеры.
Очевидно, что манера выполнения изображений довольно однородна, хотя ширина штампа и количество зубчиков довольно сильно различаются. Примерно у половины фрагментов голова и шея птицы выполнены: 1) одинарным, двойным или 2) тройным отпечатком гребенчатого штампа; а тело – тройным. В трех случаях голова образована тройным отпечатком. В группе финских изображений соотношение примерно такое же: 10:5 (у нас – 7:3) (Pesonen, 1996).
Любые попытки группирования на этом заканчиваются и все дополнительные особенности уникальны. Особые способы передачи подпрямоугольного туловища (2 экз.): с помощью рядов вертикальных отпечатков; контур, заполненный разнообразными узорами – рядами вертикальных линий, зигзагом, зигзагом с точками. В Финляндии подобных изображений известно три. Иногда показаны крылья – одним, двумя или даже пятью короткими гребенчатыми отпечатками, параллельными шее (5 экз.). В Финляндии известно шесть «крылатых» изображений. Изображение хвоста птицы гребенчатыми отпечатками встречено один раз. На фрагменте сосуда с поселения Черная Губа IX представлены совершенно особые изображения, каждое из которых представляет собой как бы двух отдельных птиц, расположенных рядом и сделанных однорядным штампом (№ 332).
Почти в половине случаев орнамент, расположенный в непосредственной близости (сверху и снизу) от фигур, выполнен рядом ямочных отпечатков. То же самое можно видеть на ряде финских изображениях (конечно, если оно не сильно фрагментировано). Несколько другой способ включения фигуры птицы в композицию – помещение ее в зигзаг из ямочных отпечатков с длинными сторонами, опоясывающий сосуд – причем, располагая всегда над нижним углом зигзага (№ 330, 335).
В двенадцати случаях птицы повернуты головами вправо, а в четырех – влево. Среди финских материалов соотношение таких случаев – 10:7. В Финляндии известно два фрагмента одного сосуда, на каждом из которых птицы развернуты по-разному (Оутокумпу Сятос; Pesonen, 1996).
Размеры изображений (наибольшая диагональ) колеблются от 3 до 5-6 см. Большинство укладывается в интервал 4,5-6 см. Такая же средняя величина и у финских изображений.
Таким образом, при всех индивидуальных морфологических особенностях изображений, виды их расположения на поверхности сосуда, приемы окружающей их орнаментации и размеры чрезвычайно сходны.
99
Территориальное распространение. Изображения распространены на значительной территории лесной зоны (рис. 16). Их
наибольшее число сосредоточено в Юго-Восточной Финляндии (район озер Саимаа) и Южной Карелии. Более разреженно находки расположены в Восточной Балтии, Южной и Центральной Финляндии. По одному экземпляру происходят из более удаленных от «центра» территорий, кроме сахтышских стоянок (Ивановская обл.), где известно 3 экз.
Рис. 16. Графические изображения птиц.
Хронология. Все изображения без исключения относятся к кругу культур гребенчато-ямочной и
ямочно-гребенчатой керамики и датируются в рамках IV – середины III тыс. до н.э. К сожалению, лишь единичные предметы могут быть датированы точнее. Многочисленные фрагменты сосуда из Кубенино (Архангельская обл.) были найдены на горизонте
100
погребений (Смирнов, 1940). Вероятно, сосуд может датироваться III тыс. до н.э. Фрагмент сосуда из Лунево II относится к деснинской культуре с ромбоямочной керамикой и датируется концом IV- серединой III тыс. до н.э (Смирнов, 1991). Фрагмент из Черной Губы IX датируется в рамках первой половины III тыс. до н.э. (Витенкова, 2002). Три фрагмента из материалов сахтышских стоянок льносятся к льяловской культуре ямочно-гребенчатой керамики и могут датироваться как IV, так и III тыс. до н.э. Таким образом, ряд более-менее надежно датированных предметов относится к III тыс. до н.э. Не исключена принадлежность ряда предметов к IV тыс. до н.э., так как самые ранние финские изображения выполнены на керамике типа Сярайсниеми I, истоки которой уходят в финал V тыс. до н.э. (Nieminen, Ruonavaara, 1984).
Интересно территориальное распространение изображений, ориентированных головами вправо и головами влево: пункты местонахождений вторых (которые составляют меньшинство, но ничем не отличаются по морфологии от остальных) расположены узкой полосой, которая тянется через южное побережье Финляндии, оз. Саимаа, берега Онежского оз. к оз. Лача (юг Архангельской обл.). Как интерпретировать подобную особенность, пока неясно. Возможно, дело лишь в недостаточной исследовательности территорий.
Не имея надежных дат и оперируя очень ограниченным количеством материала, достаточно сложно реконструировать возможный путь развития птичьего образа на керамике. Согласно недавним исследованиям финских ученых, самый ранний фрагмент с изображениями птиц относится к керамике типа Сярайсниеми I, которая относительно синхронна и вероятно родственна карельской керамике сперрингс (Nieminen, Ruonavaara, 1984). Дальше изображения могут быть найдены в рамках культуры гребенчато-ямочной керамики (Карелии, Восточной Балтии, Финляндии, ромбоямочной Подесенья). Как появились изображений птиц в льяловской керамике, пока неясно. Морфологически эти образцы близки целому ряду финских, карельских, северорусских изображений, но имеют более «квадратные» очертания. Своеобразное, неровное изображение «фриза» птиц в ромбоямочной манере на сосуде из Подесенья (Лунево II, № 345), видимо, объясняется удаленностью этого района от остальных.
Нарушение «строя» – стремление заполнить птицами всю поверхность сосуда – отражено в находке сосуда асбестовой керамики в Финляндии (Тайпале Липери; Edgren, 1967). Появляются и другие тенденции в изображении птиц на рубеже III-II тыс. Это упрощение изображения до зигзага из трех частей, сделанного многорядным (Тайпале Липери, Порвоо Беле), а затем и однорядным штампом (материалы эпохи ранней бронзы на Русском Севере) (Nieminen, Ruonavaara, 1984; Ошибкина, 1980). Изображения птиц эпохи ранней бронзы на керамике шагарского типа (Шагара II, Рязанская обл.) морфологически близки сахтышским, но они не образуют плотного ряда, а расположены
101
крайне разреженно в средней части тулова сосуда. Ряд изображений эпохи бронзы известен и в Зауралье (Гурина, 1961).
Таким образом, образ птицы присутствовал на керамике в разные временные периоды в рамках многих культур лесной зоны Северной Евразии.
Функциональное значение. Все исследователи, изучавшие подобные изображения, сходятся во мнении, что их
функциональное назначение было особым и, скорее всего, ритуальным (см. Гурина, 1961; Ошибкина, 1992). С этим мнением можно согласиться, принимая во внимание небольшое количество находок и особенности мотивов орнаментации.
К сожалению, почти не сохранилось данных о контексте обнаружения предметов. Фрагмент сосуда из Кольмхаара Хонкилахти был найден в придонной части жилища (Edgren, 1967). Фрагмент сосуда поселения Черная Губа IX (№ 332) находился в придонной части жилища рядом с очагом (Витенкова, 2002). Фрагмент сосуда поселения Пески IVА был найден совместно с антропоморфной скульптурой головы на керамике, фрагментом лепного орнитоморфного изображения, двумя лепными скульптурами змей и небольшим количеством неопределенных лепных фрагментов на площади около 20 кв.м. в линзе с углистым заполнением (№ 333). Вскрытый объект пока никак не интерпретирован (раскопки А.М. Жульникова, 2000-2004 гг.). Фрагмент сосуда со стоянки Коломцы был обнаружен вкопанным в землю устьем вверх (№ 341). Вероятно, что при таком способе использования сосудов изображения на них могли быть не видны, а скрыты под землей.
Некоторая доля информации получена при изучении ряда количественных данных. На основании измерений трех крупных фрагментов с изображениями птиц (Кубенино (№ 336), Черная Губа IX (№ 332), Оутокумпу Сятос) исследователи сделали заключение, что количество птиц на целом сосуде составляло от 15 до 24, а диаметр венчика и высота сосуда в среднем составляли 25–30 см (Смирнов, 1940; Витенкова, 2002; Edgren, 1967). Это может свидетельствовать о том, что изображения наносились на сосуды только определенной величины и что в регионах, где находятся перечисленные памятники, использовались сосуды с изображениями птиц примерно одинакового объема.
Несмотря на имеющиеся данные, никаких конкретных предположений об использовании этих сосудов пока высказать невозможно.
Смысловое значение. Образ птицы имеет широчайшее распространение в духовных представлениях
народов Северной Евразии. Как видно из анализа остальных изображений птиц в этой работе, не менее широко образ птицы был отражен в искусстве малых форм неолита-энеолита лесной зоны Восточной Европы. Однако интерпретировать предметы именно этой группы наиболее сложно.
102
Несомненно, что они существовали синхронно в рамках одних культур с такими видами изображений, как лепные антропоморфные скульптуры (автономные и на венчиках), а также лепные изображения птиц, млекопитающих и змей. Их находки на одних и тех же памятниках, а также совместная находка таких изделий в составе одного комплекса на стоянке Пески IVА могут косвенно указывать на то, что сосуды с изображениями птиц могли входить в описанные ранее наборы глиняных скульптур.
Находка на стоянке Коломцы (№ 341) фрагмента сосуда, где в составе «птичьего фриза» находится человеческая фигура в фас, пока является уникальной. По своему стилю она практически повторяет некоторые другие, которые помещены на сосуде отдельно. Ее поза может быть охарактеризована как динамичная, танцующая. Обращает на себя внимание и то, что на сохранившемся участке все три птицы имеют по-разному «заполненное» туловище: у первой – вертикальными полосами, у второй – зигзагом, у третьей – зигзагом с насечками в центре полей. Такая орнаментация не случайна и наверняка имела какой-то смысл. Определенную параллель можно усмотреть во фрагментах сосуда из Кубенино (№ 336), где сохранились 15 фигур птиц. Они имеют мелкие различия в деталях: туловище образовано то двумя, то тремя линиями штампа, крыло (может не быть) – то одной, то двумя линиями штампа, у одной птицы даже намечен хвост (одиночным косым отпечатком), у другой под углом к шее нанесен короткий отпечаток, напоминающий торчащий обломок стрелы (Смирнов, 1940). С появлением новых находок смысл этой загадки из серии «найдите 10 различий», возможно, будет разгадан.
Все исследователи сходятся во мнении, что раз у представленных птиц нет ног, и есть длинная шея, то они представляют плывущих водных птиц – гусей, лебедей, уток (Гурина, 1961; Ошибкина, 1980). П. Песонен полагает, что изображен, в основном, лебедь-кликун (Pesonen, 1996). Причину изображения именно водоплавающих птиц исследователи видели, прежде всего, в их хозяйственном значении для нео-энеолитического населения (Гурина, 1961; Ayrapaa, 1953). Несомненно, охота на птицу имела определенное хозяйственное значение для населения лесной зоны Восточной Европы в конце каменного века.
В связи с этим, исследователи совершенно справедливо сделали вывод о том, что изготовление сосудов, украшенных графическими изображениями птиц, могло быть приурочено к неким обрядам магического характера, направленным на приумножение птицы и (или) обеспечение охотничьего успеха. Интересный пример известен в этнографии эвенков: «В период охоты на водоплавающую дичь старики следили, чтобы котлы и чайники не оставались на ночь пустыми. Их опрокидывали, тогда они «переставали» быть сосудом, или заставляли ребятишек наполнить сосуды водой.
103
Наполненная водой посуда привлекала (магически – Е.К.) птиц, и они спускались на ближайшем озерке или болоте» (Василевич, 1957. С. 166).
Значение образа птицы в глазах нео-энеолитического населения, вероятно, не ограничивалось подобными представлениями. Выше уже упоминалось об особенностях представлений, связанных с перелетной птицей (Косарев, 1988. С. 103).
Еще одно возможное направление интерпретации плоскостных изображений птиц состоит в их непосредственной связи с керамикой. Ряд исследователей связывает распространение керамических традиций с направлениями брачных связей (см. напр.: Жульников, 1999. С. 23). Согласно предположениям, в эпоху неолита именно женщины изготавливали глиняную посуду (Гурина, 1947. С. 70; Цетлин, 1998. С. 61). Это позволяет с большей долей вероятности предполагать, что и изображения птиц тоже наносили они. Таким образом, можно предполагать их связь именно с комплексом женских представлений. Возможно, в сознании человека той эпохи ряд понятий был объединен в круг «водоплавающая птица-вода-сосуд-женское тело-ребенок-его душа-птица», материальным и ритуальным воплощением которого и были сосуды с плоскостными изображениями птиц.
Выводы. Изображения птиц на керамике лесной зоны Восточной Европы эпох неолита,
энеолита и бронзы являются одним из свидетельств существования прочных и широко распространенных традиций почитания птиц на территории лесной зоны Восточной Европы (Гурина, 1951. С. 112).
По причине малого количества этих изделий, решено было не создавать развернутую морфологическую классификацию, а отсортировать все имеющиеся предметы по двум выбранным критериям: схождение частей изображения под углом в 60-90º; соотношение максимальной длины головы и туловища как 1:3 или 1:2,5.
Неолитические сосуды с изображениями птиц характеризуются устойчивой схемой расположения их и сопутствующей орнаментации. Есть основания полагать, что все они были сходными по размерам и объему. Принципы моделировки изображений напрямую повторяют принципы орнаментации неолитической керамики – при минимальном количестве используемых элементов каждое изображение по-своему уникально.
Хронологически изображения относятся к кругу синхронных культур гребенчато-ямочной и ямочно-гребенчатой керамики и известны только на поселениях.
Функциональное назначение сосудов с подобными изображениями пока охарактеризовать нельзя, так как не хватает данных о контексте находок.
Вопрос о смысловом значении изображений не менее сложен. Их присутствие и роль в наборах глиняных скульптур не ясны. Выявленные различия в деталях фигур птиц с
104
одного сосуда, а также присутствие антропоморфного изображения на одном из сосудов пока не поддаются объяснению.
Почитание птицы в неолите-энеолите было, вероятно, связано как с ее охотничьим значением, так и с отождествлением ее образа с понятиями об обновлении жизненного цикла и о человеческой (детской, женской) душе. Так как рассматриваемые сосуды, вероятно, изготавливались женщинами, то они могли отражать некие мировоззренческие представления, связанные с понятиями воды, женского тела как сосуда жизни, души.
Раздел 2. Изображения млекопитающих. Введение. Изображения млекопитающих в искусстве нео-энеолитических племен лесной зоны
Восточной Европы значительно уступают по количеству как антропоморфным, так и орнитоморфным изображениям. Общее их количество равняется 61 экз., значительную часть которых составляют резные. Основная масса изображений млекопитающих приходится на III тыс. до н.э. Скульптурные изображения зверя сделаны из разных материалов: кости, рога, янтаря, кремня и глины. В монументальном искусстве этой эпохи многочисленные изображения млекопитающих представлены на петроглифах Онежского озера и Белого моря.
Вопросы, связанные с изображениями млекопитающих, неоднократно обсуждались в отечественной литературе прошлых лет (Loze, 1970; Римантене, 1975). Роль млекопитающих в хозяйстве была весьма значительной, так как они являлась важным пищевым ресурсом. Кроме того, с ними были связаны определенные мировоззренческие идеи древних обитателей лесной зоны Восточной Европы.
Наиболее полно исследованы изображения лося. Вопрос о роли этого образа в представлениях древнего населения лесной зоны рассматривался неоднократно как у нас в стране, так и за рубежом (Гурина, 1997; Студзицкая, 1997; Karpelan, 1975; Irsenas, 2000).
1. Резные изображения млекопитающих (34 экз.) Рассматриваемые изображения нео-энеолита – не первые на этих территориях.
Известен ряд подзнемезолитических резных скульптур, большинство из которых представляет, по-видимому, лося. Они происходят из Оленеостровского могильника (Карелия), из культурных отложений стоянок Замостье II (Московская обл.) и Вис I (Республика Коми) (Гурина, 1956; Lozovski, 1996; Ошибкина, 1992). В неолите–энеолите набор представленных видов расширяется и включает лося, медведя и ряд более мелких млекопитающих (бобра и, видимо, ряд других). Позже, в эпоху бронзы, образы лося и медведя, в том виде, в каком они сложились в нео-энеолите, появляются на топорах-молотах – судя по всему, ритуальном оружии широкого круга культур II тыс. до н.э.: коридорных гробниц и боевых топоров Северной Европы, асбестовой и текстильной керамики Финляндии, Карелии и Русского Севера, фатьяновской культуры Центральной
105
России (Karpelan, 1975; Жульников, 2003). В это же время на Кольском полуострове и сопредельной территории Северной Норвегии развивается самобытная традиция изготовления костяной и каменной скульптуры, истоки которой, вероятно, находились именно в нео-энеолите территорий лесной зоны Восточной Европы и Финляндии (Гурина, 1997). Таким образом, нео–энеолитические резные изображения, по всей видимости, являлись одним из звеньев цепочки традиций создания скульптурных образов млекопитающих, главным образом, лося.
Резные изображения млекопитающих происходят из Эстонии, Латвии, Литвы, Псковской, Архангельской, Ивановской, Рязанской, Нижегородской областей. Они сильно различаются в размерах. Самое маленькое изображение (№ 346) имеет высоту 3 см, самое крупное (№ 366) – 44 см. Визуальное изучено 11 изображений, остальные – по публикациям. Случайных находок известно всего 4 экз. (№ 357, 361, 362, 368). Большинство изделий найдено в культурных отложениях поселений, пять предметов – в погребениях. Основная масса предметов датируется III тыс. до н.э., чаще – его второй половиной.
Техника изготовления. Для изготовления резных изображений млекопитающих применялись разные виды
сырья. Наибольшее количество экземпляров выполнено из кости и рога; пять – из янтаря, три предмета – из дерева. О других основных особенностях изображений, вырезанных из разных материалов, подробно говорится в главе 1, части 3 настоящей работы. Данные, приведенные для антропоморфных изображений, полностью соответствуют данным о резных изображениях млекопитающих.
Морфология. Так как большая часть находок была сделана в странах Восточной Балтии, то именно
эта группа материалов первой попала в поле зрения исследователей (Янитс, 1959; Loze, 1970). Работа литовского исследователя М. Иршенаса посвящена изображениям лося в Балтийском регионе, но, так или иначе, затрагивает все материалы Восточной и Северной Европы (Irsenas, 2000). Он подразделяет резные изображения лосей на три размерно-функциональных группы. Первая включает «жезлы», вторая – навершия крупных и средних предметов (лыж, кинжалов, черпаков), третья – навершия неизвестных мелких вещей и мелкие автономные скульптуры и подвески. Принципы такого подразделения недостаточно точны.
Как представляется, принципы классификации, использованные в этой работе для остальных резных изображений, могут быть успешно применены и к этим материалам.
Первый признак, по которому производится группирование предметов – их значение, которое может быть самостоятельным и сопряженным. Самостоятельное значение подразумевает, что скульптура существовала автономно, сопряженное – что она
106
дополняла собой какое-либо иное изделие, выполненное на той же заготовке. Второй признак – это полнота изображения, которое может быть полнофигурным или парциальным (частичным, причем представленной частью всегда является голова). Третьим признаком является наличие или отсутствие у скульптуры элемента, служившего для ее соединения с чем-либо – крепления. Важность учета последнего признака обусловлено тем, что, во-первых, наличие/отсутствие элемента крепления легко устанавливается визуально (кроме случаев, когда изделие сильно фрагментировано или имеет очень плохую сохранность); во-вторых, именно крепление позволяет сделать более обоснованное заключение о функции и, отчасти, о смысловом назначении изображения. К элементам крепления без сомнения могут быть отнесены сквозные сверленые отверстия.
На основе взаимовстречаемости значений этих трех признаков может быть выделено шесть групп резных изображений млекопитающих (рис. 17):
1. автономные полнофигурные с креплением (9 экз.); 2. автономные полнофигурные без крепления (1 экз.); 3. автономные парциальные с креплением (1 экз.); 4. автономные парциальные без крепления (1 экз.); 5. сопряженные парциальные с креплением (3 экз.); 6. сопряженные парциальные без крепления (13 экз.).
Рис. 17. Резные изображения млекопитающих.
Пять экземпляров не включено ни в одну из групп по причине их сильной
поврежденности. Однако, основная часть фрагментированных предметов, имеющих
аналоги среди целых предметов, была учтена в классификации.
107
Рассмотрим распределение изображений указанных групп по следующим
параметрам: использованному сырью, набору представленных деталей фигуры,
орнаменту, размерам предметов.
Группа 1. Автономные полнофигурные изображения с креплением (9 экз.)
Размеры всех предметов довольно однородны – от 5 до 8 см. Они изготовлены из
кости, рога и янтаря. Большая их часть имеет уплощенную форму, поэтому, по-видимому,
все они были предназначены для обзора либо только в профиль, либо только в фас.
Представлены такие животные, как бобр (4 экз.), лось (3 экз.), медведь (2 экз.) и
куница/лиса (?) (1 экз.). Глаза изображений показаны мелкими сверлеными ямками, либо
отсутствуют. Уши у профильных экземпляров изображены одним выступом, у
изображений анфас – двумя выступами по двум сторонам головы (единожды – ямками-
сверлинами выше глаз). Раскрытый рот выделен узким вырезом у одного изображения.
Ноги отображены четырьмя мелкими выступами по двум сторонам туловища у фасных и
двумя выступами внизу туловища у профильных скульптур. У двух янтарных
изображений есть туловище, но ноги не проработаны (№ 352, 368). У ряда скульптур
изображен хвост.
Важной особенностью скульптур этой группы является крепление, выполненное в
виде круглой сверлины. На одном изображении их может быть одно (чаще всего), два и
четыре. Крепления расположены у фасных изображений в основании хвоста или в
конечностях, а у профильных – в верхней, средней или задней части туловища.
Два изображения орнаментированы со спины узором из двух параллельных зигзагов,
выполненных нарезками, которые оптически создают эффект орнамента из косых крестов
(№ 373, 374). У одного из них на участке задней конечности и основании обломанного
хвоста фиксируются 8 зубцов, напоминающих штамп для орнаментации керамики (№
373).
Группа 2. Автономные полнофигурные изображения без крепления (1 экз.)
Единственный предмет, изображающий куницу/лису (?), изготовлен из кости,
уплощенный и может выгодно рассматриваться только в фас (№ 375). Глаза отсутствуют,
уши показаны выступами с двух сторон головы, на длинный хвост нанесены
множественные зубцы, что делает его похожим на штамп для орнаментации керамики.
Длина вещи – около 8 см. Она по всем параметрам кроме крепления тяготеет к 1 группе.
Группа 3. Автономные парциальные изображения с креплением (1 экз.).
Схематичная объемная скульптура (№ 346) изготовлена из рога и изображает
млекопитающее. Уши и морда показаны выступами, детали отсутствуют, имеется
сверленое отверстие. Длина – около 3 см. Возможно, изображение не закончено, т.к.
следов полировки нет. Находка не имеет аналогов и происходит с многослойного
108
памятника. Поэтому пока ее принадлежность к неолиту-энеолиту находится под
вопросом.
Группа 4. Автономные парциальные изображения без крепления (1 экз.)
Изображение головы лося (№ 379), крупное (длиной 10,5 см), полированное и в
высокой степени детализированное: глаза и ноздри показаны сверлинами, рот – глубокой
нарезкой. Рельефно выступают подбородок, нос, «горб», глазницы. Уши показаны
длинными треугольными выступами и почти параллельны голове. Любопытно, что в
основании челюсти сделано овальное углубление размерами примерно 3х1,5 см и
глубиной 2 см. Оно, вероятно, является пазом для соединения с каким-то иным
предметом. По всем параметрам кроме сопряженности предмет тяготеет к ряду крупных
изображений группы 6.
Группа 5. Сопряженные парциальные изображения с креплением (3 экз.).
Три изображения изготовлены из рога (№ 366) и кости (№ 367, 378). Все они
существенно различаются как по размерам (соответственно, 40, 15 и 12 см), так и по
степени детализации.
У первого рельефно выделены подбородок, нос, «горб», глазницы, «серьга».
Нарезными овалами показаны глаза, продолговатыми нарезками – ноздри и линия рта.
Уши имеют вид двух выступов листовидной формы и ориентированы под наклоном к
голове. Голова богато орнаментирована разнообразными резными линиями: морда и уши
– неглубокой косой сеткой, края челюстей – короткими горизонтальными в ряд, линия рта
пересечена в нескольких местах короткими поперечными, на нижнюю челюсть снизу
нанесена параболическая линия, от которой елочкой попарно отходят короткие прямые
нарезки. Второе изображение уплощенное, из всех деталей показаны только сужающаяся
морда и листовидное ухо, под наклоном к голове.
Оба изображения венчают собой слегка выгнутые стержни, стыкуясь с ними под
прямым углом. В обоих случаях крепление находится у нижнего края стержня, ближе к
внешней, выгнутой стороне.
По всем параметрам, кроме наличия крепления, оба изображения тяготеют к ряду
крупных изображений группы 6.
У третьего предмета, часто называемого «булавкой», основные детали показаны
рельефно (подбородок, нос, «горб», глазницы, шея, намеченная «серьга»), линия рта –
нарезной линией. Уши переданы двумя продолговатыми выступами и почти параллельны
голове. Шея овального сечения переходит в стержень круглого сечения, заканчивающийся
острием. В поперечной плоскости «серьги» проделано сверленое отверстие. Предмет не
имеет аналогов среди целых форм.
Группа 6. Сопряженные парциальные изображения без крепления (13 экз.).
109
Эта относительно обширная группа включает в себя наиболее разобщенные в морфологическом и размерном плане изделия, украшенные парциальными изображениями млекопитающих (голова и шея).
Два предмета (№ 363, 369) являются деревянными ложкой и ковшом-черпаком с уплощенно-овальной и полуяйцевидной чашами. Голова медведя переходит в длинную ручку. Детализация головы у них идентична: рельефно выделены глазницы, уши, округлый кончик морды, ямка под челюстью. Неглубокими сверлинами показаны ноздри, нарезкой – линия рта спереди. Сквозной прорезью передана пасть зверя. Угол наклона головы по отношению к ручке разный: под прямым углом или почти параллельно ей. Размеры изделий – 17,3 и 32 см.
Четыре роговых предмета относятся к категории, определяемой исследователями как «ритуальные жезлы» (Столяр, 1994; Студзицкая, 1997). Они выделяются своими большими размерами, несмотря на сильные повреждения некоторых из них. Судя по размерам голов (около 13 см) и опираясь на данные по целым формам, длина этих предметов может оцениваться в диапазоне 30-40 см.
Изображения лосиных голов венчают слегка выгнутые стержни, стыкуясь с ними под прямым углом. С большой долей уверенности их можно соотнести с предметом из Швянтойи 3 (№ 366), а также двумя подобными из Оленеостровских мезолитических погребений (Гурина, 1956). Изображение № 347 сильно повреждено: сохранился лишь край подбородка, нижняя челюсть и основание стержня. Угол стыковки головы и стержня необычайно пологий. Второе (№ 354) считается незаконченным (Edgren, 1966), однако из деталей присутствуют подбородок, нос, «горб», «серьга»; линия рта дана нарезкой. Изображение № 361 является наиболее детализированным: имеются рельефные подбородок, нос, «горб», глазницы (с круглой сверлинкой?), линия рта и ноздри показаны нарезками. У фрагмента № 372, в отличие от остальных, сохранилась часть стержня, однако передняя часть головы сильно повреждена мышиными погрызами. Сохранились следующие детали: рельефно выделенные глазницы, челюсть, подтреугольные уши, поставленные под наклоном к голове. Широкой нарезкой показан рот и линия, как бы отделяющая голову от стержня.
Два фрагментированных костяных предмета (№ 359, 370), по-видимому, являлись лопаточками или ложками, украшенными головами лося и медведя. Головы выполнены рельефно, первая – без деталей, вторая – с прорезной пастью (это, а также характерный ракурс сверху и позволяет определять ее как медвежью). В обоих случаях рукоятка слегка искривлена в продольной плоскости. Длина этих изделий как целых может оцениваться в 10-15 см.
Уникальными являются два предмета. Фрагмент деревянного трезубого гребня (?) (№ 371) с головой медведя имеет сильные повреждения и обожжен с одной стороны. Глазницы, челюсть и подчелюстная треугольная ямка показаны рельефно, пасть –
110
прорезана (передняя часть морды не сохранилась). Похожие гребни, сделанные из кости, известны в энеолите-бронзовом веке Кольского п-ва и Норвегии (Гурина, 1997). Небольшое стержневидное изделие из рога (№ 355) с головой лося на конце выглядит как уменьшенная копия «ритуального жезла», однако стержень – коленчатой формы и с нарезкой и утолщением на заостренном конце. Рельефно показаны подбородок, нос, «горб», глазницы, подтреугольные уши, почти параллельные голове. Длина предмета – 10 см.
Фрагменты неизвестных стержневидных изделий представлены тремя предметами (№ 356-358). Голова первого параллельна стержню, рельефно показаны глаза, уши (круглым выступом с вогнутой серединой), челюсть. Линия рта показана нарезкой. Ракурс сверху позволяет трактовать его как изображение головы лося. Предмет похож на № 378 («булавка»), но гораздо крупнее по размерам (сохранившаяся часть – 6,5 см).
Второй предмет – костяной дуговидный уплощенный стержень с головой лося, возможно, являлся рукояткой ложки (?). На голове выступами показаны нижняя губа, нос, «горб», челюсть, ухо, перпендикулярное голове.
Третий – костяной стержневидный предмет, увенчанный головой медведя (уклон морды в профиль и ракурс сверху указывают на это). Рельефно показана передняя узкая часть морды, челюсть. Маленькими сверлинами даны глаза, линия рта – нарезкой. Изделие орнаментировано группами коротких поперечных насечек практически по всей площади. Из рисунка неясно, фрагментировано ли изделие (длина – около 8 см).
Фрагменты. Мелкие фрагменты, не вошедшие ни в одну из групп, следующие: костяной фрагмент уха (лося?), костяная голова лося, обломанная по шее, янтарная голова лося со сверлиной за ушами, янтарный фрагмент туловища, костяной фрагмент головы лося, роговой фрагмент крупной головы лося. Можно только предполагать, что предметы были фрагментами полнофигурных подвесок (№ 351, 360, 364, 365), «булавок» (№ 376) и, наконец, «ритуального жезла» (№ 377).
Таким образом, предметы распадаются на ряд дробных групп, однако эта дробность обусловлена четкой структурой классификации. Если подойти к классификации несколько иначе, то изображения можно разделить всего на четыре группы (не учитывая трудноопределимых фрагментов): полнофигурные подвески, черпаки, ложки, жезлы, украшенные парциальными изображениями.
Соотношение представленных видов млекопитающих следующее: лось – 19 экз., медведь – 5 экз., бобр – 4 экз., куница/лиса (?) – 2 экз. Не представляется возможным Точно установить вид животного, изображаемого в ракурсе «вид сверху» наряду с бобром, невозможно. Вероятно, изображена куница или лиса. Четкая разница наблюдается в изображениях лося и медведя, несмотря на все мелкие индивидуальные особенности. Верхняя кромка лосиной морды прямая, медвежьей – резко падает вниз, к носу. Нижняя кромка (щека), наоборот, прямая - у изображений медведя и оттопырена вниз - у лося.
111
Исходя из анализа имеющегося материала, раскрытая пасть – признак исключительно изображения медведя.
Территориальное распространение. Анализ распространения находок показывает, что большинство относится к
восточнобалтийской зоне, причем с ряда памятников происходит по нескольку находок. Остальные находки встречены в Псковской, Ивановской,Рязанской и Нижегородской областях (рис. 18).
Рис. 18. Резные изображение млекопитающих.
На основе рассмотренных материалов никаких региональных особенностей в
распространении групп не обнаружено. И полнофигурные подвески, и «ритуальные
жезлы» (и, возможно, «булавки») найдены как в Восточной Балтии, так и в Центре
112
Европейской части России. Судить об особенностях распространения костяных
лопаточек-ложек и деревянных ковшей сложно, так как эти находки единичны.
Определенные особенности можно видеть только в распространении сюжетов
изображений: очевидно, изображения медведя были характерен только для западных
территорий, в то время как остальные (лось, бобр, куница/лиса (?)) – и для западных, и для
восточных.
Хронология.
Так как подавляющее большинство изображений происходит из культурных
отложений многослойных памятников, то их датировки имеют довольно общий характер.
Одно изображение выходит за рамки III тыс. до н.э. и датируется серединой IV тыс. до н.э.
согласно радиоуглеродной дате слоя, в котором они найдено (№ 367) (Irsenas, 2000. P. 94).
Все остальные, согласно публикациям, датируются в интервале от начала III тыс. до н.э.
до рубежа III-II тыс. до н.э.) (Irsenas, 2000. Р. 94-96, и др.).
С этим интервалом согласуются и материалы погребений, в которых был обнаружен
ряд скульптур. Парное погребение в Валма, где были найдены три скульптурных подвески
(№ 348-350) было перекрыто слоем с преобладанием гребенчато-ямочной керамики. Хотя
никакого выразительного инвентаря в погребении нет, однако, небольшая глубина ямы,
наличие в ней камней и расположение скульптур под затылками погребенных (Янитс,
1959. С. 39-40) позволяют сопоставить его с погребениями VII и VIII могильника Тамула
(Jaanits, 1957) и приблизительно датировать его серединой-второй половина III тыс. до н.э.
Погребение № 277 могильника Звейниеки было частью коллективного захоронения из
четырех человек, где парциальная скульптура лося найдена у ступней костяка (№ 355).
Остальной инвентарь составляли многочисленные овальные и фигурные янтарные
подвески. На этом же костяке найдены два бронзовых кольца, единственные во всем
могильнике, что позволяет относить это погребение к рубежу III-II тыс. до н.э. (Zagorskis,
1987. S 57, 67, 77).
Вероятнее всего, резные изображения млекопитающих были созданы носителями
синхронных культур нео-энеолитического круга: поздней гребенчато-ямочной или
пористой керамики Восточной Балтии, поздненарвской культуры Литвы, усвятской
Запада России, волосовской культуры в Центре Европейской части России. В связи с
условностью большинства датировок и ограниченностью выборки, изучить смену стилей
и традиций изготовления скульптур невозможно. Находки на ряде памятников (Тамула
(поселение и погребение), могильник Звейниеки, Сарнате, Усвяты IV, Сахтыш I,
Володары) сразу нескольких экземпляров морфологически различных изображений
(отнесенных к разным группам) позволяют предполагать, что все выделенные категории
могли бытовать синхронно. Морфологическое сходство предметов одной группы,
113
происходящих из разных регионов лесной зоны (например, подвесок-бобров и
«ритуальных жезлов»-лосей), позволяет констатировать наличие определенных связей
между многими значительно удаленными друг от друга группами поселений.
Функциональное значение.
Ряд резных изображений млекопитающих (костяных и янтарных), снабженных
элементами крепления, по своей функции, вероятнее всего, являлся подвесками или
нашивками, украшавшими одежду или входившими в состав ожерелий (Loze, 1970;
Студзицкая, 1985). Один из способов их ношения может отражать погребальный контекст
находок в Валма и Тамула. Костяки молодой женщины и зрелого мужчины лежали рядом
вытянуто, в противоположном направлении. Янтарное изображение бобра найдено под
затылком женщины, а два костяных изображения бобра и куницы/лисы (?) – под затылком
мужчины (Янитс, 1959). Янтарная скульптура медведя с двумя отверстиями из XII
погребения ребенка могильника Тамула также была найдена под затылком костяка
(Jaanits, 1957). Возможно, подвески крепились к головному убору сзади.
Находки подобных подвесок, как в погребениях, так и на поселениях,
свидетельствуют, что подобные вещи не являлись исключительно частью погребального
инвентаря, но и могли носиться в повседневной жизни. Ломаясь или теряясь, они
оказывались в культурном слое. Любопытна находка парных скульптур (бобра и
куницы/лисы (?)) в погребении Валма (№ 349, 350). Она означает, что определенные
изображения могли носиться совместно. На поселении Сахтыш I в 1972 г. были найдены
костяные скульптуры бобра и куницы/лисы (?) (№ 373, 375) – очень близкие по форме,
обе с хвостами, покрытыми зубчиками – как на штампах для орнаментации керамики,
однако, у первой были отверстия. Можно лишь предположить, что эти фигурки тоже
составляли набор и попали в слой одновременно (они были найдены в одном жилище, но
дополнительные сведения о контексте отсутствуют) (Крайнов, 1973).
Роль двух других резных изображений – стержневидных с головами лося – в
погребальном обряде не ясна. В погребении взрослого мужчины № 277 могильника
Звейниеки находилось одно из них (№ 355), но так как погребение – коллективное и
вмещало четыре костяка, принадлежность скульптуры именно к 271-му остается под
вопросом, так же как и функция данного предмета, похожего на миниатюрный
«ритуальный жезл» с коленчатой рукояткой. В погребении № 271-271А того же
могильника, взрослого (мужчины?) с ребенком на его правом бедре, справа от костяков
был зафиксирован некий объект: плитка (площадка) красной охры, поверх которой лежало
фрагментированное костяное изображение головы лося на стержне (№ 356).
Такой объект близок «ритуальному кладу». Подобные скопления кремневых и
костяных орудий выявлены вблизи погребений на т.н. «ритуальных площадках»,
114
известных на поселениях волосовской культуры. Оба изображения лося со стоянки
Володары (№ 378, 379) найдены в контексте подобных объектов. Они находились среди
охры, кремневых орудий, сланцевых, янтарных и костяных украшений (клад №7),
расположенных под обширным скоплением из костей лося, черепа лося, волка, четырех
нижних челюстей лося, а также черепов бобра, выдры и куницы, и угля (Цветкова, 1973;
1994).
Гипотеза об использовании ковшей с зооморфными головами исключительно в
особых целях не раз выдвигалась исследователями (Мошинская, 1976; Крайнов, 1992). Х.
Моора, напротив, считал их использование повседневным, опираясь на контекст находки
одного из сарнатских ковшей в жилище (Moora, 1952) (другой ковш из Сарнате с головой
медведя был также найден в жилище (Ванкина, 1970)). Вероятно, правомерными можно
считать обе точки зрения. Так как для человека той эпохи не существовало четкого
разделения между культовыми и бытовыми действиями, использование такого рода
предметов вполне могло быть «бытовым» с современной точки зрения. Впрочем, на
некоторых торфяниковых памятниках (например, сахтышских стоянках) были встречены
как деревянные ковши-черпаки, так и костяные лопатки-ложки, идентичных форм, но без
зооморфных изображений.
Гораздо большее количество находок ковшей с головами водоплавающих птиц по
сравнению с головами медведей и несколько нелепый вид медвежьих голов с длинной
шеей, переходящей в чашу, позволяет предполагать, что образ медведя появился на
западной периферии лесной зоны Восточной Европы в результате какого-то влияния
извне. Возможно, это было влияние культур шнуровой керамики, хотя его характер до сих
пор спорен (Girininkas, 2002). Так же можно объяснить появление других находок:
подвесок, ложек и гребня с изображением медведя.
Крупные предметы с головой лося, называемые «ритуальными жезлами»
(Студзицкая, 1997), и датированные неолитом-энеолитом, были найдены только в
культурных отложениях поселений, что свидетельствует об их использовании в
повседневной жизни. Хотя находки вещей подобных форм в мезолитических погребениях
Оленеостровского могильника, а также погребениях Прибеломорья (Мурашкин, Шумкин,
2004) и вблизи совхоза им. Пушкина (р. Ток, Оренбургская обл.) эпохи энеолита–ранней
бронзы (Моргунова, 1984) все же указывают на то, что эти вещи играли определенную
роль и в погребальном обряде.
Как видно из исследования, резные изображения млекопитающих (кроме лосиных
голов на «ритуальных жезлах») по своим формам и функциям во многом сходны с
резными антропоморфными и орнитоморфными изображениями.
Смысловое значение.
115
Представленные виды животных (по крайней мере, лось, бобр и куница/лиса) имели
важное промысловое значение для населения лесной зоны Восточной Европы в то время,
что подтверждается многочисленными данными остеологической статистики на самых
разных памятниках этих территорий. Именно это во многом объясняет причину появления
данных образов в нео-энеолитическом искусстве малых форм.
Материалы по этнографии народов Северной Евразии свидетельствуют, что значение
образов лося, медведя и бобра было довольно разноплановым. Образы лося и медведя
занимали одно из главных мест в иерархии существ, стоящих у истоков мироздания и в
наибольшей степени связанных с существованием мира. Эти животные считались самыми
могучими и не почитались в качестве тотемов, а занимали более «почетное» положение
(Косарев, 2003b).
Особая роль образа лося ярко отражена в создании «ритуальных жезлов» – крупных
роговых предметов, которые, по предположениям исследователей, принадлежали
мужчинам, имевшим авторитет/приоритет в своем обществе (или вождям) (Студзицкая,
1997). Важное обрядовое значение этих предметов подтвержадется петроглифическими
сценами с изображениями антропоморфных и зооантропоморфных существ мужского
пола с подобными «жезлами» в руках на территории Норвегии и Кольского п-ва.
Подобные изделия известны на протяжении длительного времени: от мезолита до ранней
бронзы. Появление образа лося на каменных топорах-молотах (наряду с образом медведя),
возможно, отражает дальнейшее развитие сходных представлений и в эпоху бронзы.
Какова же была роль медведя в представлениях того времени? К. Карпелан
справедливо полагает, что отсутствие голов медведей на «жезлах» реальных и «жезлах»-
изображениях на петроглифах вовсе не означает, что его почитали в Восточной и
Северной Европе меньше, чем лося: «Культ медведя, по крайней мере, по своим внешним
формам отличался от культа лося» (Karpelan, 1975). На территории волосовской культуры
пока не известно ни одного резного изображения медведя. Однако, на волосовских
памятниках (Сахтышская группа и др.) неоднократно были встречены объекты, которые
связывали с культом медведя: клад обожженных кремневых орудий с медвежьей лапой
поверх (устное сообщение Е.Л.Костылевой), кость пениса медведя, найденная с роговым
огнивом и покрытая красной охрой, и, наконец, многочисленные подвески из клыков
медведя в культурных отложениях памятников (Крайнов, 1992). Образ медведя в резной
скульптуре известен только на западе Восточной Европы. Причем есть основания
относить эти резные изображения медведя к позднейшему отрезку III тыс. до н.э.,
возможно, его второй половине или даже концу. Несколько янтарных скульптур медведя
найдено в Дании и Польше (случайные старые редкие находки; Vang Petersen, 1998).
Можно полагать, что изображения медведя появляются на этой территории под влиянием
116
иной, видимо, западной традиции. Эпизодические следы носителей культур шнуровой
керамики в западной части Восточной Европы, возможно, указывают на источник этих
влияний. По мнению К. Карпелана, с появлением топоров-молотов с головой медведя
можно говорить об интенсификации и/или преобразовании культа медведя около II тыс.
до н.э. (Karpelan, 1975).
Значение образов бобра и куницы/лисы (?), представленных в ряде изображений,
гораздо более туманно. Сибирские этнографические данные соотносят бобра с водной
стихией и «нижним миром». Он был третьим могущественным животным, способным, к
тому же, жить и на суше, и в воде; он тоже едва ли имел отношение к тотемам (Косарев,
2003. С. 61-62). Почитание этих зверей в неолите-энеолите подтверждается находками на
волосовских памятниках (Сахтыш I, Володары) черепов бобров и куниц, расположение
которых могло соотноситься с «ритуальными площадками» и «ритуальными кладами»
(Цветкова, 1973; Крайнов, 1992). Широкое территориальное распространение имели
подвески из резцов бобра и куницы. Возможно, контекст находок, с одной стороны,
парных фигур этих млекопитающих в погребении на стоянке Валма, с другой стороны,
парных фигур птиц в погребениях Тамула, Звейниеки и Шагара I, может указывать на
некие семантические параллели в образах бобра (и куницы/лисы?) и водоплавающей
птицы. Хотя в погребениях Тамула имеются находки и других скульптур: одиночных
медведя и человека в таком же контексте (под затылком). Однако количество материала
настолько мало, что более глубокие выводы сделать пока невозможно.
Выводы.
Резные изображения млекопитающих, хотя и уступают по количеству как резным
антропоморфным, так и орнитоморфным изображениям, тем не менее, были столь же
широко распространены на территории лесной зоны Восточной Европы. По результатам
морфологической классификации изображения были разделены на 4 группы, включающие
полнофигурные подвески, черпаки, ложки, «жезлы», украшенные парциальными
изображениями. В представленных предметах наблюдается очень много общего с
категориями резных антропоморфных (полнофигурные подвески) и особенно
орнитоморфных изображений (полнофигурные подвески, черпаки, костяные навершия).
В результате соединения данных классификации с данными картографирования и
хронологии, удалось выявить предполагаемую синхронность существования большинства
изображений. Кроме того, картографирование находок позволяет говорить о том, что
полнофигурные подвески, «ритуальные жезлы», и, возможно, «булавки» имели широкое
распространение на всей рассматриваемой территории. Судить об особенностях
распространения костяных лопаточек-ложек и деревянных черпаков сложно, так как эти
находки пока единичны. Представляется, что образ медведя был характерен только для
117
западных территорий (Восточная Балтия, Псковская обл.), в то время как остальные (лось,
бобр, куница/лиса (?)) были распространены гораздо шире. Возможно, образ медведя
появился достаточно поздно и был навеян западными (?) традициями.
Четкие морфологические параллели между остальными изображениями из
различных регионов позволяют наметить некие протяженные связи, существовавшие в ту
эпоху между населением территорий Восточной Балтии и Центра Европейской части
России.
Функциональное назначение части скульптур определено наличием у них элементов
крепления: по всей видимости, они являлись подвесками или нашивками и
использовались как в повседневном обиходе, так и в погребальном убранстве. Особое
функциональное значение можно приписать как деревянным черпакам с головами
медведя, так и «ритуальным жезлам» с головами лося; судя по всему, обе категории
предметов использовались людьми при жизни.
Смысловое значение видов животных, представленных в изображениях, несомненно,
было очень значительным, в первую очередь, из-за их главенствующей роли в промысле.
Крупные размеры и длительный период бытования лосиноголовых «жезлов» указывает на
высшее место и совершенно особое положение лося в духовной иерархии того времени.
Почитание медведя на изучаемой территории имело какие-то иные формы, не
предполагающие изображения самого объекта (по крайней мере, в технике резьбы).
Только в энеолите, и только на западных территориях, появляются его резные
изображения, а затем, в эпоху бронзы, этот образ становится едва ли не главенствующим в
Северной Европе и Северной России. Определенное сближение в значении и даже,
возможно, некая смысловая взаимозаменяемость наблюдается на основе анализа
погребальных материалов для резных парных изображений бобра и куницы/лисы (?),
парных резных изображений водоплавающих птиц и резных антропоморфных подвесок.
2. Ретушированные изображения млекопитающих (18 экз.)
Эта группа изображений млекопитающих не рассматривалась ранее как одно целое,
хотя первые подобные находки были сделаны более ста лет назад при сборах на летнем
берегу Белого моря (Зимняя Золотица). В работе С.Н. Замятнина были рассмотрены эти и
еще несколько известных на тот момент экземпляров (Замятнин, 1948). С тех пор
коллекция изображений существенно увеличилась. Они происходят с территории
Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Тверской, Ивановской, Владимирской,
Рязанской, Кировской областей, Республики Татарстан. Семь изображений являются
случайными находками, остальные происходят из культурных отложений стоянок.
Визуально изучено семь изображений, остальные – по публикациям.
118
Техника изготовления.
Общей техникой изготовления для всех рассматриваемых изображений является
ретуширование. Материалом изготовления практически всех скульптур является кремень.
Единственное изображение сделано из белого кварцита (№ 396). Размеры изделий
существенно различаются по высоте: самое маленькое – 2,6 см (№ 396), самое большое –
10,8 см (№ 381). Заготовками во всех случаях, по-видимому, являлись отщепы (в ряде
случаев – пластинчатые), а обработка ретушью производилась в большинстве случаев по
всей поверхности с обеих сторон. Не все иллюстрации показывают предмет с двух сторон,
поэтому эти данные условны. У шести изображений двусторонняя обработка по краю
зафиксирована достоверно. Почти все скульптуры дошли до нас целыми или с
незначительными повреждениями. Несмотря на то, что они изготовлены из одинакового
сырья и в относительно сходной манере, среди них невозможно найти двух одинаковых –
каждое обладает индивидуальными мелкими особенностями. Большинство из них –
профильные. Известно всего три изображения в фас (№ 380, 391, 397).
Ни одна из находок не имеет точной датировки. Условно все изображения относятся
к III тыс. до н.э. (возможно, в основном, ко второй половине) – началу (или первой
половине) II тыс. до н.э.
Морфология.
При выделении ретушированных изображений млекопитающих из ряда других
категорий исследователи руководствовались расплывчатым аргументом «сходства».
Однако, без выработки определенных критериев нельзя говорить о серии ретушированных
изображений млекопитающих. Предлагаются три дополняющих друг друга критерия их
«истинности»:
4) изображение имеет как минимум одну сторону, ретушированную по всему
периметру;
5) пропорция максимальных длины и ширины изображения равняется не менее чем
1:2 – 1:2,5;
6) изображение включает такие составные части как: голова, туловище, две
конечности (четыре – у изображений в фас).
Выделение подобных критериев производится впервые, поэтому возможно, что в
дальнейшем с накоплением новых материалов некоторые предметы и их фрагменты,
исключенные на данном этапе из числа изображений, будут туда возвращены.
Так как количество предметов очень невелико, обращаться к развернутой
классификации и выделять определенные группы не представляется необходимым.
Достаточно будет описать составные части фигуры, размеры и некоторые
дополнительные морфологические особенности.
119
Рассмотрим все изображения, которые соответствуют предъявленным требованиям.
Помимо основных частей фигуры (головы, туловища и конечностей) у большинства
профильных изображений (11 экз.) небольшим аморфным выступом на голове показано
ухо. У восьми изображений удлиненным выступом в задней части туловища параллельно
спине показан хвост. Он есть и у двух фасных изображений. Две небольшие малозаметные
выемки, расположенные на середине туловища, на верхнем и нижнем краях, имеются у
четырех изображений (№ 386, 387, 393, 395). Относительно крупный выступ раздвоенной
формы расположен на спине одной скульптуры (№ 388). Территория распространения. Хронология.
Распространение ретушированных изображений млекопитающих довольно обширно
(рис. 19).
Рис. 19. Распространение ретушированных изображений млекопитающих.
120
Оно практически совпадает с территорией распространения ретушированных
антропоморфных и орнитоморфных скульптур. Предположительно, все они относились к
одному большому периоду – середине III-началу II тыс. до н.э. (к сожалению, никакими
точными датами мы не располагаем) – и существовали в рамках синхронных и
родственных энеолитических культур: пористой керамики типа Модлона (Русский Север),
волосовской (Центр Европейской части России) и культуры «волосовского облика»
(Среднее Поволжье и Волго-Камье). Вполне возможно, что изображения бытовали и в
рамках несколько более поздних культур, формально относимых уже к эпохе ранней
бронзы: беломорской (летний берег Белого моря), керамики шагарского типа (Поочье,
Примокшанье), юртиковской (Волго-Камье).
На ряде памятников известны находки всех видов скульптур (или двух из трех)
(Зимняя Золотица, Сухое, Вологда, Стрелка I, Волосово).
Функциональное значение.
Данные о контексте находок, обнаруженных в культурных отложениях стоянок,
практически отсутствуют. Изображения из Стрелки I (№ 392, 393) были найдены в
нижней части заполнений жилищ (Крайнов, Гадзяцкая, 2002. С. 129). Ряд предметов
найден в пахотных слоях, точный контекст остальных неизвестен. Находки из
исключительно «поселенческих» комплексов позволяют рассматривать скульптуры в
качестве предметов повседневного использования.
Можно высказать предположение о ношении этих предметов (например, нашивание
их на одежду), опираясь на находки скульптур с двумя выемками на туловище, друг
напротив друга (№ 386, 387, 393, 395). Крупный раздвоенный выступ на спине
изображения из Дуденево (№ 388) уже рассматривался в литературе как приспособление
для крепления фигурки (Замятнин, 1948).
Смысловое значение.
Исследователями был предложен ряд видовых интерпретаций. Помимо лося,
медведя и бобра, некоторые изделия интерпретировались как фигуры кабана (Шагара I,
Юртик), барсука (Волосово, Стрелка I), зубра (Репище VI), белого медведя (Зимняя
Золотица, Вис II), волка (Сухое), тюленя (Зимняя Золотица) и ящерицы (Изведово).
Путь видовой интерпретации, предлагаемый автором, основан на том допущении,
что раз большинство предметов датируется в рамках III тыс. до н.э. и таким образом
синхронно резным изображениям млекопитающих, которые известны в некотором
количестве на этой территории, то, возможно, в их создание были заложены некие общие
принципы. По своим размерам и уплощенной форме скульптуры млекопитающих из
121
кремня близки полнофигурным подвескам. Нетрудно объяснить фасные ретушированные
изображения (№ 391, 397): их морфологические аналоги из кости изображают бобра и
куницу/лису (?) (№ 373-375). Остальные известные нам плоские профильные
полнофигурные подвески изображают лося (№ 362) и медведя (№ 352, 353). Говоря о
принципах изображения голов лося и медведя в резьбе, мы упомянули о резких различиях
ее абриса: у медведя верхний край морды «падает» вниз, к носу, а у лося – остается
прямым. Кроме того, у костяного изображения лося показан хвост, а у медведей – нет. Нет
хвоста и у янтарных скульптур медведя из Польши и Дании. Рассматривая
ретушированные скульптуры с тех же позиций, можно предположить, что семь из них
(изображают лося (№ 383, 385-388, 392, 393), а три – медведя (№ 381, 389, 390). Шесть
скульптур (№ 382, 384, 394-396) невозможно охарактеризовать точно. Последнее
уникальное изображение (№ 380), интерпретированное как тюлень, пока не имеет
аналогов ни среди кремневых, ни среди резных изображений (Замятнин, 1948). С
предложенной С.Н. Замятниным интерпретацией можно предварительно согласиться.
Подобное соотношение (значительное преобладание изображений лося) сходно и в резной
скульптуре. Однако ставить вопрос о «чужеродном» характере медвежьего образа на этом
материале пока невозможно из-за малочисленности коллекции и полного отсутствия
надежных дат.
В Восточной Балтии, Беларуси, Финляндии ретушированных изображений
млекопитающих не известно. Так как кремень отлично сохраняется в любых почвенных
условиях, можно думать, что на этих территориях традиция изготовления
ретушированных изображений отсутствовала. Вероятно, их изготовление практиковалось
только в «восточных» областях лесной зоны Восточной Европы.
Выводы.
Небольшая группа ретушированных изображений млекопитающих впервые была
рассмотрена в полном объеме. По причине ее малочисленности развернутая
морфологическая классификация не создавалась, а все имеющиеся предметы были
оценены по трем критериям: наличию хотя бы одной ретушированной по всему
периметру стороны; соотношению максимальной длины и ширины изображения, равному
1:2 – 1:2,5; наличию таких составных частей, как голова, туловище и две ноги (или четыре
- у изображений в фас).
Присутствие у ряда предметов дополнительных морфологических элементов, таких
как ухо и хвост, а также средние размеры и уплощенность формы позволили сопоставить
их с группой резных автономных полнофигурных изображений млекопитающих с
122
креплениями (группа 1). На основе этого сходства были сделаны предположения о видах
изображенных в кремне животных: это – лось, медведь, бобр, куница/лиса (?). Виды
животных удалось определить не во всех случаях.
Так как многие изображения найдены в контексте поселений, а некоторые имеют по
две выемки на туловище напротив друг друга, то, возможно, эти предметы (хотя бы
частично) могли являться подвесками или нашивками и использоваться в повседневной
жизни. В этом – еще одно сходство с резными полнофигурными подвесками. О
взаимозаменяемости первых и вторых пока рассуждать сложно, так как этому
препятствуют малое количество находок и отсутствие надежных дат.
Отсутствие подобных изображений на «западных» территориях лесной зоны
Восточной Европы еще раз указывает на принадлежность всего комплекса
ретушированных изображений именно к «волосовскому» миру.
3. Лепные изображения млекопитающих (9 экз.)
Эта весьма скромная по количеству группа изображений никогда ранее не
выделялась и не рассматривалась как отдельный комплекс. Это объясняется крайней
редкостью таких находок на рассматриваемой территории.
Изображения относятся к неолиту и энеолиту. Несколько предметов было найдено в
Юго-Восточной Финляндии (Кангасала Сарса, Хиетаниеми Луопиойнен, Йоханнес
Вянтси, Ряяккиля Перринмекки), на Аландских о-вах (Вестра Янсмира) и Швеции
(Олоппе, Нисатра, Альби) (Edgren, 1967; Pesonen, 2000; Janzon, 1983), хотя ряд шведских
находок, по всей видимости, был оставлен более поздним населением скотоводов.
На изучаемой территории изображения были найдены в Карелии, Эстонии, Латвии,
Московской, Рязанской областях, Республике Марий-Эл.
Визуально исследована половина изображений, остальные – по публикациям.
Техника изготовления.
Лепные изображения млекопитающих изготавливались, как правило, из
формовочной массы с примесями (песок, дресва), характерными для синхронных им
типов керамики, распространенных на тех же памятниках. Использование формовочной
массы без всяких примесей наблюдалось единожды (№ 403). Все изображения обожжены.
Два из них украшены гребенчатым орнаментом. Часть других украшена ямочным,
гребенчатым, накольчатым орнаментом. Почти все изображения в той или иной степени
фрагментированы. Размеры изображений различаются не сильно: самое малое – около 2,5
см (№ 401), самое крупное (фрагментировано) – 7 см (№ 398).
Морфология.
123
Так как количество предметов очень невелико, обращаться к развернутой
классификации не представляется необходимым. При анализе морфологии предлагается
подразделить их на две группы, опираясь на принципы классификации первого этапа
лепных антропоморфных изображений (значение и полнота; см. глава 2, раздел 2
настоящей работы):
1) автономные полнофигурные изображения;
2) сопряженные парциальные изображения.
Рассматривая выделенные группы, достаточно будет описать составные части
фигуры, орнаментацию, размеры и некоторые дополнительные морфологические
особенности.
Автономные полнофигурные лепные изображения (5 экз.)
У них одинаковый набор составных частей фигуры: голова, туловище, хвост и
четыре конечности. У двух изображений (№ 401, 402) выступом показаны уши.
Изображения никак не орнаментированы. Манера передачи головы настолько
обобщенная, что установить вид млекопитающего в большинстве случаев невозможно.
Изображение с вытянутым туловищем и длинным хвостом (№ 398) можно
интерпретировать как куницу, выдру, лису (?). Хребет изображения немного приподнят
как гребень на средней линии спины. Аналог этому изображению найден в Кангасала
Сарса (Финляндия).
Сопряженные парциальные лепные изображения (4 экз.).
Два изображения голов млекопитающих находятся на крае венчика сосуда, мордой
наружу (№ 405, 406). Два других фрагмента, также изображающих головы, отнесены к
этой группе из-за своего размерного и детального морфологического сходства с двумя
предыдущими (№ 403, 404). На голове имеются детали: уши, выделенные двумя
короткими вертикальными выступами, и морда – более крупным выступом, обращенным
наружу сосуда. Размеры голов (длина в горизонтальной плоскости) у всех четырех
предметов сходны: около 3 см. Орнаментированы два изображения. У первого (№ 405) по
ушам с боков к венчику спускаются два горизонтальных ряда узкозубых гребенчатых
отпечатков. На макушке скульптуры между ушами сделан вертикальный накол глубиной
1 см. Орнамент второго изображения (№ 406) плохо различим на иллюстрации. Он
состоит из отпечатков очень тонкого гребенчатого штампа на самом сосуде, а один (?)
вертикальный отпечаток расположен на морде зверя.
Вид животных определить не представляется возможным из-за крайне обобщенной
трактовки фигур.
124
Территориальное распространение. Хронология.
Изображения первой группы найдены исключительно на территории Карелии и
стран Восточной Балтии в культурных отложениях поселений, где преобладает керамика
гребенчато-ямочного круга культур (рис. 20). На таких же памятниках сделаны и финские
находки. Вероятно, эти скульптуры могут быть датированы в интервале от конца IV до
середины III тыс. до н.э. Таким образом, они оказываются синхронны целому ряду других
лепных изображений человека, птиц и плоскостных изображений птиц на керамике.
Рис. 20. Распространение лепных изображений млекопитающих.
Изображения второй группы известны только на территории Волго-Окского
бассейна. Все они также найдены в культурных отложениях многослойных памятников.
Изображение № 405 помещено на фрагменте сосуда, отнесенного к керамике
«дубровичского типа», датируемой приблизительно концом III – серединой II тыс. до н.э.
(Фоломеев, 1975). В слое с преобладанием этой же керамики была найдена скульптура
125
№ 404 (Кравцов, Сорокин, 1984). Обстоятельства находки изображения № 403
неизвестны. Небольшой ладьевидный сосуд с изображением зверя на венчике (№ 406),
восстановленный из фрагментов, был найден в кострище жилища № 5 – крупного
полуземляночного типа, с переходом, «волосовского» облика. Он отнесен к
«поздневолосовскому времени» (Соловьев, 1987. С. 83, 96).
Таким образом, две выделенные группы лепных изображений млекопитающих
относятся к совершенно разным регионам, периодам и культурам. Временной разрыв
между их существованием – около 500 лет.
Функциональное значение. Смысловое значение.
Рассматривая изображения первой группы, нужно обратить внимание на контекст
некоторых находок. Изображение № 398 было найдено совместно с фрагментом
антропоморфного лепного изображения и тремя лепными скульптурами птиц и еще пятью
аморфными фрагментами изделий на площади 20 кв.м. Оно могло являться частью набора
глиняных изделий, о которых подробно говорилось в разделе 1 настоящей главы.
Напомним, что в состав наборов могли входить изображения птиц с отверстием в
туловище. Скульптура млекопитающего из Черной Речки III такого отверстия не имеет,
зато они есть у аналогичных скульптур из Кангасала Сарса и Вестра Янсмира
(Финляндия) и расположены на животе, по центру туловища.
Выше уже высказывалось предположение о том, что и сосуды с изображениями птиц
могли иметь какое-то отношение к этим наборам. На стоянке Ломми (откуда происходит
скульптура зверя № 399) был найден фрагмент именно такого сосуда, а также два
фрагмента лепных изображений птиц.
Таким образом, скульптуры млекопитающих из глины могли являться частью
наборов глиняной скульптуры, а некоторые – крепиться на палочку(?) аналогично ряду
скульптур птиц.
Изображения второй группы существенно отличаются от лепных антропоморфных
голов на керамике Карелии и Финляндии первой половины III тыс. до н.э. прежде всего
ориентировкой – мордой наружу. Об их возможном парном расположении на сосуде друг
напротив друга данных нет. Особое назначение не только скульптур, но и сосудов, на
которых закреплены скульптурные изображения, не раз отмечалось исследователями (см.,
напр., Мошинская, 1976). Сосуды с головами животных, а иногда и людей, широко
известны на территории Евразии с эпохи неолита. Эти изображения традиционно
интерпретируются как охранители сосуда и его содержимого. Несколько морфологически
сходных и относительно синхронных предметов найдено в Зауралье (например, на
126
стоянке Береговая I) (Мошинская, 1976); они выполнены на керамике местных
археологических культур.
Другого предположения о функции и смысле этих изображений пока сделать нельзя.
Смысловую интерпретацию сильно затрудняет схематизм этих изображений и
невозможность достоверно определить вид животного. Согласно предположениям
исследователей, в эпоху неолита именно женщины изготавливали глиняную посуду
(Гурина, 1947. С. 70; Цетлин, 1998. С. 61). Это позволяет с большей долей вероятности
предполагать, что и скульптуры из глины (в том числе, и изображения млекопитающих, и
ряд остальных) тоже делали они. Находки рассматриваемых изображений в определенном
контексте (в составе наборов глиняных предметов, в кострище внутри жилища),
возможно, позволяют предполагать их связь именно с комплексом женских
представлений.
Выводы.
Лепные изображения млекопитающих представляют собой малочисленную группу
предметов. По причине фрагментарности и крайнего схематизма этих изделий, решено
было не создавать развернутую морфологическую классификацию, а разделить
изображения на две группы по следующим признакам: значение и полнота.
Удалось установить, что выделенная группа автономных полнофигурных скульптур
развивалась на территории стран Восточной Балтии, Карелии и Финляндии и относилась к
кругу культур гребенчато-ямочной керамики. Имеются данные, согласно которым
изображения этой группы могли входить в наборы глиняных скульптур, наряду с лепными
изображениями птиц, змей и антропоморфных существ.
Группа парциальных зависимых изображений (голов на венчиках сосудов) Волго-
Окского бассейна датируется более поздним периодом (конец III – середина II тыс. до н.э.)
и относится к культурам поздне- и постволосовского круга. Их функциональное значение
могло заключаться в охране содержимого особого, ритуального сосуда.
Более конкретные выводы о смысловом содержании всех этих изображений мешает
сделать как малое количество находок, так и невозможность распознать виды
представленных млекопитающих.
Раздел 3. Изображения змей и рыб (27 экз.).
Введение.
Изображения змей и рыб в искусстве нео-энеолита лесной зоны Восточной Европы –
самые редкие находки среди всех изображений. Тем не менее, они так же представлены в
рамках нескольких сырьевых групп: резные, ретушированные и лепные (последние –
127
только изображения змей). Основная масса изображений может быть отнесена к III –
началу II тыс. до н.э.
1. Изображения змей (17 экз.).
Резные изображения змей (11 экз.).
Традиция изготовления подобных скульптур, вероятно, берет начало в мезолите. В
двух погребениях Оленеостровского могильника были найдены костяные изображения
змей, служившие подвесками: одно имеет канавку для привязывания или пришивания на
конце хвоста, вторая – недосверленное отверстие на голове и рядом с ним – грубую
канавку (Гурина, 1956). Резные изображения змей вновь появляются на изучаемой
территории, видимо, не ранее середины III тыс. до н.э.
Резные изображения змей – это наиболее подробно изученная группа,
исследовательский интерес к которой проявлялся неоднократно. И.А. Лозе в своих
работах по первобытному искусству Восточной Балтии неоднократно обращалась к ним
(Loze, 1970; 1983). В этнографии и мифологических представлениях прибалтийских
народов образ змеи, особенно ужа, занимает видное место. Поиск связей духовных
представлений неолитического времени с более поздними – основное направление
изучения этой группы скульптуры латвийской исследовательницей. В очередной
обобщающей работе А.В. Уткин и Е.Л. Костылева ставили перед собой цель максимально
полно собрать материал. В целом задача была успешно выполнена, однако авторами был
приведен ряд сомнительных предметов, причисленных к изображениям змей без всяких
оснований (например, обломок насада зубчатого наконечника) (Уткин, Костылева, 2000).
Техника изготовления.
Для изготовления изображений использованы кость (9 экз.), рог (№ 415) и янтарь (№
409). Об основных особенностях изображений, вырезанных из разных материалов,
подробно говорится в главе 1, части 3 настоящей работы. Данные, приведенные для
антропоморфных изображений, полностью соответствуют и для резных изображений змей
и рыб.
Морфология.
Так как количество предметов очень невелико, обращаться к развернутой
классификации не представляется необходимым. Достаточно будет описать составные
части фигуры, орнаментацию, размеры и некоторые дополнительные морфологические
особенности.
Основные составные части фигуры – это голова ромбовидной формы и туловище,
которое сужается к концу и может быть как волнистым (в большинстве случаев), так и
прямым (№ 415, 417). В иллюстрациях обычно не представлено поперечное сечение
128
предметов, и можно только догадываться, что в некоторых случаях оно овальное, а в
некоторых – плоско-треугольное. Глаза изображены ямками-сверлинами или точечными
выступами. В двух случаях глаза не показаны. Рот иногда показан нарезкой в передней
части головы. Большинство изображений не орнаментировано. Одно имеет на спине
нарезной зигзаговый орнамент (№ 410), другое – покрыто короткими поперечными
нарезками по всей поверхности спины (№ 415). У двух предметов на конце хвоста
высверлены отверстия, у одного – посередине туловища, у одного – сделаны нарезка и
утолщение на конце хвоста. Так как почти все изделия найдены во фрагментах, можно
только предполагать, что подобные приспособления были и у остальных. Размеры
предметов довольно значительны – это нетрудно оценить даже по имеющимся
фрагментам. Самое крупное (целое) изображение составляет в длину 28 см (№ 412). Одни
из самых мелких, будь они целыми, составили бы в длину не менее 15 см.
Территория распространения. Хронология.
Большинство изображений найдено на территории стран Восточной Балтии, одно –
в Северной Беларуси, два – в Ивановской области (рис. 21). Восточно-балтийские
предметы происходят в основном из культурных отложений многослойных памятников,
где присутствует как гребенчато-ямочная и пористая, так и шнуровая керамика. Вероятная
хронологическая принадлежность скульптур к первому или второму слоям
(поздненарвской культуре) подтверждается находкой резной скульптуры змеи в
погребении XII могильника Тамула (№ 408). Она была найдена при вытянутом костяке (а
погребения культуры шнуровой керамики на этих территориях – скорченные),
ориентированном так же, как и некоторые другие погребения содержащие резную
скульптуру, датированные примерно второй половиной III тыс. до н.э. Скульптура из
Асавца II (№ 415) была найдена в слое с керамикой с примесью раковины, отнесенной к
северобелорусской культуре, датируемой концом III – серединой II тыс. до н.э.
(Белорусская археология, 1987). Скульптуры сахтышских стоянок относятся к
волосовской культуре (III тыс. до н.э., скорее – его вторая половина). Таким образом,
резные изображения змей существовали в рамках синхронных культур нео-
энеолитического круга культур второй половины III – начала II тыс. до н.э.:
поздненарвской, северо-белорусской, волосовской.
Функциональное значение.
Как уже неоднократно указывалось исследователями (Loze, 1970; Лозе, 1973), резные
скульптуры змей, снабженные элементами крепления (сверлеными отверстиями,
канавкой), по своей функции, вероятнее всего, являлись подвесками или нашивками.
Возможно, все одиннадцать рассматриваемых изображений и являлись таковыми.
129
Обратим внимание на контекст обнаружения некоторых находок. Изображение из
Тамула (№ 408) было найдено в погребении юноши (XII) и располагалось на груди
костяка, «в районе сердца» (Jaanits, 1957. S. 84). Янтарное изображение из Абора I (№ 409)
было найдено в разрушенном погребении грудного ребенка (№ 18, Loze, 1983). Обломок
скульптуры из Сахтыш II (№ 417) был найден в коллективном волосовском погребении на
стоянке (№ 15) среди остатков костяка женщины (Уткин, Костылева, 2000). Все остальные
находки обнаружены в культурных отложениях стоянок, поэтому можно предполагать,
что эти предметы не являлись исключительно погребальными, а носились постоянно или
использовались в каких-либо особых действиях людьми при жизни. Ломаясь или теряясь,
они оказывались в культурном слое. Предположение исследователей о том, что
скульптуры ломали намеренно, пока не имеет веских доказательств (Уткин, Костылева,
2000).
Смысловое значение.
И.А. Лозе полагала, что восточно-прибалтийские скульптуры изображают как гадюк,
так и ужей. «Признаки» гадюки в скульптуре, по ее мнению, – зигзаговый узор на спине
одной и ребро – на спине другой скульптуры (Loze, 1970). Со своей стороны, автор этой
работы затрудняется дать видовые определения.
Синхронность бытования и сходный (погребальный) контекст обнаружения
предметов этой группы резной скульптуры и других (антропоморфных, птиц,
млекопитающих), позволяют предполагать наличие между ними какого-то рода связей.
Определенное сближение в значении и даже, возможно, некая смысловая
взаимозаменяемость могла бы объяснить такое сходство.
Ретушированные изображения змей (4 экз.).
Само существование этой крайне немногочисленной группы представляется
чрезвычайно спорным, несмотря на то, что регулярно появляются публикации отдельных
новых «находок». Эти предметы не отличаются сходством размеров и форм, что не
позволяет констатировать наличия серии изображений – а значит правомерно ставить под
вопрос само существование таких скульптур. Большинство подобных изделий близко по
формам, например, волосовским «S-видным ножам» с двумя перегибами «лезвия». Четыре
отобранных изделия имеют более трех перегибов, а также расширение на одном из
концов. Они происходят с территории Архангельской и Тверской областей; два первых –
случайные находки (№ 418, 419), остальные найдены в культурных отложениях
многослойного памятника (№ 420, 421) (рис. 21).
130
Рис. 21. Распространение резных, ретушированных и лепных изображений змей.
Лепные изображения змей. (2 экз.)
Эти редчайшие находки (№ 422, 423) со стоянки Пески IVА в Карелии (рис. 21)
имеют аналоги за ее пределами – они известны в Юго-Восточной Финляндии
(Хиетаниеми Луопиойнен, Ряяккиля Перринмекки) и Латвии (Звейсалас, другой
информации по предмету пока нет (Loze, 1970, примечания). Они относятся к кругу
культур гребенчато-ямочной керамики и датируются приблизительно концом IV – первой
половиной III тыс. до н.э. То есть, они существовали в рамках синхронных и родственных
культур. Все они сходны по размеру (диаметр кольца около 3 см) и формам: глиняный
жгут толщиной менее 1 см свернут в плоскую спираль (1-1,5 оборота), а один конец
поднят и изогнут под прямым углом, образуя голову. На голове скульптуры из
Хиетаниеми тремя наколами показаны глаза и рот (Edgren, 1967). Любопытен контекст
131
карельских находок. Они были найдены совместно с антропоморфной скульптурой
головы на керамике, фрагментом сосуда с плоскостными изображениями птиц,
фрагментом лепной скульптуры птицы и небольшим количеством неопределенных
лепных фрагментов на площади около 20 кв.м. в линзе с углистым заполнением. На
стоянках Звейсалас, Хиетаниеми и Ряяккиля Перринмекки помимо указанных предметов
были найдены, соответственно, лепные изображения птицы и млекопитающего;
млекопитающего и антропоморфа; антропоморфа, двух птиц и фрагмента керамики с
изображениями птиц. Таким образом, предположительно, лепные изображения змей
изготавливались не как отдельные вещи, а являлись частью наборов глиняных скульптур
(птиц, млекопитающих, змей, человека), а, возможно, и наборов, включавших еще и
особые сосуды (с плоскостными изображениями птиц и налепными антропоморфными
головами). Являлся ли обнаруженный объект на стоянке Пески IVА местом
складирования негодных, но при этом особых вещей, или же комплект вещей был
помещен туда намеренно – неясно.
Сопоставить изучаемые изображения с данными этнографии сложно. В
представлениях народов Сибири змея (как и выдра, и ящерица) является существом,
обитающим в трех мирах: в воде, на суше и под землей и, поэтому, как всесильное
животное, способно помогать шаману «в дороге» (Прокофьева, 1949. С. 344). В
мифологических представлениях всех народов земного шара змея является хтоническим
существом, связанным с землей, водой и женским началом.
Рассматриваемые изображения, в принципе, могли изготавливаться женщинами
(наряду с сосудами и другими скульптурами, зооморфными и антропоморфными) и,
предположительно, связываться именно с женскими представлениями.
Образ змеи фактически уравнивался (в технике изготовления, способе крепления,
контексте расположения – например, в погребении) с другими – человека, птиц,
млекопитающих. Сходное положение, как кажется, этот образ занимал и в более раннюю
эпоху в составе наборов лепных скульптур – наряду с образами антропоморфов, птиц и
четвероногих. Поэтому вопрос о семантике образа змеи в ту эпоху нужно оставить
открытым.
2. Изображения рыб (10 экз.).
Это самая немногочисленная группа изображений, многие экземпляры которой
могут быть названы изображениями рыб с большой долей сомнения. Резных изделий из
кости насчитывается 3 экз., ретушированных (кремневых) – 7 экз; рыба изображена в
профиль. Все предметы происходят из культурных отложений многослойных поселений.
132
Большая часть условно датируется III – началом II тыс. до н.э. Визуально было изучено
четыре предмета, остальные – по публикациям.
Резные изображения рыб (3 экз.).
Костяные изделия происходят из Латвии, Рязанской и Нижегородской областей (№
424-426) (Loze, 1970; ГИМ «А» Оп. 1806/3623; Альбом Кудрявцева, ГИМ «А». Оп. 2114/1)
(рис. 22). Скульптура № 426 является незаконченной, так как имеет следы шлифовки, но
не полирована. Все изделия сильно уплощены, существенно различаются по размерам и
по соотношению длины и ширины. Условное «туловище» близко к овалу, имеет сужение к
«хвосту», который у одного изображения трехчастный, у остальных двух – раздвоенный.
Рис. 22. Распространение резных и ретушированных изображений рыб.
Изображение № 425 функционально являлось подвеской или нашивкой, т.к. имеет
круглую сквозную сверлину у края «спины» по центру «туловища».
Ретушированные изображения рыб (7 экз.)
133
Существование большей части этой группы представляется чрезвычайно спорным,
несмотря на то, что регулярно появляются публикации отдельных новых «находок».
Морфологическая схема большинства предметов такова: они овальные или линзовидные и
на одном конце имеют «перехват» в виде двух выемок друг напротив друга. Большинство
подобных предметов может быть встречено на любом памятнике с материалами
«волосовского облика», среди которых нередко встречаются отщепы с ретушью и орудия
курьезных форм. Так называемые орудия «с пуговкой» (скребки, ножи и другие) также
могут «скрываться» среди некоторых из этих вещей.
Среди отобранных экземпляров четыре отличаются своими чрезвычайно малыми
размерами, не длиннее 3,8 см, что позволяет с большой долей условности полагать, что
они все же не входили в число орудий «с пуговкой» (№ 427-430) (Карманов, Семенов,
2001; Черных, 1996). Однако их морфологическое сходство с таковыми все же оставляет
сомнения в их изобразительном характере. Предметы найдены на территории республики
Коми, Тверской и Московской областей (рис. 22).
Особое положение занимают три предмета, найденные на близко расположенных
окских стоянках в приграничье Владимирской и Нижегородской областей (рис. 22). Они
происходят из сборов подъемного материала (стоянки Подборица-Щербининская и
Щербинино (возможно, один памятник, Нижегородская обл.), Волосово (Владимирская
обл.), № 432, 433, 431). Они отличаются сходными размерами (7,8 – 5,4 – 6,5 см) и
очевидным морфологическим сходством: тело овально-вытянутой формы немного сужено
к «хвосту», конец которого раздвоен (щербининские стоянки) или имеет вид «пуговки»
(Волосово). Главной особенностью всех трех изображений является наличие двух выемок,
расположенных на краях в средней части туловища друг напротив друга. Это может
свидетельствовать о подвешивании или нашивании этих предметов. Определить породу
рыбы затруднительно из-за схематичной манеры изображения.
Единство этих трех предметов в формах и деталях позволяет видеть в них
действительно серию вероятных изображений рыб. Наличие параллельных сюжетов
(птиц, млекопитающих и, возможно, людей) в костяных подвесках-нашивках и
ретушированной скульптуре лесной зоны Восточной Европы является одной из гипотез,
представленных в этой работе. Можно добавить, что и образ рыбы, видимо, был воплощен
как в костяной подвеске (№ 425, Владычино, Рязанская обл.), так и ретушированной
скульптуре с выемками. Эти наиболее достоверные изображения рыб происходят пока
только из региона Поочья, и, возможно, традиция изготовления скульптур рыб была
ограничена только этим регионом лесной зоны в «волосовском» энеолите (III тыс. до н.э.).
Не исключено, что эти изображения были изготовлены в «постволосовское» время.
134
Почти полное отсутствие изображений рыб в скульптуре малых форм лесной зоны
Восточной Европы является настоящим парадоксом. По мнению большинства
исследователей, связь первобытных верований с важнейшими для древних обществ
промыслами не подлежит сомнению. Неоднократными исследованиями доказано, что
большую, если не ведущую, роль в рационе обществ неолита-энеолита играла именно
рыба (Рыболовство…, 1991). Возникает вопрос: почему рыбу не изображали, в отличие от
лося, птиц и т.д.?
Один из вариантов ответа предложен М.Ф. Косаревым. По его мнению, отсутствие
скульптур рыб в инвентаре культур каменного века Урала и в Сибири, в том числе, и в
монументальном искусстве (писаницы), была связана с нежеланием совмещать земной и
подземный (подводный) мир. Сходные представления, по его мнению, выражены и в
обычаях не смешивать при варке мясо, например, млекопитающих и птиц, или не класть
мяса в сосуд, где лежала сырая рыба (Косарев, 2003. С. 73).
Так или иначе, крайняя редкость подобных изображений может указывать на
особенный характер представлений, связанный с ними. Вероятно, как и в случае с
изображениями медведя в искусстве малых форм (см. главу 3, раздел 2 настоящей
работы), почитание рыбы долгое время могло иметь иные «внешние проявления», не
связанные с созданием их изображений из твердых материалов.
Заключение.
В этой главе был рассмотрен массив нео-энеолитических зооморфных изображений
лесной зоны Восточной Европы (259 экз.), который представлен в каталоге и альбоме, и
подробно описан в разделах главы 3. В соответствии с задачами, поставленными в работе,
зооморфные изображения были разделены на группы согласно различиям в технике
изготовления; в рамках каждой группы были проанализированы их морфологические
различия. Кроме того, были высказаны предположения относительно функционального и
смыслового значения предметов из разных групп. Итоги исследований каждой группы
изображений приведены в конце каждого раздела.
В ходе этого исследования была суммирована вся доступная информация об
источнике и получены новые данные, касающиеся морфологических особенностей
различных зооморфных изображений. Кроме того, была предпринята попытка уточнения
этапов их развития, а также освещена проблема их функциональной и смысловой
интерпретации.
Среди представленных видов животных преобладают птицы (разных пород), в
меньшем количестве представлены млекопитающие (преобладает лось, затем медведь,
135
бобр, куница/лиса (?)), змеи и рыбы. Резные и ретушированные изображения, по-
видимому, существовали синхронно и относились к кругу культур позднего неолита и
энеолита III тыс. до н.э. Графические изображения на керамике и большая часть лепных,
вероятно, появились раньше (в IV тыс. до н.э.) и просуществовали лишь до середины III
тыс. до н.э. Они развивались в рамках круга синхронных и родственных культур среднего
и позднего неолита.
Резные изображения составляют количественное большинство по всем видам
представленных животных. Согласно предлагаемой классификации они были разделены
на четыре основных морфологических группы: полнофигурные подвески (изображающие
птиц, млекопитающих, змей и рыбу), парциальные подвески (изображающие птиц),
полнофигурные навершия (изображены только птицы) и парциальные навершия
(изображены птицы, лось и медведь). Картографирование находок позволило говорить о
том, что парциальные подвески и ряд наверший с головами птиц являются характерными
только для «восточной» территории лесной зоны, а образ медведя в резных предметах –
характерным только для «западной». При этом целый ряд, как подвесок, так и наверший,
был известен на всей изучаемой территории. Морфологические параллели, выявленные в
изображениях различных регионов, позволяют наметить некие протяженные связи.
Лепные изображения в большинстве своем представлены полнофигурными
скульптурами: птиц, млекопитающих (четвероногих) и змей. При их морфологическом
анализе не используется развернутая классификация, а только их соответствие
нескольким предъявляемым критериям. У ряда изображений птиц и зверей выявлена
интересная особенность – наколотое отверстие в туловище. Несколько парциальных
изображений на керамике – голов млекопитающих неясного вида, укрепленных на
венчике – принадлежат к «постволосовскому» энеолиту Волго-Окского региона.
Группа ретушированных изображений (полнофигурных скульптур) представлена в
видовом отношении птицами, млекопитающими (лось, медведь, бобр, куница/лиса (?)) и
рыбами. Истинность скульптур змей из-за недостатка материала остается сомнительной.
При их морфологическом анализе не используется развернутая классификация, а только
их соответствие нескольким предъявляемым критериям. Несмотря на отличие в сырье и
технике изготовления, по своим морфологическим параметрам изображения близки
резным полнофигурным подвескам. На нескольких экземплярах фиксируются парные
выемки. Данные картографирования говорят о том, что эта группа изображений была
распространена исключительно в «восточной» половине лесной зоны.
Группа графических изображений представлена только изображениями птиц на
керамических сосудах. При их морфологическом анализе не используется развернутая
136
классификация, а только их соответствие нескольким предъявляемым критериям.
Различия изображений в деталях позволяют наметить некоторые хронологические
изменения плоскостного образа птицы.
Контекст находок всех четырех видов изображений может свидетельствовать о том,
что изображения были обычны для использования в повседневной жизни, поскольку
большинство находок происходит из культурных отложений памятников и лишь очень
малая часть – из погребений.
Функциональное назначение большинства резных изображений определено
наличием у них элементов крепления: по всей видимости, они подвешивались на шнурке
или нашивались на одежду. Контекст некоторых погребальных находок позволяет
предполагать, что резные зооморфные подвески могли носиться парами, иногда в
комплекте с резными антропоморфными изображениями. Назначение различных
категорий предметов, украшенных зооморфными скульптурами голов (деревянные ковши
с головами птиц и медведей, лосиноголовые «жезлы», птицеголовые «огнива»), пока не
удалось достоверно определить. Видимо, все они имели ритуальный характер.
На использование лепных зооморфных изображений в составе наборов, состоящих из
лепных скульптур (птиц, зверей, змей) и, возможно, сосудов с плоскостными
изображениями птиц и скульптурными изображениями антропоморфных голов может
указывать контекст ряда находок. Надевание скульптур на палочки и парное присутствие
изображений разных видов животных в наборах – пока лишь гипотеза.
Функции сосудов с графическими изображениями птиц пока трудно объяснить. На
их особое, видимо, ритуальное значение, указывает исключительная редкость подобных
находок. Предположительно, сосуды с такими изображениями служили для каких-то
строго определенных действий, так как их размеры и объемы, вероятно, сходны.
Смысловое назначение ряда резных изображений, снабженных креплениями
(подвесок) скорее всего, было охранительным. Они, вероятно, являлись личными
предметами, которые человек носил на себе при жизни и брал с собой в могилу. Подобное
значение мог иметь и ряд ретушированных изображений, имеющих выемки, которые
косвенно свидетельствуют о возможности их крепления.
Среди разнообразных зооморфных наверший, венчающих ковши-черпаки,
«булавки», ножи, лопаточки, весло, гребень, выделяются т.н., птицеголовые «огнива» и
лосиноголовые «жезлы». Крупные размеры этих вещей и их редкость позволяют видеть в
них символические, ритуальные вещи, обладавшие особым статусом (как и, вероятно, их
владельцы).
137
Связь лепных и плоскостных (графических) изображений с керамикой и, таким
образом, с женским производством, заставляет предположить, что в них были отражены
некие специфические женские духовные представления, связанные с домашним
благополучием и деторождением. Согласно данным этнографии, такие представления,
прежде всего, были связаны с образом водоплавающей птицы.
Возникновение зооморфных изображений нельзя рассматривать как
исключительный феномен для эпохи позднего каменного века. Они обнаруживают
определенное сходство с изображениями верхнего палеолита, которое выражается как в
сходстве использованного сырья (кремень, глина, кость, янтарь, зуб млекопитающих),
технологических приемов (ретуширование, лепка, резьба, графика), так, отчасти, и в
морфологическом плане (скульптуры в качестве наверший орудий, круглая скульптура
малых форм), и, частично, в сюжетном плане (образы копытных, хищников, птиц).
Очевидное сходство обнаруживается с резными мезолитическими изображениями лесной
зоны Восточной Европы (например, с предметами из Оленеостровского могильника).
Тем не менее, проведенное исследование не является исчерпывающим. Необходимо
продолжить уточнение культурно-хронологической принадлежности изображений,
выявление с их помощью направления и характера связей между различными
обществами, процесса формирования определенных традиций. Для этого необходимо
привлекать новые источники, а также пытаться уточнить (насколько это возможно)
контекст уже известных находок.
138
Заключение. Роль и значение предметов искусства малых форм в
жизни древних обществ лесной зоны Восточной Европы. В этой заключительной главе все многообразие искусства малых форм рассмотрено
как определенный комплекс предметов, характерный для единой в целом, в плане
хозяйственного и культурного уклада, эпохи. Его сопоставление с системой
мировоззренческих представлений охотников-собирателей-рыболовов Евразии,
реконструированной по этнографическим данным, сможет, хотя бы отчасти, отразить тот
смысл, который этот комплекс имел для нео-энеолитического населения лесной зоны
Восточной Европы.
Территория, включающая в себя Фенноскандию, Восточную Балтию, Северную и
Центральную Россию, судя по многочисленным археологическим данным, составляла в
эпоху финала каменного века единый в культурно-хозяйственном отношении мир со
сходным хозяйственным укладом, орудийно-вещевым набором, и, скорее всего, сходными
духовными представлениями. Важным доказательством последнего тезиса является то,
что на всей этой обширной территории в IV – первой половине II тыс. до н.э. произошел
всплеск искусства малых форм, подобного которому не фиксируется в археологическом
материале ни до этого времени, ни после. Выявить причины такого явления сложно и эта
задача выходит за рамки нашего исследования. В силу разных причин (подходящие
почвенные условия, масштабные и планомерные археологические исследования), на
территории лесной зоны Восточной Европы сохранилась значительная часть предметов,
связанных с духовной жизнью древнего населения. Археологические данные
свидетельствуют о том, что для этой территории в IV – начале II тыс. до н.э. характерен
приблизительно одинаковый набор сюжетов искусства малых форм – это человек, птица,
лось, медведь, бобр, змея, которые широко распространены на территории лесной зоны
Северной Евразии, что, несомненно, также отражает сходные природные условия и
сходный хозяйственный уклад.
Хронология и региональные особенности предметов искусства малых форм.
Развитие искусства малых форм в эту эпоху условно можно разделить на два
(возможно даже сильно «перекрывающих» друг друга) хронологических этапа. К первому,
условно назовем его неолитическим (приблизительно IV – середина III тыс. до н.э.),
относится большинство лепных изображений (антропоморфных и зооморфных,
автономных и зависимых, в том числе плоскостных. Ко второму, условно назовем его
энеолитическим (примерно III – начало (середина?) II тыс. до н.э.), относятся практически
все резные, ретушированные и несколько лепных изображений (антропоморфные,
зооморфные, автономные, зависимые и т.д.).
139
Рассматривая региональные особенности распространения материала, нельзя не
отметить разницы между этими двумя этапами. На первом («неолитическом») этапе
наблюдается единообразие, как сюжетного набора, так и использованного для
изготовления изображений сырья. На втором («энеолитическом») этапе в самых разных,
удаленных друг от друга регионах, сохраняется ряд сюжетных параллелей (образы лося,
водоплавающей птицы, бобра), а использованное сырье становится более разнообразным.
Большинство представленных видов изделий, рассмотренных и систематизированных в
этой работе, сосуществует хронологически, но зоны распространения существенно
различаются.
Образ человека в полнофигурной скульптуре распространен довольно широко.
Однако, изображения головы человека известны только в прибалтийских регионах. Образ
мужчины воплощен в резных скульптурах западной части лесной зоны (Восточная
Балтия, Беларусь, Псковская обл.) и, по-видимому, является хронологически позднейшим.
Крайне немногочисленные плоские резные скульптуры, интерпретированные как
женские, найдены в этой же части рассматриваемой территории и могут датироваться
концом изучаемой эпохи. Однако, для того, чтобы делать выводы о том, что скульптуры с
признаками пола являются наиболее поздними хронологически, данных пока
недостаточно.
Образ водоплавающей птицы – единственный из «птичьих», известный на
территории Восточной Балтии и Русского Севера. В Центральной России наблюдается
многообразие этих изображений: известны изображения как водоплавающей, так и
болотной и боровой птицы. Такая категория предметов, как «огниво» с головой
водоплавающей птицы, известна только здесь.
Образ медведя в полнофигурной и парциальной скульптуре совершенно отсутствует
в Центральной России, однако встречается в западной зоне (Восточная Балтия, Псковская
обл.) и продолжает существование в Фенноскандии, Карелии и на Русском Севере в эпоху
ранней бронзы.
Исследователи, рассматривая эти материалы, не раз отмечали прямую зависимость
выбора определенного вида сырья от степени его доступности. Прежде всего, это касалось
особенностей распространения кремневой скульптуры (Ошибкина, 1978; Студзицкая,
1985). На сегодняшний день стало известно, что обмен сырьем (кремнем, янтарем,
асбестом) на изучаемой территории достиг значительного распространения именно в III
тыс. до н.э. (Жульников, 1999). Ценность и престижность янтаря превосходила остальные
материалы. Свидетельство этому – то, что пуговицеобразные подвески, кольца и ряд
других простых форм известны на Средней Волге и Кольском п-ве – очень далеко от мест
140
добычи. Зооморфные и антропоморфные янтарные подвески, помимо восточно-
балтийского региона, известны в Южной и Юго-Восточной Финляндии. От Лубанской
низменности до оз. Саимаа расстояние примерно такое же, как до Московской области.
Однако нигде в Европейской России янтарных скульптур пока не найдено.
Что касается залежей качественного кремня, территориям Восточной Балтии было
далеко, например, до Валдайской возвышенности, однако и там (в Восточной Балтии)
кремень обрабатывался и использовался шире, чем, например, сланец и кварцит в
Карелии, Финляндии и Швеции. При этом на территории Восточной Балтии до сих пор не
найдено ни одного ретушированного изображения – даже из кварцита или сланца. Из
этого следует, что сырье распространялось гораздо шире, чем изображения из него, а
также, возможно, что изображения распространялись по другим «законам», нежели сырье.
Таким образом, региональные различия, как в сюжетах, так и в использованном
сырье, скорее определялись востребованностью разных категорий вещей в духовной
жизни конкретного населения, а не наличием или отсутствием определенного вида сырья.
Вероятно, особенности направлений обменных и иных (например, брачных) связей между
регионами играли в этом процессе не последнюю роль.
Кроме того, во всех группах изображений из разных материалов со временем в силу
разных причин могли происходить некоторые морфологические изменения. Пока их
удалось зафиксировать только для глиняных антропоморфных изображений. Из-за
нехватки данных о датировках, контексте находок, из-за ограниченного количества самих
предметов, говорить как об изменении форм, так и о всплеске или упадке самого образа,
пока сложно.
Некоторые исследователи считают, что понять семантику изображений без наличия
синхронного или хронологически близкого письменного текста невозможно (Антонова,
Раевский, 1991). Относительно близкими текстами могут считаться этнографические
данные, связанные с историей финно-угорских народов. Предполагается, что некоторые
группы местного неолитического населения участвовали в их сложении (Напольских,
1997; Kosarev, Kuzminykh, 2001). Этнографические данные о коренных народах Сибири и
Дальнего Востока отчасти также отражают черты духовного мира, общие для подобного
жизненного уклада. Однако, эти данные очень отрывочны, так как их древнейший,
«охотничий» пласт сильно «засорен» элементами позднейшей русской культуры у карел и
саамов, кочевой ираноязычной – у уральских народов, тюркской – у народов Сибири.
Поэтому рассчитывать на сколько-нибудь полную реконструкцию мифологии
исследуемого общества невозможно, тем более на воссоздание ее конкретных сюжетов.
141
Речь пока может идти лишь о проникновении в принципы мировосприятия носителей этой
мифологии (Антонова, Раевский, 1991. С. 223).
Попытаемся выявить то общее, те знаковые, символические образы, значение
которых сохранялось неизменным в мифологии обществ охотников и собирателей лесов
Северной Евразии независимо от культуры или региона.
Предметы искусства малых форм: игрушки или…
Принадлежность любой группы предметов первобытного искусства малых форм к
детской игрушке вызывает неизменный протест исследователей (Иванов, 1949b; Богораз,
1949; Кулемзин, Лукина, 1992; Косарев, 2003). У некоторых народов детям прямо
запрещалось играть изображениями человека. По представлениям других обществ, игра
девочки с куклой являлась необходимым условием возрождения умершего предка, чей
дух поселялся в этой кукле. Формально являясь игровым предметом, такая кукла
одновременно была и изображением умершего, и вместилищем его души (Иванов, 1949b).
То же самое касается и зооморфных изображений. Изготовление зооморфных
скульптур в качестве жертвенных предметов характерно для промысловых культов
разных народов. Только у оленеводов существовала традиция изготовления игрушек-
«стада» оленей для мальчиков (Попов, 1949). Невозможно представить себе «стадо»
лосей, медведей и уток в руках ребенка охотников-собирателей. Как правило, в
традиционных обществах дети крайне рано приобщались к хозяйственной жизни. Их
типичные игрушки – это уменьшенные копии утвари, орудий труда и оружия (Иванов,
1949b). Среди находок в культурных отложениях поселений нео-энеолита иногда
встречаются миниатюрные сосуды и наконечники стрел. Возможно, что они и были
игрушками.
Ряд найденных на поселениях скульптур (например, птиц) несет следы окраски
охрой. Крайне важная роль охры в ритуалах, зафиксированная еще с эпохи палеолита, тем
более не позволяет относить подобные предметы к игрушкам.
Человек: мужчина и женщина.
Одним из важнейших принципов человеческого мировосприятия с самых
древнейших времен является «дихотомия», т.е., двойственное восприятие: двойственное
восприятие всех аспектов жизни и окружающего мира (Иванов, 1978). Одним из видов
такой дихотомии является подразделение на «мужское» и «женское». Дихотомия
«мужское-женское» и двоичная знаковость зооморфных образов прослежена еще в
искусстве верхнего палеолита. Поэтому, вполне вероятно, что подобные представления о
разных группах предметов могли существовать и в нео-энеолите лесной зоны Восточной
Европы.
142
Согласно многим этнографическим данным о народах Северной Евразии, черты
этого подразделения проявляются в самых разных сторонах хозяйственной и духовной
жизни людей. Имеются данные, позволяющие выделять следы существовавшей в
историческом прошлом «женской» культуры с характерным для нее особым «языком», с
женским архаическим эпосом и другими специфическими элементами материальной и
духовной культуры» (Лебедева, 1982. С. 33). Существование определенной «мужской»
культуры, связанной, прежде всего с промыслами, но, наверняка обладавшей всеми
перечисленными чертами, также бесспорно. Взаимодействие обеих видов культуры
регулировалось разнообразными запретами, например: не брать мужского оружия,
беременной не есть мясо медведя и т.д. Хотя перечень таких запретов вроде бы касается
главным образом женщин, этнографы не раз приводили свидетельства важного значения
женского родства в прошлом разных сибирских народов: лингвистические следы
существования матрилокального брака, подчеркнуто уважительное отношение к
родственникам по матери (особенно к дяде) и старым женщинам (на медвежьем
празднике) (Василевич, 1957; Потапов, 1949; Лебедева, 1982).
Образ человека.
Антропоморфные персонажи в искусстве коренных народов Северной Евразии
олицетворяли целую группу существ: духов-охранителей, духов-хозяев угодий, умерших
предков и ряд других сходных по смыслу образов (Косарев, 2003. С. 226, 229). Все эти
персонажи были близки друг другу функционально и, видимо, по смыслу, который
состоял в том, чтобы быть рядом с людьми, принимать от них знаки внимания,
содействовать их благу. Они могли быть связаны как с отдельным человеком, так и с
целой семьей или родом. Вероятно, именно духи-охранители могли быть воплощены в
резных (а возможно и ретушированных) антропоморфных изображениях лесной зоны
Восточной Европы.
Понятия о человеческой душе у традиционных обществ Урала и Сибири были
многообразны. Наиболее универсальны представления о новорожденной, младенческой
душе. Ее попадание в женскую утробу происходит посредством солнечных лучей или
дыма домашнего очага. В ритуалах, связанных с деторождением, глина использовалась
наряду с другими материалами для изготовления фигурок, олицетворяющих ребенка
(Косарев, 2003). Фантастическая («эмбрионовидная», птице- и червеобразная) форма
ранних лепных изображений может указывать на вероятное существование в то время
представлений о младенческой душе, сходных с теми, которые известны по
этнографическим данным.
143
Связь лепных антропоморфных изображений нео-энеолита с женским
производством, жилищем, очагом, сосудом позволяет рассматривать их как одно из
свидетельств существования в нео-энеолите культа родового огня и домашних
покровителей, способствовавших благополучному исходу родов, охране рожениц, дома,
очага, находящегося в доме имущества и детей (Иванов, 1955. С. 256).
Судя по данным этнографии, образ синкретического антропо-зооморфного существа
был чрезвычайно широко распространен в искусстве и мифологии народов Северной
Евразии. Пока он совершенно не известен в мезолитической скульптуре. В
рассматриваемых археологических материалах он также отсутствует. Находки единичных
ретушированных антропоморфных изображений с рогами и уникального зооморфного с
удлиненными «ногами» пока не дают оснований для утверждения о его существовании.
Образ птицы.
Образ птицы, несомненно, являлся одним из важнейших в мировоззренческих
представлениях народов Северной Евразии. Фактически, он находился во главе
мироздания, так как главным героем универсального мифа о сотворении мира всегда
является водоплавающая птица (гагара, гусь) (Карельское…, 1982; Косарев, 2003).
Глобальная, всемирная, «положительная» роль образа птицы проявлялась повсеместно в
самых разных культурных аспектах – вплоть до современности.
Прямая связь образа птицы с представлениями о человеческой душе многократно
демонстрируется в ритуалах и текстах самых разных народов. Иногда душу человека,
покидающую тело во сне, олицетворяет не только водоплавающая, но и боровая птица,
например, глухарь (Кулемзин, Лукина, 1992). В урало-сибирских представлениях о
новорожденной, младенческой душе образ птицы является универсальным: души-птицы
сидят на родовом дереве, по очереди «слетая» к женщинам своего рода, или направляются
к ним посредством солнечных лучей или сверхъестественным существом (Лебедева, 1982;
Косарев, 2003). В текстах плачей умерший ребенок называется птичкой, уточкой
(Карельское…, 1982). Предполагалось, что душа умершего младенца сразу поднимается в
небо, поэтому у ряда обществ известен обычай прикрепления к телу (люльке, одеждам)
птичьего крыла (Косарев, 2003). Находки в детских погребениях могильников Тамула
(Эстония) и Ведбек (Дания) костей крыльев журавля позволяют предполагать
чрезвычайно древнее существование сходного комплекса представлений о птице-душе на
территориях Северной и Восточной Европы.
Птица – это образ, несомненно, связанный с «женской» культурой. Глиняные
скульптуры в составе наборов (состоявших из скульптур птиц, змей, млекопитающих и
человека) и плоскостные изображения водоплавающих птиц на сосудах – возможные
144
продукты женского гончарства – вероятно, являлись ее частью. Предполагаемые
ритуальные «огнива», украшенные птичьей головой, также могли иметь отношение к
женским предметам и связываться с почитанием домашнего очага, который всегда был
персонифицирован у народов Урала и Сибири как женщина («Мать-Огонь») (Кулемзин,
Лукина, 1992). Многочисленные подвески-нашивки в виде птиц, найденные в
Центральной России и Восточной Балтии, могли, вероятно, связываться с
представлениями о птице-душе. Возможно, они носились повседневно и олицетворяли
душу конкретного человека.
Образ лося.
Этот образ тоже являлся одним из главнейших в представлениях народов Северной
Евразии. Неизменно сохраняемое им лидерство в промысловой иерархии на протяжении
тысячелетий определило круг его значений. Это – «положительный», космический,
календарный, ойкуменический образ.
Как правило, у народов Урала и Сибири лось ассоциировался с солнцем и созвездием
Большой Медведицы («Лося») – главными ориентирами в пространстве. Универсальный
сюжет преследования чудесного лося могучим охотником (Карельское…, 1982;
Окладников, 1949) является не столько отражением «промыслового» мифа или
календарного (весеннего) празднества, сколько метафорой бега времени, жизненного и
природного цикла. Ойкуменическое восприятие этого образа отражено в представлениях о
земной поверхности как спине фантастического лося, а также в фольклорных текстах с
эпизодом превращения преследуемого чудесного лося в различные «блага» – дом, собак,
богатство (Аврорин, Козьминский, 1949; Лебедева, 1982; Карельское…, 1982). Вероятно,
это связано с устойчивым хозяйственным принципом максимально эффективного
использования добытого лося, который зафиксирован и археологически. Рог и
большинство костей (ребра, трубчатые кости, метаподии) шли на изготовление орудий,
зубы – на украшения, мясо – на еду, шкура – на одежду и т.д.
Образ лося как существа, олицетворяющего мировой порядок, возможно, был
известен еще с мезолитической эпохи и сохранялся очень длительное время. Об этом
могут свидетельствовать находки лосиноголовых «жезлов» крупных размеров на
памятниках мезолита-бронзы, возможно, принадлежавших общественным «лидерам».
Сложным вопросом является «безрогость» всех известных мезо-нео-энеолитических
лосиных резных скульптур лесной зоны Восточной Европы. Разумнее было бы
предположить, что изображен не самец в краткий период сброса рогов, а самка – лосиха
(или, возможно, в ряде случаев, лосенок). У многих северо-евразийских народов солнце
ассоциировалось с женским началом, поэтому, учитывая связь образа лося с солярным
145
культом, можно полагать, что население лесной зоны Восточной Европы почитало лося
именно в облике самки. Возможно, часть изображений лося могла иметь отношение к
«женской» культуре. Так украшение носовых частей лодок головами лося – обычай,
распространенный, судя по археологическим находкам и изображениям петроглифов, с
мезолита до эпохи бронзы (Erä-Esko, 1958; Равдоникас, 1936) – помимо «одушевления»
лодки, мог демонстрировать ее «женскую» природу (в универсальном семантическом
ряду «лодка-сосуд-люлька-женская утроба»).
Образ медведя.
Общая негативная окраска этого образа, тем не менее, не мешает ему находиться, как
и образу лося, в центре мировоззренческих представлений. Несравненно меньшее
промысловое значение медведя по сравнению с лосем зафиксировано и
археологическими, и этнографическими данными. Выдающиеся видовые качества
медведя («Сила двух мужчин, ум – одного» (Карельское…, 1982)) с одной стороны,
всячески сближали его с человеком, с другой – противопоставляли. Именно поэтому
универсальные представления о медведе двояки: он и вождь всего животного мира, и
хозяин потустороннего мира. Обряды распространенного по всей Северной Евразии
«медвежьего праздника» были связаны с обоими направлениями (Таксами, 1975; Косарев,
2003).
Возможное почитание медведя как потустороннего существа могло иметь место еще
в неолите-энеолите: его скульптурные изображения полностью отсутствуют на всей
исследованной территории и появляются только на рубеже энеолита и раннего бронзового
века в резной скульптуре «западной» лесной зоны и ретушированной волосовской
скульптуре (в очень малом количестве). Возможно, существовал запрет на его
изображение. (Это сближает образ медведя с образом рыбы, который тоже появляется,
видимо, только в волосовском искусстве, а раньше – неизвестен.) Ни разу, включая
изображения на топорах-молотах эпохи ранней бронзы, у него не изображены глаза (хотя
рельефно выделены надбровия), что нехарактерно для всех остальных образов – лося,
птицы, человека.
В целом образ медведя может рассматриваться в рамках «мужской» культуры, по
крайней мере, на рубеже рассматриваемой эпохи. Вероятно, появление на «западных»
территориях лесной зоны Восточной Европы резных скульптур медведя произошло
синхронно с подчеркнуто мужскими скульптурами. Дальнейшее развитие образа медведя
проявляется в топорах-молотах эпохи ранней бронзы – ритуальном (мужском?) оружии.
Положение медведя и лося в иерархии почитаемых образов следует считать равным:
прежде всего, это два самых крупных зверя в евразийских лесах. Охотничьи обряды,
146
связанные с ними, были сходными (захоронение останков, черепа) (Окладников, 1949).
Распространенные сибирские представления о фантастическом ящере-мамонте
предполагали возможное превращение в него как лося, так и медведя; наконец созвездие
Большой Медведицы носило еще и название Лося (Сенкевич-Гудкова, 1949).
Есть все основания, чтобы рассматривать лося и медведя в контексте универсальной
дихотомии. С лосем и медведем у большинства народов Северной Евразии
ассоциировались: солнце и луна, небо и подземный мир, женщина и мужчина.
Образы бобра, змеи и рыбы.
Эти образы занимают подчиненное положение по отношению к предыдущим и
гораздо реже упоминаются в различных текстах. Все они представляют водно-подземный
пласт Вселенной – сферу обитания сверхъестественных хтонических существ, которые
повсеместно занимают особое место в древних воззрениях. Кроме того, эти животные
являются посредниками между земным и подземным (или подводным) мира (Косарев,
2003). Ввиду их особой смысловой значимости, представляется, что все остальные
функции и роли этих животных у разных народов могли мыслиться по-разному.
Немногочисленные изображения млекопитающего неясного вида (куницы/лисы?),
выполненные в лепной, резной и ретушированной скульптуре, указывают на постоянное
место этого образа в мифологии и духовных представлениях нео-энеолитического
населения. К сожалению, в этнографических данных этот образ, по-видимому, никак не
фигурирует.
Проанализировав ряд общих представлений народов Северной Евразии, нам удалось
предположительно охарактеризовать различные категории изученных изображений как
определенные знаки-символы, связанные с «женской» и «мужской» культурой, несущие
как личные и общественные функции. Таким образом была намечена самая общая модель
духовных представлений эпохи неолита–энеолита и доказана ее непосредственная связь с
представлениями и ритуальными вещевыми комплексами исторических народов Северной
Евразии, данные о которых подкреплены письменными данными.
Искусство малых форм неолита–энеолита как знаковая система.
Отдельные образы, воплощенные в разных категориях изображений, могли
осмысливаться несколько по-разному, например: лось – как мировой порядок, символ
лидера («жезлы») или душа лодки (головы лося на носах лодок), птица – как собственная
душа человека (резные подвески) или как душа очага («огнива»), человек – как младенец
(лепная скульптура) или как личный дух-охранитель и предок (резная скульптура).
Однако контекст целого ряда находок свидетельствует о том, что существовали
гораздо более сложные и непонятные нам представления, в которых был задействован не
147
один образ, а сразу несколько разных. Речь идет о наборах лепных скульптур, которые,
вероятно, включали в себя изображения человека, птицы, зверя и змеи. Также следует
вспомнить находки в погребениях групп изображений-подвесок: людей и птиц, разных
пород птиц, разных пород зверей – намеренно помещенных вместе.
В этнографических исследованиях, связанных с народами Северной Евразии,
большинство наборов скульптур связывается с двумя основными объектами. Скульптуры-
подвески соотносятся, как правило, с шаманским костюмом, а большая часть других
изображений – с жертвенными местами.
Проблема шаманства не раз затрагивалась при обсуждении искусства малых форм
лесной зоны Восточной Европы (Уткин, Костылева, 1996, и др.). Однако следует
согласиться с мнением С.В. Студзицкой и С.В. Кузьминых о том, что в эпоху неолита-
энеолита еще не может идти речи о сложении шаманского костюма и представлений
шаманизма (Студзицкая, Кузьминых, 2001). Согласно материалам погребений, изученные
подвески-нашивки носились мужчинами, женщинами и детьми, причем, наверняка, они
использовались и в повседневной жизни, так как некоторые предметы сильно залощены.
Они ломались, чинились и часто терялись владельцами. Это позволяет характеризовать их
как ординарные предметы, не имеющие ничего общего с особым, обильным и редким (!)
шаманским комплектом.
И наборы лепных скульптур, и резные подвески, которые являются «знаковыми»
предметами двух разных хронологических этапов, в какой-то степени уравнивает единый
набор представленных образов: человек, птица, зверь (некрупное млекопитающее) и змея.
Причем подвески встречаются и в сочетаниях, то есть, тоже формируют своего рода
наборы, состоящие из: 1)человека и двух птиц, 2) двух птиц, 3) бобра и куницы/лисы (?).
И здесь, и в составе наборов лепной скульптуры отчетливо выражена важная роль
парности: парные змеи, парные птицы, парные человеческие изображения на сосудах.
Также не исключена возможность существования парных автономных скульптур человека
(например, в резьбе).
Воспроизведение целого ряда образов через скульптурные наборы указывает на
существование в неолите–энеолите лесной зоны Восточной Европы неких сложных
мировоззренческих представлений, базирующихся на целом ряде антропоморфных и
зооморфных «кодов».
Анализируя комплекс автономных изображений во всей его полноте нельзя не
отметить, что образы человека, птиц, млекопитающих и змей в нем фактически
«уравнивались» (в технике изготовления, способе крепления, контексте расположения в
погребениях на костяке, самом факте помещения в состав «глиняного» набора). Такое же
148
«уравнивание» можно отметить и для сопряженных изображений – предметов со
скульптурными навершиями: на ковшах, ложках, гребнях располагали головы и птиц, и
медведей (гребни с изображениями птичьих голов известны на Кольском п-ве в эпоху
раннего металла).
Следовательно, разные образы могли замещать друг друга, фактически, в одной и
той же ситуации (например, похороны, ношение предметов на себе при жизни,
зачерпывание чего-либо, расчесывание). Почему так происходило? Предположение о том,
что разное значение придавалось разным образам в связи со сменой традиций во времени,
зыбко (Студзицкая, 1971). Из погребений одного хронологического этапа на территории
одного могильника (Тамула, Звейниеки, Сахтышские стоянки) происходят самые
разнообразные подвески-нашивки, находившиеся на шее или затылке, но передававшие
разные образы. Можно допустить, что в этих явлениях отражена непонятная нам знаковая
система. Ее основные знаки-образы (человек, птицы, млекопитающие, змеи) оставались
неизменными на обоих хронологических этапах (нео- и энеолитическом). От второго
этапа сохранилось гораздо больше материалов, самые значимые из которых – подвески-
нашивки из погребений и поселений. Предположим, в нашивных/подвесных
изображениях разных существ отражались знаки обладания их владельца скорее
определенным социальным (а не к половым или возрастным – судя по материалам
погребений) статусом. Из-за многочисленности изображений птиц можно думать, что они
символизировали некое «среднее» социальное положение. Лоси и медведи
символизировали бы высший статус (их очень мало в подвесках, но они представлены на
жезлах мезолита-бронзы и топорах-молотах ранней бронзы), бобры, куницы/лисы(?) и
змеи – возможно, более низкий. Такая упрощенная вертикальная иерархия образов может
быть построена согласно универсальным северо-евразийским охотничьим воззрениям на
Вселенную и ее зооморфные символы (рис. 23). Место образа человека в этой схеме
неясно. Она – всего лишь предположение, поскольку данные, необходимые для решения
этих вопросов на конкретном археологическом материале, практически отсутствуют.
Иерархические знаковые изобразительные системы известны в земледельческом
неолите-эпохе ранней бронзы (Балабина, 1998). Существование подобных систем в
древнейших и древних обществах охотников и собирателей подразумевается
исследователями с эпохи верхнего палеолита (Столяр, 1985 и др.). Возможно, следует
говорить о наличии особой изобразительной знаковой системы в лесном неолите-
энеолите, выраженной в создании наборов лепных и резных скульптур.
149
В связи с контекстом находок наборов глиняной скульптуры и ряда других
изображений необходимо рассмотреть вопрос о жертвенных местах. Согласно
многочисленным этнографическим данным скульптура малых форм довольно часто имела
функцию жертвенного предмета (Иванов, 1970). Ими могли быть не только зооморфные
изображения, жертвуемые в рамках промысловых обрядов «хозяину зверей» как «замена»
убитых животных, но и антропоморфные изображения, фактически, «жертвуемые»
покойным сородичам в качестве места обитания их души. Подобные действия были
призваны поддержать равновесие, гармонию мира: «…изображение мифических предков,
150
образов этиологических и космологических мифов, должно было способствовать
устойчивости мира, изобилию, благу» (Антонова, 1980. С. 52).
Помимо предположительно жертвенных объектов неолитического времени на
поселениях, в составе которых были найдены наборы лепных скульптур, несколько
подобных объектов известно для более позднего, энеолитического периода. К сожалению,
в обоих случаях эти объекты были исследованы по методике, которая не предполагала
точной фиксации всех культурных остатков, поэтому данные очень отрывочны (Крайнов,
1992; Цветкова, 1973). Вероятно, это были площадки (или ямы), возможно, недалеко от
погребений. На площади этих объектов обнаружены кости и определенные части туш
животных (черепа лося, медведя, бобра, куницы), а также некоторые экземпляры резной
(и ретушированной?) скульптуры, среди которой – «жезлы» с головой лося, зооморфные
предметы разного сюжета (лось, птица, бобр, куница/лиса?) и другие изделия.
Возможно, таким образом, целый ряд изображений мог иметь двойную функцию:
использоваться по прямому назначению, например, нашиваться на одежду как резные
подвески, или размещаться у очага, как глиняные антропоморфные скульптуры, или
отдаваться, помещаться вместе с другими подобными предметами в определенное
«жертвенное место». Такое же двоякое назначение связывается с ритуальными топорами-
молотами, украшенными головами лося и медведя: они могли быть и ритуальным
оружием (скипетром), и помещаться в какое-то специальное место вне пределов
поселения (Жульников, 2003).
Глубокий след, оставленный в культуре и изобразительном искусстве населением
эпохи неолита–энеолита, прослеживается на территориях лесной зоны Северной и
Восточной Европы еще очень долгое время. В эпоху ранней бронзы многие черты резной
антропоморфной и зооморфной скульптуры переходят к изображениям Северной
Норвегии и Кольского полуострова (Гурина, 1997), Финляндии, Карелии, Русского Севера
(зооморфные топоры-молоты, лыжи, ковши), фатьяновской культуры Центральной России
(топоры с изображениями медведя). В более поздние эпохи отголоски этих же традиций
(глиняные скульптуры, резные изображения хищников, птицы-подвески) можно заметить
в дьяковских и средневековых финно-угорских древностях.
Благодарности.
Автор сердечно благодарит за помощь и поддержку в проделанной работе: Н.Б.
Леонову, С.В. Студзицкую, С.В. Ошибкину, Ю.Б. Цетлина, А.Е. Кравцова, А.В.
Емельянова, Е.Д. Каверзневу, Л.В. Кашину, А.В. Козлову, В.И. Балабину, В.В. Сидорова
(Москва), В.Я. Шумкина, А.Н. Мазуркевича, А.Д. Столяра, В.И. Тимофеева, Т.А. Попову,
В. Базарову (Санкт-Петербург), А.М. Жульникова, М.М. Шахновича, И.Ф. Витенкову,
151
Н.В. Лобанову, В.Ф. Филатову (Петрозаводск), В.В. Ставицкого (Пенза), А.В. Шипилова
(Казань), В.В. Бейлекчи (Муром), А. Гонозова (Нижний Новгород), И.Н. Черных (Тверь),
В.Н. Карманова (Сыктывкар), С.В. Белову (Волоколамск), М.М. Чернявского (Минск), Т.
Остраускаса (Вильнюс), М. Лавенто, Т. Карьялайнена (Хельсинки), Л. Папмель-Дюфэ
(Стокгольм).
152
Список использованной литературы
Аврорин В.А., Козьминский И.И. Представления орочей о вселенной, о переселении душ
и путешествиях шаманов, изображенные на «карте» // Сборник музея антропологии и
этнографии. М.-Л., 1949. XI.
Альбом рисунков из коллекции каменного века П.П. Кудрявцева. ГИМ, группа «А». Оп.
№ 2114.
Андреева Е. Фауна древней стоянки Черная Гора // Бюллетень Московского Общества
испытателей природы. М., 1974. Отделение биологии. Т. 79. Вып. 4.
Антонова Е.В. Антропоморфная скульптура древних земледельцев Передней и Средней
Азии. М., 1977.
Антонова Е.В. 1980. К реконструкции мировосприятия обитателей Анатолии (на
материалах Чатал-Хююка) // Идеологические представления древнейших обществ (тезисы
докладов). М.
Балабина В.И. Фигурки животных в пластике Кукутени-Триполья. М., 1998.
Белорусская археология. Минск, 1987.
Беспалова Т.И. и др. О работах в Псковской области // АО-1976. 1977.
Большов С.В. и др. Работы Марийского республиканского краеведческого музея в зоне
водохранилища // Археология и этнография Марийского края. (Археологические работы в
зоне Чебоксарского водохранилища.) Вып. 15. Йошкар-Ола, 1989.
Брюсов А.Я. История древней Карелии. М., 1940.
Брюсов А.Я. Свайное поселение на реке Модлоне и другие стоянки в Чарозерском районе
Вологодской области // МИА. 1951. № 20.
Буров Г.М. Вычегодский край. Очерки древней истории. Сыктывкар, 1965.
Ванкина Л.В. Торфяниковая стоянка Сарнате. Рига, 1970.
Ванкина Л.В. Янтарные амулеты каменного века из окрестностей города Риги //
Изыскания по мезолиту и неолиту СССР. Л., 1983.
Василевич Г.М. Древние охотничьи и оленеводческие обряды эвенков // Сборник музея
антропологии и этнографии. М.-Л., 1957. XVII.
Витенкова И.Ф. Хозяйство и искусство каменного века-раннего металла // Археология
Карелии. Петрозаводск, 1996.
Витенкова И.Ф. Памятники позднего неолита на территории Карелии. Петрозаводск, 2002.
Габяшев Р.С. Новые материалы с Тенишевского могильника // Археологические
памятники зоны водохранилищ Волго-Камского каскада. Казань, 1992.
Габяшев Р.С., Беговатов Е.А. Тенишевский (Сорокин Бугор) энеолитический могильник //
Новые памятники археологии Волго-Камья. АЭМК. Йошкар-Ола, 1985. № 8.
153
Гадзяцкая О.С. Костяные изделия стоянки Сахтыш II // КСИА. 1966. Вып. 106.
Гадзяцкая О.С., Крайнов Д.А. Энеолитическое поселение Стрелка I в бассейне р. Клязьмы
// РА. 2002. № 2.
Гирининкас А. Крятуонас. Средний и поздний неолит. Археология Литвы. Вильнюс, 1990.
VII.
Гонозов А.В. Кремневые фигурки из фондов Павловского краеведческого музея //
Тверской археологический сборник. Тверь, 2003. Вып. 5.
Гонозов А., Косарева М. «Каменная летопись» – страницы тысячелетней истории (буклет
выставки). Нижний Новгород, 2002.
Гурина Н.Н. Энеолитические поселения у Повенца Медвежьегорского района //
Археологический сборник (ред. А.Я.Брюсов). Петрозаводск, 1947.
Гурина Н.Н. Оленеостровский могильник // МИА. 1956. № 47.
Гурина Н.Н. Древняя история северо-запада Европейской части СССР. МИА. 1961. № 87.
Гурина Н.Н. История культуры древнего населения Кольского полуострова. Спб., 1997.
Древние охотники и рыболовы Подмосковья. (По материалам многослойного поселения
эпохи камня и бронзы Воймежное I.) М., 1997.
Древности Северо-Запада России. Каталог выставки. Спб., 1995.
Жиганов М.Ф. Память веков. Саранск, 1976.
Жульников А.М. Энеолит Карелии (памятники с пористой и асбестовой керамикой).
Петрозаводск, 1999.
Жульников А.М. О находке в Прибеломорье фигурного топора-молота с обухом в виде
головы медведя // Тверской археологический сборник. Тверь, 2002. Вып. 5.
Жульников А.М., Спиридонов А.М. Древности Петрозаводска. Петрозаводск, 2003.
Журавлев А.П. Скульптурки и некоторые другие глиняные изделия из энеолитического
поселения Вигайнаволок 1 // Археологические исследования в Карелии. Л., 1972.
Журавлев А.П.. Об орнаменте сосуда со стоянки Пегрема II // СА. 1976. № 3.
Журавлев А.П. Пегрема. Петрозаводск, 1991.
Загорскис Ф.А. Костяная и роговая скульптура из могильника Звейниеки // Изыскания по
мезолиту и неолиту СССР. Л., 1983.
Загорскис Ф.А. Раскопки стоянки Оса // АО-1982. 1984.
Замятнин С.Н. Миниатюрные кремневые скульптуры в неолите северо-восточной Европы
// СА. 1948. X.
Земляков Б.Ф. Археологические работы Академии на новостройках в 1932-1933 гг. Л.
1935. Вып. 109.
Зимина М.П. Неолит бассейна реки Мсты. М., 1981.
154
Зимина М.П. Запад Русской равнины // Искусство каменного века. (Лесная зона
Восточной Европы). М., 1992.
Иванов В.В. Чет и нечет. М., 1978.
Иванов С.В. Мамонт в искусстве народов Сибири // Сборник музея антропологии и
этнографии. М.-Л., 1949a. XI.
Иванов С.В. О значении двух уникальных женских статуэток американских эскимосов //
Сборник музея антропологии и этнографии. М.-Л. 1949b. XI.
Иванов С.В. Скульптура народов Севера Сибири XIX- первой половины XX вв. Л., 1970.
Иверсен В.М. Новые вещи Волосовской стоянки доисторического человека // ЗОРСА.
Спб., 1903. Т. V. Вып. 1.
Иностранцев А.А. Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера.
Спб., 1882.
Исаенко В.Ф. Неолит Припятского Полесья. Минск, 1976.
Каверзнева Е.Д. Неолитическая стоянка в карьере на Масловом болоте (по материалам
ГИМ) // Тр. ГИМ. 1987. Вып. 74.
Каверзнева Е.Д. Шагарский могильник конца III-начала II тыс. до н.э. в Центральной
Мещере // РА. 1992. № 3.
Каверзнева Е.Д., Емельянов А.В. Предметы искусства и украшения с поселения Шагара II
в Озерной Мещере // Археологические памятники окского бассейна. Рязань, 1996.
Карабельников Д.В., Москвин А.Ю. К вопросу о культе водоплавающей птицы на
Евразийском Северо-Западе. Нижний Новгород, 2004.
Карельское народное поэтическое творчество (подготовка и перевод текстов В.Я.Евсеева).
Л., 1982.
Карманов В.Н., Семенов В.А. Миниатюрная кремневая скульптура на памятниках
Европейского Северо-Востока // Археология в пути. СПб., 2001. Т. 2.
Кашина Е.А. Глиняные антропоморфные изображения финала каменного века на
территории России и стран Восточной Прибалтики // Чтения, посвященные 100-летию
деятельности В.А.Городцова в Государственном Историческом музее. Тезисы
конференции. М., 2003. Ч. 1.
Кашина Е.А., Емельянов А.В. Костяные изображения птиц финала каменного века
Мещерской низменности // Проблемы древней и средневековой археологии Окского
бассейна. Рязань, 2003.
Кириллова И.В. Фауна поселения Шагара II // Тезисы докладов Отчетной сессии
Государственного Исторического музея по итогам полевых археологических
исследований и новых поступлений в 1991-1995 гг. М., 1996.
155
Ковнурко Г.М. Некоторые сведения о кремневых выходах на территории Европейской
части СССР // Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны Европейской части
СССР в эпоху неолита. МИА. 1973. № 172.
Кириллова И.В. Фауна поселения Шагара II // Тезисы докладов Отчетной сессии
Государственного Исторического музея по итогам полевых археологических
исследований и новых поступлений в 1991–1995 гг. М., 1996.
Косарев М.Ф. Человек и живая природа в свете сибирских этнографических и
археологических материалов // Некоторые проблемы сибирской археологии. М. 1988.
Косарев М.Ф. Особенности языческого миропонимания. М., 2003а.
Косарев М.Ф. Сибирский тотемизм: иллюзия и действительность // Археолого-
этнографические исследования в южно-таежной зоне Западной Сибири. Томск, 2003b.
Костылева Е.Л., Уткин А.В. Фигурный кремень со стоянки Сахтыш IIА // Проблемы
изучения эпохи первобытности и раннего средневековья лесной зоны Восточной Европы.
Иваново, 1994. Вып. 1.
Кравцов А.Е., Сорокин А.Н. Зооморфная скульптурка со стоянки Григорово I // Неолит и
бронза на территории СССР. КСИА. 1984. № 177.
Крайнов Д.А. Исследования верхневолжской экспедиции // АО-1972. 1973.
Крайнов Д.А. Кремневые и костяные скульптуры из стоянок Верхнего Поволжья //
Древняя Русь и славяне. М., 1978.
Крайнов Д.А. К вопросу о религиозных представлениях племен волосовских культур //
Древности славян и Руси. М., 1988.
Крайнов Д.А. Русская равнина, Центр // Искусство каменного века. (Лесная зона
Восточной Европы). М., 1992.
Крайнов Д.А., Костылева Е.Л., Уткин А.В. Погребения и ритуальные комплексы на
стоянке Сахтыш IIА // Археологические вести. СПб., 1993. № 2.
Крайнов Д.А., Костылева Е.Л., Уткин А.В. Волосовская антропоморфная фигурка со
стоянки Сахтыш 2А // РА, 3. М., 1994.
Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск, 1992.
Лебедева Ж.К. Эпические памятники народов Крайнего Севера. Новосибирск, 1982.
Лобанова Н.В. Мезолитические поселения в районе мыса Бесов Нос // Проблемы изучения
эпохи первобытности и раннего средневековья лесной зоны Восточной Европы. Иваново,
1995. Вып. II.
Лозе И.А. Костяная и роговая скульптура эпохи неолита на территории Латвии // ИАН
ЛССР. Рига, 1969. № 11.
156
Лозе И.А. Глиняные фигурки из неолитических стоянок Восточной Прибалтики // СЭ.
1970a. № 3.
Лозе И.А. Деревянный идол из устья реки Малмута // ИАН ЛССР. Рига, 1970b. № 10.
Лозе И.А. Резная скульптура каменного века Восточной Прибалтики в соотношении с
уральской скульптурой // Проблемы археологии Урала и Сибири. М., 1973.
Лозе И.А. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига, 1979.
Лозе И.А. Антропоморфные изображения со стоянки Звиздиенаскрогс // Изыскания по
мезолиту и неолиту СССР. Л., 1983.
Лозе И.А. Изображения человека в искусстве каменного века Восточной Прибалтики //
Антропоморфные изображения. Первобытное искусство. Новосибирск, 1987.
Лозе И.А. Поселения каменного века Лубанской низины (мезолит, ранний и средний
неолит). Рига, 1988.
Лозе И.A., Лиива A.A. Radiocarbon chronology and environment of the Stone Age
multilayered settlement Zvidze in the Lake Lubans wetlands (Latvia) // Проблемы хронологии
и этнокультурных взаимодействий в неолите Евразии. СПб., 2004.
Микляев А.М. Идол из Усвятского торфяника // СА. 1967. № 4.
Микляев А.М., Минасян Р.С. Результаты работ Невельской экспедиции // АО-1967. 1968.
Микляев А.М. Усвяты 4, Наумово - озерные поселения эпох неолита и бронзы в верховьях
западной Двины // Археология и палеогеография мезолита и неолита Русской равнины.
М., 1984.
Микляев А.М., Мазуркевич А.Н. Опыт интерпретации некоторых орнаментальных
мотивов посуды усвятской культуры // Памятники древнего и средневекового искусства.
Проблемы археологии (сб. статей). Спб., 1994. Вып. 3.
Моргунова Н.Л. Раскопки Турганикской стоянки // АО-1982. 1984.
Мошинская В.И. Древняя скульптура Урала и Западной Сибири. М., 1976.
Мурашкин А.И., Шумкин В.Я. Новые предметы древнего искусства из могильника
Большого Оленьего острова в Баренцевом море // Изобразительные памятники: стиль,
эпоха,
композиции. Материалы тематической научной конференции. СПб., 2004.
Напольских, В.В. Введение в историческую уралистику. Ижевск, 1997.
Недомолкина Н.Г. Кремневые фигурки бассейна Сухоны // Культура Русского Севера.
Вологда, 1994.
Недомолкина Н.Г. Сухонские кремневые фигурки // Тверской археологический сборник.
Тверь, 2000. Вып. 4.
Неолит лесной полосы Восточной Европы. Антропология сахтышских стоянок. М., 1997.
157
Неолит Северной Евразии. Археология СССР. М., 1996.
Никитин В.В. Кремневая скульптура и мелкая глиняная пластика неолитических племен
лесной зоны Среднего Поволжья // Проблемы изучения эпохи первобытности и раннего
средневековья лесной зоны Восточной Европы. Иваново, 1994.
Никитин В.В. Каменный век Марийского края // Труды Марийской археологической
экспедиции. Йошкар-Ола, 1996. Т. 4.
Овчинникова Н.В. Волосовские древности юга лесостепного Поволжья. // Тверской
археологический сборник. Тверь, 2000. Вып. 4.
Окладников А.П. Исторические рассказы и легенды нижней Лены // Сборник МАЭ. Л.,
1949. XI.
Очерки по археологии Белоруссии. Минск, 1970. Ч. 1.
Ошибкина С.В. Об изображениях птиц на керамике эпохи бронзы в Восточном
Прионежье // КСИА. М. 1980., Вып. 161.
Ошибкина С.В. Неолит Восточного Прионежья. М., 1978.
Ошибкина С.В. Север Восточной Европы // Искусство каменного века. (Лесная зона
Восточной Европы). М., 1992.
Панкрушев Г.А. Племена Карелии в эпоху неолита и раннего металла. М.-Л., 1964.
Передольский В.С. Бытовые остатки насельников ильменско-волховского побережья и
земель Велико-Новгородского державства каменного века. Спб., 1893.
Полесских М.Р. В недрах времен. Пенза, 1956.
Попов А.А. Материалы по истории религии якутов б. Вилюйского округа // Сборник
музея антропологии и этнографии. Л., 1949. XI.
Потапов Л.П. Черты первобытно-общинного строя в охоте у северных алтайцев //
Сборник музея антропологии и этнографии. Л., 1949. XI.
Равдоникас В.И. Наскальные изображения Онежского озера. М.-Л., 1936. Т. 1.
Раушенбах В.М. Стоянка Николо-Перевоз II на реке Дубне в Московской области //
Экспедиции ГИМ. М., 1969.
Репман А.Х. Фигурный кремень с вышневолоцких стоянок // КСИИМК. М., 1957. Вып. 67.
Римантене Р.К. Исследование стоянок каменного века в Швянтойи Кретинского района //
АО-69. 1970.
Римантене Р.К. Художественые изделия стоянки Швентойи 3 // Памятники древнейшей
истории Евразии. М., 1975.
Римантене Р.К. Отражение мировоззрения жителей Литвы в неолитическом искусстве //
Идеологические представления древнейших обществ. Тезисы докладов всесоюзной
конференции. М., 1980.
158
Римантене Р.К. Изделия из органических материалов неолита Литвы // Каменный век
Европейских равнин. Сергиев Посад, 2001.
Римантене Р.К. Хронология неолита Западной Литвы // Проблемы хронологии и
этнокультурных взаимодействий в неолите Евразии. СПб., 2004.
Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита–раннего металла (ред. Н.Н.Гурина).
Л, 1991.
Сенкевич-Гудкова В.В. Мамонт в фольклоре и изобразительном искусстве казымских
хантов // Сборник музея антропологии и этнографии. М.-Л., 1949. XI.
Сидоров В.В. Многослойные стоянки в Подмосковье // АО-1971. 1972.
Сидоров В.В., Балинский И.М. Раскопки на Тростенском озере и Масловом Болоте // АО-
1973. 1974.
Смирнов В.И. Орнаментальный фриз на сосуде на стоянке Кубенино // КСИИМК. 1941. X.
Смирнов А.С. Неолит верхней и средней Десны. М., 1991.
Соловьев Б.С. Новые раскопки поселения Галанкина Гора // Древности Среднего
Поволжья. АЭМК. Йошкар-Ола, 1987. Вып. 13.
Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985.
Столяр А. Д. Трансляция идей как многообразная археологическая реальность //
Культурные трансляции и исторический процесс (палеолит- средневековье). Спб., 1994.
Студзицкая С.В. Отражение этнических процессов в мелкой пластике древнейшего
населения Севера Европейской части СССР // История и культура Восточной Европы по
археологическим данным. М., 1971.
Студзицкая С.В. Фигурные налепы на сосудах со стоянок волосовской культуры // Тр.
ГИМ. М., 1980. № 51.
Студзицкая С.В. Изображение человека в мелкой пластике неолитических племен лесной
зоны Европейской части СССР // Новые материалы по истории племен Восточной Европы
в эпоху камня и бронзы. Тр. ГИМ. М., 1985. № 60.
Студзицкая С.В. Особенности духовной культуры волосовских племен // Древности Оки.
Тр. ГИМ. М., 1994. № 85.
Студзицкая С.В. Ритуальные «жезлы-посохи» неолита лесной полосы Евразии //
Актуальные проблемы древней и средневековой истории Сибири. Томск, 1997.
Студзицкая С.В., Кузьминых С.В. Галичский «клад» (к проблеме становления шаманизма
в бронзовом веке у населения Северной Евразии) // Мировоззрение древнего населения
Евразии. М., 2001.
Таксами Ч.М. Основные проблемы этнографии и истории нивхов (середина XIX-начало
XX в.) Л., 1975.
159
Тимофеев В.И. О сходных и различных элементах в материальной и духовной культуре
мезолита и неолита лесной зоны Восточной Европы и Скандинавии. // Локальные
различия в каменном веке. Тезисы докладов всероссийской конференции, Спб., 1999.
Уваров А.С. Археология России. Каменный период. М., 1881. Т. I-II.
Урбан Ю.Н. Поселение и могильник Иловец // КСИА. М., 1973. № 137.
Уткин А.В., Костылева Е.Л. Антропоморфные изображения волосовской культуры //
Тверской археологический сборник. Тверь, 1996. Вып. 2.
Уткин А.В., Костылева Е.Л. Льяловская фигурка птицы из глины с Ивановского болота //
некоторые итоги изучения археологических памятников Ивановского болота. Иваново,
1998.
Уткин А.В., Костылева Е.Л. Волосовские скульптурные модели фаллоса // Тверской
археологический сборник. Тверь, 2000. Вып. 3.
Фоломеев Б.А. К вопросу о памятниках «дубровичского» типа бассейна Средней Оки //
КСИА. 1975. № 141.
Фосс М.Е. Погребения на стоянке Кубенино // Тр. ГИМ. М., 1938. Т. 8.
Фосс М.Е. Стоянка Кубенино // СА. 1940. Т. V.
Фосс М.Е. Костяные и деревянные изделия стоянки Веретье // Палеолит и неолит СССР.
МИА. 1941. № 2.
Фосс М.Е. Неолитические культуры Севера Европейской части СССР // СА. 1947. Т. IX.
Фосс М.Е. Культурные связи Севера Восточной Европы во II тыс. до н.э. // СЭ. 1948. № 4.
Фосс М. Е. Древнейшая история севера Европейской части СССР. МИА. 1952. № 29.
Фролов А.С., Трусов А.В., Сорокин А.Н. Разведки в Мещере // АО-1975. 1976.
Хлобыстин Л.П., Константинов М.В. Неолит Приморья и Приамурья // Археология.
Неолит Северной Евразии. М., 1996.
Цветкова И.К. Стоянка Подборица-Щербининская // СА. 1961. № 1.
Цветкова И.К. Украшения и скульптура из неолитического поселения Черная Гора //
Экспедиции ГИМ. М., 1969.
Цветкова И.К. Ритуальные «клады» стоянки Володары // Памятники древнейшей истории
Евразии. М., 1975.
Цетлин Ю.Б. Культурные контакты в древности (общая систематика и отражение их в
культурных традициях гончаров) // Тверской археологический сборник. Тверь, 1998. Вып.
3.
Черных И.Н. Мелкая кремневая пластика со стоянки Синяя Гора 1 (Ботово 1) на оз.
Селигер // Тверской археологический сборник. Тверь, 1996. Вып. 2.
Чернявский М.М. Фигурка человека со стоянки Осовец 2 // СА. 1967. № 4.
160
Чернявский М.М. К проблеме хронологии неолита Беларуси // Проблемы хронологии и
этнокультурных взаимодействий в неолите Евразии. СПб., 2004.
Шахнович М.М. Новые находки фигурных молотов на территории Карелии // Тверской
археологический сборник. Тверь, 2002. Вып. 5.
Шевелев В.В. Кремневая скульптура из окрестностей озера Лача // СА. 1986. № 1.
Шевелев В.В. Кремневые фигурки из Каргополья // СА. 1990. № 3.
Шер Я.А. Первобытное искусство: факты, гипотезы, методы и теория // Археология,
этнография и антропология Евразии. М., 2000. № 2(2).
Шоссоннэ В. Перекрестки континентов. Культуры коренных народов дальнего Востока и
Аляски (каталог выставки). М., 1996.
Эпоха бронзы лесной полосы СССР. Археология СССР. М., 1987.
Янитс Л.Ю. Новые данные по неолиту Прибалтики // СА. 1954. Т. XIX.
Янитс Л.Ю. Поселения эпохи неолита и раннего металла в приустье реки Эмайыги.
Таллин, 1959a.
Янитс Л.Ю. Неолитическое поселение Валма // Вопросы этнической истории Прибалтики
по данным археологии, этнографии и антропологии. М., 1959b.
Ailio J. Die Steinzeitliche Wohnplatzfunde in Finland. Helsinki, 1909.
Ailio J. Fragen den Russischen Steinzeit // Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja.
Helsinki, 1922. Vol. XXIX:1.
Albertsen S.E., Brinch Petersen E. Excavation of a Mesolithic cemetery at Vedbaek, Denmark //
Acta Archaeologica 47. Kobenhavn, 1977.
Almgren O. Nordiska stenalders skulpturer // Fornvannen. Stockholm, 1907. II.
Археологiя Беларусi. Мiнск, 1997. Т. 1.
Aspelin J.R. Antiquites du Nord Finno-Ougrien. T. 1. Age de la pierre et du bronze. Helsingfors,
1877.
Äyräpää A. Kampakeramisen kulttuurin savikuviot // Suomen Museo 1941. Helsinki, 1942.
Äyräpää A. Kampakeramiikan linnunkuvat // Suomen Museo. Helsinki, 1953. LX.
Butrimas A. Human figurines in Eastern Baltic prehistoric art // Acta Academiae Artium
Vilnensis. Vilnius, 2000. 20.
Carpelan K. Alg- och bjornhuvudforemal fran Europas nordliga delar // Suomen Museo.
Helsinki, 1975.
Cederhvarf B. Neolitiska lerfigurer frеn Еland // Suomen Muinaismuistoyhdistyksen
Aikakauskirja. Helsinki, 1912. Vol. XXVI.
Cvetkova I.K. Скульптура лося с неолитической стоянки Володары // Slovenska
Archeologia. Bratislava, 1973. XXI-2.
161
Edgren T. Einige neue Funde von kammkeramischen Vogelbildern und Tierskulpturen aus Ton,
Suomen Museo 1966. Helsinki, 1967.
Edgren T. Den forhistoriska tiden // Finlands historia. Helsinki, 1992. Vol. 1.
Erä-Esko A. Die Elchkopfskulptur vom Lehtojarvi in Rovaniemi // Suomen Museo 65. Helsinki,
1958.
Gotherstrom A. et al. The Jettbole Middle Neolithic site on the Aland Islands – human remains,
ancient DNA and pottery // European Journal of Archaeology. 2002. Vol. 5. № 1.
Indreko R. Mesolitische und fruhneolitische kulturen in Osteuropa und Westsibiren. Stockholm,
1964.
Jaanits L. Neue Graberfunde auf dem spatneolitischen Wohnplatz Tamula in Estland // Finska
Fornminnes-foreningens Tidskrift, 58. Helsingfors, 1957.
Jaanits L. Jooni-kiviaja uskumustest // Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. Tallinn, 1961. II.
Janzon G.O. Zoomorphic clay figurines and beads from Ire, Hangvar parish, Gotland //
Fornvannen. Stockholm, 1983. 78.
Karjalainen T. Lintutornin lintu // Muinaistutkija. Helsinki, 1997. № 3.
Kashina E. Human-Elk Image in the Northwestern Russian Neolithic Art // Abstracts of the
XIVth Congress of the UISPP. Liege, 2001.
Kashina E. Human-Elk Image in the Northwestern Russian Neolithic Art // The Neolithic
of the Near East and Europe. Acts of the XIVth UISPP Congress. BAR International Series.
Oxford, 2004. Vol. 1303.
Kashina E. Anthropomorphic Flint Sculpture of the European Russian Late Neolithic Age //
Anthropologica et Praehistorica. Brussels, 2002. Vol. 113.
Kashina E. Clay Anthropomorphic Figurines of the Eastern European Forest Zone in the
Neolithic-Eneolithic Age // Abstracts Book of the 8th Annual Meeting of the EAA. St.
Petersburg, 2003.
Kashina E., Emelyanov A. Bone Bird Figurines of the Meschora Lakeland (Centre of the
European Russia, Late Neolithic) // Abstracts Book of the 8th Annual Meeting of the EAA.
Thessaloniki, 2002.
Klebs R. Der bernsteinschmuck der steinzeit von der baggerei bei Schwarzort und anderen
lokalitaten Preussens aus den Samnlungen der Firma Stantien & Beckes und der physik.-okonom
Gesellschaft. Konigsberg, 1882.
Kosarev M.F., Kuzminykh S.V. К проблеме поисков уральской прародины // Journal de la
Societe Finno-Ougrienne. Helsinki, 2001. 89.
Kostyleva E., Outkin A., Ramseyer D. Fiche masque sur bois d`élan // Objets meconnus:
Industrie de l`os prehistorique. Societe Prehistorique Francaise. Paris, 2001. Cahier IX.
162
Loze I. Seno ticējumu un tradīciju atspoguļojums akmens laikmeta mākslā austrumbaltijā //
Archeoloģija un Etnogrāfija. Rīga, 1970. IX.
Loze I. Akmens laikmeta mākslā austrumbaltijā. Rīga, 1983.
Loze I. Zveisalu neolita apmetne Lubana ieplaka // Arheologija un Ennografija. Rīga, 1994.
XVI.
Loze I. Clay figural art in the forest belt of Neolithic Eastern Europe // Archaeologia Baltica.
Vilnius, 1995.
Loze I. Neolīta kāpu mītnes dundagas Purciemā // Latvijas vestures institute zurnals. Rīga, 1996.
№ 1.
Loze I. Arheoloģiskie un starpdisciplinārie pētījumi Ģipkas kāpās un paleoezerā // Zinātniskās
Atskaites sesijas. Materiāli par archeologu 1996. un 1997. gada pētījumu rezultātiem. Rīga,
1998.
Lozovski V. Zamostje 2. Guides archeologiques du ‘Malgre-tout’. Cedarc. Belgique, 1996.
Miettinen T. En idol fran Hietaniemi i Luopioinen // Finskt Museum 1964, Helsingfors, 1965.
Montelius O. Minnen fran var forntid. Stockholm, 1917.
Moora H. Pirmatnējā kopienas iekārta un agrā feodālā sabiedriba Latvijas PSR teritorija. Rīga,
1952.
Nieminen E.-L., Ruonavaara L. Stilisierte vogeldarstellungen auf gefasscherben aus
Kiikarusniemi, geminde Sotkamo und Bole, gemeinde Porvoo // Fennoscandia Archaeologica.
Helsinki, 1984. I.
Núñez M.G. Clay figurines from the Aland Islands and mainland Finland // Fennoscandia
archaeologica. Helsinki, 1986. III.
Ozols J. Der gehornte schamanentyp // Finskt Museum 1973, Helsingfors, 1974.
Pälsi S. Riukjärven ja Piiskunsalmen kivikautiset asuinpaikat Kaukolassa // Suomen
Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja-Finska Fornminnesforeningens Tidskrift. Helsingfors,
1920. Vol. 28.
Peredolski W.W. Eine bildiche Darstellung des Menschen auf einen neolithischen Tongefass //
Archiv fur Anthropologie. Braunschweig, 1905. Vol. III, 4.
Pesonen P. Rääkkylan joutsenet ja muita kampakeramiikan linnunkuvia // Kentalta poimittua 3.
Kirjoitelmia arkeologian alalta. Museoviraston arkeologian osaston julkaisuja. Helsinki, 1996. №
6.
Pesonen P. Zoomorphic clay figurines from two Stone Age sites in Raakkyla, North Karelia //
Muinasaja teadus de temporibus antiquissimus ad honorem Lembit Jaanits. Tallinn, 2000.
Rimantiene R. Sventoji. Narvos kulturos gyvenvietes. Vilnius, 1979. I.
Rimantiene R. Akmens amzius lietuvoje. Vilnius, 1984.
163
Rimantiene R. Nida. Senuju baltu gyvenviete. Vilnius, 1989.
Sturms E. Die steinzeitlichen kulturen des Baltikums. Bonn, 1970.
Taavitsainen J.-P. Tikku-ukko Raakkylasta // Fennoscandia Antiqua. Helsinki, 1982. I.
Utkin A. Waterfowl representations on ceramics from Sakhtysh I and VIII // Fennoscandia
Archaeologica. Helsinki, 1989. Vol. VI.
Vang Petersen P. Rav, hjortetak og mesolithisk magi. Danefae fra jaegerstenalderen //
Nationalmuseets Arbejdsmark. Kobenhavn, 1998.
Wyszomirska B. Figurplastik och gravskick hos nord-och Nordosteuropas neolitiska
fangstkulturer. Bonn-Lund, 1984.
Zagorskis F. Zveinieku akmens laikmeta kapulauks. Rīga, 1987.
164
Список сокращений
АО – Археологические открытия. М.
ВКМ – Вологодский краеведческий музей
ГИМ – Государственный Исторический музей
ИАН ЛССР – Известия академии наук ЛССР. Рига.
ИОКМ – Ивановский областной краеведческий музей
ИЯЛИ – Институт языка, литературы и истории Республики Карелия
ККМ – Карельский краеведческий музей
КСИА – Краткие сообщения Института археологии. М.
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Л.
МЗВК – Музей-заповедник «Волоколамский Кремль»
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР. М.-Л.
МИХМ – Муромский историко-художественный музей
РА – Российская археология М.
СА – Советская археология. М.
СЭ – Советская этнография. М.
ТГОМ – Тверской государственный объединенный музей
Тр.ГИМ – Труды Государственного Исторического музея. М.
165
№ по кат. памятник география материал сюжет высота
(см) контекст публикации
1 Первомайская I Карелия кремень антропоморф 4,0 поселение Жульников, 19992 Усть-Яренга Архангельская обл. кремень антропоморф 7,9 случайная находка Замятнин, 19483 Ольский Мыс Архангельская обл. кремень антропоморф 4,7 случайная находка Ошибкина, 19924 Сухое Архангельская обл. кремень антропоморф 3,6 поселение Ошибкина, 19925 Чаронда Вологодская обл. кремень антропоморф 5,5 случайная находка Замятнин, 19486 Ферапонтово Вологодская обл. кремень антропоморф 5,5 случайная находка Замятнин, 19487 Вологда 5,6 км Вологодская обл. кремень антропоморф 5,0 случайная находка Недомолкина, 19948 Пельшма II Вологодская обл. кремень антропоморф 3,8 случайная находка Недомолкина, 19949 Коломцы Новгородская обл. кремень антропоморф 2,5 ? Зимина, 1992
10 Иваново Колище Новгородская обл. кремень антропоморф 3,1 ? Зимина, 199211 Репище Новгородская обл. кремень антропоморф 4,3 поселение Зимина, 199212 Репище Новгородская обл. кремень антропоморф 5,7 поселение Зимина, 199213 Репище Новгородская обл. кремень антропоморф 6,0 погребение Зимина, 199214 Репище Новгородская обл. кремень антропоморф 8,5 погребение Зимина, 199215 Репище Новгородская обл. кремень антропоморф 4,2 поселение Зимина, 199216 Репище Новгородская обл. кремень антропоморф 4,2 поселение Зимина, 199217 Репище Новгородская обл. кремень антропоморф 5,7 поселение Зимина, 199218 Репище Новгородская обл. кремень антропоморф 6,0 поселение Зимина, 198119 Пирос Тверская обл. кремень антропоморф 3,8 случайная находка Замятнин, 194820 Пирос Тверская обл. кремень антропоморф 5,3 случайная находка ГЭ21 Мстино Тверская обл. кремень антропоморф 6,3 случайная находка Замятнин, 194822 Мстино Тверская обл. кремень антропоморф 4,4 случайная находка Замятнин, 194823 Мстино Тверская обл. кремень антропоморф 5,2 случайная находка Замятнин, 194824 Бологое (?) Тверская обл. кремень антропоморф 4,5 случайная находка ГЭ25 Бологое (?) Тверская обл. кремень антропоморф 2,7 случайная находка ГЭ26 Бологое (?) Тверская обл. кремень антропоморф 4,0 случайная находка ГЭ27 Бологое Тверская обл. кремень антропоморф 2,8 случайная находка Замятнин, 194828 Алексеевское Тверская обл. кремень антропоморф 4,2 случайная находка Уткин, Костылева, 199629 Алексеевское Тверская обл. кремень антропоморф 4,0 случайная находка Уткин, Костылева, 199630 Пено Тверская обл. кремень антропоморф 8,0 случайная находка Студзицкая, 199431 Ронское III Тверская обл. кремень антропоморф 4,2 ? Уткин, Костылева, 199632 Иловец I Тверская обл. кремень антропоморф 4,4 погребение Урбан, 197333 Уница Ярославская обл. кремень антропоморф 4,7 случайная находка Уткин, Костылева, 199634 Ловец I Ярославская обл. кремень антропоморф 2,9 поселение Замятнин, 194835 Сахтыш I Ивановская обл. кремень антропоморф 4,2 поселение Уткин, Костылева, 199636 Сахтыш I Ивановская обл. кремень антропоморф 5,0 поселение Уткин, Костылева, 199637 Сахтыш I Ивановская обл. кремень антропоморф 3,2 поселение Уткин, Костылева, 199638 Сахтыш II Ивановская обл. кремень антропоморф 4,4 поселение Уткин, Костылева, 1996
№ по кат. памятник география материал сюжет высота
(см) контекст публикации
39 Сахтыш II Ивановская обл. кремень антропоморф 5,0 поселение Уткин, Костылева, 199640 Сахтыш II Ивановская обл. кремень антропоморф 1,7 поселение Уткин, Костылева, 199641 Сахтыш IIА Ивановская обл. кремень антропоморф 3,4 поселение Уткин, Костылева, 199642 Сахтыш IIА Ивановская обл. кремень антропоморф 5,2 поселение Уткин, Костылева, 199643 Сахтыш VIII Ивановская обл. кремень антропоморф 3,6 поселение Уткин, Костылева, 199644 Круглое Московская обл. кремень антропоморф 5,9 поселение Уткин, Костылева, 199645 Николо-Перевоз II Московская обл. кремень антропоморф 4,1 поселение Раушенбах, 196946 Николо-Перевоз II Московская обл. кремень антропоморф 4,0 поселение ГИМ47 Николо-Перевоз II Московская обл. кремень антропоморф 4,6 поселение Сидоров, 1972
48 Мышецкая Московская обл. кремень антропоморф 6,7 погребение Сидоров, Балинский, 197449 Маслово Болото IV Московская обл. кремень антропоморф 3,8 поселение раскопки В.В.Сидорова
50 Никольская II Московская обл. кремень антропоморф 3,8 поселение Сидоров, Балинский, 1974
51 Никольская II Московская обл. кремень антропоморф 4,1 поселение Сидоров, Балинский, 197452 Святое Озеро I Московская обл. кремень антропоморф 3,0 поселение Уткин, Костылева, 199653 Воймежное I Московская обл. кремень антропоморф 5,0 поселение Древние охотники.., 199754 Великодворье I Московская обл. кремень антропоморф 5,5 поселение ГИМ55 Сокольское Нижегородская обл. кремень антропоморф 3,0 поселение Уткин, Костылева, 199656 Подборица-Щербининская Нижегородская обл. кремень антропоморф 5,2 случайная находка Цветкова, 196157 Волосово Нижегородская обл. кремень антропоморф 4,7 случайная находка МИХМ58 Волосово Нижегородская обл. кремень антропоморф 4,6 случайная находка МИХМ59 Волосово Нижегородская обл. кремень антропоморф 3,0 случайная находка Замятнин, 194860 Волосово Нижегородская обл. кремень антропоморф 6,7 случайная находка Замятнин, 194861 Волосово Нижегородская обл. кремень антропоморф 3,3 случайная находка Замятнин, 194862 Волосово Нижегородская обл. кремень антропоморф 5,0 случайная находка Замятнин, 194863 Волосово Нижегородская обл. кремень антропоморф 6,7 случайная находка Замятнин, 194864 Волосово Нижегородская обл. кремень антропоморф 7,1 случайная находка Замятнин, 194865 Волосово Нижегородская обл. кремень антропоморф 5,3 случайная находка Замятнин, 194866 Волосово Нижегородская обл. кремень антропоморф 5,7 случайная находка Замятнин, 194867 Большой Лес II Рязанская обл. кремень антропоморф 4,2 поселение ГИМ68 Владычино Рязанская обл. кремень антропоморф 3,0 поселение ГИМ69 Владычино Рязанская обл. кремень антропоморф 3,3 поселение ГИМ70 Шагара II Рязанская обл. кремень антропоморф 6,2 поселение Kashina, 200271 Ибердус I Рязанская обл. кремень антропоморф 2,6 поселение Уткин, Костылева, 199672 Борки Рязанская обл. кремень антропоморф 2,8 случайная находка Уткин, Костылева, 199673 Борки Рязанская обл. кремень антропоморф 4,4 случайная находка Уткин, Костылева, 1996
№ по кат. памятник география материал сюжет высота
(см) контекст публикации
74 Дубровичи Рязанская обл. кремень антропоморф 4,4 ? Уткин, Костылева, 199675 Тенишево Марий-Эл кремень антропоморф 5,1 случайная находка Габяшев, Беговатов, 198576 Казань (?) Татарстан кремень антропоморф 8,6 случайная находка Замятнин, 194877 Мало-Кокузинская Татарстан кварцит антропоморф - поселение Уткин, Костылева, 199678 Широмасово I Мордовия кремень антропоморф 5,5 поселение раскопки В.В.Ставицкого79 Лепченка Мордовия кремень антропоморф - ? Жиганов, 197680 Гундоровское Самарская кремень антропоморф 5,2 поселение Овчинникова, 200081 Озименки Пензенская кремень антропоморф - ? Полесских, 195682 Войнаволок XXV Карелия глина антропоморф 7,0 жилище Жульников, 199983 Войнаволок XXV Карелия глина антропоморф 5,9 жилище Жульников, 199984 Черная Губа IX Карелия глина антропоморф 2,5 жилище Витенкова, 200285 Черная Губа IX Карелия глина антропоморф 2,5 жилище Витенкова, 200286 Черная Губа IX Карелия глина антропоморф 2,5 жилище Витенкова, 200287 Черная Губа IX Карелия глина антропоморф 2,5 жилище Витенкова, 200288 Пегрема VII Карелия глина антропоморф 3,0 поселение Журавлев, 199189 Пегрема XXII Карелия глина антропоморф 3,0 поселение Журавлев, 199190 Пегрема XXII Карелия глина антропоморф 4,5 поселение Журавлев, 199191 Соломенное VII Карелия глина антропоморф 4,0 поселение Панкрушев, 196492 Пески IVA Карелия глина антропоморф 2,8 поселение ККМ93 Вигайнаволок I Карелия глина антропоморф 3,5 поселение Журавлев, 197294 Вигайнаволок I Карелия глина антропоморф 7,0 поселение Журавлев, 197295 Черная Речка III Карелия глина антропоморф 2,8 поселение ИЯЛИ96 Кубенино Архангельская обл. глина антропоморф 6,3 жилище Фосс, 195297 Кубенино Архангельская обл. глина антропоморф 6,3 жилище Фосс, 195298 Кубенино Архангельская обл. глина антропоморф 4,0 поселение Фосс, 195299 Кубенино Архангельская обл. глина антропоморф 2,5 поселение Фосс, 1952
100 Устье Кинемы Архангельская обл. глина антропоморф 3,6 поселениеФосс, 1952; Ошибкина, 1978, 1992
101 Модлона Вологодская обл. глина антропоморф 3,5 поселениеБрюсов, 1951; Фосс, 1952; Ошибкина, 1992.
102 Илекса Вологодская обл. глина антропоморф 4,2 поселение Брюсов, 1940; Фосс, 1952103 Риукъярви Ленинградская обл. глина антропоморф 3,8 поселение Miettinen, 1965.104 Папинкангас Ленинградская обл. глина антропоморф 4,0 поселение Miettinen, 1965.105 Папинкангас Ленинградская обл. глина антропоморф 4,6 поселение Miettinen, 1965.106 Папинкангас Ленинградская обл. глина антропоморф 9,0 поселение Miettinen, 1965.107 Питкяярк Ленинградская обл. глина антропоморф 3,9 поселение Miettinen, 1965.
№ по кат. памятник география материал сюжет высота
(см) контекст публикации
108 Хяйринмяки Ленинградская обл. глина антропоморф 3,8 поселение Miettinen, 1965.109 Акали Эстония глина антропоморф 3,6 поселение Янитс, 1959а; Лозе, 1970а110 Валма Эстония глина антропоморф 4,0 поселение Янитс, 1959а; Лозе, 1970а111 Звейниеки Латвия глина антропоморф - ? Лозе, 1970а112 Звейниеки Латвия глина антропоморф 3,9 погребение Zagorskis, 1987113 Пурциемс Латвия глина антропоморф 4,4 жилище Лозе, 1970а; Loze, 1995114 Пурциемс Латвия глина антропоморф 2,7 жилище Лозе, 1970а; Loze, 1995115 Пурциемс Латвия глина антропоморф 2,7 жилище Лозе, 1970а; Loze, 1995116 Дипка А Латвия глина антропоморф - поселение Loze, 1998117 Сулька Латвия глина антропоморф 4,5 поселение Лозе, 1970а118 Найниексте Латвия глина антропоморф 3,5 поселение Лозе, 1970а119 Звидзе Латвия глина антропоморф 4,5 поселение Лозе, 1988120 Абора I Латвия глина антропоморф 2,5 поселение Лозе, 1970а121 Лагажа Латвия глина антропоморф 3,1 поселение Лозе, 1970а122 Оса Латвия глина антропоморф 1,2 поселение Загорскис, 1983.123 Швянтойи III Литва глина антропоморф 7,0 поселение Римантене, 1975
124 Сахтыш IIA Ивановская обл. глина антропоморф 5,0 погребениеКрайнов, Костылева, Уткин, 1993
125 Торговище I Ярославская обл. глина антропоморф 4,8 поселение Крайнов, 1992126 Николо-Перевоз II Московская обл. глина антропоморф 4,6 поселение Раушенбах, 1969127 Волосово Нижегородская обл. глина антропоморф 6,3 случайная находка Студзицкая, 1980
128 Кубенино Архангельская обл. рог антропоморф 9,0 погребениеФосс, 1952; Ошибкина, 1978
129 Кубенино Архангельская обл. кость антропоморф 1,5 поселение Фосс, 1940130 Веретье Архангельская обл. кость антропоморф 13,0 поселение Фосс, 1941, 1952131 Веретье Архангельская обл. кость антропоморф 3,1 поселение Фосс, 1941, 1952132 Метсяпиртти Коукуниеми Ленинградская обл. янтарь антропоморф 5,1 случайная находка Aspelin, 1877133 Ладожские стоянки Ленинградская обл. кость антропоморф 11,2 случайная находка Иностранцев, 1882134 Пярну Эстония рог антропоморф - случайная находка Лозе, 1973135 Тамула Эстония кость антропоморф 4,5 погребение Jaanits, 1957136 Тамула Эстония кость антропоморф 5,0 погребение Jaanits, 1957137 Тамула Эстония кость антропоморф 2,5 погребение Jaanits, 1957138 Тамула Эстония кость антропоморф 3,9 поселение Янитс, 1954; Loze,1970139 Тамула Эстония кость антропоморф 6,4 поселение Янитс, 1954; Loze,1970140 Тамула Эстония кость антропоморф 2,2 погребение Янитс, 1954; Loze,1970141 Тамула Эстония кость антропоморф 3,5 поселение Янитс, 1954; Loze,1970142 Звейниеки Латвия кость антропоморф 13,0 погребение Zagorskis, 1987143 Звейниеки Латвия кость антропоморф 6,0 погребение Zagorskis, 1987
№ по кат. памятник география материал сюжет высота
(см) контекст публикации
144 Звейниеки Латвия кость антропоморф 4,3 погребение Zagorskis, 1987145 Роми-Калнини Латвия янтарь антропоморф 6,8 случайная находка Ванкина, 1983146 Абора I Латвия рог антропоморф 14,3 поселение Loze, 1970, Лозе, 1973147 Абора I Латвия рог антропоморф 6,5 поселение Loze, 1970, Лозе, 1973148 Абора I Латвия кость антропоморф 3,2 поселение Loze, 1970, Лозе, 1973149 Лагажа Латвия кость антропоморф 9,7 поселение Лозе, 1969, 1979150 Ича Латвия кость антропоморф 6,5 случайная находка Лозе, 1969; Loze, 1983151 Устье Малмуты Латвия кость антропоморф 10,5 случайная находка Loze, 1970; Loze, 1983152 Устье Малмуты Латвия дерево антропоморф 15,5 случайная находка Loze, 1970; Loze, 1983153 Кретуонас IC Литва кость антропоморф - поселение Butrimas, 2000154 Кретуонас IC Литва кость антропоморф - поселение Butrimas, 2000155 Кретуонас IC Литва кость антропоморф - поселение Butrimas, 2000156 Кретуонас IC Литва кость антропоморф - поселение Butrimas, 2000157 Йодкранте Литва янтарь антропоморф 5,0 случайная находка Klebs, 1882158 Йодкранте Литва янтарь антропоморф 14,5 случайная находка Klebs, 1882159 Йодкранте Литва янтарь антропоморф 9,5 случайная находка Klebs, 1882160 Йодкранте Литва янтарь антропоморф 7,5 случайная находка Klebs, 1882161 Йодкранте Литва янтарь антропоморф 7,0 случайная находка Klebs, 1882162 Нида Литва янтарь антропоморф 4,3 случайная находка Loze, 1983163 Усвяты IV Псковская обл. рог антропоморф 9,3 поселение Микляев, 1967164 Дяздица Псковская обл. кость антропоморф 11,2 случайная находка Беспалова и др., 1977165 Асавец II Беларусь дерево антропоморф 9,2 поселение Чернявский, 1967
166 Асавец II Беларусь кость антропоморф 4,8 поселение Археологiя Беларусi, 1997
167 Сахтыш IIA Ивановская обл. кость антропоморф 4,5 погребениеКрайнов, Костылева, Уткин, 1994
168 Векса III Вологодская обл.глина (графика) антропоморф 4,8 случайная находка Недомолкина, 2000
169 Звидзе Латвияглина (графика) антропоморф 10,0 поселение Лозе, 1983
170 Нида Литваглина (графика) антропоморф 10,0 поселение Rimantiene, 1989
171 Нида Литваглина (графика) антропоморф 6,0 поселение Rimantiene, 1989
172 Коломцы Новгородская обл.глина (графика) антропоморф 5,8 поселение Peredolski, 1905
173 Асавец II Беларусьглина (графика) антропоморф 3,5 поселение Археологiя Беларусi, 1997
№ по кат. памятник география материал сюжет высота
(см) контекст публикации
174 Литвин I Беларусьглина (графика) антропоморф 9,0 поселение Очерки..., 1970
175 Модлона Вологодская обл. дерево птица 9,2 поселение Брюсов, 1951176 Акали Эстония янтарь птица 2,5 поселение Янитс, 1959а177 Тамула Эстония кость птица 4,0 погребение Янитс, 1954178 Тамула Эстония кость птица 18,0 погребение Jaanits, 1957179 Тамула Эстония кость птица 5,0 погребение Jaanits, 1957180 Тамула Эстония кость птица 4,0 погребение Jaanits, 1957181 Тамула Эстония кость птица 3,5 погребение Jaanits, 1957182 Звейниеки Латвия кость птица 5,5 погребение Zagorskis, 1987183 Звейниеки Латвия кость птица 2,7 погребение agorskis, 1987184 Риннюкалнс Латвия кость птица 8,0 случайная находка Брюсов, 1952185 Риннюкалнс Латвия кость птица 6,5 случайная находка Jaanits, 1961186 Риннюкалнс Латвия кость птица 16,4 случайная находка Jaanits, 1961187 Абора I Латвия дерево птица 6,5 поселение Loze, 1970188 Оз. Лубана Латвия кость птица 19,5 случайная находка Loze, 1970189 Оз. Лубана Латвия кость птица 20,0 случайная находка Loze, 1970190 Дзедзиексте Латвия янтарь птица 2,5 поселение Loze, 1983191 Эйни Латвия янтарь птица 2,0 поселение Loze, 1983192 Звидзе Латвия янтарь птица 2,5 поселение Loze, 1983193 Найниексте Латвия янтарь птица 2,5 поселение Loze, 1983194 Сулька Латвия янтарь птица 2,3 поселение Loze, 1983195 Ича Латвия янтарь птица 1,9 поселение Loze, 1970196 Сарнате Латвия дерево птица 23,5 поселение Ванкина, 1970197 Сарнате Латвия дерево птица 8,4 поселение Ванкина, 1970198 Сарнате Латвия дерево птица 6,0 поселение Ванкина, 1970199 Сарнате Латвия дерево птица 35,5 поселение Ванкина, 1970200 Швянтойи IIB Литва дерево птица 20,0 поселение Rimantiene, 1979201 Швянтойи IIIB Литва дерево птица 17,0 поселение Rimantiene, 1979202 Репище VI Новгородская обл. дерево птица 12,5 поселение Зимина, 1992203 Усвяты IV Псковская обл. дерево птица 12,0 поселение Древности.., 1995204 Усвяты IV Псковская обл. кость птица 3,4 поселение Древности.., 1995205 Кривина I Беларусь кость птица 9,0 поселение Белорусская.., 1987206 Кривина I Беларусь кость птица 5,2 поселение Белорусская.., 1987
207 Асавец II Беларусь рог птица 6,8 поселение Археологiя Беларусi, 1997208 Языково Тверская обл. кость птица 5,1 поселение ТГОМ209 Ивановское VII Тверская обл. рог птица 10,5 поселение Крайнов, 1992
№ по кат. памятник география материал сюжет высота
(см) контекст публикации
210 Ивановское VII Тверская обл. дерево птица 24,0 поселение Крайнов, 1992
211 Сахтыш I Ивановская обл. дерево птица 12,0 поселениеНеолит Северной Евразии, 1996
212 Сахтыш I Ивановская обл. рог птица 4,9 поселение ИОКМ213 Сахтыш I Ивановская обл. кость птица 4,9 погребение Крайнов, 1992214 Сахтыш I Ивановская обл. кость птица 7,3 погребение ИОКМ215 Сахтыш I Ивановская обл. рог птица 7,0 поселение Крайнов, 1992216 Сахтыш I Ивановская обл. кость птица - поселение Крайнов, 1992217 Сахтыш I Ивановская обл. кость птица - поселение Крайнов, 1992218 Сахтыш I Ивановская обл. кость птица 7,3 поселение Крайнов, 1992219 Сахтыш I Ивановская обл. кость птица 5,6 поселение Крайнов, 1992220 Сахтыш I Ивановская обл. кость птица - поселение Крайнов, 1992221 Сахтыш I Ивановская обл. кость птица 5,0 поселение Крайнов, 1992222 Сахтыш II Ивановская обл. кость птица 5,7 поселение ИОКМ223 Сахтыш II Ивановская обл. кость птица 8,1 поселение Крайнов, 1992224 Сахтыш II Ивановская обл. кость птица 6,6 поселение ИОКМ225 Сахтыш II Ивановская обл. кость птица 2,8 поселение ИОКМ226 Сахтыш IIА Ивановская обл. кость птица 5,0 поселение ИОКМ227 Сахтыш IIА Ивановская обл. кость птица 5,5 поселение Крайнов, 1992228 Сахтыш IIА Ивановская обл. кость птица 4,1 поселение ИОКМ229 Стрелка I Владимирская обл. кость птица 4,8 поселение Крайнов, Гадзяцкая, 2002230 Стрелка I Владимирская обл. кость птица 5,0 поселение ИОКМ231 Стрелка I Владимирская обл. зуб птица 5,2 поселение Крайнов, 1992232 Стрелка I Владимирская обл. кость птица 8,4 поселение Крайнов, 1992233 Николо-Перевоз Московская обл. кость птица 3,7 поселение ГИМ234 Николо-Перевоз Московская обл. кость птица 3,7 поселение ГИМ235 Николо-Перевоз Московская обл. кость птица 3,6 поселение ГИМ236 Николо-Перевоз Московская обл. кость птица 3,8 поселение ГИМ237 Николо-Перевоз Московская обл. кость птица 5,8 поселение ГИМ238 Николо-Перевоз Московская обл. кость птица 8,3 поселение ГИМ
239 Маслово Болото IV Московская обл. рог птица 13,5 поселение Сидоров, Балинский, 1974240 Маслово Болото IV Московская обл. рог птица 10,5 поселение Эпоха бронзы…, 1987241 Маслово Болото IV Московская обл. кость птица 3,8 поселение МЗВК242 Маслово Болото IV Московская обл. кость птица 6,2 поселение МЗВК243 Маслово Болото Московская обл. кость птица 6,7 поселение МЗВК244 Бисерово Озеро Московская обл. рог птица 4,0 случайная находка ГИМ245 Вешняк Московская обл. кость птица 4,3 случайная находка ГИМ
№ по кат. памятник география материал сюжет высота
(см) контекст публикации
246 Вешняк Московская обл. кость птица 5,5 случайная находка ГИМ247 Великодворье I Московская обл. рог птица 4,6 поселение ГИМ248 Великодворье I Московская обл. кость птица 3,5 поселение ГИМ249 Великодворье I Московская обл. кость птица 5,5 поселение ГИМ250 Великодворье I Московская обл. кость птица 6,5 поселение ГИМ251 оз. Шагара Рязанская обл. кость птица 4,5 случайная находка ГИМ252 оз. Шагара Рязанская обл. кость птица 5,0 случайная находка ГИМ253 Шагара I Рязанская обл. рог птица 12,8 погребение Каверзнева, 1992254 Шагара I Рязанская обл. кость птица 4,6 погребение Каверзнева, 1992255 Шагара I Рязанская обл. кость птица 5,5 поселение Кашина, Емельянов, 2003256 Шагара I Рязанская обл. кость птица 3,4 поселение Кашина, Емельянов, 2003257 Шагара I Рязанская обл. кость птица 7,0 поселение Кашина, Емельянов, 2003258 Шагара I Рязанская обл. кость птица 2,9 поселение Кашина, Емельянов, 2003259 Шагара II Рязанская обл. рог птица 8,0 поселение Кашина, Емельянов, 2003260 Шагара II Рязанская обл. рог птица 2,9 поселение Кашина, Емельянов, 2003261 Шагара II Рязанская обл. кость птица 7,0 поселение Кашина, Емельянов, 2003262 Шагара II Рязанская обл. кость птица 4,8 поселение Кашина, Емельянов, 2003263 Шагара II Рязанская обл. кость птица 5,5 поселение Кашина, Емельянов, 2003264 Шагара II Рязанская обл. кость птица 8,0 поселение Кашина, Емельянов, 2003265 Шагара II Рязанская обл. кость птица 6,1 поселение Кашина, Емельянов, 2003266 Шагара II Рязанская обл. кость птица 5,5 поселение Кашина, Емельянов, 2003267 Шагара II Рязанская обл. кость птица 8,2 поселение Кашина, Емельянов, 2003268 Шагара II Рязанская обл. кость птица 5,8 поселение Кашина, Емельянов, 2003269 Шагара II Рязанская обл. кость птица 7,0 поселение Кашина, Емельянов, 2003270 Шагара II Рязанская обл. кость птица 4,0 поселение Кашина, Емельянов, 2003271 Шагара II Рязанская обл. кость птица 4,0 поселение Кашина, Емельянов, 2003272 Шагара II Рязанская обл. кость птица 4,9 поселение Кашина, Емельянов, 2003273 Владычино Рязанская обл. кость птица 5,7 поселение Кашина, Емельянов, 2003274 Владычино Рязанская обл. кость птица 5,5 поселение Кашина, Емельянов, 2003275 Черная Гора Рязанская обл. рог птица 17,0 поселение Кашина, Емельянов, 2003276 Черная Гора Рязанская обл. рог птица 10,0 поселение Кашина, Емельянов, 2003277 Черная Гора Рязанская обл. кость птица 4,8 поселение Кашина, Емельянов, 2003278 Черная Гора Рязанская обл. кость птица 5,0 поселение Кашина, Емельянов, 2003279 Черная Гора Рязанская обл. кость птица 4,4 поселение Кашина, Емельянов, 2003280 Черная Гора Рязанская обл. кость птица 3,8 поселение Кашина, Емельянов, 2003281 Черная Гора Рязанская обл. рог птица 4,7 поселение Кашина, Емельянов, 2003282 Черная Гора Рязанская обл. кость птица 6,8 поселение Кашина, Емельянов, 2003283 Черная Гора Рязанская обл. кость птица 7,2 поселение Кашина, Емельянов, 2003
№ по кат. памятник география материал сюжет высота
(см) контекст публикации
284 Волосово Нижегородская обл. рог птица 15,7 случайная находка ГИМ285 Волосово Нижегородская обл. кость птица 13,5 случайная находка ГИМ286 Волосово Нижегородская обл. кость птица 7,0 случайная находка ГИМ287 Волосово Нижегородская обл. кость птица 5,7 случайная находка МЗВК
288 Волосово Нижегородская обл. кость птица 3,9 случайная находкаальбом П.П.Кудрявцева, ГИМ
289 Волосово Нижегородская обл. кость птица 7,4 случайная находка ГИМ290 Волосово Нижегородская обл. кость птица 3,1 случайная находка ГИМ291 Волосово Нижегородская обл. кость птица 5,0 случайная находка МИХМ292 Волосово Нижегородская обл. кость птица 3,4 случайная находка МИХМ293 Пегрема I Карелия глина птица 3,9 поселение Журавлев, 1991294 Пески IVA Карелия глина птица 2,5 поселение ККМ295 Вигайнаволок I Карелия глина птица 7,0 поселение Журавлев, 1972296 Вигайнаволок I Карелия глина птица 3,1 поселение Журавлев, 1972297 Черная Речка III Карелия глина птица 5,2 поселение ИЯЛИ298 Черная Речка III Карелия глина птица 4,7 поселение ИЯЛИ299 Черная Речка III Карелия глина птица 3,8 поселение ИЯЛИ300 Илекса I Карелия глина птица 6,0 поселение Уткин, Костылева, 1998301 Пезмогты III Коми глина птица 3,0 поселение Сыктывкар302 Илекса Вологодская обл. глина птица 3,8 поселение Ошибкина, 1992303 Тудозеро V Вологодская обл. глина птица 6,2 поселение Вологодский музей304 Ломми Эстония глина птица 3,5 поселение Jaanits, 1961305 Ломми Эстония глина птица 4,0 поселение Jaanits, 1961306 Звейсалас Латвия глина птица 1,6 поселение Loze, 1994307 Пурциемс Латвия глина птица 2,0 жилище Loze, 1998308 Жямайтишке II Литва глина птица 3,7 поселение Уткин, Костылева, 1998309 Швянтойи XXVI Литва глина птица 2,0 поселение Уткин, Костылева, 1998310 Усть-Валдайка Новгородская обл. глина птица 3,6 поселение Зимина, 1992311 Усть-Валдайка Новгородская обл. глина птица 2,5 поселение ГИМ312 Польцо Тверская обл. глина птица 3,5 поселение ГИМ313 Ивановское VII Тверская обл. глина птица 3,5 поселение Уткин, Костылева, 1998314 Сахтыш IIA Ивановская обл. глина птица 3,2 поселение Крайнов, 1992315 Умиление Костромская глина птица 2,5 поселение ГИМ316 Войнаволок XXV Карелия кремень птица 3,0 жилище Жульников, 1999317 Наволок Архангельская обл. кремень птица 5,0 случайная находка Шевелев, 1990318 Наволок Архангельская обл. кремень птица 4,6 случайная находка Шевелев, 1990319 Модлона Вологодская обл. кремень птица 8,1 поселение Брюсов, 1951320 Сахтыш IIA Ивановская обл. кремень птица 3,8 поселение Крайнов, 1992
№ по кат. памятник география материал сюжет высота
(см) контекст публикации
321 Стрелка I Владимирская обл. кремень птица 6,2 поселение Крайнов, 1992322 Стрелка I Владимирская обл. кремень птица 3,8 поселение Гадзяцкая, Крайнов, 2002323 Маслово Болото Московская обл. кремень птица 3,9 поселение раскопки В.В. Сидорова324 Волосово Нижегородская обл. кремень птица 3,8 случайная находка ГИМ325 Волосово Нижегородская обл. кремень птица 4,1 случайная находка Замятнин, 1948326 Волосово Нижегородская обл. кремень птица 4,5 случайная находка Замятнин, 1948327 Новое Щербинино Нижегородская обл. кремень птица 3,4 случайная находка Гонозов, Косарева, 2002
328 Новое Щербинино Нижегородская обл. кремень птица 3,7 случайная находкаКарабельников, Москвин, 2004
329 Тенишево Татарстан кремень птица 8,0 погребение Габяшев, Беговатов, 1985
330 Вой-Наволок IX Карелияглина (графика) птица 4,5 поселение Гурина, 1961
331 Вой-Наволок IX Карелияглина (графика) птица 5,0 поселение Гурина, 1961
332 Черная Губа IX Карелияглина (графика) птица 5,2 жилище Витенкова, 2002
333 Пески IVA Карелияглина (графика) птица 6,0 поселение
Жульников, Спиридонов, 2003
334 Негежма Карелияглина (графика) птица 5,5 случайная находка Гурина, 1961
335 Каукола Лавамяки Ленинградская обл.глина (графика) птица 3,1 случайная находка Гурина, 1961
336 Кубенино Архангельская обл.глина (графика) птица 3,0 поселение Смирнов, 1941
337 Вис II Комиглина (графика) птица 2,2 поселение Буров, 1965
338 Ломми Эстонияглина (графика) птица 2,9 поселение Jaanits, 1961
339 Акали Эстонияглина (графика) птица 2,5 поселение Jaanits, 1961
340 Квапану II Латвияглина (графика) птица - поселение Loze, 1983
341 Коломцы Новгородская обл.глина (графика) птица 6,5 поселение Peredolski, 1905
342 Сахтыш IIA Ивановская обл.глина (графика) птица 5,5 поселение Utkin, 1989
343 Сахтыш VIII Ивановская обл.глина (графика) птица 3,2 поселение Utkin, 1989
№ по кат. памятник география материал сюжет высота
(см) контекст публикации
344 Сахтыш VIII Ивановская обл.глина (графика) птица 5,7 поселение Крайнов, 1992
345 Лунево II Брянская обл.глина (графика) птица - поселение Смирнов, 1991
346 Попово Архангельская обл. кость млекопитающее 2,6 поселение Ошибкина, 1992347 Нарва Эстония рог лось 10,2 ? Loze, 1970348 Валма Эстония янтарь бобр 5,0 погребение Янитс, 1959b349 Валма Эстония кость куница/лиса(?) 5,2 погребение Янитс, 1959b350 Валма Эстония янтарь бобр 7,0 погребение Янитс, 1959b351 Акали Эстония кость млекопитающее 2,0 поселение Янитс, 1959a352 Тамула Эстония янтарь медведь 7,0 погребение Jaanits, 1957353 Тамула Эстония кость медведь 4,7 поселение Loze, 1970354 Вилла Эстония рог лось 9,7 ? Loze, 1970355 Звейниеки Латвия рог лось 10,0 погребение Zagorskis, 1987356 Звейниеки Латвия рог лось 6,5 погребение Zagorskis, 1987357 Риннюкалнс Латвия кость лось 6,4 случайная находка Moora, 1952358 Абора I Латвия рог медведь(?) 8,0 поселение Moora, 1952359 Абора I Латвия кость лось 9,0 поселение Loze, 1970360 Пиестиня Латвия кость лось 4,1 поселение Loze, 1970361 Устье Малмуты Латвия рог лось 12,5 случайная находка Loze, 1970362 Устье Малмуты Латвия кость лось 4,2 случайная находка Loze, 1970363 Сарнате Латвия дерево медведь 17,3 поселение Ванкина, 1970364 Сарнате Латвия янтарь лось 3,5 поселение Ванкина, 1970365 Сарнате Латвия янтарь млекопитающее 2,1 поселение Ванкина, 1970366 Швянтойи III Литва рог лось 44,0 поселение Rimantiene, 1979367 Швянтойи IVB Литва рог лось(?) 14,8 поселение Римантене, 2001368 Йодкранте Литва янтарь лось(?) 5,7 случайная находка Loze, 1970369 Усвяты IV Псковская обл. дерево медведь 32,0 поселение Микляев, Минасян, 1968370 Усвяты IV Псковская обл. кость медведь(?) 8,3 поселение Древности.., 1995371 Дубокрай Псковская обл. дерево медведь 4,3 случайная находка Древности.., 1995372 Сахтыш I Ивановская обл. рог лось 13,3 жилище Крайнов, 1992373 Сахтыш I Ивановская обл. кость бобр 6,7 жилище Крайнов, 1992374 Сахтыш I Ивановская обл. кость бобр 8,0 жилище Крайнов, 1992375 Сахтыш I Ивановская обл. кость куница/лиса(?) 7,4 жилище Крайнов, 1992376 Сахтыш II Ивановская обл. кость лось 3,7 поселение Гадзяцкая, 1966377 Черная Гора Рязанская обл. рог лось 5,5 поселение Цветкова, 1969378 Володары Нижегородская обл. кость лось 11,9 поселение Cvetkova, 1973379 Володары Нижегородская обл. рог лось 10,6 поселение Cvetkova, 1973
№ по кат. памятник география материал сюжет высота
(см) контекст публикации
380 Зимняя Золотица Архангельская обл. кремень тюлень? 11,5 случайная находка Замятнин, 1948381 Зимняя Золотица Архангельская обл. кремень медведь? 10,7 случайная находка Замятнин, 1948382 Зимняя Золотица Архангельская обл. кремень млекопитающее 6,5 случайная находка Замятнин, 1948383 Зимняя Золотица Архангельская обл. кремень лось 6,0 случайная находка Замятнин, 1948384 Вис II Коми кремень млекопитающее 5,2 поселение Карманов, Семенов, 2001385 Сухое Архангельская обл. кремень лось? 4,5 поселение Ошибкина, 1992386 Вологда 5,6 км Вологодская обл. кремень лось 6,4 случайная находка Недомолкина, 2000387 Репище VI Новгородская обл. кремень лось? 5,2 поселение Зимина, 1992388 Дуденево Тверская обл. кремень лось 8,0 случайная находка Замятнин, 1948389 Багон Отмель Тверская обл. кремень медведь 5,9 случайная находка Репман, 1957390 Синяя Гора Тверская обл. кремень медведь 5,2 поселение Черных, 1997391 Изведово Тверская обл. кремень бобр? куница? 6,0 случайная находка Замятнин, 1948392 Стрелка I Владимирская обл. кремень лось? 5,7 поселение ИОКМ393 Стрелка I Владимирская обл. кремень лось 5,1 поселение Гадзяцкая, Крайнов, 2002394 Шагара I Рязанская обл. кремень млекопитающее 4,0 поселение ГИМ395 Волосово Нижегородская обл. кремень млекопитающее 5,0 случайная находка Замятнин, 1948396 Юртик Кировская обл. кремень млекопитающее 2,9 поселение Ошибкина, 1992397 Казань (?) Татарстан кремень бобр 9,0 случайная находка Замятнин, 1948398 Черная Речка III Карелия глина млекопитающее 7,0 поселение ИЯЛИ399 Ломми Эстония глина млекопитающее 4,5 поселение Jaanits, 1961400 Наккамяэ Эстония глина млекопитающее 5,0 поселение Jaanits, 1961401 Лагажа Латвия глина млекопитающее 4,0 поселение Loze, 1995402 Звейсалас Латвия глина млекопитающее 4,1 поселение Loze, 1994, 1995403 Николо-Перевоз II Московская обл. глина млекопитающее 4,0 поселение ГИМ404 Григорово I Московская обл. глина млекопитающее 3,8 поселение Кравцов, Сорокин, 1984405 Владычинская-Береговая Рязанская обл. глина млекопитающее 3,1 поселение Студзицкая, 1980406 Галанкина Гора Марий-Эл глина млекопитающее 1,9 поселение Соловьев, 1987407 Тамула Эстония кость змея 7,5 поселение Loze, 1970408 Тамула Эстония кость змея 5,5 погребение Jaanits, 1957409 Абора I Латвия янтарь змея 5,5 погребение Эпоха бронзы…, 1987410 Абора I Латвия кость змея 8,5 поселение Loze, 1970411 Абора I Латвия кость змея 8,5 поселение Loze, 1970412 Абора I Латвия кость змея 23,0 поселение Лозе, 1973413 Абора I Латвия кость змея 28,0 поселение Лозе, 1973414 Кретуонас IC Литва кость змея 5,0 поселение Гирининкас, 1990
415 Асавец II Беларусь рог змея 14,0 поселение Археологiя Беларусi, 1997416 Сахтыш I Ивановская обл. кость змея 9,0 поселение Крайнов, 1992
№ по кат. памятник география материал сюжет высота
(см) контекст публикации
417 Сахтыш II Ивановская обл. кость змея 5,5 поселение Крайнов, 1992418 Ильинский Остров Архангельская обл. кремень змея? - случайная находка Ошибкина, 1992419 Языково I Тверская обл. кремень змея? 4,8 поселение раскопки В.В. Сидорова420 Синяя Гора Тверская обл. кремень змея? 5,5 поселение Черных, 1997421 Синяя Гора Тверская обл. кремень змея? 3,8 поселение Черных, 1997
422 Пески IVA Карелия глина змея 4,5 поселениеЖульников, Спиридонов, 2003
423 Пески IVA Карелия глина змея 3,4 поселениеЖульников, Спиридонов, 2003
424 Абора I Латвия кость рыба? 10,5 поселение Loze, 1970425 Владычино Рязанская обл. кость рыба 5,5 поселение ГИМ426 Волосово Нижегородская обл. кость рыба? 4,3 случайная находка ГИМ427 Ягкодж I Коми кремень рыба? 3,2 поселение Карманов, Семенов, 2001428 Адзьва V Коми кремень рыба? 2,2 поселение Карманов, Семенов, 2001429 Синяя Гора Тверская обл. кремень рыба? 4,0 поселение Черных, 1997430 Маслово Болото IV Московская обл. кремень рыба? 2,7 поселение раскопки В.В. Сидорова
431 Волосово Нижегородская обл. кремень рыба 6,5 случайная находкаальбом П.П.Кудрявцева, ГИМ
432 Подборица-Щербининская Нижегородская обл. кремень рыба 7,8 случайная находка Цветкова, 1961433 Новое Щербинино Нижегородская обл. кремень рыба 5,4 случайная находка Гонозов, 2003