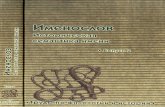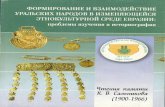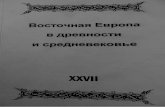Венская школа исторической этнографии и проблема...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Венская школа исторической этнографии и проблема...
1
Шпирт А.М. (МГУ). Венская школа исторической этнографии и проблема этногенеза в
раннем средневековье
Для человека нет ничего более естественного, чем мысль о том, что человечество
делится на нации. «Народ» в расовом и культурном смысле представлялся гомогенной
группой людей с общим происхождением и историей, которые говорят на одном языке и
живут на одной территории. Этот взгляд был во многом унаследован от романтизма,
видевшего в народных массах, а не в монархе или в правящей династии, действительных
объектов истории и от национализма. Национальные идеологи XIX-XX вв. видели в
«народе», носителе суверенной власти, неизменные и целостные факторы, чья история
часто описывалась ими через биологические метафоры: они рождаются, развиваются,
приходят в упадок и исчезают.
Биологический взгляд на природу наций был поколеблен конструктивистами (Э.
Геллнер, Э. Хобсбаум, Б. Андерсон), которые показали, что представления о
существовании наций – это идеи нового времени, продукт эпохи модернизации и
результат творческих усилий элит, пытавшихся для своих целей и потребностей создать и
навязать тем или иным обществам общее название, чувство солидарности и веру в
кровное происхождение и историческую память. Конструктивисты выступают против
характерных для национальных идеологий убеждений о естественном и почти вечном
существовании народов. Им противостоят примордиалисты или эссенциалисты, которые
указывают, что основой наций были этнические сообщества, существовавшие еще до
средневековья (Д. Амстронг, К. Хюбнер, А. Смит)1.
Исследования по истории Европы периода Великого переселения народов или
этнических миграций IV-VIII вв. были и являются чрезвычайно важными для поиска и
понимания концептов этничности и нации. Это было время перехода от античности к
раннему средневековью, сопровождавшееся появлением на месте унитарного римского
имперского единства многочисленных европейских королевств. В этих новых
политических условиях возрастало значение gentes, варварских племен, в которых
национальные историки XIX-XX вв. видели корни современных европейских наций.
Новый виток исследованиям демографической и этнической истории Европы
периода разложения Римской империи и генезиса средневекового мира дали работы
историка Райнхарда Венскуса (1916-2002). В объемной монографии 1961 г.
“Stammesbildung und Verfassung: Das Werden der Fruehmittelalterlichen Gentes” он указал
1 Дмитриев М. В. Проблематика проекта ≪Confessiones et nationes: конфессиональные традиции и
протонациональные дискурсы в истории Европы≫ // Религиозные и этнические традиции в формировании
национальных идентичностей в Европе. Средние века — Новое время. М., 2008. С. 23–31.
2
на существенные изменения, произошедшие в эпоху разложения Римской империи и
становления средневековых европейских королевств. В это время этническая
идентификация (Gentilismus) сменила прежние формы римского античного публичного
дискурса и фактор племенной идентичности стал сильнее имперской идентичности
провинциальных народов Римской империи.
Stammesbildung (вместо слова «этногенез» Венскус предпочитал говорить о
Gentilismus) - это процесс создания и образования новых варварских племен. По мнению
исследователя, королевские рода или успешные племенные вожди, Träger der ethnischen
Tradition, пропагандировали этнические традиции своего рода (Traditionskern) и
передавали их более широкому кругу людей, первоначально не принадлежавших к их
племени. Таким образом, под «племенем», gens/gentes (Stäme/Stamm), понималась не
объективная биологическая группа людей, объединенных общим происхождением, а
территориально-политическое образование, состоящее из людей разного языкового и
культурного происхождения. Путем передачи древних традиций они стремились показать,
что племя наделено общим происхождением и, таким образом, каждый член племени
должен жить в соответствии с определенными моделями и нормами (Verfassung). Эти
гетерогенные союзы создавали более крупные объединения и брали другие имена:
макроманы, гепиды, готы, вандалы, бургунды, франки, ломбарды и др. (Großstäme).
Способность знатных родов сохранять этническую преемственность препятствовало
появлению новых и разделению старых племен и обеспечивало выживание племенной
группы в условиях борьбы с Римом и соседними народами.
Исидор Севильский в VII в. писал о gens, genus/genos, genealogia, natio, как об
общности биологического происхождения: “Gens est multitude ab uno principle orta, sive ab
alia natione secundum propriam collectionem distincta" ("народы – это люди, которые имеют
общее происхождение или отличаются друг от друга кровными узами»). Одновременно
некоторые источники показывают и полиэтнический характер раннесредневековых
племен2. Так, Алкуин отмечал, что гунны - это "gentes populique Hunorum", а для Павла
Дьякона лангобарды были gens Langobardorum, состоящие из гепидов, свевов, аламанов,
булгаров, саксонцев и готов. Источники также часто уравнивают понятие «народ» и
«войско». Этнические границы не были статичными и перед людьми того времени была
возможность их изменения (например, Одоакр и его отец Эдика вначале были гуннами,
но затем побывали тюрингцами, ругиями, эрулами и готами). Остроготы Теодориха были
полиэтнической армией, состоящей из готов, которые в свою очередь состояли из амалов,
2 Вольфрам Х. Готы. От истоков до середины VI в. (опыт исторической этнографии) /Перевод с немецкого
СПб., 2003. С. 16.
3
ругиев, вандалов, аланов, герулов, скиров, тюрингов, свевов, сарматов, тайфалов, гепидов
и алеманов3.
Этничность имела инструментальный и ситуативный характер: люди меняли свою
идентификацию от ситуации, материальной или политической выгоды. Этносы были
конгломератами гетерогенных образований, которые постоянно меняли свой состав.
Динамический и часто противоречивый характер этнических образований не был
открытием. В этом плане немецкий историк опирался на работы советского этнолога С.В.
Широкогорова (1887-1939), который, интерпретируя этнос как биологическое явление,
тем не менее, писал о нем, как о «процессе» или как о «форме, в которой происходит
процесс созидания, развития и смерти элементов, дающих возможность человечеству как
виду существовать». Также на Венскуса большое влияние оказали немецкие этнологи-
функционалисты: В. Мюльманн и Р. Турнвальд.
Благодаря Венскусу, с 1960-х г. исследования в области germanische Altertumskunde
освободились от эссенциализма или биологического детерминизма, запятнанного
прошлыми и настоящими расовыми теориями.
Учеником Венскуса был Хервиг Вольфрам (1934), автор монументального
исследования об истории готов4, директор Института проблем австрийской истории
(Institut für Österreichische Geschichtsforschung), инициатор целого ряда конференций и
семинаров по проблемам этнической европейской истории. Взгляды Вольфарама и его
учеников (Венской школы исторической этнографии) в настоящее время той или иной
мере разделяют многие историки-медиевисты в Австрии и Германии (Вальтер Поль,
Андреас Шварч, Йорг Ярнут Хельмут Бейманн, Вальтер Шлезингер, Бенд Шнайдмюллер
и др.5), в Италии (Стефано Гаспари)
6, Испании (Луис Гарсия Морено)
7 и, в меньшей
степени, в Америке и Англии8.
3 Pohl W. Concepts of Ethnicity in the Early Medieval Studies // Archaeologia polona Vol. 29 (1991). P. 40.
4 Wolfram H. Die Goten: Von Den Anfängen Bis Zur Mitte Des Sechsten Jahrhunderts Entwurf einer historischen
Ethnografie. Munchen, 1990. Русский перевод: Вольфрам Х. Готы. От истоков до середины VI в. (опыт
исторической этнографии) /Перевод с немецкого СПб., 2003. 5 Pohl W. Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa, 567-822 n. München 2002. Bd.1-2; Ibidem. Die
Völkerwanderung. Eroberung und Integration. Stuttgart;Berlin;Köln, 2002; Ibidem. Pohl W. Social Language,
Identities and the Control of Discourse // East and West: Modes of Communication. Proceeding of the first plenary
conference at Merida / Ed. by E. Chrysos, I. Wood. Leiden; Boston; Koln, 1999. P. 127-142; Die Langobarden –
Herrschaft und Identität /Hrsg. von W. Pohl, P. Erhart. Wien 2005; Sprache und Identität im Frühen Mittelalter /
Hrsg. von W. Pohl, B. Zeller. Wien, 2012; Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic Communities, 300-
800 / Ed. by W. Pohl, H. Reimitz. Leiden; New York; Köln, 1998; Empire. The Integration of Barbarians in Late
Antiquity / Ed. W. Pohl. Leiden;New York; Köln 1997; Integration und Herrschaft. Ethnische Identitäten und
kulturelle Muster im frühen Mittelalter/ Hrsg. W. Pohl; M. Diesenberger (=Forschungen zur Geschichte des
Mittelalters. Bd. 3 = Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 301) Wien, 2002;Regna
et Gentes. The Relationship between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation
of the Roman World/ Ed. by H.-W. Goetz, J. Jarnut, W. Pohl. Leiden; Boston; Köln, 2003; Die Bayern und ihre
4
Вопросы этногенеза, в особенности, на восточнославянском материале, также
являются актуальной задачей для многих российских и украинских ученых9. Оживленную
дискуссию вызвала посвященная проблемам происхождения и ранней истории славян
книга американского представителя Венской школы Флориана Курты10
.
Вольфрам и его ученики рассматривают этногенез как сложный динамический
процесс исключения, включения и интеграции гетерогенных союзов и объединений.
Этнос анализируется как определенная форма социальной мобилизации ради решения
круга политических задач. По мере движения от Балтики до Причерноморья, Балкан,
Италии и Пиренеев готы втягивают в свою орбиту и навязывают свою этнополитическую
программу, Verfassung, массам людей, живших больших территориях. Состав этноса
меняется, и его развитие обуславливается не некими неотъемлемыми национальными
характеристиками, а многочисленными экономическими и культурными факторами.
Племя могло менять свое название, но его преемственность при этом сохранялось
благодаря прочности ядра традиции11
.
Nachbarn. Berichte des Symposions der Kommission für Frühmittelalterforschung 25.-28.10.1982. Stift Zwettl,
Niederösterreich /Hrsg. W. Wolfram, A. Schwarcz. Wien 1985; Das Reich und die Barbaren / Hrsg. von E. H.
Chrysos und A. Schwarcz. Wien, 1989; Schwarcz A. Bemerkungen zum historischen Forschungsstand in der
Geschichte der Goten vom 4. bis zum 8.Jh.// Peregrinatio Gothica. Archaeologia Baltica / Ed. by J. Kmieciński.
Łodź, 1986. P. 105-12; Typen der Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der Bayern/ Hrsg. von H.
Wolfram, W. Pohl (=Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Bd 201). Wien 1990.
C 1978 по 1991 г. Х. Бейманн, В. Шлезингер и др. издали 9 томов журнала “Nationes” (Nationes. Historische
und philologische Untersuchungen zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter). См. Также: Aspekte
der Nationenbildung im Mittelalter /Hgs. von H. Beumann, W. Schroeder. Singmaringen, 1978; Nationalismus in
vorindustrieller Zeit / Hg. O. Dann. Munich, 1986; Ansätze und Diskontinuität deutscher Nationsbildung im
Mittelalter / Hg. von J. Ehlers. Bd. 2. 1989; Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter / Hg. von H. Beumann, W.
Schröder. 1978. Bd. 1. 6 Gaspari S. Prima delle nazioni: popoli, etnie e regni fra Antichita e Medioevo. Roma, 1997.
7 Garcia Moreno L.A. Historia de Hispana visigoda. Madrid, 1989.
8Один из немногочисленных сторонников Венской Школы в Америке Патрик Гири: Geary P.J. The Myth of
Nations. The Medieval Origins of Europe. Princeton, 2002. См. также: Franks and Alamanni in the Merovingian
period. An Ethnographic Perspective / Ed. by I. Wood. Woodbridge, 1998; Ethnicity and Culture in Late Antiquity /
Ed. by S. Mitchell and G. Greatrex. London, 2000. Взгляды Венской школы частично разделяют П. Хизер и П.
Эмори: Heather P. The Goths. Oxford, 1996. P. 169, 299 – 303; Amory P. People and Identity in Ostrogothic Italy,
489 – 554. Cambridge, University Press, 1997. P.33–39. 9 Горский А. А. Русь: От славянского Расселения до Московского царства. М., 2004. С. 10–14; Дворниченко А.
Ю. О восточнославянском политогенезе в VI–X вв. // Rossica Antiqua: Исследования и материалы. 2006. С.
184–195; Tolochko O. P. The Primary Chronicle’s ≪Ethnography≫ Revisited: Slavs and Varangians in the Middle
Dnieper Region and the Origin of the Rus’ State // Franks, Northmen, and Slavs. Identities and State Formation in
Early Medieval Europe / Ed. by I. H. Garipzanov, P. J. Geary, P. Urbańczyk. Turnhout, 2008. P. 169–188. О
проблемах польского этногенеза см. монографию П. Урбаньчика: Urbańczyk P. Trudne początki Polski.
Wrocław, 2008. См. рецензию Д.Е. Алимова и А.С. Кибиня на исследование польского ученого в: Studia
Slavica et Balcanica Petropolitana.2010. №1. С. 213-236. О книге Д. Дзино о средневековых хорватах см.:
Алимов Д.Е. Миграция или трансформация. Происхождение хорватов в дискурсе постмодерна // Studia
Slavica et Balcanica Petropolitana. 2012. № 1 (11). C. 203-226. 10
Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2008. № 2 (4). 11
Wolfram H. Gothic History and Historical Ethnography // Journal of Medieval History. Vol.7 (1981). P. 309–19;
Ibidem. Origo et religo: Ethnic Traditions and Literature in Early Medieval Texts // Early Medieval Europe. Vol. 3
(1994). P. 19–38.
5
Как показывает Вольфрам, к этногенезу приводили три взаимозависимых фактора,
которые затем поддерживали устойчивость и сплоченность нового племени – успех в
битве вождей, миф об общем происхождении племени или правящей династии и
Traditionskern, механизм, который передавал, поддерживал и увековечивал миф. «Вожди и
представители «известных родов», то есть семей, которые вели свою родословную от
богов и могут соответствующими успехами доказать свою харизму, образуют
традиционные центры притяжения, вокруг которых возникают новые племена, благодаря
им этнические общности дробятся и изменяют свой состав. Кто относил себя к этой
традиции, по рождению или в результате испытаний, тот был частью gens,то есть членом
общности, имеющей общее происхождение не по крови, а по преданию»12
. Этот нарратив
имел и религиозный аспект. В первоначальных мифах правящая династия была связана с
европейскими богами (например, Одином). В более поздних модификациях можно
увидеть и более широкий круг потенциальных референтов, включавших, в том числе
греко-римский дискурс, понимаемый, однако, как часть «германской модели этнического
нарратива»13
. Этнический миф об общем происхождении поддерживался
культуртрегерами – третьим элементом этногенеза. Они состояли из элитного круга
племени, наследственной знати, носителей племенной идентичности. Этничность, прежде
эксклюзивный атрибут социальной элиты, теперь становится даром, предоставляемым
широким массам разнородного населения.
Если Венскус смотрел на gens как на термин, применимый лишь к германским
племенам, то затем его ученики указали на изменение этого термина на протяжении
долгого времени, а также его римскую и библейскую генеалогию. Gens – термин, при
помощи которого римляне описывали варваров, чей язык звучит не как человеческая речь,
а как бормотание или бессмысленный шум, их верования - суеверие, представляющее
если не язычество, то не более чем испорченное христианство, ересь и даже нечто худшее
и т.д.14
«В раннем Средневековье понятие gens часто меняло свое значение. Каролингская
gens Francorum ближе к современному понятию народа, чем gens Francorum времен
Хлодвига… Gentes не являются целыми народами, они никогда не охватывают всех
возможных членов одного рода, а всегда являются смешанными, их возникновение –
вопрос не кровного родства, а внутреннего устройства. Поначалу это означает не больше,
чем объединение и поддержание единства разнородных групп, составляющих варварское
12
Вольфрам Х. Готы. С. 17. 13
Gillet A. Ethnogenesis. A contested model of Early Medieval Europe // History Compass. Vol. 4 (2006). №. 2. P.
246. 14
Вольфрам В. Готы. C. 17-18.
6
войско»15
.
Поэтому этногенез – это и история возрастания gens до статуса populus: «Gens
времен Великого переселения народов не была сформировавшимися территориально-
политическим единством, она представляла собой не сложившуюся национальную
идентичность, не состояние, а подвижный процесс. Gens в стадии формирования – всегда
«в пути», in peregrinatione, цель которого заключается в том, чтобы посредством
королевской власти и единой веры превратиться в народ (populus). Таким образом, новый
политический и религиозный статус – статус римских федератов и принятие католицизма
- означал, что варвары допускались в пределы высокой культуры и под новым gens
следует уже понимать «понятие государственного народа»16
.
Таким образом, Венская школа предлагает динамическую модель формирования
этнической идентификации, которая началась в эпоху поздней античности и раннего
средневековья. Преодолевая традиционные классические политические идеологии,
этническая идентификация стала основой для формирования и создания таких категорий,
как «народ» и «государство». В модель этногенеза также входят элементы римской и
христианской традиции. Иными словами, изучается соотнесение и тесное переплетение и
изменения римских, иудео-христианских и германских (варварских) традиций17
.
Как правило, полемика о природе раннесредневековой этничности
концентрируется на периоде Великого переселения народов, с 3 по 6 в. и в первую
очередь, исследуются германские племена, которые проникли в Римскую империю и
создали на ее месте новые политические системы. В меньшей степени внимание
исследователей уделяется периоду с 6 по 11 в., а также племенам, находившихся вдалеке
от границы с Римом - скандинавам и славянам. С 5 и 6 в., с момента создания «больших
королевств» историки отмечают этнические перестановки, переформатирование старых и
появление новых этнических практик, связанных с социальным продвижением и чаще
всего направленных на закрытие этноса. У визиготов, англо-саконцев и франков эти
процессы проходили по-разному. Прочность и успешность новых государств во многом
зависела от эффективности этнической политики, ее открытости и замкнутости18
. Таким
образом, историки пишут не об одном, а о двух и даже трех этногенезах.
15
Там же С. 16-17. 16
Там же. С. 24. 17
О христианской оппозиции gens/populus см.: Stroumsa G. Philosophy of the Barbarians: On Early Christian
Ethnological Representations // Geschichte-Tradition - Reflexion. Festschrift fur M. Hengel zum 70 Geburstag /
Hrsg von. H. Cancik, H. Lichtenberger, P.Schafer. Tubingen, 1996. Bd. 2. P.339-368; Geary P. A Myth of
Nations… P. 49 passim. 18
Geary P. Barbarian and Ethnicity // Late Antiquity. A Guide to the Postclassical World / Ed. by G.W.
Browersock, P. Brown, O. Grabar. Cambridge, MA., 1999. P. 107-129; Franks, Northmen and Slavs. Identities and
State Formation in Early Medieval Europe / Ed. by I. H. Garipzanov, P.J. Geary, P. Urbańczyk. Turnhout, 2008.
7
Вальтер Поль, наиболее известный современный представитель Венской школы, в
одной из своих статей показал, как традиционные операционные критерии, при помощи
которых людей обычно относят к тем или иным этническим группам (как язык, оружие,
одежда, внешний вид и др.), в действительности являлись не этническими маркерами, а
неоднозначными и неотчетливыми этническими дискурсами различения19
. Язык для
людей того времени не представлялся чем-то уникальным, одежды, прически, оружие
были знаками виртуального символизма, социального статуса или регионализма, но не
маркерами этнической принадлежности. Таким образом, этничность продуцируется через
дискурс, этнические практики и, перефразируя Э. Ренана, можно сказать, что этничность -
это une pratique de tous les jours20
. Этнические имена, которыми пестрят средневековые
источники – это не некие вневременные культурные субстраты, а результат и отражение
«динамики принадлежности».
В этом плане Поль следует за современными теориями социальной и культурной
антропологии - «стратегиями различения» Пьера Бурдье и «этническими границами»
Фредерика Барта. То, что этнические группы не даны в реальности, не означает, что нет
социального пространства различий, способствующих формированию коллективных
различений «мы» и «они», «свои» и «чужие», которое связано с верой в общее
происхождение, особенностями языка, религии, неравным доступом к социальным
ресурсам. Для Барта и Бурдье, этничность – это комплекс отношений, проявляющихся в
производстве этнических различий и различений и выступающих как воспроизводство
отличительной системы этнокультурных практик21
.
Вместе с тем использование методов, выработанных на практике наблюдений за
группами с устойчиво выраженным этническим самосознанием, для работы над
средневековыми источниками, по замечсанию Э. Джилета, представляется
проблематичным22
.
В. Поль и другие представители Венской школы показывают возможности
сравнительного и междисциплинарного анализа для выявления многогранности
раннесредневековой этничности. Филология и лингвистика необходимы для анализа
варварских имен и названий, разбросанных по латинским источникам, фольклористика
изучает передачу устной традиции через письменные источники, социальная и культурная
19
Pohl W. Telling the Difference: Signs of Ethnic Identity // Strategies of distinction: the Construction of Ethnic
communities? 300-800 / Ed. by W. Pohl, H. Reimitz. Leiden, 1998. P. 19-70. 20
Reuter T. ‘Whose race? Whose ethnicity. Recent medievalists’ discussions of identity // Reuter T. Medieval
Polities and Modern Mentalities / Ed. by Janet Nelson (Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 103. 21
Низамова Л.Р. Сложносоставная концепция модерной этничности: пределы и возможности
теоретического синтеза // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 12 (2009). №1. С. 145. 22
Gillet A. Ethnogenesis. P. 244.
8
антропология – механизмы конструирования этнической памяти и практики. Особое
внимание исследователей раннесредневековой этничности обращено к археологии.
Этнические миграции и появление племен традиционно были одной из главных задач
немецкой археологии. Метод картирования и отождествления археологической культуры
с этносом в решении проблем этногенеза долгое время был характерен и для
отечественной археологии23
. Однако в последнее время результаты работ немецких
археологов (Фрайбургская школа) меняют прежние представления об этнических
маркерах материальных культур. Политические границы, этнические карты,
лингвистические группы и области определенной материальной культуры далеко не
всегда могут быть наложены друг на друга, поскольку необязательно совпадают24
.
Археологические культуры, демонстрирующие различные образцы стилей,
свидетельствуют не об этнических компонентах, но о взаимодействии, обмене и новой
динамике контактов.
Для С. Брезера, археологические культуры - это абстракции, созданные
произвольным путем из массы различных предметов25
. Даже предметы, которые по
письменным источникам определяются, как свойственные тому или иному этносу, не
являются систематическими и регулярными в регионе проживания этого этноса. Простое
население, вполне вероятно, следовало этнических канонам (топоры francicsa, фибулы,
стеклянные бусы, высококачественная керамика франков), но нет свидетельства, что им
был присущ такой хабитус, который делал их франками и лангобардами больше, чем те,
кто этим моделям не следовал. Некоторые предметы из могил имеют символическую
ценность, однако у нас нет возможности понять роль и значение этой символики для
людей того времени. Если связь находками и этническими показателями и есть, но она
неустойчива, и не всегда позволяет реконструировать этнический ландшафт более точно,
чем тот, о котором мы можем узнать из письменных источников26
. Таким образом, gentes
являются исключительно книжным продуктом.
23
Клейн Л.С. Археология в седле. Косинна с расстояния 70 лет // Stratum plus. T.4 (2000). C 88-140. 24
Pohl W. Conceptions of Ethnicity. P. 47. 25
Изучая археологию региона проживания алеманов, С. Брезер указал, что между 3 и 7 в. нет никаких явных
изменений в материальной культуре, которые могли бы свидетельствовать об этногенезе алеманов: Brather
S. Ethnic Identities as Constructions of Archaeology: The Case of the Alamanni // On Barbarian Identity: Critical
Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages. Studies in the Early Middle Ages / Ed. by A. Gillet. Turnhout,
2002. P. 149 –75. Между тем, исследование Фолькера Бербрауэра показывает связь между могильниками
Паннонии и Италии, куда из Венгрии в конце 5 в. эмигрировали лангобарды: Bierbrauer V. Die Landnahme
der Langobarden in ltalien aus archiiologischer Sicht', in Ausgewiihlte Probleme europiiischer Landnahmen des
Friih- und Hochmittela/ters:Methodische Grundlagendiskussion im Grenzbereich zwischen Archiologie und
Geschichte / Ed.by Michael Muller-Wille and Reinhard Schneider (=Vortriige und Forschungen Bd. 41.1).
Sigmaringen, 1993. P. 103-172. 26
Jones S. The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past. and Present. London, 1997; Effros B.
Merovingian Mortuary Archaeology and The Making of the Early Middle Ages. Berkeley, 2003; Curta F. The
9
Другое важное замечание В. Поля и Венской школы касается изменения
отношения к источнику. После лингвистического поворота историки отошли от
позитивистского поиска исторической правды. Для них исторический источник – это не
свидетельство того, что было в действительности, а результат создания нового прошлого
для настоящего. Это дает возможность привлекать те источники, которые обычно
считались ненадежными (например, агиографические). При этом раннесредневековые
нарративные источники не могут быть названы литературными фикциями, поскольку они
создавали и отражали социальное сознание времени и выполняли конкретные
политические и религиозные задачи.
Торонтская школа и критика концепции этногенеза
Историки, придерживающиеся прежнего понимания gentes как устойчивых
гомогенных, социальных и культурных групп, объединенных общим происхождением,
языком и обычаями, в настоящее время на Западе составляют очевидное меньшинство.
Тем не менее, в адрес Венской школы звучит и острая критика. Ее, как правило,
представляет Торонтская школа во главе с Уолтером (Вальтером) Гоффартом.
Критические замечания Гоффарта27
последовали только после выхода английского
перевода монографии Р. Венскуса в 1988 г. и имели, таким образом, запоздалый
характер28
.
Критики указывают, что поиск этнической идентичности в социальных
конструктах в начале 1960-хгг. уже не был чем-то новым и особенным. Понимание Völker
как культурного, а не биологического феномена, уходит в начало 20 в.29
и даже раньше
даже могло разделяться некоторыми любителями германских древностей30
. Между тем
более важное значение в работах Венскуса имеет особая для немецкой историографии
проблема преемственности или культурного единства между немецкой древностью и
Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700. Cambridge, 2001; Daim
D. Archaeology, Ethnicity and the Structures of identification: The Example of the Avars, Carantanians and
Moravians in the Eighth Century' // Strategies of Distinction. P. 71-93; Halsall G. Early Medieval Archeology and
History: Some Interdisciplinary Problems and Potentials for Twenty-First Century // Mediävistik im 21.
Jahrhundert: Stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung / Hsg. Von H.-
W. Goetz, J. Jarnut. Munich, 2003. P. 163–185. 27
Goffart W. The Theme of "The Barbarian Invasions" in Later Antique and Modern Historiography // Rome's Fall
and After / Ed. by W. Goffart. London; Ronceverte, 1989. P, 111-132.; Ibidem. Two Notes on Germanic Antiquity
Today // Traditio. Vol. 50 (1995). P. 9– 30. См. также: Bowlus C.R. Ethnogenesis Models and the Age of
Migration: A Critique // Austrian History Yearbook. 1995. Vol. 26. P. 147-164. 28
Оценка Венской школы, обзор и развитие проблематики этногенеза см.: Gillet A. Ethnogenesis. P. 241–260;
Heather P. Ethnicity, Group Identity and Social Status in the Migration Period // Franks, Northmen and Slavs. P. 17-
49. 29
Gallander-Murray A. R. Wenskus on Ethnogenesis: Ethnicity and the Origin of the Franks // // On Barbarian
Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages / Ed. by A. Gillett. P. 50. Это работы Х.
Хадвика и Э. Шварца: Chadwick H.M. The Origin of the English Nation. Cambridge, 1907; Schwarz E.
Germanische Stammeskunde. Heidelberg, 1956. 30
Первые тома немецкой истории Карла Фридриха Айнхорна появились еще в 1808 г. Eichhorn K.F.
Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. 5. Auflage. Gottingen, 1842–1844. Bd. 1-4.
10
раннесредневековой государственностью. Точка зрения на то, что историю
постимперского Запада следует рассматривать через призму этнической идентичности,
что «этнические дискурсы стали ключом к политической власти» восходит к
романтическому видению истории, которое в народах видело основу исторического
процесса. Венскус предлагает новую аргументацию, однако приходит к прежнему
результату: движущей силой европейской истории были автохтонные германские племена
(Gentilismus). Ранняя средневековая история является, по сути, продолжением северной
европейской протоистории. Идеология власти черпалась не из имперского римского
дискурса, а из племенных германских традиций. Это видение, свойственное национальной
немецкой историографии XIX-XX вв., создает дихотомию между варварскими и
римскими началами и отделяет Западную Европу от процессов, которые шли в
Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке31
. Вместе с тем теория этногенеза
Венской школы выходит за границы изучения Западной и Северной Европы и в настоящее
время применяется для анализа коллективной идентичности не только славян, но и других
народов, живших за пределами Западной Римской Империи, в частности, православных
сирийцев в Византии и коптов в Египте32
.
В равной степени критике подверглось объяснение Венскусом механизмов
передачи традиций через Traditionskern. В королевских Traditionskern критики Венскуса
усмотрели влияние взглядов немецкой новой школы политической истории (neue
Verfassungsgeschichte) - Г. Данненбауэра, Т. Майера и, прежде всего, О. Хёффлера.
Представители этой школы, создавшейся в 30-е г. прошлого века в противовес
традиционному вниманию на вечевую демократию акцентировали внимание на власти и
вождестве, подчеркивали аристократический характер германских королевств. По их
мнению, власть вождей и королей лежала в основе племенной традиции и воплощала
gens33
. Идея о Traditionskern стала объектом критики сразу после выхода монографии
Венскуса и предположение о том, что племенным центром племени было военное ядро,
оспаривается многими историками34
.
31
Gillet A. Ethnogenesis. P. 246. Ср. Strobel K. The Galatians in the Roman Empire: Historical Tradition and
Ethnic Identity in Hellenistic and Roman Asia Minor // Ethnic Constructs in Antiquity. The Role of Power and
Tradition / Ed. by T. Derks, N. Roymans. Amsterdam, 2009. P. 117-144. 32
Romeny B. ter H. Ethnicity. Ethnogenesis and Identity of Syriac Orthodox Christians // Visions of Community in
the Post-Roman World: The West, Byzantium, and the Islamic World / Ed. by W. Pohl, C. Gantner, R. Payne.
Aldershot, 2012. P. 183–204. По мнению автора, модель Traditionskern позволяет выявить роль высшего
духовенства в определении и структурировании границ общины сирийских христиан. 33
Gillet A. Ethnogenesis. P. 250; Murray A.C. Reinhard Wenskus. P. 53-57. 34
Amory P. People and Identity. P. 36-39; Kulikowski M. Nation Versus Army: A Necessary Contrast // On
Barbarian Identity. P. 69-84. см. также рецензию на книгу Венскуса Франтишека Грауса в: Historia. Bd. 7
(1963). S. 187-188.
11
Между тем, сам В. Поль оспаривает многие положения Р. Венскуса. Это и
понимание племени (Stamm), как части немецкого народа, существовавшего только в виде
лингвистической абстракции, и убеждение в том, идеология Gentilismus обладала
метафизической силой (склонность к Geistesgeschichte), и элитарная трактовка
Traditionskern35
.
В последнее время работы по антропологии отошли от инструменталистских
моделей, которые этническую идентичность рассматривают в категориях политической
стратегии элит36
. Согласно В. Полю, Traditionskern состоят из свободного набора групп и
сетей, принимавших то или иное участие в этнических практиках37
(loose set of groups and
networks). Предлагая различение между этническим дискурсом и часто невыраженным
этническим самосознанием, Поль отходит от этноса, как продукта политической
стратегии. Таким образом, подход Венской школы лишь частично совпадает с
конструктивистским антропологическим и социологическим взглядом на природу
этнической идентификации и становится ближе к этно-символизму Э. Смита.
В это же время П. Гири выделяет три типа, по которым выстраивалась варварская
идентичность. В первых двух типах, характерных для салических франков, лангобардов,
готов и степных народов харизматический лидер, ведущий род и королевская семья
продолжают играть ключевую роль в создании этнических мифов и практик. Это
салические франки, лангобарды, готы. Что касается славян, алеманов и, возможно,
баварцев, то здесь традиции поддерживались и передавались не благодаря этническому
творчеству воинских элит, но через общинные структуры и чувстве локальной
укорененности38
.
Схематическая дихотомия между варварскими и римскими началами и
исключительно немецкая трактовка этногенеза также является объектом критики как В.
Поля, так и Торонтской школы.
35
Pohl W. Ethnicity, Theory, and Tradition: A Response // On Barbarian Identity. P. 231-232. 36
Gillet A. Ethnogenesis. P. 245; Murray A.C. Reinhard Wenskus. P. 53-54. В последнее время Вальтер Поль
отошел от представления об агрессивности этнического дискурса. Ср. Ethnic identities in a world as complex
as Late Antiquity only existed through efforts to make them meaningful. Face-to-face groups, local and regional
communities could share a sense of belonging without much effort; they only needed to distinguish between 'us' and
'them'. Goths or Franks lived in a world where this was not enough. They were gentes among many others,
distributed over wide areas; to give them a sense of community required more sophisticated forms of
communication. This is an idea that I have repeatedly proposed, and it is not simply functionalist or instrumentalist.
It takes the social construction of reality into account but is not wholly constructivist either. (Pohl W. Ethnicity,
Theory, and Tradition. P. 238). 37
Pohl W. Telling the Difference P. 68; Ibidem. Tradition, Ethnogenese und literarische Gestaltung. Eine
Zwischenbilanz // Ethnogenese und Uberlieferung / Hrsg. von K. Brunner, B. Merta. Vienna; Munich, 1994. S. 9-
26; Ibidem. Ethnicity, Theory, and Tradition. P. 232. 38
Gaery P. Barbarian and Ethnicity. P. 107-129, ср. Pohl W. Conceptions of Ethnicity. P. 42-46. При этом сложно
что-либо сказать об общинной идентичности этих племен.
12
По мнению Гоффарта и его сторонников, варварские королевства стали результатом
римской оборонительной политики. Варвары переняли римскую административную и
налоговую систему и стали органическим и интегрированным фактором позднеантичного
мира39
. В этом плане Гоффарт, по замечанию К. Модзелевского, следует за последним
представителем новой немецкой школы политической истории Карлом Бозлем. По
мнению Бозля, варварские правовые кодексы имели территориальный, но не лично-
этнический характер. Как отмечает Я. Воод, термины «варвар» и «римлянин» в
варварских правовых кодексах лишь иногда означали этническую группу (например,
ругии, которые сохранили родовую идентичность в рамках Остроготской Италии), но
чаще всего отражали политические, классовые и даже религиозные образования40
. Между
тем К. Модзелевский показывает, что до 8 в. (а в Испании до середины 7 в.) в варварских
государствах сохранялся этно-правовой дуализм41
.
Обе школы согласны в том, что между раннесредневековым этническим дискурсом
и описанием родовой варварской общиной существует серьезное расхождение.
Упоминаемые в латинских текстах немецкие или аварские названия, слова и термины не
могут передавать в полной мере социальные структуры и культурные традиции
варварских племен, несвойственные и чуждые римско-христианскому дискурсу.
Классический библейский и античный греко-римский способ разделения людей на ethnoi i
gentes был воспринят элитами новых государств. Этнический дискурс оказался нужен в
создании и укреплении их власти в сильно различавшихся варварских обществах.
Выживание племен стало обязано письменному римско-христианскому дискурсу, который
рационализировал и укреплял варварскую идентичность. Патрик Гири в этом отношении
заметил, что варварские королевства были наиболее прочным созданием римского
военно-политического гения.
39
Goffart W. Barbarians and Romans, A.D. 418-584. The Techniques of Accomodation. Princeton 1980; Ibidem.
Barbarian Tides: The Migration Age and the Later Roman Empire. Philadelphia, 2006. Точка зрения Гоффарта о
континуитете Рима и варварского мира встретила серьезные возражения: Cesa M. Hospitalitas о altre
„techniques of accomodation" // Archivio Storico Italiano. Vol. 140 (1982). P. 539-552; Barnish J. В. Taxation,
Land and Barbarian Settlement in Western Empire // Papers of British School at Rome. Vol. 54 (1986). P. 170-195;
Liebeschuetz W. Cities, taxes and the Accommodation of the Barbaríans: the Theories of Durhat and Goffrart //
Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarians in Late Antiquity / Ed. by W. Pohl. Leiden-New York-Köln
1997. P. 309-323. 40
Wood I. Conclusion: Strategies of Distinction // Strategies of Distinctions. P. 299. О неопределенности термина
«варвар», который, например, для визиготов мог означать франков см. также: Sivan H. The Appropriation of
Roman Law in Barbarian Hands: "Roman-Barbarian" marriage in Visigothic Gaul and Spain // Strategies of
Distinctions. P. 189-204; Эту точку зрения разделяет также Эмори: Amory P. People and Identity. P. 12–18. 41
Modzelewski K. Barbarzyńska Europa. Warszawa, 2004. S. 68-88. См.: Guterman S. L. The Principle of
Personality of Law in the Germanic Kingdoms of Western Europe from the Fifth to the Eleventh Century, New
York 1990; Wickham C. The Other Transition: from ancient World to Feudalism //Past and Present. Vol. 103
(1984). P. 3-36.
13
Однако обе школы различаются в методе и трактовке источников и в оценке
передачи латинскими источниками варварских реалий. Подход Вольфрама и его
сторонников гомогенизирует тексты разного жанра и происхождения как единый
источник этнических представлений. Отходя от строгого исторического анализа, историки
Венской школы оценивают тексты в зависимости от объема информации, которые они
дают о механизмах формирования этнической самоидентификации. Для них источник –
это канал передачи определенной информации. Между тем чтение латинских авторов, как,
например, Иордана зависит от вопросов, которые мы ставим к его «Хронике» - верная
передача источников, соотношение устной готской истории и греко-римской
литературной традиции. Так, готская легенда о происхождении племени, origo gentis, у
Иордана, по мнению Вольфрама, развивается в соответствии с трехчастной литературной
схемой: primordiale Tat (переход племени через море или реку и победа в сражении);
Religions und Kult wechsel (изгнание ведьмы Халирунны и создание нового культа),
Erbfeind Numer Eins (поиск главного врага в виде вандалов). Однако ни один из этих
мотивов, по замечанию Касперского, в действительности не находит своего отражения у
Иордана42
. В той же мере проблематичной может быть ретроспекция свидетельств из
скандинавской литературы 13 в., Снорри Стурлусона, хроники Саксона Грамматика,
Лиотпранда Кремонского или Видукинда на раннюю, архаическую и дописьменную
историю варварских племен. Весьма спорным является перенесение священного копья
Оттона не столько на крест распятия, гвозди из которого по легенде были вставлены в
клинок, но и на копье Водана и к наскальным рисункам в Швеции, где изображение
копий, очевидно, имели ритуальное значение. Также неоправданно трактовать
королевскую харизму, fortuna или felicitas, которую в хрониках приписывали к
божественной благодати, как проявление сакрального германского Konigsheil43
.
По мнению Поля, готские имена и названия у Иордана могут свидетельствовать не
только о знакомстве автора с готским словарем, но и о достоверной передаче устной
традиции, поскольку эти названия нигде более не встречаются44
.
Более полезными для дискуссии являются исторические свидетельства о победах
варваров, как способе привлечения новых сторонников неясного происхождения к
доминирующей этнической идентичности. Однако ни вандал Гейзерих в Северной
Африке (5 в.), ни гот Теодорих в Италии (5 в.), ни Хлодвиг, ни Альбоин - ни один из них
42
Kasperski R. Problem etnogenezy Gotów w ujęciu Herwiga Wolframa: refleksje nad metodą // Kwartalnik
historyczny. T. 118 (2011). №3. S. 399-430. 43
Pizarro J. M. Ethnic and National History, c. 500–1000 // Historiography in the Middle Ages / Ed. by D.
Mauskopf Deliyannis. Leiden, 2003. P. 45-46. 44
См. также Pohl W. Ethnicity, Theory, and Tradition. P. 228. Brink S. People and Land in Early Scandinavia //
Franks, Northmen and Slavs. P. 87-112.
14
не погасил локальные идентичности своих сторонников. В их дискретных и фракционных
королевствах продолжали существовать локальные варварские этнические идентичности
(тервинги и грейтунги у готов, брисигавы у алеманов, силинги и гастинги у вандалов,
гепиды у лангобардов, руги у остроготов и т.д.). По мнению В. Поля, локальные и
региональные общности, так и индивидуальные группы могли выражать чувства
принадлежности друг к другу и различать своих от чужих без серьезных усилий. Готам и
франкам это было уже недостаточно. Они были gentes среди многих других групп,
живущих на большой территории, и для конструирования их чувства принадлежности и
солидарности им требовались более сложные формы коммуникации. При этом
ассимиляция не означает абсорбции, меньшинства могли участвовать в публичной жизни
и культуре большинства, идентифицировать себя с доминантной этнической группой при
этом сохранять отдельную этническую идентичность на протяжении многих поколений45
.
Меняющиеся раннесредневековые этносы описываются в источниках как
стабильные, единые и отдельные образования в терминах gentes и nationes. Латинские
письменные источники наполнены этническими категориями. Некоторые из них являются
устойчивыми топосами (гунны как «скифы»), другие следуют за консерватизмом
историографической традиции: аваров, которые вытеснили гуннов из Паннонии,
продолжали называть гуннами. Некоторые племена, между которыми не было никаких
культурных связей, носят общее этническое название (булгары, славяне, германцы).
Исследователь также не всегда может понять, являлся ли этноним внутренним или
присвоенным (венеты-славяне)46
.
Сторонники Гоффарта видят в этнических категориях раннесредневековых
источников продукты имперского римского дискурса различения, который использовался
римлянами для упорядочивания разнообразия, отражение греко-римского мышления, в
котором географический регион сопоставляется и объединяется с ethnie. Это
терминология изолированных от исторического окружения историков и агиографов:
Григорий Турский пишет свою историю, следуя за Оросием, как Беде Достопочтенный за
Евсевием. Кесарийским47
. Группового выражения этничности не существовало, поэтому
сила ее не более чем химерична: варварские вожди представляли себя римскими
чиновниками, но не вождями, носителями этнической традиции (Одоакр и Теодорих)48
.
45
Pohl W. Ethnicity, Theory, and Tradition. P. 234-235. 46
Pohl W. Conceptions of Ethnicity. P. 27. 47
Goffart W. The narrators of barbarian history (A.D. 550-800). Jordanes, Gregory of Tours, Bede and Paul the
Deacon. Princeton, 1988; Pizarro J. M. Ethnic and National History, c. 500–1000. P. 43–87. 48
Gillet A. Was Ethnicity Politicized in the Earliest Medieval Kingdoms // On Barbarian Identity. P. 85-121.
15
В то время Поль показывает, что титулатура готских вождей отражала статус
абсолютного правителя, в то время как этническая специфика указывала бы на
ограниченность их власти49
.
Дискуссия варварских и античных традициях в средневековых источниках – это не
только вопрос о том, является ли этническая идентификация социальным конструктом, но
и методологическая, эпистемологическая и метаисторическая проблема о представлении
Европы. Как говорить и писать о Европе: как о сообществе враждующих, соперничающих
и идеологически мотивированных этнических сообществ, или же раннесредневековое
общество следует представлять в категориях постримских религиозных и
государственных практик?50
Полемика о раннесредневековом этногенезе во многом
зависит от чтения и трактовки средневековых источников. Методологический,
идеологический и метаисторический выбор историка во многом определяет его
исследовательскую позицию.
49
Pohl W. Ethnicity, Theory, and Tradition. P. 234. 50
Gillet A. Ethnogenesis. P. 243.