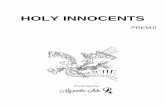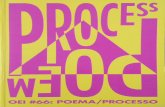Usage of authentic poetic fiction texts in Russian as foreign language lessons as a basis for...
Transcript of Usage of authentic poetic fiction texts in Russian as foreign language lessons as a basis for...
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
DOĞUMUNUN 200. YILI ANINA DÜNYA KÜLTÜRÜNDE M.Y.
LERMONTOV
ULUSLARARASI SEMPOZYUM
(25-26 HAZİRAN)
Yayıma Hazırlayanlar
Yrd. Doç. Dr. Bahar GÜNEŞ
Arş. Gör. Hadi BAK
Arş. Gör. Murat YILMAZ
АТАТЮРКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Международная научно-практическая конференция
« Русская классическая литература в мировой культуре и
научных исследованиях»: К 200- летнию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова»
Материалы Международной научно-практической
конференции
Эрзурум, 25-26 июня 2014 г.
Bahar GÜNEŞ, Hadi BAK, Murat YILMAZ
DİZGİ/MİZAMPAŞ
Serhat Bilişim
ISBN: 978-605-85594-7-9
Kapak Tasarımı:
Serhat Bilişim
Baskı
Serhat Bilişim
Cumhuriyet Cad. Cumhuriyet İş Merkezi
Kat: 3 No: 138 ERZURUM
Tel: 0442 234 14 90 – 0537 414 93 14
0542 368 97 62
www.serhatbilisim.com.tr
İSTEME ADRESİ
Serhat Bilişim
Cumhuriyet Cad. Cumhuriyet İş Merkezi
Kat: 3 No: 138 ERZURUM
Оргкомитет конференции:
Бахар Гюнеш, заведующий Отделением русского языка и литературы Ататюркского
университета (Эрзурум, Турция), доктор, профессор РАЕ.
Тариэль Сикхарулидзе, доктор, профессор Ататюркского университета (Эрзурум,
Турция ).
Рафаэль Гусман Тирадо, профессор доктор, Гранадский университет ( Испания)
Давид Гоцеридзе, доктор, профессор, Генеральный секретарь Ассоциации русистов
Грузии, директор Института Русистики Тбилисского ГУ им. Ив. Джавахишвили.
И. Ван Лёевен, доктор, профессор, директор Института Языков Йенского университета
им. Ф. Шиллера (Германия).
Дареджан Твалтвадзе, доктор, профессор, декан гуманитарного факультета
Тбилисского ГУ им. Ив. Джавахишвили.
Нани Гаприндашвили, доктор, профессор, зам. декана гуманитарного факультета
Тбилисского ГУ им. Ив. Джавахишвили.
П. Рунге, профессор Института Славистики Йенского университета им. Ф. Шиллера
(Германия).
Мария Филина, доктор, профессор Института Русистики Тбилисского ГУ им. Ив.
Джавахишвили.
Тамар Шарабидзе, профессор, гл. эксперт Министерства образования Грузии.
Анна Поселенова, доктор, доцент Ататюркского университета (Эрзурум, Турция).
Лариса Адонина, доктор, доцент Севастопольский городской гуманитарный
университет
Ольга Фисиенко, доктор, доцент РУДН (Москва, Россия)
Рамазанова Севиндж, преподаватель Агрыйского университета (Агры, Турция)
Рамазанова Шелала , доктор, доцент Агрыйского университета (Агры, Турция)
Хади Бак, ассистент аспирант Ататюркского университета (Эрзурум, Турция)
Мурат Йылмаз, ассистент магистр Ататюркского университета (Эрзурум, Турция)
Озлем Дибекоглу, ассистент магистр Ататюркского университета (Эрзурум, Турция)
Рахман Оздемир, ассистент магистр Ататюркского университета (Эрзурум, Турция)
Чейлан Текин, ассистент магистр Ататюркского университета (Эрзурум, Турция)
Чигдем Дадак, ассистент магистр Ататюркского университета (Эрзурум, Турция)
Исмаил Ондер Коркмаз, студент Ататюркского университета (Эрзурум, Турция)
1
НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Р.М. Болгарова
КФУ, Казань, Россия
Выполняется в рамках гранта РГНФ 13-14-16014
Все знания человека о мире существуют в его сознании в виде картины мира, и
образ мира, который складывается у разных этносов в процессе постижения ими
многообразия мира, накладывает отпечаток на язык. Сравнительные конструкции
являются ценным материалом для выявления некоторых особенностей языковых
картин мира разных народов. Данные конструкции относятся к числу тех языковых
универсалий, которые обнаруживаются практически в любом языке. Следовательно,
сопоставительное изучение сравнительных конструкций русского и татарского языков
является одним из наиболее перспективных направлений в лингвистике и в
лингвокультурологии.
В последние годы появились исследования, рассматривающие сравнительные
конструкции как элемент этноязыковой картины мира и выявляющие влияние
культуры и мышления на структуру и семантику сравнительных единиц. Основную
смысловую нагрузку исследуемых конструкций несут эталоны сравнения. Именно этот
компонент определяет семантику сравнений в целом и отражает национальную
специфику компаративных единиц.
Языковое выражение ценностных предпочтений, которое реализуется в
семантике компаративных конструкций русского и татарского языков, имеет образный
характер: мышление человека ассоциативно, что проявляется в образных номинациях
объектов, которые сравниваются с хорошо известными предметами и явлениями.
Образность исследуемых конструкций основана на их внутренней форме, которой
мотивируется общая целостность их семантики. Использование тех или иных
наименований в качестве образов сравнений может дать представление о месте,
которое занимают различные явления и объекты в картине мира разных этносов, а
также об особенностях их мышления.
Одним из приемов выявления национальной языковой картины мира является
свободный ассоциативный эксперимент. Цель нашего эксперимента – определение
особенностей национальной картины мира. Для этой цели были отобраны примеры из
художественных произведений русских и татарских писателей, содержащие сравнения
антропоцентрической направленности.
По примерам из художественных произведений был сделан вывод о том, что
образной основой сравнений в исследуемых языках становятся лексемы разных
семантических классов: флора, фауна, предметы быта, природа и др. Наибольшее
распространение в качестве объектов сравнения получили названия растений и
животных.
Для проверки воспроизводимости говорящими носителями русского и
татарского языков образов и выявления числа совпадений с примерами из
художественных произведений был проведен ассоциативный эксперимент.
Информантам предлагалось заполнить компаративную конструкцию,
последовательно подбирая слова, которые могут служить основанием для сравнения по
предложенному в эксперименте признаку.
При сравнении полученных данных в результате опроса информантов с
компаративными конструкциями из художественных произведений обнаружилось, что
во многих случаях информанты показали меньшее разнообразие в использовании
образов сравнений. Проведенный нами эксперимент позволил выявить некоторые
2
общие черты и имеющиеся различия в языковой картине мира русских и татар. В
семантике каждого национального языка складывается система образов, в которых
аккумулируется культурная информация.
Индивидуальные языковые картины мира у разных языковых личностей
несколько отличаются, но в их индивидуальных картинах мира содержатся общие
языковые стереотипы.
Таким образом, изучение индивидуальных сравнений, в образном содержании
которых воплощаются менталитет и духовная культура индивида как представителя
своего этноса, способствует изучению национальной специфики языковой картины
мира.
Национальная специфика языковой картины мира
В данной статье рассматриваются вопросы выявления особенностей
национальной языковой картины мира. Одним из способов данных исследований
является свободный ассоциативный эксперимент.
Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, компаративные
конструкции, национальная картина мира.
National specific linguistic world
The article deals with the problems of revealing of the national language picture of the
world. One of the ways of this research is a free associative experiment.
Key words: free associative experiment, comparative design, the national picture of
the world.
3
ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ ГЕНДЕРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ПРОСТРАНСТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: ФЕМИННЫЙ АСПЕКТ
Х. В. Букатчук
Государственное высшее учебное заведение «Прикарпатский национальный
университет имени Василия Стефаника», Ивано-Франковск (Украина)
Научный руководитель – канд. ф. н., доцент Я. Г. Мельник
Феминные и маскулинные субстанции в художественном тексте есть
психоментальнимы векторами, которые определяют кодификацию художественного
целого. Среди многообразия кодов (родительские, материнские, национальные,
психологические, ментальные, культурологические, политические, социальные,
религиозные и т. д.), которые можно выделять в структуре произведения, одним из
основных является код гендерной коммуникации. Его функциональность в
художественном тексте в основном определяется ментально-семантическими,
психосмисловимы, формально-структурными, графически-выразительными
психолингвистическими категориями. Каждая из них в конкретном текстовом
пространстве может занимать как имманентную, так и релевантную позицию, что
создает множество вариаций для потенциальных сценариев гендерной коммуникации в
рамках художественного произведения.
Код гендерной коммуникации – это психоментальное симбиозное образование в
субъектной бивалентной структуре «маскулинное-фемининное», актуализирует себя в
коммуникативной текстовой ситуации.
В психолингвистике проблема установления демаркационной линии в текстовом
пространстве феминного-маскулинной коммуникации предполагает задачу выявить
специфику имманентных маскулинного и феминного стилей и концептосмислив в
процессе общения, учитывая идиостильовие особенности дескриптора.
Парадоксальным является тот факт, что экспликация феминных и маскулинных
коммуникативных особенностей в текстах еманует с репрессивно-деструктивных
действий по отношении к женственности и мужественности в художественных
субъектах.
Процесс вытеснения феминного типа поведения до его репрессии присутствует
в романе Александра Солженицына «В круге первом» (1958 г.). Симочка,
художественный субъект текста, попадает в психологически антитетичною тюремную
ситуацию, задача которой создать из личности аполовое существо, зафиксированную
на идеологическом послушании. Одним из механизмов сталинской системы для
преобразования феминной личности в идеологического андрогина является
нейролингвистическое кодирование-устрашение, которое периодически повторяется
устоявшимися лингвоформуламы: «люди эти особенно опасны», «не показывают
открыто своих волчьих зубов, а постоянно носят лживую маску любезности», «связь
с заключенными карается уголовным кодексом <…> двадцать пять лет каторжных
работ»1. Также системой внушается параноидальный страх измены и преследования:
«при первом же нарушении, подозрении в нарушении или возможности подозрения в
нарушении – спешить к оперуполномоченному майору Шикину»2. Следствием
нейролингвистического вмешательства в подсознание есть реакция страха: «У
некоторых девушек даже навернулись на глаза слезы»3. Поэтому появилась фобия
1 Солженицын А. В круге первом [Електронный ресурс] / А. Солженицын. Режым доступа:
http://www.lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/vkp1.txt 2 Там само.
3 Там само.
4
преследования: «Но недоверие уже было поселено между ними. И, выйдя с
инструктажа, они разговаривали не об услышанном, а о постороннем»4. Вопреки
кристаллизации идеологического андрогина, подсознание Симочки производит
альтернативные для реальности феминные лингво-фреймы: «Симочка, воображавшая
войну по кино, в такие минуты представляла себе, как Нержин в мундире капитана,
среди дыма разрывов с развевающимися русыми волосами выкрикивает батарее:
“Огонь!”»5. Проекция образа благородного героя на узника врага-народа
свидетельствует об отклонении от психоментальности идеологического андрогина и
культивирования феминной природы, впоследствии ето приведет к возникновению
психофизического состояния – влюбленности.
Репрессией по отношению к женственности обозначен роман Эльфриды Елинек
«Пианистка» (1983 г.), где тоталитарный материнский образ уничтожает проявления
феминного: «Без всякого предупреждения мать свинчивает крышку ЕЕ черепа,
самоуверенно запускает в него руку и роется там, что-то выискивая. Она поднимает все
вверх дном и ничего не кладет на свое место»6, «Каждую клеточку, в которой еще
шевелится жизнь, объявляют гнойной и безжалостно вырезают из тела»7, «Мать едко
замечает, что ОНА, если ей только позволить, больше думает о молодых людях, а не о
музыке»8. Угнетение всех возможных природных проявлений женственности в Эрике,
героини текста, продуцирует деформированную фемининность, что эксплицируется в
сексуальной перверсии. В текстопространстве ее актуализацией является эпистолярная
коммуникацыя.
Букатчук Кристина
Демаркационная линия гендерной коммуникации в пространстве
художественного текста: феминный аспект
В статье обозначеный код гендерной коммуникации, описано демаркационную
линию гендерной коммуникации в текстах Александра Солженицына и Эльфриды
Елинёк, прослежено язычно-коммуникативные средства реализации процесса
освобождения от психоментальности идеологического андрогина в пользу феминности,
выявлены причины деформации феминного начала вследствие тоталитарно-
психофизического давления на личность.
Ключевые слова: код гендерной коммуникации, демаркационная линия
гендерной коммуникации, идеологический андрогин, фемининность.
Bukatchuk Chrystyna
The demarcation line of gender communications in expanses text of art: the aspect of
femininity
In this article described the code of the gender communication and demarcates gender
communication in the texts of Alexander Solzhenitsyn and Elfriede Jelinek. Revised linguistic
and communicative means in the process of liberation from ideological psyhomentality for
female pseudohermaphroditism (androgyny). Identified causes deformation of the feminine
principle (source), as a result (in the issue) of the totalitarian mental and physical pressure on
personality.
Keywords: code of gender communication, demarcates gender communication,
ideological androgyny, femininity.
4 Там само.
5 Там само.
6 Елинёк Э. Пианистка [Електронный ресурс] / Э. Елинёк. Режым доступа:
http://www.loveread.ec/read_book.php?id=18132&p=6 7 Там само: http://www.loveread.ec/read_book.php?id=18132&p=9
8 Там само.
5
ПОТОМКИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА И БОЛГАРИЯ
Бонев Виктор Петрович
Университет им. Проф. д-ра А. Златарова, гор. Бургас (Болгария)
В формировании и развитии реалистической болгарской литературы
исключительно важную роль сыграли дружественные русско-болгарские связи,
сложившиеся у передовых деятелей культуры. Основные эстетические принципы В. Г.
Белинского и Н. Г. Чернышевского, как и опыт русских классиков, молодое поколение
болгарских писателей усваивало через восприятие традиций Xристо Ботева, Любена
Каравелова и непосредственно благодаря изучению русской литературы. «Пушкин и
Лермонтов, – писал Иван Вазов, – открывали передо мною тайну стихотворства, давали
мне уроки музыки речи, красоты формы, выразительной краткости мыслей». Н. В.
Гоголя болгарский писатель называет «волшебным художником», Льва Н. Толстого –
„могущественным гением”. На прозу Тодора Влайкова, учившегося в Московском
университете, оказывали влияние, с одной стороны, рассказы Л. Каравелова, а с другой
– творчество Н. В. Гоголя и Г. Успенского. В поэзии Цанко Бакалова - Церковского
чувствуется влияние Кольцова и Т. Г. Шевченко. А. Константинов, учившийся в
России, начинает свою литературную деятельность с переводов стихотворений А. С.
Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Н. А. Некрасова.
06 февраля 1878 года „летучий отряд” русской армии, состоящий из 13
Драгунского полка и 13 Нарвского полка (во главе с генералом Александром
Александровичем Пушкиным, сыном поэта – на мемориальной плите в балканском
городке Котеле высечено его имя. Ген. Александр Александрович Пушкин родился в
1833 года как второй ребенок и первый сын великого поэта и Натальи Гончаровой. В
1870 года назначен командиром 15-ого нарвского гусарского полка в чине полковника.
В 1877 года полк в составе ХІІІ кавалерийской дивизии включается в Русско-Турецкую
войну 1877-1878 годов Полковник Пушкин награжден золотым оружием „За
храбрость” за освобождение гор. Елена. Он кавалер Ордена Св. Владимира ІV степени
за освобождение гор. Котел. От является исследователем жизни и творчества своего
знаменитого отца. Умирает в 1914 году.) под командованием полковника Лермонтова
освобождает города Елена и Бургас. За это полковник Лермонтов награжден золотым
оружием „За храбрость”, орденами Св. Владимира ІІІ степени с мечами и Св.
Станислава І степени с мечами, орденом Святого Александра Невского с алмазами,
орденом Белого Орла и Орденом Короны ІІ степени, выданный правительством
Пруссии в 1880 году и чином генерала-майора. Таким образом, в 13-й кавалерийской
дивизии, входившей в отряд генерала Столетова, служили родственники двух
знаменитых поэтов – сын А. С. Пушкина и дальний родственник М. Ю. Лермонтова.
Ныне, на месте встречи русских солдат жителями города Бургаса – на перекрестке улиц
„Освобождение” и „Эсперанто” – стоит монумент русским войнам. На стене дома, где
Лермонтов жил с 6 февраля по 29 марта 1878 года есть мемориальная доска. Улица, где
находится этот дом, называется «Лермонтов» в честь Александра Михайловича. Кто
Александр Михайлович Лермонтов? Он родился 27 февраля 1838 года в городе Либава;
является племянником поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Он наследник
мифического шотландского бойца Георга Лермонта – профессионального солдата,
прошедшего в 1613 году службу у первого царя династии Романовых – Михаила
Федоровича. Трое его сыновей, ставших потомственными русскими дворянами, тоже
военные – ротмистры Вильям и Андрей (Генрих) и Петр, который дошел до чина
майора. Почти каждый мужчина из фамилии Лермонтовых военный. Из этой фамилии
вышло около 100 генералов, адмиралов и офицеров, часть которых становятся героями
Русско-Турецкой, Русско-Японской и Первой мировой войны и Великой
Отечественной войны. Фамилия гордится также великими поэтами, художниками и
6
музыкантами. Потомки еще хранят воспоминания о шотландском барде, поэте и
ясновидящем ХІІІ века Томасе Лермонте, авторе одной из версий легенды о Тристане и
Изольде. Сама фамилия Лермонт (Ledrmonth) существует в Шотландии с ХІ века до сих
пор, причем ее начало заложено в то время, когда сын короля Данкан – Малькалм,
воюет с Макбетом.
Сегодня в мире около 200 потомков древней фамилии, которые живут в России,
США, Хорватии, Франции, Сербии, Бразилии, Англии, Швейцарии, Австралии, Новой
Зеландии, Люксембурге.
Александр Михайлович Лермонтов умирает в чине генерала от кавалерии и в
звании члена Военного совета Российской империи 26 декабря 1906 года. Похоронен
на Новодевичьем кладбище в городе Санкт - Петербурге.
Его дочь, Александра Лермонтова и по сей день является легендой в болгарском
морском городе Бургасе. Красавица принимает участие в Русско-Турецкой войне (1877-
1878 годы) как сестра милосердия. Она поступает добровольцем в русскую армию в
1877 году и отправляется в длинный поход в Болгарию вместе со своим отцом. В 1878
году дочь генерала останавливается в городе Бургасе, где основывает полевой лазарет.
Оборудует его собственными средствами, обеспечивает лично также лекарства. Вместе
с несколькими добровольцами Александра заботится о раненных солдатах в боях в
горах возле города Елена. Тогда было принято решение всех раненных перевести в
Бургас. Лазарет Александры Лермонтовой был расположен в Приморском парке,
непосредственно у берега моря, где сейчас находится Летний театр. После Плевенской
эпопеи Александра следует за Четвертым армейским корпусом Скобелева - младшего
через город Севлиево на вершину Шипка. Из носилок раненных, мертвых и
искалеченных русских, болгар и финн, она видит жестокость войны и триумф победы
возле Шейново. Александра Лермонтова остается вместе с отцом в Бургасе чуть более
одного месяца. Перед тем, как уехать из морского города, она принимает участие в
организации прощального приема Белого генерала. Умирает в городе Санкт -
Петербурге в 1903 году.
Русская реалистическая литература оказала разностороннее положительное
воздействие на болгарскую литературу. Она способствовала укреплению
демократических элементов болгарской культуры, содействовала проявлению ее
национального своеобразия и самобытности. Вот почему крупнейшие болгарские
писатели (Иван Вазов, Алеко Константинов) были одновременно популяризаторами и
пропагандистами русской литературы. Русская литература приобрела большое идейно-
воспитательное и познавательное значение среди болгар.
В этом году, когда отмечаем 200-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова, мы
можем с полным основанием говорить об истории лермонтоведения, которое в своем
развитии прошло несколько этапов, не одинаковых по масштабам проводимых
исследований, по значимости их результатов, наконец, по методическим подходам к
изучаемым явлениям лермонтовского творчества или к наследию поэта в целом. Тем не
менее движение научной мысли может быть плодотворным лишь в том случае, если
результаты ее предшествующего развития сегодня освоены с достаточной
тщательностью и полнотой. От этого во многом зависят перспективы и направления
дальнейших исследований и поисков.
22 февраля 2014 года в Большом и Малом залах Российского культурно-
информационного центра в Софии с большим успехом прошел заключительный этап V
Национального конкурса чтецов на русском языке „Он был источник дерзновенный,
глоток живительной воды…”, посвященный 200-летию со дня рождения великого
русского поэта М. Ю. Лермонтова. Мероприятие организовано при содействии
представительства Россотрудничества в Болгарии, Министерства образования и науки
7
Республики Болгарии. Вниманию строгого жюри были представлены стихи, отрывки из
поэм и целые поэмы М. Ю. Лермонтова. Многие из них исполнялись в сопровождении
видео-иллюстраций под музыку.
Список литературы
1. Бицилли П. М. Трагедия русской культуры: Исследования, статьи, рецензии.
М., 2000.
2. Герштейн Э. Г. Роман «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. М., 1997.
3. Егоров Б. Ф. Российские утопии: исторический путеводитель. СПб., 2007.
4. Коровин В. И. Творческий путь Лермонтова. М., 1983.
5. Ломинадзе С. В. Поэтический мир Лермонтова. М., 1985.
6. Эйхенбаум Б. Статьи о Лермонтове. М.-Л., 1967.
Аннотация
В формировании и развитии реалистической болгарской литературы
исключительно важную роль сыграли дружественные русско-болгарские связи,
сложившиеся у передовых деятелей культуры. 06.02.1878 г. под командованием
полковника А. М. Лермонтова освобождает города Елена и Бургас. Ныне, на месте
встречи русских солдат жителями гор. Бургаса стоит монумент русским войнам. На
стене дома, где А. М. Лермонтов жил есть мемориальная доска, а улица несет его имя.
Кто Александр Михайлович Лермонтов? Он племянник поэта Михаила Юрьевича
Лермонтова, наследник мифического шотландского бойца Георга Лермонта –
профессионального солдата, прошедшего в 1613 г. службу у первого царя династии
Романовых – Михаила Федоровича. Сегодня в мире около 200 потомков древней
фамилии, которые живут в России, США, Хорватии и т.д. Его дочь, Александра
Лермонтова, и по сей день является легендой в болгарском черноморском гор. Бургасе.
Красавица принимает участие в Русско-Турецкой войне (1877-1878 гг.) как сестра
милосердия. Русская классическая литература и русские классики оказала
разностороннее положительное воздействие на болгарскую литературу. Это
способствовало укреплению демократических элементов болгарской культуры,
содействовало проявлению ее национального своеобразия и самобытности. Русская
литература приобрела большое идейно-воспитательное и познавательное значение
среди болгар. В этом году, когда отмечаем 200-летие со дня рождения М. Ю.
Лермонтова, мы можем с полным основанием говорить об истории, настоящем и
будущем лермонтоведения.
Ключевые слова: литература, творчество, наследие, память
DESCENDANTS M. Y. LERMONTOV AND BULGARIA
In forming and development of realistic Bulgarian literature an exceptionally
important role was played by friendly Russian-Bulgarian connections, folded for front-rank
cultural workers. 06.02.1878 under the command of colonel A. M. Lermontov frees cities
Elenа and Burgas. Now, in place of meeting of Russian soldiers the habitants of city of
Burgas a monument costs Russian wars. On the wall of house, where A. M. Lermontov
tendons there is memorial plaque, and a street carries his name. Who is Alexander Michael
Lermontov? He is a nephew of poet Michael George Lermontov, heir of mythical scotch
fighter George Lermont – professional soldier, passing in 1613 service for the first tsar of
dynasty Romanovy – Michael Feodorovich. Today in the world about 200 descendants of the
ancient last name, which live in Russia, USA. His daughter, Aleksandra Lermontova, and till
today is legend in Bulgarian black sea town Burgas. A beautiful woman takes part in Russian-
8
Turkish war (1877-1878) as a sister of mercy. Russian classic literature and Russian classics
rendered the scalene positive affecting Bulgarian literature. It was instrumental in
strengthening of democratic elements of the Bulgarian culture, assisted the display of its
national originality and originality. Russian literature purchased a large ideological-educate
and cognitive value among Bulgarians. This year, when mark a 200year from the day of birth
of M. Y. Lermontov, we can with complete foundation to talk about history, now and future
of lermontovedeniya.
Keywords: literature, creation, legacy, memory
9
«АНТИНОМИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ КАК СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СУБСТАНТЫ
ТЕКСТОВОГО БЫТИЯ: ПРОЭКЦИЯ ЛЕРМОНТОВСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ»
Возняк Святомира Васильевна
Прикарпатський национальный университет имени Василия Стефаника,
Ивано-Франковск, Украина
Научный руководитель – к. ф. н., Я. Г. Мельник
В настоящее время в процессе изучения языка и языковой картины мира развивается
новое направление, в эпицентре которого – художественно–образное мышление, текстовая
реальность, образно–идейная прагматика, сгусток антропоцентрических и
лингвоэтнокультурних феноменов бытия, дискурс.
Целью предложенного изыскания является исследование функциональных
особенностей антиномий и противоречий как основных механизмов текстообразования, как
характерных особенностей каждого языка и как такового и литературно–творческого
процесса в целом.
Теоретический и методологический прорыв в понимании проблемы антиномий и
противоречий был связан с формированием концепции синергетики – междисциплинарного
научного направления, которое изучает универсальные закономерности организации
спонтанного порядкообразования, самоорганизации и самоструктурирования, в том числе
текста.
Актуальность изучения синергетики текста, в том числе художественного, формирует
в современной науке о языке новые тенденции.
Изначально проблема антиномий и противоречий в течении многих столетий
рассматривалась специалистами в области философии и только в XIX–ХХ веках вышла за
пределы классической методологии и сформировала новую научную парадигму.
Если спроецировать данные философии, логики и диалектики на язык и
художественную литературу, то очевидным становится комплекс многофункциональных и
разноуровневых оппозиций, которые определяют сущность языкового бытия. Произведение
словесного искусства эксплицирует закономерность, где каждый сегмент произведения
существует в системе антиномий и противоречий, которые детерминируют единство
текстового пространства. Данные такого рода позволяют внести новые детали в философское
осмысление проблемы антиномий и противоречий, а также раскрыть особенности их
взаимообусловленности и повлиять на развитие научного знания в целом, раскрыть
универсальные процессы самоорганизации и мироупорядочения.
Рассмотрев поэтические тексты М. Ю. Лермонтова, можем сделать вывод, что их
субстанцией является диалектико–динамические законы, в основы которых заложен
синергетический принцип – принцип антиномий и противоречий, которые моделируют и
модулируют текстовое пространство, являются материалом для него, как и для культурных
форм в целом, а также основным механизмом текстообразования.
Таким образом, можно сделать вывод, что идея антиномий и противоречий,
сформировавшись на стыке разных философских, естествоведческих и гуманитарных
взглядов, подтверждает существование универсальных закономерностей формирования
(структурирования) текстов, а интерпретация антиномийных идей обусловлена новыми
тенденциями развития научного знания и создания новой научной парадигмы.
Ключевые слова: антиномия, противоречие, синергетика, текстовое пространство.
10
Список литературы
1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – Изд. 2-е, стереотип. –
М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 608 с.
2. Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: (Синергетика
и теория социальной самоорганизации). – СПб.: Лань, 1999. – 480 с.
3. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. –
398 с.
4. Деррида Ж. Письмо и различие / пер. с фр. Д. Ю. Кралечкина. – М.:
Академический Проект, 2007. – 495 с.
5. Кант И. Критика способности суждения // Соч. в 6-ти т. – Т. 5. – М.: Мысль,
1966. – С. 161–527.
6. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник / Отв. ред. Д. П. Горский. –
Изд-во 2-е, испр. и доп. – М.: Наука, 1975. – 720 с.
7. Лесков Л. В. Футуросинергетика. Универсальная теория систем. – М.:
Экономика, 2005. – 170 с.
8. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцева. – М.:
Советская энциклопедия, 1990. – 688 с.
9. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера –
история / Ю. М. Лотман. – М. : «Языки русской культуры», 1996. – 464 с.
10. Маковский М. М. Системность и асистемность в языке. Опыт исследования
антиномий в лексике и семантике. – М.: Наука, 1980. – 210 с.
11. Мельник Я. Г. Антиномии и противоречия контекстной синергетики текстового
пространства: на материале русской поэзии ХХ века / Я. Г. Мельник //
Функциональная лингвистика. – 2012. – № 4. – С. 22–24.
12. Мигирин В. Н. Гносеологические проблемы знаковой теории языка, фонологии
и грамматики. – Кишинев: Штиинца, 1978. – 140 с.
13. Петряков Л. Д. Проблема различия и противоречия. Язык как способ
объективации рациональности: [монография] / Л. Д. Петряков. – Ярославль:
ЯрМедиаГрупп, 2009. – 216 с.
14. Семенець О.О. Синергетика поетичного слова. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2004.
– 338 с.
15. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – Изд. 6-е, перераб. и доп. –
М.: Политиздат, 1991. – 815 с.
16. Язык – знание – реальность; отв. ред. член-корр. РАН И. Т. Касавин, канд.
филос. Наук П. С. Куслий. – М.: Альфа-М, 2011. – 352с.
В статье исследуются вопросы антиномий и противоречий в контексте
синергетической природы текста. На материале поэзии М. Лермонтова
рассматриваются особенности антиномий как синергетических субстант текстового
бытия.
11
Ключевые слова: антиномия, противоречие, синергетика, текстовое
пространство.
The article deals with the problem of antinomy and opposition consenting synergetic
characteristics of the text. The peculiarities of antinomy as modeling substance of the text
formation have been examined on the basis of poems.
Key words: antinomy, opposition, synergetic.
The Antinomy and Opposition As The Synergetics Substants Of The Text Existence: The
12
ТВОРЧЕСТВО М.Ю.ЛЕРМОНТОВА («БОРОДИНО») КАК ИСТОЧНИК
ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА ШКОЛЬНИКОВ.
С.В. Гузина
МГОУ, Москва (Россия)
В современных условиях на литературу как учебный предмет возлагается
особая миссия – воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высокой
степенью сознания себя гражданином России.
Русская литература всегда была гордостью, совестью народа, потому что для
нашей национальной психологии характерно повышенное внимание к внутреннему
миру человека. Важнейшее в нашей отечественной словесности – её православное
миропонимание, религиозный характер отображения реальности
Конец XVIII– начало XIX века отмечен особым интересом к проблеме духовно-
нравственного идеала.
Поэзия русского романтизма глубоко прочувствовала идею нравственного
служения человека.
Одним из русских поэтов, чье творчество явило собой зримо представленную идею
человеческого существования, то есть идеал (Г.В.Ф. Гегель), поэтом, представившем
своей творческой деятельностью и сам процесс обретения идеала, был
М.Ю. Лермонтов.
Человек из народа в качестве носителя идеала, хранителя вечных ценностей
актуален и для творчества других поэтов-романтиков. Особое место занимает такой
герой в творчестве Лермонтова. Одним из самых ярких иллюстраций патриотических
убеждений и глубокого уважения и любви Лермонтова к народной России, являющейся
хранителем национальной культуры, в творчестве Лермонтова является стихотворение
«Бородино», где судьбоносное для России и мира историческое событие представлено
через восприятие простого православного человека, осмыслено солдатом, который
мыслится как главный ее участник. Одной из ведущих мыслей стихотворения как раз и
является мысль о человеческом единении перед лицом общей опасности. Воин, от лица
которого ведется основное поэтическое повествование, акцентирует внимание на
общности целей, представляя себя не как горделивое «я», но как личностно и глубоко
переживаемое «мы».
Причем это человеческое единение стоит в теснейшей связи с единением человека с
Богом, что проявляется в смирении, в основе которого лежит надежда на благость
13
Господней воли, которая и является, наряду с мотивом родственного единения, одним
из важнейших доминант художественной и духовно-смысловой структуры текста [2].
Обращаясь к героическому прошлому, памяти веков поэт показывают толпу,
живущую героическими воинскими идеалами. Здесь образ толпы выступает не в ее
условно-романтическом понимании, а как единое сообщество, одушевленное общим
делом, что мы видим и в знаменитом «Бородино», где идет «за строем строй» русских
воинов, реализующих своей жизнью идеал братства и защиты общего Отечества. В
«Бородино» масса народа, готовая к подвигу жертвенной любви к Отечеству, не
безликая, автор создает и образ полковника, что «слуга царю, отец солдатам», и
солдаты предстают как личности, испытавшие вдохновенный подъем высокого
чувства ответственности за судьбу своего мира.
В той ситуации, где человек и человеческое сообщество живет идеалом, который
имеет объединяющую природу, толпа преображается в человеческое сообщество, где
индивидуум не противостоит массе и не исчезает в ней, не прячется за масками и
условностями. Произнося слова: «Да, были люди в наше время», герой лермонтовского
шедевра представляет и всех, и каждого, давая высокую оценку возможностей
человека как такового. В противовес западному романтизму русское литературное
движение, называемое романтическим, не культивирует индивидуализм, но высший
смысл человеческого бытия видит в соборном устроении человеческого духа,
покоящегося на любви и единении.
Примечания.
1. Буслаев И.Ф. Мои воспоминания. М., 1897. С. 78.
2. Киселева И.А. О духовном патриотизме в русской поэзии 1830-х гг. / Вестник
МГОУ. Серия «Филология». № . С. 131
3. М.Ю.Лермонтов. Соч.: В 4 т. М., 1957.
4. Русская литература ХIХ века. 1800–1830-е годы. Хрестоматия мемуаров,
эпистолярных материалов и литературно-критических статей / Под ред.
В.Н. Аношкиной: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2000. С. 57.
5. ОР РНБ. Ф. 539, оп. 1, пер. 95
14
Аннотация
Статья решает проблему особенностей осмысления идеала школьниками на примере
творчества М.Ю.Лермонтова. Автор приходит к выводу о том, что для творчества
М.Ю.Лермонтова высший смысл человеческого бытия открывается в реализации
способности человека жизни в любви и единении. Творчество поэта необходимо
рассматривать как источник формирования духовно-нравственного идеала
обучающихся.
Ключевые слова: литература, «Бородино», идеал, личность, любовь, патриотизм,
поэт.
Creativity M. Lermontov ("Borodino") as a source of spiritual and moral formation of the
ideal students.
Abstract
Article solves the problem of understanding the features of the ideal students on the example
of Mikhail Lermontov. The author concludes that for creativity Lermontov higher meaning of
human existence opens a person's ability to implement a life of love and unity. Poet's work
must be considered as a source of spiritual and moral formation of the ideal students.
Keywords: literature, "Borodino" ideal personality, love, patriotism, poet.
15
АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Э.А. Исламова
Казанский федеральный университет, Казань (Россия)
Современная лингвистика характеризуется повышенным вниманием к
исследованию языков в тесной взаимосвязи с мышлением, картиной мира и
национальной культурой народа. В исследованиях по психолингвистике и когнитивной
лингвистике широко применяется термин «языковое сознание», введенный в науку
Вильгельмом фон Гумбольдтом. Как писал основатель общего языкознания, «язык в
своих взаимозависимых связях есть создание народного языкового сознания».
Среди отечественных лингвистических и психолингвистических исследований
следует отметить работы Ю.Н. Караулова, А.А. Залевской, Е.С. Кубряковой,
Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфимцевой, Р.М. Фрумкиной, З.Д. Поповой и И.А. Стернина и др.,
которые понимают под языковым сознанием образы сознания, выраженные внешними,
языковыми средствами: словами, словосочетаниями, фразеологизмами, текстами,
ассоциативными полями и ассоциативными тезаурусами как совокупностями этих
полей.
В настоящее время одним из актуальных направлений в лингвистике является
изучение языкового сознания человека с целью выявления картины мира носителей
того или иного языка, в частности, при помощи ассоциативного эксперимента, который
позволяет реконструировать различные связи языковых единиц в сознании и выявить
характер их взаимодействия в различных процессах порождения, хранения и понимания
текстов.
В ходе ассоциативного эксперимента при восприятии слова-стимула у носителя
языка вызывается целый ряд ассоциаций (реакций), среди которых есть как присущие
группе людей, так и индивидуальные, субъективные, связанные с личным опытом.
Целью проведения эксперимента является формирование широкой базы данных,
позволяющей формировать статистику, анализировать ассоциативные взаимосвязи
между словами, а также создать прямой и обратный ассоциативный словарь.
Данные ассоциативного эксперимента предоставляют возможность определить
общие для носителей языка лексико-семантические связи, выявить национально-
культурную специфику образов сознания представителей разных культур, изучить
особенности национального характера.
В нашем исследовании применялся свободный ассоциативный эксперимент (далее –
САЭ), в ходе которого испытуемым предъявляется набор слов-стимулов, на которые
требуется отреагировать первым пришедшим в голову словом или словосочетанием.
Совокупность таких ассоциатов на слово-стимул составляет ассоциативное поле слова,
которое имеет ядро (состоящее из наиболее частотных реакций) и периферию (единичные
реакции). Различают индивидуальное ассоциативное поле и коллективное. Коллективное
ассоциативное поле, выявленное в свободном ассоциативном эксперименте, называют
ассоциативной нормой. Перечень ассоциативных норм составляет ассоциативный словарь
того или иного языка.
Материалом для нашего исследования послужили результаты САЭ,
проведенного в феврале-апреле 2014 года со студентами и аспирантами Казанского
федерального университета и ряда других вузов города Казани в возрасте 17-25 лет,
являющимися носителями татарского языка. В качестве слов-стимулов были отобраны
120 лексем. В частности, был проведен САЭ с целью выявления ассоциативного поля
слова «Кеше» (Человек) как важного компонента национальной языковой картины мира.
16
Как показывают результаты эксперимента, со словом-стимулом «Кеше» в
сознании молодого поколения татар связаны вполне закономерные ассоциации. Среди
самых частотных реакций на слово-стимул «человек» - синонимичные понятия адәм,
зат, адәм баласы, инсан. Человек нередко соотносится с животным: хайван, җан иясе,
җанвар. Однако это, прежде всего, мужчина (ир-ат, егет), личность (шәхес), друг (дус,
дуслар, дуслык). Человек для молодого поколения – это представитель своего народа
(милләт, халык).
Отличительными признаками человека являются разум (акыл, акыллы, баш),
честь (намус), труд (эш, хезмәт). Среди оценочных характеристик по шкале «хороший-
плохой» преобладают положительные (кеше – яхшы, әйбәт, зур, гадел, көчле, бәхетле,
чын).
Таким образом, САЭ дает возможность исследовать структуру лексикона человека,
его языковые и мировоззренческие приоритеты, ценностные ориентации, а также
является одним из способов выявления национальной специфики той или иной
языковой картины мира.
Исследование выполнено в рамках гранта РГНФ № 13-14-16014
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме современной лингвистики – изучению
языкового сознания и выявлению национальной специфики языковой картины мира.
Источником исследования послужили результаты свободного ассоциативного
эксперимента, проведенного на материале татарского языка.
Ключевые слова: ассоциативный словарь, ассоциативный эксперимент,
языковая картина мира, языковое сознание.
Associative experiment as a method of studying a language picture of the world
Abstract
The article is devoted to an actual problem of modern linguistics is the study of
language consciousness and identification of national specifics of the language picture of the
world. Source study was based on the results of a free associative experiment on the material
of the Tatar language.
Keywords: associative dictionary, associative experiment, language picture of the
world, language consciousness.
17
К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ПЕЙЗАЖНЫХ ЗАРИСОВОК В РОМАНЕ
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Л.П. Казанская, ТФ САМГУ, Тольятти (Россия)
О.Г. Каменская, ТФ САМГУ, Тольятти (Россия)
Как известно, при анализе пейзажных фрагментов можно идти по пути
разделения позиций персонажа и наблюдателя, если зрительные восприятия
персонажа не представляются достоверными метанаблюдателю-исследователю,
творчески осмысливающему наблюдаемое. Но можно идти и по пути изучения
состояний сознания персонажа и реконструкции этих состояний, исходя из тех
возможностей, которые дает нам в руки текст. При этом для исследователя
открывается широкое поле деятельности по моделированию состояний сознания
метанаблюдателя-читателя, связанной с решением такой проблемы, как понимание
текста. Оба пути предлагает еще В. В. Виноградов. Важно, что в своих работах по
анализу художественного текста ученый ставил и решал проблему восприятия
текста с точки зрения метанаблюдателя-читателя еще несколько десятилетий назад.
Чернейко Л.О. вслед за В.В.Виноградовым вводит понятие «модуса видения
наблюдателем текста-письма незамкнутого пространства внешнего мира». Это
позволяет вычленить четыре основных типа состояния сознания читателя,
воспринимающего лингвистический материал при осмыслении пейзажных
фрагментов художественного текста. Таких типов четыре: перцепция,
постперцепция, апперцепция, интроспекция.
В романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» реализуются
практически все указанные типы осмысления пейзажных компонентов.
Проиллюстрируем эти утверждения примерами: «Вчера я приехал в Пятигорск,
нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во
время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра,
когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в
скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер
иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у
меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как "последняя туча
рассеянной бури"; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка,
и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо
мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит
разноязычная толпа, - а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее
и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин,
начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом... Весело жить в такой
земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и
свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине - чего бы, кажется, больше?[ -
зачем тут страсти, желания, сожаления?» Модус сознания читателя-
наблюдателя — перцепция. Как правило, в таких текстах обнаруживаются глаголы
в так называемом актуальном настоящем, позволяющем определить время
действия всего текста. Даже неискушенному читателю видны средства
формирования автором читательских позиций, в том числе и состояния сознания.
А также средства развертывания перспективы для наблюдения; причем автором
направляется даже взгляд читателя. Подобные явления легко обнаруживаются и в
других фрагментах. Иной модус представлен в тексте, позволяющем
реконструировать зрительное восприятие наблюдателем некоторого физического
пространства в момент, предшествующий моменту некоего конкретного
18
объективного времени художественного текста. В этот момент зрительное
восприятие часто существует в сознании наблюдателя текста как воспоминание,
опыт, вторгающиеся в его зрительное восприятие и осложняющее перспективное
видение актуализацией прошлого опыта, хотя глагольные формы при этом могут
находиться и в форме настоящего времени: «Кругом было тихо, так тихо, что по
жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело
глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые
морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще
сохранявшем последний отблеск зари». Модус сознания наблюдателя текста при
чтении — постперцепция. Формы так называемого константного настоящего
позволяют формировать представление об описываемом явлении как о
постоянном, в том числе и о постоянно воспроизводимом. Модус апперцепции
представлен в тексте, позволяющем реконструировать зрительное восприятие
наблюдателем некоторого физического пространства в конкретный момент
объективного времени художественного текста. При этом зрительное восприятие
осложнено синестезией, актуализирующей в сознании метанаблюдателя-читателя
его прошлый опыт. «Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю
скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с
жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль,
стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно
становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы
беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко,
усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не
забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба
или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес». Заметим, как перемещается
направляемый писателем взгляд и персонажей и читателей, как включаются в
описание цвет и звук, осязание. Модус сознания читателя-наблюдателя именно
апперцепция, представляющая собой сознательное восприятие известного
чувственного впечатления и являющаяся переходом от впечатления к познаванию.
Глагольные формы могут быть довольно разнообразными. В обозначение
временного плана включаются и другие средства, например, наречия, сравнения.
Интроспекция представляет собой более сложное явление: она проявляется в
тексте, позволяющем реконструировать поток сознания наблюдателя, где сложно
переплетаются ассоциативно связанные воспоминания о когда-то увиденном (или
наблюдаемом в настоящее время) в деталях и подробностях, обобщения
жизненных наблюдений, фантазии: «…казалось, дорога вела на небо, потому что,
сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и наконец пропадала в облаке,
которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий
добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было
больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то
отрадное чувство распространялось по всем моим жилам, и мне было как-то
весело, что я так высоко над миром: чувство детское, не спорю, но, удаляясь от
условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми; все
приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была
некогда, и, верно, будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне,
бродить по горам пустынным, и долго-долго всматриваться в их причудливые
образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, тот,
конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные
картины»
19
Аннотация
В докладе рассматривается лингвистическая структура пейзажных зарисовок из романа
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» с позиции читателя, а также описываются
механизмы восприятия и реконструкции состояния сознания персонажа.
Ключевые слова: позиция наблюдателя, зрительные восприятия персонажа,
пейзажные фрагменты текста
Annotation This work deals with linguistic structure of landscape sketches in the novel by M.Y.
Lermontov “Hero of our time” («Геройнашеговремени» М.Ю. Лермонтов) from a reader’s
position, as well as with describing perception mechanisms and reconstruction of a character’s
senses.
Key words: observer position, character’s visual perception, landscape fragments of a text
20
«ВРЕМЯ «ВОЙНЫ» И ВРЕМЯ «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»:
ЮБИЛЕЙ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ
КОНТЕКСТЕ 1914 ГОДА»
Короткова Лариса Владимировна,
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А., г. Саратов (Россия), кандидат филологических наук,
доцент кафедры «История Отечества и культуры»
Указанное «историческое время» следует рассматривать как сложное системное
образование, где действуют и реализуют себя разнонаправленные и разнохарактерные
силы, определяющие в своём движении особый облик той или иной эпохи, уровень
развития её материальной и духовной культуры, характер её общественных и
социальных образований (речь идёт о небывалом интересе к национальным истокам,
формирующим показатель ментальности – мифопоэтическая и фольклорная традиции;
о переосмыслении классики; о активном развитии философской и эстетической мысли;
о сохранении традиционных и появлении новых литературных течений и направлений;
о рождении новых художественных форм в искусстве и т.д.)
В этой многосоставной структуре, управляемой глубинными процессами, далеко
не последняя роль принадлежит искусству в целом, а также отдельным авторам,
предвосхищающим своё время и переходящим во время настоящее из времени
минувшего (если классика становится насущно необходима её потомкам, в первую
очередь в лице читателей). В этой связи, значительность и масштабность той или иной
эпохи определяются не только уровнем её социально-экономического развития, но и
богатством её духовного потенциала, реализуемого в творчестве деятелей искусств,
способных существенно влиять на жизненно важные для общества сферы.
Представление о писателе любой эпохи кристаллизуется на основе синтеза
разноплановых знаний, впечатлений, накоплении сведений и эмоциональных откликов
о его личности и творчестве. Немаловажное значение имеет при этом «образец-эталон»,
который оказывается одним из решающих критериев в закреплении мнений о создателе
художественных произведений. В способах познания мастера преломляются
социальные, мировоззренческие установки общества или социальной группы,
отражается общий уровень представлений о личности творца, о самом процессе
создания эстетических ценностей. Чем дальше мы от времени реальной жизни автора,
тем опосредованнее становятся интерпретации образа, хранимые в социальной памяти,
– увеличивается число инстанций-посредников между реальным человеком и
поколениями, актуализирующими мнение о нём.
Образ создателя произведений искусства – явление конкретно-историческое.
Цель познания всегда сопряжена с желанием достичь наиболее верного представления
о загадке творчества. И в этой связи эстафета памяти о выдающихся деятелях искусств
передается от поколения к поколению как важный элемент культурного самосознания.
Методологию данной работы составляет историко-функциональный подход, в
основе которого лежит рассмотрение функционирование литературы в сознании
публики, исторической динамики «вариантов» литературных произведений, а также
«репутаций» писателей.
Проблема функционирования художественного произведения рассматривается
на стыке целого ряда наук – книговедения, социологии, филологии, истории,
психологии, культурологии и т.д. С помощью каждой из указанных дисциплин,
рассмотрение объекта исследования обретает необходимую полноту и масштабность.
Судьба творческого наследия автора находится в прямой зависимости от эстетических
вкусов и пристрастий, господствующих в рассматриваемый период в обществе.
21
Подобному методу исследования сопутствуют две категории. Первая из них –
«литературное наследие» – подразумевает системно воспринимаемые элементы
духовной жизни общества (всё написанное тем или иным автором – от черновых
набросков и вариантов до завершенных художественных текстов; от литературно-
критических, публицистических, философских и других статей и заметок до
дневниковых записей, деловых бумаг, писем и т.д., – и, в равной мере, большое число
откликов – интерпретаций, как закреплённых документально (публикаций), так и
неуловимых во времени (публичные чтения, театральные постановки и т.п.). Любое из
проявлений внимания к наследию классика обусловлено общественно-философскими
воззрениями эпохи, её понятиями об исторической предопределенности человеческих
поступков и характере эстетических идеалов.
Вторая категория, на которой базируется историко-функциональный метод,
носит наименование «историко-культурная память» и предполагает под собой
возможность диалога автора с новыми поколениями через пространственно-временную
организацию культуры. Являясь одним из основных свойств нервной системы, она
способна длительно хранить полученную информацию и впоследствии воспроизводить.
Процесс воспоминания, свойственный лишь человеческому разуму, тесно связан со
всей психической деятельностью, итогом которой становится преемственность опыта
предшествующих эпох. Именно в результате обобщения впечатлений от
воспринимаемого объекта, возникающих, образно говоря, во времени, по очереди, вне
связи друг с другом и помещённых рядом ради создания нового впечатления от уже
хорошо известного предмета, рождаются те памятные образы, что будоражат
человеческое воображение многие и многие десятилетия.
Указанный способ научных изысканий базируется на фундаментальных
теоретических работах. Отметим лишь тех авторов, кто по роду деятельности связан с
филологией – М.П. Алексеев, В.Ф. Асмус, М.М. Бахтин, А.Н. Веселовский, Л.С.
Выготский, В.М. Жирмунский, Г.Н. Ищук, Д.С. Лихачев, К.Н. Ломунов, Ю.М. Лотман,
Г.В. Осьмаков, В.Е. Хализев, Л.В. Чернец и другие.
Объектом историко-функционального исследования становится совокупность
интерпретаций, принадлежащих ученым, критикам, читателям (не профессионального
плана), а также художникам, писателям и т.д., самореализовавшим своё видение
творческой и личностной фигуры мастера.
Историко-культурные связи, прослеживаемые в процессе историко-
функционального анализа, нельзя охарактеризовать только лишь как взаимовлияние,
нельзя назвать интертекстом, или типологией. Исследовательский вопрос заключается
в обнаружении эстетических доминант эпохи, отмеченной в границах юбилейной даты
(1914 год – столетие со дня рождения М.Ю. Лермонтова). Событийная канва юбилея
подразумевает сосредоточение внимания на характеристике культурной ситуации
кануна и начала «великой войны», существенно повлиявшей на духовную жизнь
различных слоёв общества. И вот почему. Известные явления искусства приобретают
характерные черты причины лишь тогда, когда возникают провоцирующее их
следствие. Подобным взаимовлиянием следствия и причины от природы наделены
персональные юбилеи. Воспринимаемые как «годовщина чьей-нибудь жизни,
деятельности, существования» (речь обычно идёт о круглой дате), они связаны с
чередой торжественных мероприятий, знаменующих действительное духовное и
материальное отношение общества к объекту празднеств (издания собраний сочинений,
опубликование воспоминаний, выход в свет биографий, публичные чтения, сооружение
памятников, продажа сувениров, премьерные театральные постановки, открытие
художественных выставок и мемориальных досок, литературно-музыкальные вечера,
выпуски из печати череды исследовательских материалов и т.д.). Подобным
22
отношением к культурному наследию был отмечен и 100-летний юбилей М.Ю.
Лермонтова.
Таким образом, биография поэта не кончалась с моментом его физической
смерти, как не имело конца его литературное наследие, многократно насыщаемое всё
новыми и новыми обращениями читателей к его произведениям. И это была не простая
учтивость потомков. Памятливость читателей отражала специфику понимания родства
с классиком, почитания слова и дела, заложенного в фундамент национального
культурного наследия.
Аннотация
Доклад посвящен проблемам бытования творческого наследия писателя в
границах социальных и мировоззренческих установок общества, воспринимающего
категорию автора произведения искусства как явление конкретно-историческое.
Объект изучения рассматривается на стыке целого ряда наук – филологии,
истории, социологии, культурологи, психологии и т.д., благодаря которым
исследование обретает необходимые полноту и масштабность.
Характеризуемый материал показывает, что значительность той или иной
исторической эпохи определяется не только уровнем её социально-экономического
развития, но и богатством её духовного потенциала, реализуемого в творчестве
деятелей искусства, способных существенно влиять на жизненно важные для общества
сферы.
Методологию данной работы составляет историко-функциональный подход, в
основе которого лежит рассмотрение функционирования литературы в сознании
публики, исторической динамики «вариантов» литературных произведений, а также
«репутаций» писателей. Подобному методу исследования сопутствуют две категории.
Первая из них – «литературное наследие» – подразумевает системно воспринимаемые
элементы духовной жизни общества, когда любое из проявлений внимания к наследию
классика обусловлено общественно-философскими воззрениями эпохи, её понятиями
об исторической предопределенности человеческих поступков и характере
эстетических идеалов. Вторая категория – «историко-культурная память» –
предполагает под собой возможность диалога автора с новыми поколениями через
пространственно-временную организацию культуры.
Таким образом, предметом историко-функционального исследования становится
совокупность интерпретаций, принадлежащих ученым, критикам, читателям (не
профессионального плана), а также художникам, писателям и т.д., самореализовавшим
своё видение творческой и личностной фигуры мастера.
Осуществленная работа является прямым следствием разработанного в
филологии профессором, доктором филологических наук Александром Павловичем
Скафтымовым «имманентного» анализа и служит продолжением традиций
Саратовской филологической («литературоведческой») школы.
Новизна исследовательского вопроса заключается в обнаружении эстетических
доминант эпохи, находящейся в границах юбилейной даты (1914 год – столетие со дня
рождения М.Ю. Лермонтова). Событийная канва юбилея подразумевает
сосредоточение внимания на характеристике культурной ситуации кануна и начала
«великой войны», существенно повлиявшей на духовную жизнь различных слоёв
общества.
Автор доклада – Короткова Лариса Владимировна – выпускница русского
отделения филологического отделения Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского (1991), кандидат филологических наук, доцент кафедры
23
«История Отечества и культуры» Саратовского государственного технического
университета им. Гагарина Ю.А., занимается указанной научной проблематикой на
протяжении нескольких лет. По предварительным итогам работы в 2003 году защищена
кандидатской диссертацией «Литературное наследие М.Ю. Лермонтова в 1890-е годы».
Ключевые слова работы:
«историко-функциональный метод»,
«литературное наследие»,
«историко-культурная память»,
«юбилей»,
«историческое время» (системный филологический подход).
Название:
«Время «войны» и время «литературного наследия»: юбилей М.Ю.
Лермонтова в культурно-историческом контексте 1914 года»
Annotation
The report is devoted to the problem of creative heritage in the frames of social and
world outlook aims of the society, which perceives the category of the author’s work of art as
a really historical phenomenon.
The object of study is regarded on the boundary of a number of sciences: Philology,
History, Sociology, Cultural Science, Psychology, etc., which help to attain the necessary
completeness and importance.
The characterized material shows, that the importance of any historical epoch is
defined not only by the level of its social-economic development, but by the wealth of its
spiritual potential, which is realized in the creative work of men of Arts, who are able to
influence the important for the society spheres of life.
The methodology of a given paper is consisted of historical and functional approach,
which is based on the regarding of functioning of literature in the conscious of public,
historical dynamics of “variants” of works of literature, and also “reputation” of writers. The
method of research under analysis is accompanied by two categories. The first of them, “the
creative heritage”, means the perceived by systems analysis elements of the spiritual life of
the society, when any manifesting of interest to a classic’s heritage is stipulated by social-
philosophical view of the epoch, its ideas about historical predetermining of humans’ actions
and character of aesthetic ideals. The second category – the “memory of History and Culture”
– means the possibility of a dialogue of the author with new generations through time-
extensive arrangement of culture.
Thus, the subject of History and Function research is considered as a whole complex
of interpretations, which belong to scientists, critics, readers (of nonprofessional level), as
well as artists, writers, etc., who presented by means of self-realization their view on creative
and personal qualities of a master.
The accomplished work is a direct consequence of a worked-out by Professor, Doctor
of Philology Alexander Pavlovitch Scaftymov “immanent” analysis, which serves as a
continuation of traditions of Saratov Philological (“History of Literature”) school.
The novelty of the question under research is in the discovering of aesthetical
dominants of the epoch, which is in the frames of a jubilee date (1914 is a centennial since the
date of birth of M. Lermontov). The outline of the jubilee implicates focusing on the
characteristics of cultural situation of the eve and the beginning of the “great war”, which
influenced greatly the spiritual life of different social levels of the society.
Data about the author of the report:
24
Korotkova Larissa Vladimirovna, the graduate (1991) of Philological faculty (Russian
department) of Saratov State University, named by N.G. Chernyshevskiy, the candidate of
Philological Sciences, Assistant Professor of the department of “History of Motherland and
Culture” of Saratov State Technical University, named by Juriy Gagarin; a scientific problem
is under research by the author of the report for several years. On the basis of preliminary
results the thesis for a candidate degree was defended in 2003. The title of it is “Literary
Heritage of M. Lermontov in 1890-es”.
Key words:
«method of History and Function»,
«literary heritage»,
«memory of History and Culture»,
«jubilee»,
«historical period»,
«systems Analysis Approach».
Headline: “Time and Wars” and Time of “Literary Heritage”: the Jubilee of M.
Lermontov in the Cultural and Historical Context of 1914”.
25
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В СОСТАВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДА
О.И. Лазова
УНМЭ, София (Болгария)
В статье затрагиваются функционально-семантические изменения, происходящие
в экономической лексике и в языке для специальных целей. Эти изменения связаны
множеством социально-культурных, экономических факторов, воздействующих на
язык и вызывающих его дифференциацию на различных уровнях и подуровнях.
Новейшие языковые образования в современном русском языке расширяют пласт
общеупотребительной лексики за счет лексики ограниченного употребления –
терминологической и жаргонной, диалектной.
В ХХI веке возросла роль некодифицированных подсистем современного
русского языка – разговорной речи, социальных и профессиональных жаргонов и
просторечия. Эти лексические и фразеологические единицы проникли не только в
финансово-экономическую сферу деятельности, но и в другие сферы общественной
жизни. Отмеченные процессы актуализации лексических единиц создают широко
употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт,
характерный для устного дискурса.
Под термином «подсистема» мы понимаем такую разновидность языка, которая
объединяет определенный в социальном отношении круг лиц, которые пользуются
данной языковой разновидностью.
Элементы разговорного варианта той или иной профессиональной или
социальной группы, проникая в литературный язык или в речь людей, не имеющих
прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в языке особую эмоционально-
экспрессивную окраску. Они оказывают влияние на соотношение различных подсистем
языка, расширяя сферы употребления тех или иных языковых образований. Подобные
процессы обусловлены социальными потребностями в номинации понятий деловой и
профессиональной сферы, где актуальным остается изучение лексических ресурсов
некодифицированных подсистем русского языка.
Следует отметить, что язык экономикине располагает особыми приемами
образования терминов и использует способы словообразования, характерные для всего
литературного языка. Способы словообразования, типы и формальные
словообразовательные средства язык заимствует из самой словообразовательной
системы. Собственно новыми оказываются только единицы наименования.
Термины, с помощью которых общаются специалисты конкретной области
знания, представляют собой особые когнитивные структуры – фреймы, требующие
соответствующего поведения. При изучении организации и динамики языковых
категорий выявляется не только сложное системное строение языка, но и влияние
других когнитивных структур на любое построение в языке и дискурсе.
В соответствии с различными этапами развития лексику можно разделить на:
1) кодифицированные единицы, вошедшие в словари;
2) слова, употребляемые в публицистических, научных, деловых текстах.
В ходе языковой эволюции в период формирования новой экономической модели
появились новые номинации слов. Значительно расширился словарный запас
профессиональных областей деятельности за счет терминов и терминологических
сочетаний, объединенных общей семантикой. Слово рынок по семантической
структуре принадлежит как к общеупотребительной, так и к терминологической сфере.
26
Рынок; базар – market; пазар (болг.); торговые ряды - mall; чаршия (болг.);
торжище - marketplace; тържище ярмарка – fair; панаир (болг.);
обвал финансового рынка – market meltdown; сриване на финансовия пазар (болг.);
обвал ипотечного рынка –mortgage meltdown; срив на цените на жилищата (болг.);
обвал фондового рынка – stockmarket crash; сриване на фондовия пазар (болг.);
„пузырь” цен на недвижимость – real estate bubble; балон при цените на имотите
(болг.); откат котировок, откат рынка – market collapse; сриване на валутния курс
(болг.).
Большой процент занимают неологизмы, проникнув в русский язык посредством
прямого заимствования или калькирования и образуя семантические кальки: теневая
экономика – shadow economy; сенчеста икономика; сив сектор (болг.); отмывать
деньги – to launder money; пране на пари (болг.); черный рынок –black market - черен
пазар (болг.).Термин голубые фишки – blue chips – акции „сини чипове” (болг.) - акции
наиболее крупных, ликвидных компаний со стабильными показателями; киты рынка –
big fish, big players – борсови акули (болг.).
Семантико-стилистические синонимы различаются как оттенками значений, так и
стилистической окраской. Рассмотрим близкородственные синонимические ряды, в
котором присутствует устаревшая, разговорная, неодобрительная (сниженная) лексика
и новейшая лексика из жаргона предпринимателей:
Бизнесмен; делец (разг.); коммерсант; предприниматель; воротила (разг.); деляга
(разг., сниж., неодобр.); фирмач; деньги -money; средства – argent, fonds; казна -
treasury; бабки – loot, dough ; bucks (жарг.); нал — наличные: cash; черный нал (жарг.)
black money (under-the-counter cash payments).
Наблюдаются обилие устойчивых сочетаний и фразеологических единиц из
общего жаргона: дать на лапу, отстегнуть, подмазать, позолотить ручку, посадить
на откат - give a kickback – да дадеш рушвет (болг.); набивать карманы;
заколачивать бабки гнаться за длинным рублем, грести деньги лопатой - reckon up,
score up; to earn money – да пълниш джобове (болг.).
Одновременно мы наблюдаем уход большого пласта лексики в пассивное
употребление. Такие лексические единицы, как мзда, дань, магарыч и оброк давно
устарели и вышли из повседневного обихода. На смену им пришло слово –откат
(жарг) – kickback; a payment for help in making a profit – понятие, эволюционировавшее
из oбщесоциального «взятка» в более узкий бизнес-термин. При определенных
обстоятельствах эквивалентом слову откат является многозначное слово комиссия или
комиссионные и заимствования из английского языка презент и бонус.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что границы
некодифицированных языковых подсистем остаются проницаемыми, пополняясь за
счет заимствованной лексики, терминов, неологизмов. Изучение лексики новейшего
периода важно для профессиональной подготовки студентов при переводе
экономических текстов.
THE CHANGES IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMICAL LEXIS
The article deals with the functional-semantic changes, occuring in the modern Russian
language, which are related to the social-cultural and economic factors and are directly
influencing the language and causing a multilayered differentiation.
Key words: functional-semantic changes, business-professional sphere, frequency in usage,
thematic neologism, translation loan-words.
27
ИНТЕРФЕРЕНТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
КОНСОНАНТИЗМА РУССКОГО, НЕМЕЦКОГО И ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКОВ
С. А. МУДЖИРИ, И. Б. КАПАНАДЗЕ
Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили
Тбилиси (Грузия)
На протяжении последнего десятилетия ориентация на европейские
образовательные стандарты обусловила значительные изменения в сфере преподавания
иностранных языков. Если до сих пор первый иностранный язык воспринимался в
качестве интерферентного барьера в процессе овладения вторым иностранным языком,
то сейчас в условиях формирования общеевропейского образовательного пространства,
а также в контексте требований Евросоюза, касающихся многоязычного обучения и
повышения качества межкультурной коммуникации, необходимым становится знание
минимум двух иностранных языков.
В настоящей работе рассматриваются особенности интерферирующих
фонетических систем двух ранее изученных языков – родного (грузинского) и первого
иностранного (немецкого) и их доминирующего влияния на фонетическую систему
второго иностранного языка – русского.
Контрастивный анализ консонантизма генетически различных языков, с одной
стороны, способствует развитию типологического исследования языков, которое «не
должно ограничиваться изучением только генетически родственных языков», а, с
другой стороны, сходства и различия, выявленные в результате контрастивного
исследования системы согласных, а также описание интерлингвальных трансферов
создает предпосылку для диагностики и максимального редуцирования
произносительных ошибок и эффективного внедрения адекватных методов обучения.
Следует отметить, что до сих пор не опубликованы научные работы, учебные
материалы и пособия, посвященные исследованию консонантизма русского, немецкого
и грузинского языков, что тормозит развитие типологии, а также практическое и
научное изучение контрастивной фонетики с точки зрения многоязычия и
лингводидактики.
Как известно, обучаемые переносят произносительные навыки родного языка в
иноязычную речь, что принято называть трансфером. Если между фонемами родного и
иностранного языков наблюдается сходство, то мы имеем дело с позитивным
трасфером, способствующим относительно корректной реализации этих фонем на
иностранном языке. В том случае, если какой-либо звук или фонетическое явление
родного языка не характерны для изучаемого языка или же резко отличаются от
соответствующего феномена иностранного языка, то перенос произносительных
навыков из родного языка на изучаемый сопровождается негативными последствиями,
в частности негативными трасферами, или интерференцией, мешающей обучаемому в
овладении иноязычному произношению. Интерференцию часто называют «акцентом»,
благодаря которому легко можно узнать иностранца. В данной работе рассмотрены
особенности грузинского акцента и трансферы, ожидаемые в констеляции системы
согласных русского, немецкого и грузинского языков. Кроме того, выделены
согласные, в большей степени подвергающиеся интерференции.
Контрастивное описание согласных фонем, а также наблюдение над
произносительными особенностями студентов позволило выявить, с одной стороны,
сходства и различия между согласными русского, немецкого и грузинского языков, а, с
другой стороны, грубо, средне или незначительно выраженные интерферентные
ошибки. Как и следовало ожидать, в констеляции таких различных языков, как
28
русский, немецкий и грузинский языки выявлено больше негативных, чем позитивных
трансферов.
Исходя из дидактических целей, нами выделены этапы интерференции,
охватывающие различного характера произносительные ошибки: фонематические, или
интерферентные ошибки, препятствующие коммуникации, и фонетические
произносительные ошибки, отличающиеся друг от друга по степени отклонения от
произносительных норм.
Фонематические ошибки, которые нарушают важнейшие фонемные оппозиции
иностранного языка, довольно незначительно представлены среди немецких согласных.
Фонетические ошибки в значительной степени отклоняются от произносительных
норм, однако они не выполняют дистинктивную функцию. Такое влияние
интерференции в большей степени представлено в системе согласных немецкого языка
при ее сравнении с системой согласных грузинского языка. В немецком языке
примером трансфера подобного типа следует считать реализацию глоттального
щелевого звука [h] там, где он не должен произноситься, в частности после долгого
гласного. Артикуляция глухих смычных согласных [p, t, k] осуществляется без
придыхания и напряжения. Немецкие переднеязычные согласные [d, t] под влиянием
грузинского произносятся не как альвеолярные, а как дентальные и т.д.
Накопленный когнитивный и лингвистический опыт также положительно
сказывается на овладении вторым иностранным языком. Эффективным средством
формирования произносительных навыков русского языка в качестве второго является
учет дидактических и методических принципов. Учет принципа системного введения
русских звуков позволяет определить место каждой фонемы в классификационной
группе с точки зрения положительного переноса и интерференции: фонемы близкой
группы (практически сходные); фонемы дальней группы, отсутствующие в первом
иностранном и родном языках; относительно сходные фонемы, имеющие
незначительные различительные признаки. При обучении грузиноязычных студентов
произносительным нормам русского языка прежде всего следует уделять внимание
постановке согласных звуков с дополнительной артикуляцией. Как известно, такой
дополнительной артикуляцией для русских согласных является палатализация
(дополнительный подъем средней части спинки языка к твердому небу, в результате
чего образуются мягкие согласные звуки).
Наиболее типичной интерферентной ошибкой является неразличение и непра-
вильное произнесение звука [ш'] студентами-грузинами. В русской речи грузинских
студентов наблюдаются произносительные ошибки типа ско[лк]о, бо[лш]ой, т.к. им
свойственно не только веляризировать мягкие согласные русского языка, но и смягчать
твердые согласные, а это, несомненно, приводит к типичным для грузин фонетическим
ошибкам типа за[ш'о]л, све[ж'и]й. Кроме того, смешение согласных отмечается и в
звукосочетаниях типа [л'к] – [лк], [л'ш] – [лш].
На этапе коррекции фонемных оппозиций следует обратить внимание и на
фонетические интерферентные ошибки, так как в процессе преодоления первого этапа
интерференции не следует оставлять без внимания интерферентные ошибки,
ожидаемые на следующем этапе обучения. Если, например, на этапе правильной
реализации фонемных оппозиций не обращается внимания на интерферентные ошибки
второго и третьего этапов, в частности нарушение произносительных норм, то они
настолько прочно будут усвоены, что будет слишком сложно или почти невозможно их
исправить. Именно поэтому корректура интерференций первого этапа должна носить
более интенсивный характер, чем на последующих этапах обучения. Таким образом,
параллельное овладение двумя иностранными языками, особенно на продвинутом
29
этапе, позволяет говорить об особого рода модальности трилингвизма, оказывающей
существенное влияние на коммуникативную компетенцию студентов.
Ключевые слова: контрастивная фонетика, консонантная система русского,
немецкого и грузинского языков, интерлингвальная интерференция.
В настоящей работе рассматриваются особенности доминирующего влияния
интерферирующих фонетических систем двух ранее изученных языков – родного
(грузинского) или первого иностранного (немецкого) на фонетическую систему
второго иностранного языка – русского.
Контрастивное описание согласных фонем, а также наблюдение над
произносительными особенностями студентов позволило выявить, с одной стороны,
сходства и различия между согласными русского, немецкого и грузинского языков, а, с
другой стороны, грубо, средне или незначительно выраженные интерферентные
ошибки.
Исходя из дидактических целей, в работе выделены этапы интерференции,
охватывающие различного характера произносительные ошибки.
Причины возникновения фонетической интерференции у трилингвов при чтении и
говорении на втором иностранном языке обусловлены влиянием, в большей мере
фонетической системы родного языка – грузинского и, в меньшей мере, фонетической
системы их первого иностранного языка – немецкого.
Параллельное овладение двумя иностранными языками, особенно на продвинутом
этапе, позволяет говорить об особого рода модальности трилингвизма, оказывающей
существенное влияние на коммуникативную компетенцию студентов.
INTERFERENTIAL PROBLEMS DURING THE PROCESS OF STUDYING
CONSONANTISM OF RUSSIAN, GERMAN AND GEORGIAN LANGUAGES
In the given work, there are considered peculiarities of dominating impact of interfering
phonetic systems of formerly studied languages - mother-tongue (Georgian) or the first
foreign one (German) on a phonetic system of the second foreign language – Russian.
Contrastive description of consonant phonemes, as well as observation on the
peculiarities of the students’ pronunciation has enabled us to reveal, on the one hand,
similarities and differences between consonants of Russian, German and Georgian languages
and on the other hand – moderately or slightly expressed interferential mistakes.
On the basis of didactic aims, there are emphasized the stages of interference in the
given work that embrace different types of pronunciation mistakes.
The reasons of emerging phonetic interference among trilingual people, during their
speech and reading in second foreign language, are caused by an impact of phonetic system of
mother tongue – Georgian language to a greater extent, and phonetic system of their first
foreign language – German - to a lesser extent.
Combining acquisition of two foreign languages, especially on the advanced level,
enables to talk about sui generis modality of trilingualism, which has substantial impact on a
communicative competence of the students.
Keywords: contrastive phonetics, Russian, German, Georgian consonant system,
Interlinguistic interference.
30
ЧАСТИЦЫ КАК УСИЛИТЕЛИ СТЕПЕНИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ
В БЕЗЛИЧНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ С ИНФИНИТИВНЫМ ПРЕДИКАТОМ
О.Е.Орлова
МГОУ, Москва (Россия)
Научный консультант – д.ф.н., профессор П.А.Лекант
Интенсивность модального значения нежелательности действия в безличном
предложении помогают передавать распространители. Среди них, на наш взгляд,
доминируют частицы. «Однако модальное значение усложняется и дифференцируется
частицами, вследствие чего модальное значение склоняется в сторону ирреальности».
[1]
Частица ли вносит в предложение оттенок ирреальности действия,
репрезентирует некое сомнение говорящего. Интересен тот факт, что при прибавлении
частицы ли к глаголу, помогающему репрезентировать модальное значение
нежелательности действия, предложение представляет собой вопрос, предполагающий
утвердительный ответ, следовательно, речь в таких предложениях идёт о
нежелательном действии: Не хочется ль бежать, укрыться поскорей?
(И.Анненский); - Тебе икры не хочется ли? (М.Салтыков-Щедрин); Да не хочется ли
тебе посмотреть на чyдушку-то моего?.. (М.Салтыков-Щедрин).
Прибавление частицы то к безличному сказуемому усиливает модальное
значение нежелательности действия, что присуще разговорному стилю: Что
прячешься! Нечего прятаться! Видно, боишься: умирать-то не хочется! Пожить
хочется! Как не хотеться! (А.Островский) (умирать-то не хочется = только не
умирать); - Эх! да говорить-то не хочется. Устал я говорить, брат... (И.Тургенев)
(говорить-то не хочется = даже не хочется говорить); - Будить-то мне его не
хочется, - сказал он, ощупывая что-то. - Больнёшенек! Может, так, слухи.
(Л.Толстой) (будить-то не хочется = именно будить не хочется); Я восемь лет живу,
так менять-то не хочется... (И.Тургенев) (менять-то не хочется = не хочется
именно менять).
Одновременное прибавление частиц то и и к инфинитиву помогает передать
очень высокую степень нежелательности и усталости говорящего от описываемого им
действия: "Вот видишь ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело,
и кушать-то не хочется». (А.Пушкин); Так-то вот старина-то и выводится. В
другой дом и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, так плюнешь да вон скорее.
(А.Островский); - Никак не полагаю, - сказал Обломов, - мне и думать-то об этом не
хочется. (И.Гончаров). Частица и в данных примерах, на наш взгляд, приближается по
своему значению к усилительной частице даже.
Частица даже в сочетании с инфинитивом подчёркивает крайнюю степень
нежелательности действия: Нет, право... после всякого бала точно как будто какой
грех сделал; и вспоминать даже о нем не хочется. (Н.Гоголь); Ему даже отойти от
них не хотелось, но он поднялся по лестнице и вошел в большую, высокую залу, и опять
и тут везде, у окон, около растворенных дверей на террасу, на самой террасе, везде
были цветы. (Ф.Достоевский); От этих слов девочки совсем уж притихли, и даже
трогать кукол расхотелось. (Л.Улицкая); Им надоело даже смотреть на белеющие
перед церковью шатры и на снующую около них толпу крестьянских девушек и парней.
(М.Салтыков-Щедрин). В данных примерах частица даже находится перед
инфинитивом, что помогает больше подчеркнуть степень нежелательности действия.
Если же частица даже предшествует модальному глаголу, то она, например,
может вносить в предложение оттенок временной нежелательности действия: Быть
31
энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того
не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась
энтузиасткой. (Л.Толстой).
Усилить семантику отторжения помогает употребление частицы как,
выступающей в роли интенсификатора действия: О, как надоело ему видеть каждый
день все те же убогие немногочисленные предметы его "обстановки". (А.Куприн).
«В сфере «субъективной экспрессии сложились формулы с участием не и других
отрицательных слов, содержащие «экспрессивное утверждение». Так мы обозначаем
стабильные формы и конструкции, в которых отрицательные слова нейтрализовались,
т.е. утратили свой отрицательный смысл, и в которых утверждение имеет
акцентированный, усиленный и даже обобщённо-расширительный характер. <…>
Среди разнообразных форм экспрессивного утверждения следует выделить своего рода
оператор – омокомплекс как не». [2].
Частица как не придаёт предложениям со словоформой надоест оттенок
удивления, даже возмущения говорящего тем, что действие до сих пор ещё не
отвергается, подталкивает к переосмыслению действия, указывая на значение его
долженствования: - Гм... - заговорил задумчиво артист, - и как вам не надоест, я не
понимаю? (М.Булгаков); Как ему не надоест! (А.Чехов); Всё за те же ваши приемы:
как это вам не надоест, в самом деле? (Ф.Достоевский); - Ах, нет! Ты все свое! Как не
надоест! (И.Гончаров).
Частица как не в сочетании со словоформой наскучит в вопросительном
предложении передаёт удивление говорящего тем, что действие до сих пор не
отторгается: Как вам не наскучит заниматься этим бесполезным делом? (Ока-инфо,
№ 5; 2007).
Сочетание же частицы как и частицы не со словоформой не хотелось
репрезентирует крайнюю степень нежелательности действия: Я закручинился: страсть
как мне не хотелось воровать; однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов;
и я, знавши в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней,
кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того сейчас достал из кармана на
шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному и другому коню на шеи, и мы с цыганом
сели на них и поехали. (Н.Лесков).
Частица как будто может привносить в предложение оттенок неуверенности
говорящего в том, что описываемое действие является нежелательным: Обыкновенно
бледное и задумчивое лицо ее, так все время не гармонировавшее с давешним как бы
напускным ее смехом, было очевидно взволновано теперь новым чувством; и, однако,
все-таки ей как будто не хотелось его выказывать, и насмешка словно усиливалась
остаться на лице ее. (Ф.Достоевский); Ему как будто не хотелось отвечать на
заданный вопрос. (Ока-Инфо, №70 (215), С.3).
Следует также обратить внимание на риторические вопросы и риторические
восклицания с глаголом не хочется: Кому ж не хочется получше пожить! Если с
совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. (И.Бунин). Многие
из них изначально подразумевают положительный ответ, репрезентируя тем самым
модальное значение желательности действия в структуре безличного предложения: -
Разве тебе не хочется повидаться с ними? (И.Гончаров); - А что? Разве вам не
хочется долго пожить? (И.Тургенев). Это достигается посредством частицы разве.
Приведённые примеры могут также трактоваться как предложения с модальным
значением долженствования. Например: Разве не хочется = должно хотеться.
Акцентировать внимание на том, что действие в данный момент отторгается,
помогают частицы только и просто: - Нельзя было кричать на все комнаты о том,
что мы здесь говорили. Я вовсе не насмехаюсь; мне только говорить этим языком
32
надоело. (Ф.Достоевский); Собственно говоря, тут и победы не было, а просто
надоело барыне возиться с бестолковой рабой, которая упала ей как снег на
голову.(М.Салтыков-Щедрин); А может, и просто не хотелось ее мысли
останавливаться на одном - как легко парящей птице, которой видимы безбрежные
горизонты, которой доступны весь простор, вся глубина, вся радость ласкающей и
нежной синевы. (Л.Андреев).
__________________________________________
1 Лекант П.А. Русский инфинитив как грамматическая категория // Вестник МГОУ.
Серия «Русская филология». - №3. – 2006. – М.: Изд-во МГОУ. – с.226
2 Лекант П.А. Экспрессивное утверждение с участием не // Русский язык в системе
славянских языков: история и современность (выпуск II). Сборник научных трудов. –
М., издательство МГОУ, 2008. - с.105.
Аннотация: В данной статье мы попытались осветить роль частиц как усилителей
степени нежелательности действия в структуре безличного предложения, а также
систематизировать их.
Ключевые слова: Безличное предложение, модальное значение, нежелательность
действия, инфинитивный предикат, частица, усилитель, распространитель.
PARTICLES AS AMPLIFIERS OF THE LEVEL OF UNDESIRABILITY OF
ACTION IN THE IMPERSONAL SENTENCE WITH THE INFINITIVE
PREDICATE
Abstract: In this article we tried to illuminate a role of particles as amplifiers of a level of
undesirability of action in structure of an impersonal sentence, and also to systematize them.
Keywords: Impersonal sentence, modal value, undesirability of action, infinitive predicate,
particle, amplifier, distributor.
33
РЕЦЕПЦИЯ МУСУЛЬМАНСКОЙ ЭПИГРАФИКИ ПОВОЛЖЬЯ В
ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА
Сарбаш Л.Н.
ЧГУ им. И. Н. Ульянова, Чебоксары (Россия)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (грант № 14-14-21015)
Русские писатели и публицисты XIX века проявляли внимание к нерусским
народам, культура и быт которых составляли духовное пространство России. Рецепция
инонационального, творческое воплощение одной национальной модели через призму
другой духовно-нравственной системы координат – русской культурно-
художественной традиции XIX века – одна из актуальных и значимых проблем
современного литературоведения. М. М. Бахтин отмечал, что одна национально-
культурная традиция становится ярче через призму восприятия другой, видится
отличие от «своей» и своеобразие «иной»: «Чужая культура только в глазах другой
культуры раскрывает себя полнее и глубже. Один смысл раскрывает свои глубины,
встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними
начинается… диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих
смыслов, этих культур»i. Инонациональное в русском литературном процессе XIX века
предстает в нескольких ракурсах: нерусское в типической характерологии времени как
социальная этнография, нерусское как религиозно-мифологическая этнография и как
философское осмысление ментальных основ жизни, духовно-нравственного опыта и
ценностного мира разных народностей.
К мусульманской обрядности – магометанскому похоронному обряду и
эпиграфике – неоднократно обращались русские писатели XIX века. Одним из первых
был писатель-этнограф XVIII века К. Милькович. Автор очерка «Быт и верования татар
Синбирской губернии в 1783 году» в характеристике этноконфессионального
акцентирует внимание на надгробных камнях с надписями на арабском и татарском
языке. В эпиграфике Милькович особо выделяет «краткое увещание», содержащее
морально-философскую сентенцию и передающее религиозные представления
мусульманина: «Всякий смертен, Бог Один бессмертен и пророк. Кто Богу поклоняется
и живет непорочно, тому я кровный друг»ii. В описании верований татар К. Милькович
обращает внимание читателей на эпиграфическую культуру как значимую духовную
составляющую мусульманского мира.
Мусульманский контекст в произведении М. И. Невзорова «Путешествие в
Казань, Вятку и Оренбург в 1800 г.» создает яркий образ «инокультуры» – татарского
мира. Мусульманское как особая характерология российской жизни, как иная
национально-культурная традиция излагается обстоятельно и детально: в
повествовании выделяется большой религиозный пласт – описание богослужения,
мечети, религиозных атрибутов, введение текста мусульманских молитв. Писатель
обращается к религиозно-этническому опыту народа: детерминантом национальной
жизни выступает религия. Мусульманское богослужение описывается в сравнительно-
сопоставительном аспекте с христианским, поясняется русским эквивалентом.
Соположение национально-конфессиональных традиций позволяет выделить
универсальное и специфическое в религиозном богослужении. Трансфер религиозных
текстов создает представление о мусульманской вере в ее основных и значимых
доминантах. Максим Невзоров корреспондирует и онтологические религиозные
константы: писатель знакомит читателя с эпиграфической культурой, дающей
экзистенциальные представления мусульманина о человеке и мироздании, жизни и
смерти. Приводится переведенная по его просьбе эпитафия на могильном камне,
философские строки которой говорят о вечности Аллаха и бренности человеческого
34
бытия: «Святый, непорочный, неизменяемый, непреложный, великий и всехвальный
Бог говорит, что на земле сей нет ничего вечного; но сам великий и благоговейно
поклоняемый твой Бог, о Мухаммед, есть вечен и ни начала, ни конца не имеет»iii
.
Писатель разъясняет русскому читателю специфику мусульманского летоисчисления,
которое начинается от эгиры (эджры) – переселения Магомета из Мекки в Медину.
Первый год эгиры – 622 год по Рождеству Христову: «От Егиры 936 лета в месяце
Зилькагиде, из рук иноверца убит Мухаммед Галей Мухаммед Шахов»iv
. Делая
необходимые подсчеты, М. Невзоров сообщает своему читателю, что сейчас у
мусульман 1178 год от Егиры: по принятому же летоисчислению сей человек умер в
1558 годуv. Повествование о мусульманском отличается большой информационной
насыщенностью, писатель во всех подробностях передает иноконфессиональное: особо
выделяет он надписи со словами пророка Мухаммеда: «Мир сей не вечен, и в нем нет
совершенного спасения» и «Благослови Господи его спасение»vi
. Об этой надписи на
могильном камне, найденном в Казани в Гостином ряду, писал в 1817 году и профессор
Казанского университета Карл Фукс: перевод ученого практически совпадает с
текстом, который дает значительно раньше в своем произведении М. Невзоровvii
. Автор
«Путешествия в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 г.» выступает как человек глубоко
религиозный, православный, но и другая вера, мусульманская, вызывает пристальный
интерес и приятие. Путешественник демонстрирует толерантность, открытость
русского человека.
В произведении П.П.Свиньина «Картины России и быт разноплеменных ее
народов», в главе «Развалины города Болгар», также возникает рецепция
мусульманской эпиграфики: автора интересуют арабские надписи, основные темы
которых, как он считает, взяты из Корана. П. П. Свиньин отмечает в слоге надгробных
надписей поэтическую образность – «дух восточного витийства», акцентирует
внимание на их морально-философском содержании: неизменном обращении к Богу,
утверждение неминуемости Божьего суда и мысли о кратковременности человеческой
жизни: «Смерть подобна полной чаше пития: всем людям ее пить, никому не миновать.
Гроб – врата смерти, все люди пройдут в них. … Все живые вскоре умрут, кроме
Господа Бога»viii
. Сравнивая надписи мужских и женских гробниц, писатель выделяет
специфику последних: они испещрены «пышными эпитетами». П. П. Свиньин
приводит три надгробных надписи, которые передают многочисленные определения
нравственно-этических качеств, духовного достоинства женщины. Так, княгиня Сара
характеризуется как «пречистая, премногомилосердная, прекрасная, превысокородная,
и непорочная, и препочтенная, и чистейшая, многоверная»ix
.
Рецепция мусульманской эпиграфики в творчестве русских писателей создает
яркий образ татарского мира, передает полихромный мир российского Поволжья,
поликультурное российское пространство, предстающее в сопряжении различных
национальных культур.
1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 354.
1 Быт и верования татар Синбирской губернии в 1783 году: (из записок уездного
землемера Мильковича). Казань, 1905.С. 12. 1 Невзоров М. Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 г. М., 1803.С.
249. 1 Там же.
1 Там же. С. 250.
1 Там же.
1 Фукс К. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях:
краткая история города Казани. Казань, 1991. С. 186-187.
35
1 Свиньин П.П. Картины России и быт разноплеменных ее народов. СПб., 1839.
Ч. 1. С. 194, 195. 1 Там же. С. 195.
В статье анализируется рецепция инонационального российского в творчестве
русских писателей XIX века – мусульманской эпиграфики Поволжья, передающей
экзистенциальные представления мусульманина о человеке и мироздании, жизни и
смерти.
Ключевые слова: рецепция, инонациональное, мусульманская эпиграфика
Поволжья, русские писатели.
The article analyzes the inonationality reception in the works of Russian writers of the
19th century - Muslim epigraphy of the Volga region, transmitting existential view of a
Muslim man and universe, life and death.
Keywords: reception, inonationality, Muslim epigraphy of the Volga region, russian
writers.
Reception Muslim epigraphy of the Volga region in the works of russian writers of the 19th
century.
36
РАСКРЫТИЕ ИМПЛИЦИТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
ГРУЗИНСКИХ ПЕРЕВОДАХ РОМАНА БУЛГАКОВА «МАСТЕР И
МАРГАРИТА»
Ситникова Виктория
Батумский государственный университет имени Шота Руставели
Научный руководитель: ассоц. профессор Нана Каджая
Переводные тексты художественной литературы знакомят своих читателей с
культурой, бытом, мировоззрением и ментальностью другой культуры. Без
страноведческих знаний едва ли представляется возможным создание адекватного
перевода. Перевод художественной литературы должен отражать верное восприятие и
толкование имплицитной культурной информации. Сюда относятся характерные
социокультурные сведения, специфические факты истории, особенности
географической среды, этнографические понятия и т.д. В рамках художественного
текста имплицитный смысл, естественно обусловленный или же введенный для
достижения цели замысла автора, изначально сосуществует с явно выраженным
эксплицитным смыслом, который должен быть понят и принят реципиентом. Фоновые
знания определенной национальной общности помогают процессу декодирования
информации в рамках своей культуры.
Перевод же, в свою очередь, представляется перекодированием. Однако это
перекодирование нельзя считать объективным процессом, т.к. его осуществляет
человек. Главным образом на этот процесс влияет творческая индивидуальность
переводчика и способность выбора из возможных вариантов перекодирования «своего»
верного варианта.
Перевод художественной литературы должен стремиться к слиянию с
оригиналом, к раскрытию творческого своеобразия автора-творца, к видению мира
глазами автора, к пониманию и верной интерпретации того, что должно быть передано
читателю. Переводчик должен чувствовать, мыслить и говорить как автор.
Соответственно переводчик должен в почти равной степени владеть исходной и
переводящей культурами. Перевод, не передающий национально-культурологического
компонента, подлинника не может считаться верным. А для создания правильного
перевода необходимо глубокое понимание текста оригинала.
В своей работе мы попытались проследить как раскрывается имплицитная
информация, содержащаяся в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита», в новейших
грузинских переводах. Упомянутый роман пользуется в Грузии чрезвычайной
популярностью. Материалом исследования послужили переводы Мзии Гелашвили и
Гиви Кикилашвили.
В своем романе Булгаков большое внимание уделяет одежде, элементам
внешнего образа своих героев. Каждая деталь, используемая автором, с одной стороны
способна дать дополнительную характеристику изображаемому герою, а с другой
стороны, в современных условиях прочтения романа, мы можем выделить
дополнительные коннотативные значения. В послереволюционной России, одежда
имела идеологический смысл, т.к. позволяла определять место человека в
общественной иерархии, кодируя принадлежность его к какой-то определенной
37
социальной группе.
В примере «Свою приличную шляпу пирожком…» атрибут одежды шляпа
может одновременно интерпретировать ее владельца как «классового врага»,
«иностранца», «интеллигента». Переводчику Г. Кикилашвили “ lazatiani kudi echira “,
на наш взгляд, великолепным образом удается раскрыть подразумевающийся
имплицитный смысл. Слово „lazatiani” – может быть переведено как впечатляющая или
эффектная. Таким образом, переводчику удается выделить своего героя из общей
толпы. Он не похож на других, он отличается от всех. Атрибут его одежды привлекает
внимание. М. Гелашвили же обращает большее внимание на авторское сравнение
шляпы с пирожком – «…gvezeliseburi shlapa echira”. Хотя необычность шляпы и
привлекает внимание читателя, однако в данном примере авторский образ сравнения
вытеснен образом близким к грузинской культуре. Шляпа сравнивается с «гвезели» -
гурийским национальным блюдом из теста. Такой вариант перевода, на наш взгляд, не
раскрывает имплицитного смысла, и более того вносит национально колоритную
подмену, внося в текст перевода диссонанс.
Булгаков тщательно работал над выбором имен своих героев. Имена героев
романа содержат в себе дополнительную смысловую нагрузку, как правило, важную
для объективного толкования и понимания произведения в целом. Так доподлинно
известно, что поиски псевдонима героя Ивана Бездомного (Понырева) были довольно
долгими. В качестве псевдонима, автор дает ему свой собственный псевдоним времен
работы в газете «Гудок». Ряд исследователей возводят образ Ивана Бездомного к
образу Демьяна Бедного, поэту Ивана Приблудного и Александра Безыменского. В
переводе Гелашвили псевдоним героя звучит как «usahlkaro» - дословно переводится
как «бездомный», сохраняется образно-смысловая семантика. Однако в данном
примере имплицитный смысл не раскрывается, т.к. автор называл себя «Бездомный»,
но никак не «Усахлкаро».
Перекличка романа с произведением Гете «Фауст» отражается на страницах
романа «Мастер и Маргарита», где речь идет о Воланде. Фауст – астролог и
чернокнижник XIV века. «Я – специалист черной магии» - заявляет о себе герой
Булгакова. Советская идеология отрицала существование магии и всего
сверхъестественного. Слово «специалист», по мнению Белобровцевой и Кульюс,
навеяно нэповскими временами, когда на предприятиях появились западные
специалисты, привлеченные изменившейся ситуацией в стране. Кикилашвили
выдерживает в переводе максимальную точность и сохраняет авторскую образность
речи героя - “Shavi magiis specialisti gaxlavart”. Однако в переводе Гелашвили эта
характерная образность утрачена “me misani gaxlvart” – что больше походит на перевод
« я экстрасенс».
Прекрасный пример раскрытия имплицитного смысла представлен в переводе
примера «Елеонская гора». Елеонская или Масличная гора – это возвышенность,
тянущаяся с севера на юг против восточной стены Старого города Иерусалима.
Издревле эта местность была засажена маслинами, отсюда и пошло ее греческое
название. В грузинских переводах переводится как “zetisxilis mta” – что является
грузинским названием именно этой указанной местности, широко известной в Грузии
как одно из священных мест.
Еще один известный топос, представленный на страницах романа – это Лысая
Гора ( Голгофа) – в переводе с еврейского означает – череп. Это место, где был распят
Христос. Автор использует русифицированное название Лысая Гора, которое позволяет
38
отождествлять Голгофу в Иерусалиме с Лысой Горой под Киевом. Это место в
сознании славян вызывает ассоциацию места проведения шабаша ведьм, мистическое,
нехорошее место. Белобровцева и Кульюс отмечают, что из квартиры Булгаковых
виднелась одна из нескольких лысых гор Киева. Эту гору также называют
Ведьминской Горой. В переводе Гелашвили мы встречаемся с названием «Гора
Табакела», “tabakelas mta”. Табакела – это грузинское название горы, где суеверие
поселило ведьм и прочую нечисть. Не смотря на то, что вносится в перевод грузинский
национальный колорит, в данном случае, имплицитный смысл высказывания для
читателя раскрывается наилучшим образом.
Список литературы:
Белобровцева, Кульюс 2007: И. Белобровцева, С. Кулюс, Роман М.Булгкова
Мастер и Маргарита. Комментарий, М., Книжный Клуб 36.6, 2007.
Булгаков 1988: М. Буулгаков, Мастер и Маргарита, Художественная
литература,1988.
Булгаков 2010: М. Булгаков, Мастер и Мааргарита, перевод на грузинский язык,
2010.
Булгаков 2012: М. Булгаков, Мастер и Мааргарита, перевод на грузинский язык,
2012.
Грехиев 1997: В. Грехиев, Словесный образ литературное произведение,
Н.Новгород, 1997.
Хайруллин 1995: В. Хайруллин, Когнитивные и культурологические аспекты
перевода, Докт. Дис., М., 1995.
Интернет-ресурс:
http://www.fondslovo.ru/resources/TWOG/ch03.html
DISCLOSURE OF IMPLICIT INFORMATION IN THE LATEST GEORGIAN
TRANSLATIONS OF BULGAKOV’S NOVEL “MASTER AND MARGARITA”.
Аннотация:
Статья посвящена выявлению и способам передачи имплицитной информации в
современных грузинских переводах романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
Показано, как страноведческие и культурологические знания влияют на адекватность
перевода. Одновременно, такой подход к рассмотрению переводческой практики
позволяет нам выявить образно-смысловые особенности грузинской национальной
культуры.
Ключевые слова: имплицитная информация, страноведческие знания,
коннотативное значение, национально-культурологический компонент.
Annotation:
Article is devoted to the identification and transmitting method of implicit information
in the latest Georgian translations of Bulgakov’s novel “Master and Margarita”. We have
described the importance of cross-cultural knowledge for the adequacy of the translation.
39
Such approach for consideration the translation practice allows us to identify image-semantic
features of the Georgian national culture.
Keywords: implicit information, cross-cultural knowledge, connotative meaning,
ethno - cultural component.
40
ОБРАЗ В.И.ЛЕНИНА В «ПИСЬМАХ ВОЖДЮ» (НА МАТЕРИАЛЕ ОТКРЫТЫХ
ПИСЕМ А.АВЕРЧЕНКО В.И.ЛЕНИНУ)
Е.В. Суровцева
МГУ, Москва (Россия)
Письма представителей интеллигенции вождям являются, как видим,
интереснейшими и важными документами советской эпохи, в которых «отразился век»
и с иной, подчас неожиданной стороны предстаёт личность писателя. Есть в этих
текстах и ещё один существенный аспект, неизбежно проявляющийся при знакомстве с
ними. Это то, каким предстаёт собственно адресат, личность не менее реальная, чем
автор письма, однако отмеченная в эпистолярном контексте субъективным авторским
отношением.
Мы бы выделили в группе адресатов тех, чей образ принципиально
индивидуализирован (автор письма апеллирует не только к лицу, наделённому
властными полномочиями, но и собственно к человеку) и тех, у кого он исчерпывается
служебной функцией. Среди первых, безусловно, В.Ленин, И.Сталин, а также
Ф.Дзержинский, А.Луначарский и некоторые другие крупные представители власти,
среди вторых – А.Енукидзе, А.Андреев, А.Щербаков, Г.Маленков и другие проводники
политики партии и воли вождей. Степень индивидуализации образа адресата зависит от
многих факторов. Играет роль, конечно, масштаб личности адресата, степень близости
его и адресанта, мотивация и жанр письма и – не в последнюю очередь – особенности
творческой манеры писателя-адресанта.
Автора письма могут связывать с адресатом дружеские отношения, годы общей
революционной или иной деятельности (Богданов – Луначарский, Богданов – Бухарин,
Раскольников – Сталин), в конце концов – положение соратников, товарищей по
партии (Горький – Рыков) или – шире – людей, служащих одной высокой цели:
построить новую Россию и новую культуру (Маяковский – Луначарский, в
определённом смысле Шолохов – Сталин), при этом сохранив лучшие завоевания
прошлого и памятуя о ценностях общечеловеческих (Короленко – Луначарский). В
другом случае расчёт на проявление вождём человеческих качеств (мудрости,
гуманности) или здравого смысла мотивирован жанром письма (жалоба, просьба),
целью которого является восстановление справедливости по отношению к писателю,
его близким или по отношению к его произведениям. В таких текстах нередко
формируется идеализированный, гуманизированный образ адресата (Зощенко,
Булгаков, Эренбург и другие – Сталину). Иного рода индивидуализация характерна для
писем, относящихся или близких к жанру памфлета. Здесь в характере, человеческом
облике адресата вычленяются как раз слабые стороны, дающие повод для иронии и
иронической полемики (Маяковский – Луначарскому) и даже для сатирических
обобщений (Аверченко – Ленину).
В письмах-памфлетах Аверченко (1918 и 1920)9 в неожиданном ракурсе
представлен образ вождя пролетарской революции. Тексты Аверченко по цели и форме
близки сатирическим произведениям писателя. Образ Ленина, в них создающийся,
близок персонажу сатирической литературы, с ним связаны элементы вымысла («я
знаю тебя по Швейцарии») и домысла (автор предполагает, чего хочется его адресату, о
чём он ностальгирует в Кремле). Однако арсенал сатирических приёмов помогает
эмигрировавшему писателю передать реальное восприятие им человека (в письме
актуализируется именно человеческий аспект), ставшего у руля власти в России после
9 Аверченко А.Т. – Ленину И.В. // Столица. 1990. № 1. С. 20 – 21.
41
революционного переворота, а через призму этого восприятия выразить своё
отношение ко всему происходящему на Родине.
В изображении сатирика Ленин «очень сухой человек», лишённый простых
человеческих радостей, зато ставший «неограниченным властителем всея России».
Грандиозности амбиций, масштабности социально-политической и исторической роли
вождя комически противоречат снижающие детали внешности и поведения
(«плутоватые глазёнки», «кричал во всё горло»), биографии («ведь ты – я знаю тебя по
Швейцарии, – ты без кафе, без “бока”, без табачного дыма, плавающего под потолком,
– жить не мог»). В том же стиле представлены предполагаемые размышления
«председателя Советской республики»; «Небось, хочется иногда снова посидеть в
биргалле, поорать о политике, затянуться хорошим кнастером…». В целом выражение
авторского отношения к адресату подчинено созданию того же сатирического эффекта:
для него Ленин является как объектом для едких насмешек, так и объектом для
жалости: «…всякий человек имеет право на личный уют в жизни…, а у Ленина нет
этого уюта»; «неуютно ты, брат, живёшь, по-собачьему»10
.
В первом письме автор обращается к «председателю Советской республики» на
«вы», хоть и без всякого пиетета и "без платформы" – «Слушайте, Ленин…»,
«гражданин Ленин», «господин Ленин», «брат мой Ленин! Зачем Вам это?». Иронично
само по себе это смешение разностильных обращений (гражданин, господин, брат),
призванное подчеркнуть неопределённый, не освящённый ни русской, ни мировой
исторической традицией статус вождя новой России, автора бесполезного и
катастрофического, в восприятии адресанта, социального эксперимента. Во втором
письме автор с адресатом исключительно на «ты», идут в ход фамильярности: «Это,
брат, не власть», «Какой ты к чёрту Людовик, прости за откровенность!», «Эка, куда
хватил!», «А ловко ты, шельмец, устроился» и т. п. При этом делаются намёки на якобы
общее прошлое («я знаю тебя по Швейцарии», «это, Володя, даже не по-приятельски»,
«брось ломаться – я ведь знаю…»), общих знакомых (Луначарский, Урицкий,
«знаменитая курсистка товарищ Хайкина», Троцкий – «он тебе не пара») и звучат
дружеские предложения: «могу сколотить немного деньжат», «плюнь ты на это дело…
приезжай ко мне»11
и т.п.
Обращают на себя внимание стиль и язык текстов сатирика, преобладание
просторечно-разговорных элементов, живых интонаций: иронически окрашенных
восклицаний, вопросов, создающих ощущение непринуждённой, даже фамильярной
приятельской болтовни. В результате Ленин предстаёт в письмах-памфлетах Аверченко
неким «зарвавшимся приятелем» автора, натворившим много безобразий, в том числе и
на свою голову, которого автор в иронической форме призывает одуматься, пока не
поздно, честно признать свои ошибки, прогнать плохих советников (Троцкий) и
отказаться от бредовых планов. Тогда автор гарантирует адресату свою посильную
помощь в приятном процессе приобщения к простым радостям жизни: «Будем вместе
гулять по тёплым улицам, разглядывать свежие женские личики, любоваться львами…
есть шашлыки в кавказских погребках и читать великого мудреца Диккенса – этого
доброго обывателя с улыбкой Бога на устах»12
.
Спасительная ирония и гуманистический пафос писем Аверченко не скрывают,
конечно, горького и негативного отношения их автора к властителю, из-за которого
лишился Родины не только он один.
10
Там же. С. 20. 11
Там же. С. 21. 12
Там же. С. 20.
42
Создающийся в его письмах образ Ленина, человека, изначально не чуждого
радостям жизни, но утратившего способность просто жить в процессе завоевания
власти, «засохшего» в разгар собственноручно разработанного социально-
исторического эксперимента, противостоит советскому мифу о «самом человечном
человеке». Акцентированный сатириком разрыв между напряжённым, суетным,
«горячечным» существованием советской властной верхушки, вождя революции, в
частности, с одной стороны, и естественным, органичным течением жизни «простого
обывателя», в роли которого выступает адресант, – с другой, позволяет, как нам
кажется, выразить авторскую мысль о неестественности, чуждости человеческой
природе всего того, что происходит в Советской России.
Таким образом, анализ личности адресата писем поможет нам уточнить и
дополнить наши представления о восприятии адресантом данной личности, известное
нам по статьям, воспоминаниям и другим текстам.
Литература.
Аверченко А.Т. – Ленину И.В. // Столица. 1990. № 1. С. 20 – 21.
В статье рассматривается один из аспектов жанра «письма вождю» – образ
адресата, рассмотренный на материале образа В.И.Ленина на материале открытых
писем А.Аверченко.
Ключевые слова: Ленин, Аверченко, «письмо вождю», образ адресата.
In article one of aspects of a genre «letters to chief » – image of addressee – is
considered on a material of an image of V.I Lenin on material of open letters by
A.Averchenko.
Keywords: Lenin, Averchenko, «letter to chief», image of addressee.
IMAGE OF V.I.LENIN IN «LETTERS TO CHIAF» (ON MATERIAL OF OPEN
LETTERS BY A.AVERCHENKO TO V. I. LENIN)
43
«РУССКИЕ СКИТАЛЬЦЫ» В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
«Russian wonderers» in the literature of the XIX century
Фесенко Эмилия Яковлевна
Гуманитарный институт филиала Северного (Арктического) федерального
университета в г. Северодвинске Архангельской области,Россия
Важное место в русской классической литературе XIX века занимает
осмысление проблемы героя, в частности, такого социально-психологического типа,
как «лишний человек». Ю. Манн в «Литературной энциклопедии терминов и понятий»
обозначает такие черты этого типа героя, как «отчуждение от официальной России, от
родной среды (обычно дворянской), чувство интеллектуального и нравственного
превосходства над ней и в то же время – душевная усталость, глубокий скептицизм,
разлад слова и дела, повышенный драматизм и интенсивность переживаний,
неспособность к активному вмешательству в жизнь, отказ от морализаторских
установок во имя беспристрастного анализа, утверждение ценности личности».
Русский реализм все более тяготел раскрывать «историю души человеческой»,
«исторического характера человека той или иной эпохи и среды» (Л. Гинзбург),
стремясь к психологическому анализу.
Русским писателям и критикам оказалась не чуждой сенсимонистская идея
раскрепощения личности, связанная с «болью и страданием» современного человека,
не находящего реализации в обществе. Произведения Б. Констана, А. де Мюссе, Ж.
Санд не оставили Россию равнодушной и подтолкнули к попытке разобраться в
«болезнях» людей, связанных с равнодушием, скукой, истощением страстей и воли, т.е.
болезнью дворянской интеллигенции – «лишних людей», которые уже заняли
определенное место в литературном и общественном сознании русского общества, в
котором уже жили Чацкие, Онегины, Печорины, Бельтовы. Уже в первой половине XIX
века определилось главное в «лишнем человеке» – интенсивность идейных, духовных и
нравственных исканий. Противоречивая русская действительность обусловила
драматизм их переживаний, связанный с романтическим мировоззрением, стремлением
к разрушительному протесту (так В. Бельтова Герцен характеризовал как «возражение»
на весь порядок жизни), с их сознательным уходом от любви, одиночеством. При
любой классификации типа «лишнего человека» нельзя не заметить, что в нем есть
черты байронического героя, нигилиста и «сверхчеловека». Относится это и к
лермонтовскому Печорину.
В романе М.Ю. Лермонтова затронуты важнейшие философские проблемы
бытия человека. Через все его творчество сквозным мотивом проходит мотив судьбы.
Он стал устойчивым мотивом и его романа «Герой нашего времени», так как в нем
прослеживается, по наблюдениям В.А. Недзвецкого, «драма противоборства героя не
просто с теми или иными обстоятельствами (осознанными, историческими, бытовыми),
но и с судьбою. <…> … характер и позицию Печорина невозможно … свести не только
к эгоизму (С.П. Шевырев) и «эгоизму поневоле» (В.Г. Белинский), но и к
индивидуализму в его психологической (Э. Герштейн) или исторически
мотивированной (Б. Удодов) трактовке».
Ап. Григорьев называл Печорина «тревожным типом». При этом тот всегда
«смело идет вперед», испытывая свои силы, и «поворачивает» фатализм его активной
стороной: «Если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок?».
В герое Лермонтова заложена своеобразная двойственность России: «как
сочетать западное воспевание свободной личности с восточной покорностью року?»
(П. Вайль, А. Генис). В поисках истины Печорин превратил свою жизнь в цепь
экспериментов над собой и окружающими его людьми.
44
В русской литературе XIX века выстроился типологический ряд одного из
устойчивых типов русской литературы – тип «лишнего человека». Каждый из них был
«современным человеком» своего времени: Чацкий – 10-х годов, Онегин – 20-х,
Печорин – 30-х, Бельтов – 40-х, Рудин – 50-х, Обломов – 60-х. Во всех них, по мысли
А. Герцена, «совершалась великая работа… глухая и безмолвная, но деятельная и
беспрерывная», хотя на поверхности «видны были только потери».
К Печорину трудно приложим термин «герой», хотя Лермонтов заложил в
название своего романа возможность «оправдания» его поступков. Мечущийся и
тоскующий в деспотическом государстве Печорин сильно задел официальную Россию,
о чем резко заявил С.П. Шевырев. В. Белинский ценил его «беспокойный дух», а А.
Герцен – его независимость. Ап. Григорьев считал Печорина «человеком титанической
эпохи», а И. Виноградов в ХХ веке объяснял «источник обаяния и человеческой
значительности Печорина» «полнотой его отрицания».
М.Ю. Лермонтов определил путь русской литературы – аналитический подход к
психологии человека. «Загадку» Печорина постигнуть нелегко, ибо масштаб его
личности не совпадает часто с характером его действий. Определить «болезнь» его и
его поколения непросто: в нем дремлют «силы необъятные», он часто «горько
обвиняет» сам себя в своих заблуждениях. Начатое еще В.Г. Белинским исследование
страстей, заблуждений и открытий духа, связанных с Печориным, продолжается и в
ХХI веке в русском и западном литературоведении.
Список литературы:
1. Вайль П., Генис А. Печоринская ересь. Лермонтов // Вайль П., Генис А.
Родная речь. Нью-Йорк, 1990. С. 80.
2. Виноградов И.И. Философский роман М.Ю. Лермонтова // Русская
классическая литература. Разборы и анализы. М., 1969. С. 168.
3. Григорьев Ап. Современное обозрение // Время. 1862. № 10-12. С. 33.
4. Манн Ю.В. Лишний человек. // Литературная энциклопедия терминов и
понятий. М., 2001. С. 485.
5. Недзвецкий В.А. Герой нашего времени М.Ю. Лермонтова: загадка жанра и
смысла // Литература. 1997 № 1. С.9.
Аннотация
В тезисах рассматривается проблема психологизма в русском реалистическом
романе XIX века, типологический ряд одного из устойчивых типов русской литературы
– тип «лишнего человека», центральное место в котором занимает лермонтовский
Печорин.
Ключевые слова
Реализм, психологизм, классическая литература, «лишний человек»,
классификация, типология.
Abstract
45
This material is about a problem of psychologism in Russian realistic novel of the XIX
century, a tupological line of one of stable types of Russian literature – the tupe of
«unnecessary person» in the centre of which is Pechorin by Lermontov.
Keywords
Realism, psychologism, classical literature, «unnecessary person», classification,
typology.
46
«МЫ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДВУХ КОНТИНЕНТОВ…»
(К ВОПРОСУ О ВОСТОЧНЫХ КОРНЯХ А.И. КУПРИНА)
Н.Ш.Хинчагашвили, Горийский государственный учебный университет
Гори (Грузия)
Одной из устойчивых тем в творчестве деятелей русской культуры начала ХХ
века являлась ориентальная тема. Шкала ориентализма была широка: увлечение
восточной литературой, мифами и религиозными преданиями, восточные стилизации,
искусство Востока, «магия» Востока. Огромный интерес к культуре Востока
(эстетический, философский, мировоззренческий, чисто биографический) проявил и
А.И.Куприн.
Рамки настоящего исследования ограничиваются выявлением предпосылок
интереса Куприна к Востоку. Появлению восточных мотивов в творчестве Куприна
способствовали как внешний (влияние аналогичных тенденций в творчестве писателей-
современников), так и внутренний фактор (тюркские корни).
Генетическая привязанность к животным: собакам, кошкам, лошадям, конезавод,
поездки в киргизскую степь, – всё это говорит о неразрывной связи Куприна со
степным миром своих предков («Изумруд», «Пегие лошади», «Последние рыцари»,
«Сапсан» и др.).
Следы «татарского мифа» – татарские корни – встречаются во множестве
произведений А.Куприна. Этим фактом он объясняет свой взрывной темперамент и
гордый нрав, внешние черты, необычайный нюх (роман «Юнкера», воспоминания
современников).
Свойственную себе порой жесткость, упрямство и нетерпеливость в ссоре
Куприн приписывает частично унаследованному от матери деспотическому
характеру, объясняя его как своим тяжелым детством, так и азиатскими корнями
(«Святая ложь»).
Интерес и любовь к Востоку привила писателю мать – Любовь Алексеевна,
последний потомок татарских князей Кулунчаковых. Восточные мифы и легенды,
воспоминания, услышанные в детстве, Куприн переосмыслил в своем творчестве,
увидев в них суть общечеловеческих духовных устремлений.
Традициям использования мусульманских мотивов для выражения собственной
индивидуальности и ощущения сопричастности к мусульманской ментальности
А.Куприн не изменяет и в эмиграции – переводит столь любимую, отвечавшую всей
его жизнерадостной натуре, поэзию Омара Хайяма, Саади, Фирдоуси.
В далекой Франции на почве поэтической любви к Персии у Куприна была
долголетняя дружба с офицером, востоковедом и лингвистом, сотрудником
литературно-политического журнала «Возрождение» (1949—1974 гг.) А.А.Балакиным.
47
Аннотация
«МЫ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДВУХ КОНТИНЕНТОВ…»
(К ВОПРОСУ О ВОСТОЧНЫХ КОРНЯХ А.И. КУПРИНА)
Цель данной работы – систематизировать материал о восточных корнях
классика русской литературы Александра Ивановича Куприна. Автор делает попытку
проследить отражение восточного менталитета в творчестве А.Куприна.
Ключевые слова: татары, ислам, ментальность. восточный цикл.
Summary
«WE – REPRESENTATIVES OF TWO CONTINENTS…»
(The Question about Aleksandr Kuprin’s Oriental Origin)
The aim of this paper is to organize the materials about the oriental origin of Russian
Literature classicist Aleksandr Kuprin. The author tries to show Kuprin’s oriental mentality
depicted in his works.
Key words: Tatar, Islam, Mentality, Oriental Cycle.
48
НАИМЕНОВАНИЯ ПТИЦ СОЗДАННЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИМ
СПОСОБОМ В КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКЕ
М.Б. Хожанов
КГУ, Узбекистан (Каракалпакстан, город Нукус)
Ключевые слова: Синтаксический способ, лексико-грамматические единицы,
сочетаемость слов, двухкомпонентные названия, трёхкомпонентные названия,
четырехкомпонентные названия, словосложение, парные слова.
Key words: Syntactic way, lexica-grammatical units, combinability of words, two
component names, three component names, four component names word composition, binary
of words (pairing).
Аннотация
Статья посвящена изучению композитных способов образования наименований
птиц в современном каракалпакском языке. Такие наименования птиц разделяются на
составные, сложные, парно-повторные. Характеризуются их подтипов образования,
структурные и семантические особенности. Из этого следует что, компоненты
сложного образования сохраняют свою цельнооформленность по форме без
добавочных формальных показателей.
The summary
The article deals with the study of composite ways of forming bird names
(ornithonyms) in Modern Karakalpak which are divided into three types: combinative,
compound, reduplicative as well as their subtypes of formation, structural and semantic
peculiarities are analyzed. From this it follows that the components of compound names retain
their non-reparability in form and meaning without any other formatives.
Определенный состав слов Каракалпакского языка составляют наименования
птиц. Один наименования птиц бывают в форме корня и определяют название данной
птицы, а другие создаются с помощью разных словосочетаний. Данная статья
посвящена анализу наименований птиц, которые созданных с помощью
синтаксического способа. Этим способом наименований птиц в каракалпакском языке
создаются: а) сочетание слов, б) словосложение, в) попарность слов.
а) Наименования птиц, которые созданы способом сочетаний слов. Созданные
этим способом наименования в каракалпакском языке встречаются очень часто. Здесь в
основном слова в составах наименований связаны между собой различными
грамматическими способами. Одна группа наименований создаются из двух слов и
употребляются в форме корня и связываются друг с другом помощью интонаций,
первый компонент играет роль определения, а второй выполняет функцию
выполняющего: ақ қуў (лебедь), сур ғаз (гусь серый), ала ғарға (пестрая ворона) и т.д.
Компоненты второй группы лексико-грамматически зависимы друг от друга: қулақлы
байыўлы (совка пустынная), балықшы бүркит (орел, беркут рыболов), қараша ғаз
(писулька). В этом случае один компонент приходит в доминирующей форме, а другой
в виде зависимого, и наименование создается морфология-синтаксическом способом.
Например: слово қулақлы состоит из прибавлению к корню суффикса и добавив слово
байыўлы в результате получается «қулақлы байыўлы». И остальные наименования
создаются при помощи таких грамматических способов. Их состав состоит следующих:
Созданные из двух слов образуют двухкомпонентные наименования, из трех слов –
трехкомпонентные, из четырех слов – четырехкомпонентные.
1. Двухкомпонентные наименования. Они в основном образуются следующими
двумя способами: а) Состояв в синтаксической взаимосвязи не принимая никаких
49
морфологических элементов, каждый компонент, сохраняя форму корня, образуют
сложные наименования: қызыл ғаз (фламинго розовый), сары шымшық (трясогузка
желтая), пошша торғай (жаворонок хохлатый), ақ шағала (чайка сизая), ала үйрек
(луток) и т.д. Первый компонент в сложных наименованиях по внешней форме бывают
в именительном падеже. Сложные наименования появившиеся из слов в именительном
падеже употребляются как определитель. б) Некоторые компоненты, приняв
определенные аффиксы, попадают между собой в грамматическую связь. Они
образуются двумя способами: Первый, аффикс добавляется к первому компоненту, а
второй компонент сохраняет форму корня: жыланшы қутан (рыжая цапля), балықшы
үйрек (савка) и т.д. Второй, первый компонент не теряет форму корня к второму
добавляется аффикс: дала торғайы (жаворонок полевой), кишкене сүңгигир (малая
поганка), үлкен балықшы (улит большой) и т.д.
2) Трехкомпонентные наименования: – Они состоят из трех слов, попав во
взаимосвязь, при помощи разных грамматических способов образуют наименования. В
таких случаях они создаются следующими путями: а) Все три компоненты
наименования состоят в форме корня. Например: үлкен ақ қутан (большая белая
цапля), ғаз аяқ шағала (чайка серебристая); б) Первый компонент используется
корнем, к второму и третьему компоненту добавляется аффикс: суў жағасы қарлығашы
(ласточка береговая), қара мойынлы сүңгигир (черношейная поганка); в) Первый и
третий компонент сохраняют форму корня, а к третьему добавляется аффикс: ақ
қанатлы шағала (крачка белокрылая), ақ шекели шағала (крачка белощёкая) и т.д.
3) Четырехкомпонентные наименования. В каракалпакском языке
четырехкомпонентные наименования создаются следующими способами: а) Каждый
компонент наименований бывает в форме корня: буға мойын теңиз үйрек (чернеть
хохлатая); б) Первый, третий, четвертые компоненты сохраняют форму корня, а к
второму прибавляется аффикс: ақ қарынлы узын қанат (стриж белобрюхий); в) Первый
и третье компоненты имеют форму корня а к второму и четвертому добавляется
аффикс: узын қуйрықлы тоғай шымшығы (широкохвостая камышевка), жиңишке
тумсықлы тоғай шымшығы (тонкоклювая камышевка) и т.д.
В некоторых случаях слова, сохраняя целостность корня, создают наименования,
а в других ситуациях входят в состав сложных наименований и служат его
компонентом. Например: шымшық (воробей) – сары шымшық (трясогузка желтая),
жаў шымшық (воробей полевой), ғарға (ворона) – ала ғарға (ворона серая), қара ғарға
(грач) и т.д.
Таким образом, наименование птиц образованные при помощи добавления слов
образуется сочетанием двух или нескольких слов, они сочетаются при помощи
взаимосвязи и воссоединение (изафет), на основании своих главных понятий они
проявляют новые семантические целостность – сложные наименования.
б) Наименования птиц образованные способом сложение слов. Сложение слова
являются самым высоким и последним этапом в словосочетании. Потому что тесный
взаимосвязь его компонентов и исчезновение границ между ними приводит к
сближению их к простым словам. Иногда компоненты сложенных слов не различаются
в произношении. В связи с этим отличить состав сложенных слов в языке очень трудно.
Это можно вычислить только при помощи этимологических исследований.
Компоненты ряда сложенных слов, несмотря, на что они по семантике являются одним
словом, сохраняют свою форму и употребляются без фонетических изменений.
Например: түйетаўық (индюк), қызылаяқ (худолочник), қаратамақ (трясогузка белая),
бизтумсық (шилоклюква) и т.д. Слова такого типа легко отличаются от словосочетаний
и сложных (составных) слов. Потому что в них не существует грамматической связи,
их семантика отличаются от семантики компонентов.
50
в) Наименование птиц образованное с помощью попарности слов. Этот способ
не часто употребляется в образовании наименовании птиц и во многих случаях
создаются наименования следующих смыслов. Например: ғаз-үйрек – «разные
домашние птицы», ғарға-қузғын «разные хищные птицы» и т.д.
Таким образом, синтаксический способ в каракалпакском языке является
плодотворным явлением, и при помощи этого способа образовались множество
наименований птиц. Их компоненты в основном состоят из частей речи как имя
существительным, прилагательным, в редких случаях числительным и
подражательным словами.
51
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РУССКОГО АУТЕНТИЧНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ГРУЗИНОГОВОРЯЩЕЙ
АУДИТОРИИ
(на материале романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» - повесть «Бэла»)
Т.А. Чеишвили-Москаленко
ТГУ, Тбилиси (Грузия)
В статье рассматривается проблема функциональной соотнесенности двух
языков – русского и грузинского – (двух языковых сознаний) у языковой личности в
условиях искусственного билингвизма, т.е. в процессе овладения иностранным языком,
когда происходит совмещение образов «грузинской» и «русской» культур,
затрагиваются проблемы восприятия и интерпретации грузиноговорящими студентами
классического русского литературного текста, принадлежащего перу великого русского
поэта и прозаика М.Ю. Лермонтова. Объектом анализа послужил текст одной из
повестей, входящих в структуру романа «Герой нашего времени», - повести «Бэла».
Проблема использования аутентичного художественного текста в иноязычной
аудитории, несмотря на значительную степень разработанности данного подхода, в
последнее время вновь занимает внимание преподавателей-методистов, хотя и
отмечается тот факт, что «художественный текст несколько утратил свой позиции в
процессе обучения русскому языку как иностранному». Это можно объяснить и тем,
что использование аутентичного художественного текста требует довольно высокого
уровня знания русского языка (не менее В2), что не всегда достигается в силу
установленных программ и сетки обучения языку.
Целью настоящего исследования было выявление национально-культурной
специфики восприятия русского художественного текста и установление механизма
построения читательской проекции этого текста.
Главная сложность в восприятии художественных аутентичных текстов для
изучающих русский как иностранный заключается в образности этих текстов, т.е.
способности языковых единиц приобретать новые смыслы и значения в рамках
конкретного художественного текста. Именно в образности заключается та скрытая для
инофона, но понятная для носителя языка информация, которая, собственно, и делает
текст художественным и экспрессивным.
Работа над художественным текстом – это трудоемкий и в некоторой степени
непредсказуемый по своим результатам процесс, который часто не укладывается в
рамки аудиторного времени. Сложность как раз и состоит в методах и способах
раскрытия текстовых особенностей художественного текста, в сотворчестве читателя
(для которого русский язык не родной) с текстом, когда привлекаются все виды
информации: и фактуальная (фоновые знания), и подтекстовая, и коцептуальная.
Аннотация
Статья посвящена проблемам обучения чтению художественных текстов на
занятиях по русскому языку как иностранному. Рассматривается проблема
52
функциональной отнесенности двух языков – русского и грузинского – (двух языковых
сознаний) у языковой личности в условиях искусственного билингвизма, т.е. в процессе
овладения иностранным языком, когда происходит совмещение образов «грузинской»
и «русской» культур, затрагиваются проблемы восприятия и интерпретации
грузиноговорящими студентами классического русского литературного текста,
принадлежащего перу великого русского поэта и прозаика М.Ю. Лермонтова.
Объектом анализа послужил текст одной из повестей, входящих в структуру романа
«Герой нашего времени», - повести «Бэла».
Ключевые слова: русский как иностранный, аутентичный текст, интерпретация текста,
языковое сознание, фоновые знания.
Features perception of Russian art authentic text in Georgian-students
(based on the novel by Mikhail Lermontov's "A Hero of Our Time" - the story of "Bela")
Summary
This article is devoted to the problems of functional relatedness of the two languages -
Russian and Georgian - ( two linguistic consciousnesses ) in the language of the individual in
artificial bilingualism, in the process of mastering a foreign language, when there is a
combination of images of the " Georgian " and " Russian " cultures, addresses the problems of
perception and interpretation of the Georgian- Russian student of classical literary text penned
by the great Russian poet and writer M. Lermontov. Object of analysis served as the text of
one of the stories included in the structure of the novel "A Hero of Our Time" - the story "
Bela".
Key words: Russian as foreign language, belletristic, authentic text, interpretation of the text,
language awareness, background knowledge.
53
Шарапа А.А.(Минск, БГМУ)
О ЗНАЧИМОСТИ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ А.П. ЧЕХОВА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Цель статьи ― показать значение и роль культурологического потенциала
эпистолярного наследия А. П. Чехова (писателя и врача) в подготовке иностранных
студентов-медиков к профессиональному общению.
Преимущество эпистолярного жанра как предмета обучения перед многими
другими жанрами письменной речи в том, что он является, с одной стороны, носителем
информации, а с другой — реализацией надтекстового этикетного уровня. Этот вид
текста используется широким кругом учащихся в их речевом общении на иностранном
языке. В процессе обучения иностранных студентов русскому языку необходимо
знакомить учащихся с перепиской писателей, поэтов, художников, ученых-медиков,
писателей-врачей. Эта переписка обогащает знания студентов об интересных и
выдающихся личностях, об их вкладе в развитие науки, культуры, медицины, учит
культуре общения, прививает основы нравственности и деонтологии.
Частная переписка литературных деятелей XIX века — «богатейший, пока еще
мало изученный историко-лингвистический материал», по которому можно судить не
только об эпохе и личности автора, но и об эпистолярной культуре века.
Эпистолярное литературное наследие А. П. Чехова — писателя и врача составляет
свыше 4500 (12 томов) писем, которые важны не только своим содержанием, но и
творческим использованием языковых (в том числе и фразеологических) богатств русского
языка.
Письма писателя отличаются содержательностью, написаны с большим
художественным вкусом и очень образны. Много в них познавательного в описании
природы, окружающей обстановки тех лет и особенно жизни людей, характеров и
психологии отдельных личностей, индивидуальных черт человека. Много в них и
медицинских сведений, которые исходят от самого писателя и врача.
Среди адресатов А. П. Чехова были крупнейшие ученые, академики,
общественные деятели, юристы, социологи, писатели, поэты, журналисты, издатели,
литературные и театральные критики, режиссеры, артисты, композиторы, художники,
земские врачи, друзья и родные.
Как врач А. П. Чехов в письмах касается разнообразных вопросов медицины,
болезней, симптомов, лекарств, гигиены человека, научных новинок с упоминанием
различных событий, имен и т.д., давая свою оценку излагаемым фактам, что для
будущих студентов-медиков особенно интересно.
Из писем видно, что А. П. Чехов любил свою специальность врача, гордился ею
и своим званием. В 1883 г. (в марте) он писал старшему брату Александру: «Медицина
моя идёт crescendo. Умею врачевать и не верю себе, что умею... Не найдёшь,
любезный, ни одной болезни, которую я не взялся бы лечить...». Из писем можно
совершенно определенно сказать, что А. П. Чехов основной специальностью
(профессией) считал медицину. Составляя своё жизнеописание, в письме из Мелихова
11/2 1893г. И.Н. Островскому А. П. Чехов написал ставшую широко известной
шутливую фразу: «Медицина – моя законная жена, литература – незаконная. Обе,
конечно, мешают друг другу, но не настолько, чтобы исключить друг друга...».
Из писем видны врачебное терпение, такт, уважение А. П. Чехова по отношению
к больным, отсутствие резкости, грубости. Письма А. П. Чехова отражают также очень
54
уважительное, товарищеское отношение его к знакомым и незнакомым врачам,
сокурсникам и больным. В письме к В. А. Тихонову 22/04 1892г. он писал: «... с
товарищами, как врачами, так равно и литераторами, пребываю в отличнейших
отношениях».
В письмах А. П.Чехова содержатся сведения о болезнях, которые он наблюдал
при приёме больных и посещении их на дому, у своих родных, близких, друзей и
знакомых. Прежде всего это инфекционные болезни, распространённые в те годы в
России, и среди них брюшной тиф или просто тиф (у Чехова иногда «тифоид»,
«тифозное состояние»).
А. П. Чехову писали ученые-медики и рядовые земские врачи, среди его
адресантов были Н. В. Склифосовский, Г. А. Захарьин, А. А. Остроумов,
В. И. Яковенко, Н. И. Коробов, Н. А. Лейкин, Т. П. Розанов, М. А. Членов,
Л. В. Середин и др. В этих письмах можно найти немало интересных данных по
истории русской общественной медицины, о борьбе с холерой, о переписи населения, о
способах и методах лечения различных заболеваний, о больницах-дворцах и земских
больницах, о диагностике, о психологии и психиатрии, о жестокости персонала по
отношению к больным, о врачебной этике и деонтологии, о гуманности. Во многих
своих письмах А. П. Чехов неустанно повторял: «Я же больше врач, чем писатель».
Многие писатели и литературоведы считали что то, что Чехов был врачом, не
только дало ему знание людей, но и сказалось на его стиле. «Если бы Чехов не был
врачом, то, возможно, он бы не создал такую острую, как скальпель, аналитическую и
точную прозу. Действительно, такие его рассказы, как, например, «Палата № 6»,
«Скучная история», «Попрыгунья», да и многие другие, написаны как образцовые
психологические диагнозы» (Мирский М. Б., 2003).
Друг Чехова, прославленный режиссер К. С. Станиславский в своей книге «Моя
жизнь в искусстве», писал, что Чехов гордился своими медицинскими знаниями
гораздо больше, чем литературным талантом.
Таким образом можно сказать, что письма А.П.Чехова представляют собой
неисчерпаемый материал, который показывает огромные знания их автора, его
мудрость, гуманность, любовь к больным и к своей профессии, и что только
посредством классических примеров общения можно научить будущих медиков
культуре общения (в том числе и профессиональной), привить основы медицинской
нравственности и деонтологии, т.е. всего того, что делает будущего врача
бескорыстным, чутким, терпеливым, внимательным, умеющим сострадать и
располагать к себе больного, быть, по словам Гиппократа, отцом для больного,
хранителем ― для выздоравливающего и другом ― для здорового.
О ЗНАЧИМОСТИ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ А.П. ЧЕХОВА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-
МЕДИКОВ
About the importance of epistolary heritage A.P. Czechs in vocational training of
foreign medical students
Ключевые слова: эпистолярное наследие, профессиональное общение, иностранные
студенты медики
Key words: epistolary heritage, professional communication, foreign medical students
Аннотация
55
Цель статьи ― показать значение и роль культурологического потенциала
эпистолярного наследия А. П. Чехова (писателя и врача) в подготовке иностранных
студентов-медиков к профессиональному общению.
Abstract
The purpose of the article is to show the importance and role of cultural potential of the
epistolary heritage of A. P. Chekhov (writer and doctor) in the preparation of foreign medical
students for professional communication.
А.ШИФНЕР – ПРЕДТЕЧА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАТИНСКОЙ
ТРАНСКРИПЦИИ
Доктор филологических наук, профессор
Тариел Сихарулидзе (Ататюркский университет,
Турция)
Докторант Ататюркского университета
Мурат Йылмаз
В Современном языкознании автором международной латинской
транскрипции считается французский ученый Поль Пасси, который вместе со своими
коллегами в 1886 г. разработал принципы и учредил Международную фонетическую
ассоциацию.
Истинность этого положения становится менее достоверной на фоне
аналогичного опыта, имевшегося на тот период в России.
Как известно, в России принципы латинской транскрипции Г.В.Розена и
А.А.Шифнера изначально были использованы Шегреном при составлении азбуки (на
основании кириллицы) для осетин, изданной последним в 1844 г.
Однако дальнейшее совершенствование латинской транскрипции связано с
именем только А.А.Шифнера, который впервые применил ее к языкам ( 1854 г. цова-
тушинский, 1862 г. аварский , 1863 г. удинский…) с гораздо более сложной
фонетической системой. Естественно, латинский алфавит, состоящий из 26 графем не
мог адекватно отразить гораздо более богатые звуковые системы вышеперечисленных
кавказских языков, в которых больше как согласных ( в аварском 44 против 19 в
латинском), так и гласных ( в удинском 13 против 5 в латинском).
Несопоставимые по сложности звуковые системы индоевропейских и иберийско-
кавказских языков исключали возможность механического применения латинской
графики. Требовалось не только создание новых графем, но следовало точно
определить природу каждого звука, его специфику, установить систему оппозиций (в
индоевропейских языках двоичная система согласных, а в иберийско-кавказских –
троичная и более…) что собственно и является составлением транскрипции.
По этой причине применение латинского алфавита для передачи своеобразных
звуков кавказских языков исключает возможность использования транслитерации,
которая трактуется специалистами как: « переложение буквенного написания одного
языка или одной системы графики графическими знаками другой системы. Такова
передача греческих надписей латинскими буквами»x
Другой вопрос насколько адекватны Шифнеровскине транскрипции. И здесь
следует отметить, что сам автор признавал неизбежное наличие погрешностей: «В
заключение позвольте еще раз повторить сказанное, что касается произношения
56
отдельных звуков, то я был ограничен неполными текстами и вынужден был опираться
на чужое восприятие ( букв. на чужие уши – Т.С.), поэтому в связи с характеристикой
звуков возможно много недочетов. Учитывая эту причину Вы должны мне простить те
или иные неточности”…xi
Помимо этого все объемные монографии известного русского кавказоведа П.К.
Услара, (Абхазский язык, Чеченский язык, Лакский язык, Даргинский язык, Аварский
язык, Лезгинский язык), были переработаны и изданы на немецком языке
(эмпирическая часть при помощи латинской транскрипции) А.А.Шифнером в 1863-
1873 гг.
Вместе с тем подтверждением положения о создании А.Шифнером именно
транскрипции служит мнение и специалистов удинского языка, в частности, одного из
лучших удиноведов своего времени Е.Ф.Джейранишвили. В монографии «Удийский
язык» в сводном списке транскрипций, созданных для выражения звуковой системы
удинского языка, им в отдельной графе дается именно латинская транскрипция
А.А.Шифнера xii
.
Применение Шифнеровской транскрипции к различным (в том числе и
гетерогенным) языкам допускает возможность постановки вопроса о приоритете в
разработке приниципов латинской универсальной транскрипиции именно российской
филологической школы.
Антон Шифнер - предтеча латинской международной транскрипции
Первая международная латинская транскрипция, Россия
Согласно общепринятой точке зрения, автором первой латинской
международной транскрипции (1886 г.) является французский ученый Поль Пасси
Однако впервые применение международной латинской транскрипции для
гетерогенных языков осуществилось в России (1854 г.) и связано с именем академика
А.А.Шифнера
Ключевые слова: история языкознания, А.Шифнер, международная латинская
транскрипция.
Anton Shifner – precursor of Latin international transcription
First international Latin transcription, Russia
According to an accepted viewpoint the first author of international Latin transcription (1886)
is a French scientist Paul Passy.
However, it was in Russia that international Latin transcription was used for the first time for
heterogeneous languages (1854) and is related to academician A.A. Shifner.
Keywords: history of linguistics, A.Shifner, international Latin transcription.
57
PECULIARITIES OF TEACHING RUSSIAN LITERATURE
IN SCHOOLS OF UKRAINE
(LATE 20TH
– EARLY 21ST
CENTURIES)
L.V. Adonina
Sevastopol Municipal Humanitarian University
Sevastopol (Russia)
The history of the Ukrainian methods of teaching literature is very hard to trace
in its internalistic cognitive dimension, as an immanent process which does not concern social
context, because different political, ideological and economic factors always influence this
history. The peculiarities of teaching Russian literature in schools of Ukraine also depend on
the social processes within the society.
When the Soviet Union collapsed, Ukraine acquired independence and in the
1990s entered the stage of creating its own educational space. It was a period of reviewing
fixed notions, transforming the methodological bases, and searching for new conceptions. The
place of Russian literature and culture in the system of Ukrainian education was also
reviewed.
The course of “Russian Literature”, which had enjoyed a dominant position in the
Soviet Ukrainian schools, was excluded from the school curricula of educational institutions.
They started to teach world literature at Ukrainian schools along with the native literature, i.e.
Ukrainian. It was actually a question of creating an absolutely new subject. Its uniqueness lies
in the fact that literary works included into the school programme in Ukraine (especially into
that of high school) are studied at philological departments in universities throughout the
world. “World Literature” as a separate subject is absent from all state school systems we
know.
Having refused the Soviet methodology of teaching literature at school, scientists,
educators, teachers of Ukraine were empirically creating a methodical base for the new school
subject.
The new school subject was supposed to become an alternative to Russian
literature, because its aim is to provide the young citizens of a newly independent state with
an objective view of the world literature and culture, to show specific peculiarities of the
world historical-literary process, find out contact, typological and genetic correlations of the
Ukrainian and other literatures, to enable understanding and evaluating the role, place and
importance of the Ukrainian writers in the evolutional social-cultural space of the world.
Ukrainian was set as the language of studying the subject of world literature.
The introduction of a new subject was somewhat uneven in the Ukrainian
territory, i.e. the Ukrainian-speaking regions were the first to proceed to the new educational
standards. The state used different ways of introducing the new state standards of education.
There was a strict Ukrainization in the regions where the Ukrainian language was dominating
– all the communication in the educational and other state institutions as well as the
maintenance of documentation was allowed only in the official language.
Introducing the Ukrainian language into the state, educational and cultural
institutions, and the press in the eastern regions was gradual. A new generation of young
Russian-speaking Ukrainian citizens knowing Ukrainian at the same level with Russian was
being brought.
The educational system was heading for a Ukrainization in education.
Russian Literature textbooks were banned from the school libraries in the
western regions and destroyed. During the first years of the Ukrainian independence, the
58
Russian-speaking regions continued teaching according to the Soviet textbooks and
programmes. They never heard of the problems the teachers of Ukrainian-speaking regions
had to face, i.e. a lack of teaching methods and principles, lack of clear programmes,
textbooks, reading-book, teaching aids for the new course.
Initially, Russian Literature got a well-deserved position in the structure of the new
course – as for the scope and number of literary works in the 90s the share of Russian
Literature in the course “World Literature” was at least 50 percent. The teachers, educators,
scientists of that time noticed the advantages of studying Russian Literature in the context of
the World Literature: studying the literature against the background of a broad culturological
context widens the reader’s perception of literary works, contributes to understanding the
fundamental cultural values considerably.
Unfortunately, there was no place in the programme for many works of Russian
classical literature because the choice of literary works for studying excluded any ideological
bias and involvement. Such processes at that time were also characteristic of the Russian
educational system.
That period produced numerous sample textbooks, reading-books, and qualitative
translations of the world literary works in Ukrainian. However, there were some excesses
when Russian Literature, easily understandable without any translation, was also translated
into Ukrainian. At the modern stage, the authors of programmes and textbooks do not observe
this practice giving the school students an opportunity to study some works from the school
World Literature programme in their original language.
Comparing the programmes and textbooks during the 20-year development history of
this unique Ukrainian subject proves that the scope of Russian Literature in the school course
of literature was gradually reduced from 50 to 20 percent.
With the multinationality of the country, interests of its citizens taken into
consideration, a new subject – an integrated course “Literature of a National Minority and
World Literature for regions with another language of communication – was introduced into
the educational humanitarian space as well as the course “World Literature” for the
Ukrainian-speaking regions. This course aimed to give equal opportunities to school students
of different nationalities to the access to high-quality literary education.
In fact, they started to teach the new humanitarian subject in two formats: “World
Literature” (the course for the Ukrainian-speaking regions), an integrated course “(Russian
and World) Literature” – for the Russian-speaking ones – because Russian is native not only
for a significant number of Ukrainian citizens but it is also a language of cross-national
communication, education and a way of communication for minor nations, living in the
Ukrainian state.
Talking about the scope of Russian literature in comparison with the scope of Foreign
Literature in the integrated course “Literature” for schools with Russian language of teaching,
we should notice that since the 1990s it never reduced. The share of Russian-speaking authors
predominates, e.g. approximately 80 percent of literary works in high school were created by
Russian classicists. However, the situation is not as good as it seems at the first sight. The
number of teaching hours was cut down; consequently, the scope of material for studying was
also reduced.
Adonina L.V. Peculiarities of Teaching Russian Literature in schools of Ukraine (late
20th
– early 21st centuries)
Summary: The article describes peculiarities of teaching Russian Literature in schools
of Ukraine during the post-Soviet period in Russian-speaking and Ukrainian-speaking regions
of the country.
59
Keywords: history of teaching methods, Russian Literature, World Literature, system
of education, educational space.
Адонина Л.В. Особенности изучения русской литературы в школах Украины
(конец ХХ – начало ХХI вв)
Аннотация: В статье описываются особенности преподавания русской
литературы в школах Украины в постсоветский период в русскоязычных и
украиноязычных регионах страны.
Ключевые слова: история методики преподавания, русская литература,
мировая литература, система образования, образовательное пространство.
60
ТУРГЕНЕВСКАЯ ТРАДИЦИЯ В КНИГЕ И.А. БУНИНА «ОКАЯННЫЕ ДНИ»
С.М. Аюпов,
Уфа (Россия)
Т. Е. Харисова
МБОУ СОШ № 98,
Уфа (Россия)
Художественно-публицистическая книга Бунина «Окаянные дни» (1925) в
настоящее время является предметом пристального изучения историков литературы.
Главный пафос книги – размышления автора о России, о ее настоящем, прошлом
и о закономерностях ее исторического бытия.
Думается, немаловажную роль в идейно-художественном мире книги играет
еще не привлекавшая внимание исследователей тургеневская традиция, постижение
которой позволяет вскрыть преемственные связи между художниками двух
переломных эпох в истории России: «шестидесятыми годами» с их отменой
многовекового крепостного права и утверждением нового государственного строя в
результате большевистского переворота в октябре 1917 года.
На наш взгляд, по своему публицистическому пафосу, по освещению ключевых
проблем русской жизни книга Бунина в истории русской литературы наиболее близка к
тургеневскому роману «Дым» (1867). Мы полагаем, что оценки, определения русской
истории, данные в тургеневском романе, перекликаются с аналогичными суждениями в
«Окаянных днях», более того, они в известной мере послужили основой для
осмысления автором трагических событий первых лет «нового мира».
Не случайно ближе к концу книги Бунин обращается к спору Тургенева и
Герцена о послереформенных путях России. Известно, что эта полемика происходила в
1862-1864 годах, в устных беседах, в переписке, а потом отразилась в романе «Дым», в
речах одного из героев – Потугина. Процитируем Бунина из «Окаянных дней»:
««Тургенев упрекал Герцена: «Вы преклоняетесь перед тулупом, видите в нем великую
благодать, новизну и оригинальность будущих форм». Новизна форм! В том-то и дело,
что всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего
всё старо на Руси и сколь она жаждет прежде всего бесформенности»13
. У Тургенева (в
письме к Герцену от 27 октября /8 ноября 1862 года) сказано чуть иначе: «…
оригинальность будущих общественных форм», но смысл тот же.
Оба произведения – «Дым» и «Окаянные дни» – посвящены переломным,
эпохальным периодам русской истории: первым годам России после отмены
крепостного права (основное действие тургеневского романа происходит в августе 1862
года, а также в 1863-1864 годы), и первым месяцам и годам после февральской
революции и октябрьского переворота – 1917-1919 годы.
Оба произведения остросовременны, злободневны, сатиричны, включают в себя
страстные (и пристрастные14
) оценки российской действительности.
13
Бунин И.А.Окаянные дни // http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_2262.shtml Запись от 11
июня 1919 года. Одесса. 14
См. запись от 9 февраля 1918 года, Москва: "Еще не настало время разбираться в
русской революции беспристрастно, объективно..." Это слышишь теперь поминутно.
Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А
главное: наша "пристрастность" будет ведь очень и очень дорога для будущего
историка. Разве важна "страсть" только "революционного народа"? А мы-то что ж, не
люди, что ли?»»
61
Перекликаются и названия произведений: «Дым» и «Окаянные дни» – оба несут
негативную оценку России после свершившихся грандиозных перемен: у Тургенева
русской жизни не только 1862 года, но и середины 1860-х годов с их новыми
реформами, судебной, например, («Дым» вышел в 1867 году), у Бунина – после
знаменательных февральских и октябрьских событий 1917 года. Причем, второе
название выглядит как эмоциональное усиление первого: дымные дни сменяются в
дальнейшем движении российской истории окаянными.
Общим знаменателем обеих книг являются размышления писателей о некоторых
чертах русской натуры и русской истории.
Тургенев в одном из писем 1862 года, идейно примыкающих к роману «Дым»,
предвосхищает суждения Бунина в «Окаянных днях» о свойствах «нашей натуры»,
приведшими страну, по мнению последнего, к еще одному варианту российской
бесформенности, которая обернулась гораздо более худшими бедами и несчастьями в
результате февральской революции и особенно октябрьского переворота 1917 года.
По мнению Бунина, жажда бесформенности, аморфности коренится в самой
русской натуре. То, что Тургенев высказал в плане предположения («в самой ли нашей
натуре находятся залоги всего того, что мы видим вокруг себя…»), Бунин отвечает
утвердительно, проведя исторические параллели между настоящим положением России
и былыми «смутными временами», обнаружив в них общий знаменатель – русскую
натуру.
Мысль о склонности русской натуры к шатанию, бродяжничеству, «шаткости»,
бунту (в самом широком смысле этого слова) проходит сквозной нитью через всю
книгу Бунина. Именно эти черты русской натуры, по мнению Бунина, постоянно
порождают аморфное, бесформенное или, как сказал Тургенев, «газообразное»
состояние страны, особенно в переломные периоды русской истории.
Образы русской пореформенной бесформенности многочисленны в
тургеневском «Дыме» (с его красноречивым названием), но еще более многочисленны
такие примеры в послереволюционной российской действительности 1917-1919 годов,
зафиксированные в бунинской книге «Окаянные дни». В плане исследования
закономерностей русской истории оба произведения составляют единое идейное целое,
художественно-публицистическую дилогию.
В самом творчестве Тургенева имеются герои и героини, в которых стремление
к бродяжничеству, странствиям, «охота к перемене мест», неприятие сложившихся,
традиционных, «домашних» моделей существования, является определяющим в их
натуре. Такой тип тургеневского персонажа, на наш взгляд, получает свою
законченность, рельефность в образе Миши Полтева из рассказа «Отчаянный» (1882).
Тургеневский Миша Полтев – типичный буян, разрушитель сложившихся форм
жизни, но еще без той кровавой окраски, которая присуща антигероям (окаянным)
бунинской книги.
Примечательно, что писатель сам подчеркивал типичность для русской жизни
своего героя, указывая на его (родившегося в 1828 году) органическое единство с
«современной протестующей молодежью» рубежа 1870-1880-х годов: «Чем же я
виноват, что генетическая связь сама собой бросается в глаза, что мой „Отчаянный“ и
нынешние — два родственные типа, только при различных общественных
условиях…»15
. Та же генетическая связь, на наш взгляд, очевидна и при сопоставлении
образа Миши Полтева и антигероев бунинского книги.
15
Тургенев И.С. Собр. соч. в 30 т. - Т. 10. – М.: Наука, 1982. – С. 407 (комментарии
Л.Н. Назаровой).
62
Вслед за Анненковым, указавшим на типичность образа Полтева для русской
жизни, характерность этого образа для России отметил известный французский
теоретик и критик, основатель культурно-исторической школы в литературоведении
Ипполит Тэн, назвав рассказ «Отчаянный» не более не менее как «историческим
документом». Можно отметить и созвучие слов «отчаянный» и «окаянный».
Таким образом, наш анализ выявил преемственные связи между перепиской и
произведениями Тургенева (прежде всего рассказом «Отчаянный» и романом «Дым») и
книгой Бунина «Окаянные дни». Историософские взгляды Тургенева и Бунина
объединяет мотив бесформенности русской жизни после произошедших в стране
грандиозных исторических перемен. Этот мотив впервые в русской классической
литературе прозвучал в тургеневском «Дыме», посвященном первым пореформенным
годам в России.
Этот лейтмотив – сквозной для бунинской книги, его исток – вышеназванная
полемика Тургенева и Герцена в начале 1860-х годов. Бунин, идейный наследник этого
спора, можно сказать, продолжил его в своей книге «Окаянные дни», подтвердив
правоту Тургенева в его споре с лондонским оппонентом.
Аннотация Статья посвящена выявлению тургеневской традиции в «Окаянных днях»
Бунина, позволяющей установить близость историософских взглядов двух писателей,
считающих бесформенность характерной чертой общественной жизни страны,
особенно явственной в ее переломные эпохи. В одном из последних типических
тургеневских героев как бы предугаданы черты будущих антигероев бунинской книги с
их склонностью к бесцельному шатанию, нравственной «шаткости», к бунту против
прочных, сложившихся основ жизни, то есть с их «жаждой бесформенности».
Ключевые слова: тургеневская традиция, образ бесформенности, «Дым»,
«Окаянные дни», русская история
Annotation
The article is dedicated to educing the Turgenev's traditions in Bunin's "Cursed Days"
which will let us find out the affinity of historiosophic views of the two writers who consider
shapelessness as a characteristic of the country's social life, especially seen in it's momentous
periods. In one of the last Turgenev's typical heroes the characteristic of future Bunin's
antiheroes are somewhat predicted with their addiction to aimless roaming, to moral
weakness, to revolting against strong customary living base, i.e. with their "desire of
shapelessness".
Keywords: Turgenev's tradition, image of shapelessness, "The Smoke", "The Cursed
Days", Russian history.
63
КАТАРСИС КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ЯЗЫКОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА
С.Б. Аюпова
БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа (Россия)
Н.А. Куклина
БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа (Россия)
Научный руководитель – д.ф.н., профессор С.Б. Аюпова
Более двух тысяч лет философы, теологи, искусствоведы, филологи, психологи,
медики изучают такую важную философскую, этическую, художественно-эстетичскую,
естественнонаучную категорию, как катарсис16
. Пристальный интерес к этому
феномену на протяжении столь длительного времени, актуальность его исследования
не случайны, ибо катарсис (от греч. κάθαρσις – очищение) – это не только особый метод
очищения души с помощью с помощью разных видов искусства, но и главная цель
искусства.
Создание катарсиса в сознании автора произведения и воспринимающем
сознании читателя – одна из важнейших функций языковой художественной картины
мира, под которой понимаем «синкретичное образование, возникающее в результате
воплощения художественных смыслов в речи и представляющее собой целостный,
многогранный образ художественного мира, создаваемый средствами языка. Языковая
художественная картина мира <…> воплощает в языке художественного произведения
результаты творческой деятельности, отношение творца художественной реальности к
миру, его эстетическую и ценностную ориентацию»17
. Данной функции подчинены все
остальные: интерпретивная функция, которая проявляется в том, что особенности
художественного мировидения писателя отражаются на отборе языковых средств, их
комбинациях; эстетическая (поэтическая) функция, состоящая в том, что языковая
художественная картина мира воспринимает и воспроизводит в языке художественного
текста прекрасное в жизни и в искусстве (в том числе и трагическое); этическая
функция, связанная с отражением определенного уровня морали, нравственности,
находящих свое выражение в произведении и вербализованных в тексте лексемами
соответствующих лексико-семантических групп; аксиологическая функция,
обусловленная тем, что языковая художественная картина мира включает в себя
систему оценок, ценностей человека, которые также отражаются в лексемах
определенных лексико-семантических групп и распределяются по лексическим полям:
хорошо – плохо, правильно – неправильно, нормативное – ненормативное, духовное –
материальное, богатство – бедность, жизнь – смерть, свой – чужой и др.; эмотивная
функция, состоящая в том, что в языковой художественной картине мира средства
языка позволяют выявить эстетико-эмоциональные составляющие «аффективного
содержания» художественного текста; экспрессивная функция, предполагающая то, что
языковая художественная картина мира как эстетическое явление создается с помощью
16
См.: Аристотель. Об искусстве поэзии. – М., 1951; Долгов К.М. Катарсис // Новая
философская энциклопедия [Электронный ресурс] // http://iph.ras.ru/enc.htm; Катарсис:
метаморфозы трагического сознания / Сост. и общ. ред. В. П. Шестакова. – СПб., 2007;
Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. – М., 1965. – С. 85–99;
Лосев А.Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития. Кн. II. – М.,
1994. – С. 76–87; Штайн К.Э., Петренко Д.И. Филология: История. Методология.
Современные проблемы. Учебное пособие / Под ред. д-ра социол. наук проф.
В.А. Шаповалова. – Ставрополь, 2011. – С. 472–473. 17
Аюпова С.Б. Языковая художественная картина мира и ее признаки (на материале
произведений И.С. Тургенева) // Русская словесность. – 2010. – №2. – С. 59.
64
выразительных средств разных уровней языка; прагматическая функция, находящая
свое воплощение в языковых авторских интенциях; модальная функция, состоящая в
выраженном с помощью грамматических и лексических средств языка отношении к
реальной действительности (модальность реальности – ирреальности, объективная –
субъективная модальность); когнитивная функция, проявляющаяся в том, что языковая
художественная картина мира – это сфера концептуализации художественных знаний и
смыслов, что находит свое выражение в художественных концептах разной степени
осознаваемости, представляющих собой многослойное явление и имеющих языковую
экспликацию в тексте литературного произведения; диалогическая функция,
заключающаяся, во-первых, в интертекстуальности произведения, в том, что
литературное произведение способно вступать в диалог с текстами других писателей и
поэтов разных эпох и народов, во-вторых, в диалоге двух сознаний: сознания творца
произведения и воспринимающего сознания читателя; трансформационная функция,
заключающаяся в том, что в языковой художественной картине мира понятийное
содержание и экспрессивные качества слова подвергаются семантическому
осложнению и эстетическому преобразованию18
.
Языковая художественная картина мира как особая эстетическая форма
словесности состоит из двух частей: художественного текста и внетекстовой части. От
двучастности языковой художественная картина мира зависит такое ее структурное
свойство, как многовекторность. Многовекторность языковой художественной картины
мира и определяет ее компонентный состав. Центральным компонентом языковой
художественной картины мира является литературное произведение, в котором
художественные смыслы означиваются с помощью языковых единиц. Именно от текста
исходят или к нему направлены векторы внетекстовой части языковой художественной
картины мира19
. Необъективированная, внетекстовая часть языковой художественной
картины мира включает в себя, во-первых, «надтекст», то есть внехудожественную
реальность, так как «глубины внехудожественной реальности составляют едва ли не
главный объект художественного познания. В творчестве больших писателей
ориентация подобного рода играет решающую роль»20
; во-вторых, подтекст
произведения, то есть предметно-психологическую данность, которая лишь
угадывается в словах, составляющих текст произведения. Сферу подтекста «составляет
главным образом «тайнопись» человеческой души»21
; в-третьих, психоэмоциональную
сферу, содержащую имплицитную оценку и катарсис, механизм которого очень тонко
описан как писателями, так и исследователями их творчества. Так, в стихотворении
«Элегия» (1830) А.С. Пушкин писал: «<…> / Порой опять гармонией упьюсь, /
Над вымыслом слезами обольюсь <…>». М.Е. Салтыков-Щедрин в письме
П.В. Анненкову о творчестве И.С. Тургенева отмечал следующее: «Да и что можно
сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко
дышится, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как
нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь
автора? <…> … а это, именно это впечатление оставляют после себя эти прозрачные,
18
См.: Аюпова С.Б. Феноменологические особенности языковой художественной
картины мира // Искусство и образование. – 2008. – №11. – С. 191 – 198. 19
См.: Аюпова С.Б. Языковая художественная картина мира и ее признаки (на
материале произведений И.С. Тургенева) // Русская словесность. – 2010. – №2. – С. 59–
64. 20
Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. 4-е изд., испр. и доп. – М., 2004. – С. 58. 21
Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. 4-е изд., испр. и доп. – М., 2004. – С. 285.
65
будто сотканные из воздуха образы»22
. В. Иванов, анализируя творчество
Ф.М. Достоевского, также подчеркивает особую роль катарсиса в восприятии и оценке
его произведений: «Ужас и мучительное страдание – именно по формуле Аристотеля –
поднимает у нас со дна души «жестокая»... муза Достоевского, но и приводит нас
всегда к возвышающему, освобождающему потрясению, запечатлевая этим
подлинность и чистоту своего художественного действия, – как бы мы ни
истолковывали «очищение», это понятие, о содержании которого столько спорим с
точки зрения психологической, метафизической или моральной»23
; в-четвертых,
интертекст, так как художественное произведение способно вступать в диалог с
текстами других писателей и поэтов разных эпох и народов.
Таким образом, структуру языковой художественной картины мира можно
изобразить следующим образом24
:
Круг – ЯХКМ, точка пересечения А – текст, вектор Б – надтекст, вектор В – подтекст,
вектор Г – катарсис, вектор Д – интертекст; вектор Е – имплицитная оценка.
Аннотация.
Статья посвящена актуальной проблеме исследования механизмов создания
катарсиса в эстетической действительности, поскольку катарсис – это не только особый
метод очищения души с помощью с помощью разных видов искусства, но и главная
цель искусства. Создание катарсиса в сознании автора произведения и
воспринимающем сознании читателя – одна из важнейших функций языковой
художественной картины мира, которой подчинены все остальные ее функции. В
структуре языковой художественной картины мира катарсису отводится
необъективированная, внетекстовая психоэмоциональная сфера.
Ключевые слова: катарсис, языковая художественная картина мира,
воспринимающее сознание.
22
Тургенев в русской критике: Сборник статей. – М., 1953. – С. 517
23 Иванов В. Лик и личины России. – В кн.: Эстетика и литературная теория. – М., 1995.
– С. 360. 24
См.: Аюпова С.Б. Языковая художественная картина мира и ее признаки (на
материале произведений И.С. Тургенева) // Русская словесность. – 2010. – №2. – С. 59–
64.
Е Б Г
Д А
В
В
В
66
CATHARSIS AS MAJOR COMPONENT OF LINGUISTIC ARTISTIC
PICTURE OF THE WORLD
Annotation:
The article is devoted the issue of the day of research of mechanisms of creation of
catharsis in aesthetic reality, as a catharsis is not only the special method of clearing of the
soul with a help by the different types of art, but also primary objective of art. Creation of
catharsis is in consciousness of author of work and perceiving consciousness of reader – one
of major functions of linguistic artistic picture of the world, which all other are inferior its
functions. In the structure of linguistic artistic picture of the world a not objective, not text,
psychological and emotional sphere is taken a catharsis.
Keywords: catharsis, linguistic artistic picture of the world, perceiving consciousness.
67
ВИДЫ КАТАРСИСА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И НЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
С.Б. Аюпова
БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа (Россия)
Н.А. Куклина
БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа (Россия)
Научный руководитель – д.ф.н., профессор С.Б. Аюпова
Более двух тысяч лет философы, теологи, искусствоведы, филологи, психологи,
медики изучают такую важную философскую, этическую, художественно-эстетичскую,
естественнонаучную категорию, как катарсис25
. Пристальный интерес к этому
феномену на протяжении столь длительного времени, актуальность его исследования
не случайны, ибо катарсис (от греч. κάθαρσις – очищение) – это не только особый метод
очищения души с помощью с помощью разных видов искусства, но и главная цель
искусства.
Уникальность данного явления состоит в том, что катарсис принадлежит как к
художественной, так и внехудожественной сферам жизни человека, затрагивая также
пограничные области. Во внехудожественной сфере существуют физиологический,
психологический виды катарсиса. В переходной зоне находятся философский и
религиозный катарсис. К художественной сфере примыкают невербальные и
вербальные виды катарсиса в искусстве.
Для достижения катарсиса в физиологической сфере используется, как правило,
произношение разных звуков с эмоциональной окраской, в которых выражается гнев,
боль, жалоба, радость и т.п. Звуки могут сопровождаться телодвижениями, ходьбой,
ритмом барабанов, омовением, массажем, курениями благовоний (ароматотерапией),
употреблением напитков из трав. Используется техника дыхания. К физиологическому
достижению катарсиса можно отнести и употребление химических психотропных
препаратов (наркотиков и алкоголя).
Психологический способ достижения катарсиса получил распространение в XIX
– XX вв. Многие терапевтические школы основывают лечение пациента на
использовании методик, позволяющих испытать катарсис. При этом практикуются
райхианский анализ характера, наркоанализ, гельштат-терапия, терапия первичного
крика, биоэнергетический анализ, гипноз. Другим способом достижения катарсиса
психологи считают беседу, исповедь. В ходе исследований психологи выработали ряд
правил, следуя которым психолог или психиатр помогает пациенту достичь катарсиса:
1. Признание реципиентом необходимости изменений, его отказ от оправдательного
мышления, сотрудничество с психологом. Готовность преодолеть свой страх,
обнаружить свои слабости, неблаговидные поступки, открыть интимную информацию.
2. Состояние покоя. 3. Сенсорная депривация. 4. Нахождение области максимального
напряжения. Интерес к прохождению случаев, сознательное движение навстречу
фрустации вместо бегства от неприятных ощущений. 5. Погружение в область
максимального напряжения. 6. Соблюдение бифокальности – сознательного
25
См.: Аристотель. Об искусстве поэзии. – М., 1951; Долгов К.М. Катарсис // Новая философская
энциклопедия [Электронный ресурс] // http://iph.ras.ru/enc.htm; Катарсис: метаморфозы трагического
сознания / Сост. и общ. ред. В. П. Шестакова. – СПб., 2007; Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История
эстетических категорий. – М., 1965. – С. 85–99; Лосев А.Ф. История античной эстетики: Итоги
тысячелетнего развития. Кн. II. – М., 1994. – С. 76–87; Штайн К.Э., Петренко Д.И. Филология: История.
Методология. Современные проблемы. Учебное пособие / Под ред. д-ра социол. наук проф.
В.А. Шаповалова. – Ставрополь, 2011. – С. 472–473.
68
наблюдения за переживанием аффекта (часть сознания должно находиться в прошлом,
а другая часть наблюдать за ним).
Понятие философский катарсис было выделено Платоном в диалоге «Федон».
Он считал, что подобный катарсис открывает философу новое измерение реальности,
так как философия должна постигать истинно сущее, для чего необходимо
рассматривать вещи только посредством души. Именно поэтому, по Платону, для души
тело является темницей, и для просветления необходимо отделить тело от души.
Отделения тела от души может происходить не только во время смерти, но и во время
переживания катарсиса26
.
Религиозный катарсис является синтетическим, так как в религии используется
различные средства для очищения души: музыка, исповедь, проповедь (риторика),
изобразительное искусство, ароматотерапия и пр. В каждой конфессии есть свои
правила, которые позволяют добиться катарсических переживаний. Очистительные
ритуалы, приводящие к катарсису, обыкновенно открывали культовую церемонию.
Задача культового катарсиса – отделить область профанного от области священного и
тем самым подготовить встречу со священным. Поскольку область священного
понималась как область божественной жизни, высшей реальности, религиозный смысл
которой состоял в подготовке к вступлению в сферу высшего бытия. По концепции
Р. Кайуа катарсис может возникнуть с помощью мистерии, во время религиозного
праздника или общего дела, концентрации идей, смыслов и жизни, преодоления
барьеров сознания, парадокса и абсурда. В это время человек приобретает возможность
измениться до полного преображения, поскольку во время первобытного праздника
люди преодолевали нормативные запреты и законы, а категории преступления и
поведенческие ограничения отступали 27
. М.М. Бахтин также описывал религиозный
праздник как общедоступную форму достижения катарсиса, приобретения
религиозного опыта28
. Одним из важнейших инструментов достижения катарсиса в
религии является молитва. По мнению верующих – молитва является уединенной
беседой с Богом, это состояние умиления, благоговения и духовного восторга,
охватывающее при созерцании Прекрасного, Высокого и Великого. При этом действия
храма оказывают на человека очищающее и возвышающее воздействие. Этот катарсиса
сродни эстетическому катарсису, когда произведения искусства окрыляют человека.
В эстетической сфере жизни человека катарсис – это «категория эстетики,
раскрывающая один из сущностных моментов эстетического, именно – высший
духовно-эмоциональный результат эстетического отношения, эстетического
восприятия в целом, эстетического воздействия искусства на человека»29
.
Огромной силой обладает эстетический способ достижения катарсиса с
помощью невербальных видов искусства: музыки, пантомимы, живописи. Еще с
античных времен было замечено огромное воздействие музыки на душу человека, на
возможность ее перерождения. «Музыка приближает нас к богам», – говорили древние
греки. В Средневековье были выработаны правила достижения катарсиса при помощи
музыки. Для каждого музыкального произведения были созданы каноны, которые
следовало соблюдать тем, кто писал музыку для церквей. За сохранением правил в
музыкальных произведениях следила специальная комиссия из музыкантов,
священнослужителей и меценатов. Позже, в период барокко, композиторы изыскивали
новые возможности иллюстрировать эмоции и чувства в музыке, для чего появились
26
См.: Платон Федон, разговор Платона / перев. Д. Лебедева. – М., 1896. 27
Кайуа Р. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры. – М., 2007. 28
См.: Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Рабле и
Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура). – М., 2010. – 752 с. 29
Бычков В.В. Эстетика: учебник. – М., 2004. – 351 с.
69
музыкальные формы: концерт, соната. В изобразительном искусстве также возможно
достижение катарсиса. Г.А. Ельцов и Г. Бельской использовали для достижения
катарсиса структуру фрактальной монотипии, которая может отражать по фактуре
элементы творческого замысла художника. Н.А. Носов описывал взаимодействие
художника с физической реальностью для использования в психологии30
.
В эстетической сфере жизни человека немаловажную роль играют вербальные
способы достижения катарсиса. Схема достижения катарсиса в драме, кинематографии,
литературе имеют общие черты. Все они опираются на положение, которое
сформулировал Аристотель: «<…> достижение катарсиса через страх и сострадание»31
.
Исторически самый древний способ достижения катарсиса из описанных
исследователями – это драматический. А.С. Пушкин в незаконченной статье «О
народной драме и о «Марфе Пасаднице» М.П. Погодина» (1830) писал: «Смех,
жалость, ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим
волшебством»32
.
В кинематографии катарсис должен «<…> смешить, пугать и вызывать слезы
сострадания – это кино делает лучше всего»33
(С. Спилберг). А. Митт предложил
несколько правил, следуя которым режиссер может помочь достичь катарсиса,
дарующего ощущение счастья, зрителям. Для аудитории катарсис достигается в
состоянии максимальной внутренней энергии, которую можно вызвать не с помощью
интуиции, а при точном расчете и структуре вовлечения. Для этого надо
придерживаться нескольких шагов: любопытство, сопереживание, саспенс34
.
Так как архитипические структуры в литературе и кинематографии
универсальны, то катарсис – это единственный язык, на котором можно говорить с
каждым читателем и зрителем. В литературоведении при рассмотрении катарсиса
малых форм были выведены правила достижения катарсиса. Существует несколько
вариантов: 1) писать кинематографически так, чтобы читатель ясно видел
происходящее – от мимики героев до событий, и постепенно подводить его к
катарсису, опираясь на образность; 2) воздействовать посредством ритма прозы/поэзии,
не забывая о смысловой составляющей; 3) заронить зерно-вопрос, который даст росток
– поиск ответов, а потом и результат – катарсис, очищение.
Катарсис в литературе требует особого рассмотрения.
Создание катарсиса в сознании автора произведения и воспринимающем
сознании читателя – одна из важнейших функций языковой художественной картины
мира, под которой понимаем «синкретичное образование, возникающее в результате
воплощения художественных смыслов в речи и представляющее собой целостный,
многогранный образ художественного мира, создаваемый средствами языка»35
. Данной
функции подчинены все остальные: интерпретивная; эстетическая (поэтическая),
этическая, аксиологическая, эмотивная, экспрессивная, прагматическая, когнитивная,
диалогическая, трансформационная36
.
Языковая художественная картина мира как особая эстетическая форма
словесности состоит из двух частей: художественного текста и внетекстовой части. От
30
См.: Носов Н.А. Виртуальная психология [Электронный ресурс] . – http://virtualistika.ru/ 31
Аристотель. Об искусстве поэзии. – М., 1951. – С. 7. 32
Пушкин А.С. О народной драме и о «Марфе Пасаднице» М.П. Погодина. // Классика КнигаФонда. –
М.: 2009. – С. 5. 33
Цит. по: Митт А. Кино между адом и раем [Электронный ресурс] // http://www.litmir.net/br/?b=49129 34
Митт А. Кино между адом и раем [Электронный ресурс] // http://www.litmir.net/br/?b=49129 35
Аюпова С.Б. Языковая художественная картина мира и ее признаки (на материале произведений
И.С. Тургенева) // Русская словесность. – 2010. – №2. – С. 59. 36
См.: Аюпова С.Б. Феноменологические особенности языковой художественной картины мира //
Искусство и образование. – 2008. – №11. – С. 191 – 198.
70
двучастности языковой художественная картина мира зависит такое ее структурное
свойство, как многовекторность. Многовекторность языковой художественной картины
мира и определяет ее компонентный состав. Центральным компонентом языковой
художественной картины мира является литературное произведение, в котором
художественные смыслы означиваются с помощью языковых единиц. Именно от текста
исходят или к нему направлены векторы внетекстовой части языковой художественной
картины мира37
. Необъективированная, внетекстовая часть языковой художественной
картины мира включает в себя, во-первых, «надтекст», то есть внехудожественную
реальность, так как «глубины внехудожественной реальности составляют едва ли не
главный объект художественного познания. В творчестве больших писателей
ориентация подобного рода играет решающую роль»38
; во-вторых, подтекст
произведения, то есть предметно-психологическую данность, которая лишь
угадывается в словах, составляющих текст произведения. Сферу подтекста «составляет
главным образом «тайнопись» человеческой души»39
; в-третьих, психоэмоциональную
сферу, содержащую имплицитную оценку и катарсис, механизм которого очень тонко
описан как писателями, так и исследователями их творчества. Так, в стихотворении
«Элегия» (1830) А.С. Пушкин писал: «<…> / Порой опять гармонией упьюсь, /
Над вымыслом слезами обольюсь <…>». М.Е. Салтыков-Щедрин в письме
П.В. Анненкову о творчестве И.С. Тургенева отмечал следующее: «Да и что можно
сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко
дышится, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как
нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь
автора? <…> … а это, именно это впечатление оставляют после себя эти прозрачные,
будто сотканные из воздуха образы»40
. В. Иванов, анализируя творчество
Ф.М. Достоевского, также подчеркивает особую роль катарсиса в восприятии и оценке
его произведений: «Ужас и мучительное страдание – именно по формуле Аристотеля –
поднимает у нас со дна души «жестокая»... муза Достоевского, но и приводит нас
всегда к возвышающему, освобождающему потрясению, запечатлевая этим
подлинность и чистоту своего художественного действия, – как бы мы ни
истолковывали «очищение», это понятие, о содержании которого столько спорим с
точки зрения психологической, метафизической или моральной»41
; в-четвертых,
интертекст, так как художественное произведение способно вступать в диалог с
текстами других писателей и поэтов разных эпох и народов.
Интенсивность катарсического переживания в произведениях литературы
зависит не только от мировоззрения автора и читателя/зрителя, не только от социума,
но и от места расположения катарсиса в данном произведении. Если катарсический
момент находится в середине, он несет более позитивный настрой, имеет возможность
завершиться положительно, но по интенсивности не так ярок, как катарсис финала. В
некоторых случаях после катарсиса «середины» может следовать цикл трагических
ситуаций, но катарсиса они уже не вызывают, а если вызывают, то каждая из таких
ситуаций вызывает катарсис меньшей интенсивности.
Таким образом, катарсис – достаточно сложное явление. Разные виды катарсиса
не имеют четких границ. Они взаимопроникают друг в друга. Например, эстетический
катарсис может быть терапевтическим. Религиозный катарсис представляет собой
37
См.: Аюпова С.Б. Языковая художественная картина мира и ее признаки (на материале произведений
И.С. Тургенева) // Русская словесность. – 2010. – №2. – С. 59–64. 38
Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. 4-е изд., испр. и доп. – М., 2004. – С. 58. 39
Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. 4-е изд., испр. и доп. – М., 2004. – С. 285. 40
Тургенев в русской критике: Сборник статей. – М., 1953. – С. 517. 41
Иванов В. Лик и личины России. – В кн.: Эстетика и литературная теория. – М., 1995. – С. 360.
71
синтез драматического, эстетического и психологического направлений. В драме одна
и та же постановка у одного человека вызывает воспоминания о прошлых поражения и
обидах, при этом катарсис, который он испытывает, тоже несет терапевтический
эффект. Другой зритель увидел в этой драме момент, который приближает его к идеалу
– и катарсис возникает в момент его сопереживания. Этот катарсис можно отнести к
эстетическому, т.к. он может доставлять эстетическое наслаждение. Те произведения
искусства (музыки, литературы, кинематографа и др.), благодаря которым зрители
испытывают катарсические переживания, вошли в наследие всемирной классики.
Достижение катарсиса зависит от физических параметров реципиента, его
нравственных убеждений, ценностных ориентиров. Важно место расположения
катарсиса в произведении и желания сотрудничать зрителя/читателя/реципиента с
автором.
Аннотация.
Статья посвящена актуальной проблеме исследования механизмов создания
катарсиса в художественной и в нехудожественной действительности, поскольку
катарсис – это не только особый метод очищения души с помощью с помощью разных
видов искусства, но и главная цель искусства. Уникальность данного явления состоит в
том, что катарсис принадлежит как к художественной, так и внехудожественной
сферам жизни человека, затрагивая также пограничные области. В нехудожественной
сфере существуют физиологический, психологический виды катарсиса. В переходной
зоне находятся философский и религиозный катарсис. К художественной сфере
примыкают невербальные и вербальные виды катарсиса в искусстве. Разные виды
катарсиса не имеют четких границ. Они взаимодействуют друг с другом.
Ключевые слова: катарсис, физиологический катарсис, психологический
катарсис, философский катарсис, религиозный катарсис, вербальный художественный
катарсис, невербальный художественный катарсис, языковая художественная картина
мира, воспринимающее сознание.
TYPES OF CATHARSIS IN ARTISTIC AND NON-ARTISTIC REALITY
Annotation:
The article is devoted to an actual problem of research mechanisms create catharsis in
artistic and non-artistic reality as catharsis is not only the particular method of purifying the
soul through different art forms, but the main purpose of art. The uniqueness of this
phenomenon is that catharsis is as artistic and non-artistic areas of human life, referring to the
border area. In any field, there are physiological, psychological types of catharsis. In the
transition zone are philosophical and religious catharsis. The artistic sphere are non-verbal
and verbal types of catharsis in art. Different kinds of catharsis have no clear boundaries.
They interact with each other.
Keywords: catharsis, physiological catharsis, psychological catharsis, philosophical
catharsis, religious catharsis, verbal art catharsis, performance art catharsis, language art
painting world, receptive mind.
72
ЭКСПРЕССИВНЫЙ СИНТАКСИС КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА ПОЭМЫ М. ЛЕРМОНТОВА «ДЕМОН» С.Б. Аюпова
БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа (Россия)
С. Рамазанова
Агрыйский университет им. И. Чечена, Агры (Турция)
О поэзии М.Ю. Лермонтова написано огромное количество
литературоведческих работ, вместе с тем и в начале XXI в. исследование языковой
художественной картины мира1 этого писателя, одного из важнейших языковых
средств ее создания – экспрессивного синтаксиса – является актуальным, потому что «в
основе стиха, сотворенного по законам языка, формирующего предложение
поэтического текста, лежит строй – синтаксис. Работа с поэтическим текстом призвана
раскрыть его стройное гармоническое целое, которое воспроизводит гармонию мира»1.
Однако, если и существует незначительное количество научных работ, посвященных
изучению синтаксиса прозы М.Ю. Лермонтова1, то экспрессивный синтаксис его
поэзии подробно и системно никто не исследовал.
Впервые проблему экспрессивности в языке подняла проф. Е.М. Галкина-
Федорук1. Под экспрессивностью понимаем «совокупность семантико-стилистических
признаков единицы языка, которые обеспечивают ее способность выступать в
коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения говорящего
к содержанию или адресату речи»1. Базовым, первообразным понятием для понятия
экспрессивность, по мнению Л.Д. Беднарской, является оценка, которая на уровне
синтаксиса заложена в семантике предложения, в семантико-структурной сути
предикативности, включающей категорию модальности, в семантике одного из пяти
логико-семантических типов простого предложения – предложения характеризации.
Элементарной синтаксической единицей, выражающей экспрессию, является повтор. К
экспрессивным синтаксическим средствам Л.Д. Беднарская также относит энтимему и
анжамбеман, создающие эффект прерванного текста; сгущение неполных предложений
разных видов, восклицательных и вопросительных предложений, риторических
вопросов, членов предложения, осложняющих простое предложение; активное
употребление вставных и вводных компонентов, выражающих субъективную точку
зрения героя, и рядов характеризующих обращений1.
Все разновидности экспрессивных синтаксических конструкций представлены в
поэме «Демон». Остановимся на некоторых из них и их роли в произведении.
Обратимся к третьей главке первой части поэмы, в которой, с одной стороны,
локализуется действие восточной повести в Грузии, с другой – намечен переход к
новой сюжетной линии. Неповторимая динамичная красота описания этого края
создается за счет целого ряда экспрессивных синтаксических средств: это сгущение
сравнительных оборотов и обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными
оборотами; это предложение со значением характеризации. Анжамбеман и энтимема
прерывают динамичное описание, намечают изменение в сюжете.
Сгущение обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными
оборотами со значением добавочного одновременного длительного или
повторяющегося действия, в сочетании со сгущением глаголов движения, звучания и
восприятия НСВ используется автором для создания динамичного описания. Динамика
описания действия и добавочного действия обогащается семантикой оценки за счет
сгущения сравнительных конструкций, выражающих субъективную модальность и
метафоричность восприятия мира:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
73
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел, – и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали; <…>
Завершается динамическое описание обобщением в предложении с семантикой
характеризации:
И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир <…>
Экспрессия в этом предложении создается за счет того, что в нем содержится
три слоя семантики: 1) базовая семантика бытийности, которая помогает расширить
пространство Грузии, описание которой напоминает библейское пространство до
сотворения человека, до пределов вселенной («весь божий мир»); 2) семантика
номинации (квалификации); 3) семантика характеризации (оценки), которая
усиливается за счет расширения именной части составных именных сказуемых,
выраженных качественно-оценочными лексемами, описывающими мир как
многогранное явление.
Поддерживают экспрессию данного предложения анжамбеман и энтимема:
И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.
Анжамбеман, создающий эффект прерванного текста, перебив в ритме
стихотворной ткани, дополненный энтимемой, выраженной противительным союзом
но, начинают вектор нового сюжетного развития, направляют его по другому руслу,
потому что этот первозданный, дикий край не интересен пресыщенному герою.
Таким образом, ресурсы экспрессивного синтаксиса позволили в пределах одной
главки поэмы создать контрастную языковую художественную картину мира
романтической поэмы, с одной стороны, полную гармоничной динамики божьего мира,
с другой стороны – дисгармонии души падшего ангела.
Аннотация.
Статья посвящена актуальной проблеме исследования одного из важнейших
средств создания контрастной языковой художественной картины мира романтической
поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» – экспрессивного синтаксиса. На материале третей
главки первой части поэмы показано взаимодействие различных экспрессивных
синтаксических средств и их роль в произведении.
Ключевые слова: языковая художественная картина мира, М.Ю. Лермонтов,
поэма «Демон», экспрессия, экспрессивный синтаксис.
74
EXPRESSIVE SYNTAX AS MEAN OF CREATION OF LINGUISTIC
ARTISTIC PICTURE OF THE WORLD OF POEM OF M. LERMONTOV’S
«DEMON»
Annotation:
The article is devoted the issue of the day of one research of major facilities of
creation of contrasting linguistic artistic picture of the world of romantic poem of M.
Lermontov’s «Demon» – expressive syntax. On material of the third chapter of the first part
of poem are rotined co-operation of different expressive syntactic facilities and their role in
the poem.
Keywords: linguistic artistic picture of the world, M. Lermontov, a poem is «Demon»,
expression, expressive syntax.
75
ОБУЧАЮЩИЕ АЛГОРИТМЫ И СХЕМЫ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ТУРЕЦКИМ СТУДЕНТАМ
Гюнеш Б., Поселенова А. В.
Эрзурум (Турция)
Учебные алгоритмы и схемы широко используются в практике преподавания
иностранных языков, в том числе в преподавании русского языка как иностранного.
Однако в преподавании русского языка турецким студентам их применение еще более
оправданно и результативно, особенно при изучении русской грамматики. Турецкие
студенты достаточно легко запоминают таблицы русских падежных окончаний,
таблицы спряжения русских глаголов и т.д. и успешно применяют полученные знания в
ходе выполнения простых грамматических упражнений. Трудности начинаются тогда,
когда студенту требуется использовать несколько грамматических правил
одновременно, в рамках одного высказывания или словосочетания, особенно если
высказывания или словосочетания однотипны по содержанию и структуре, но при их
оформлении требуется использовать разные грамматические правила.
Так, для изменения существительных, располагающихся после количественных
числительных при счете, в турецком языке используется только одна падежная форма
(bir masa, üç masa, on masa) и грамматическая схема подобных словосочетаний
предельно проста, так как в них отсутствуют категории рода и числа. Грамматическая
же схема таких словосочетаний в русском языке имеет многоуровневую структуру со
множеством исключений:
1. Числительное "один" изменяется по родам и числам, "два" - только по родам,
остальные числительные не изменяются ни по родам, ни по числам, но при этом есть
числительные "двадцать один", "тридцать два" и другие, которые во второй своей части
будут изменяться так же, как "один" и "два";
2. После числительных при счете предметов существительные используются не в
одной, а в трех падежных формах: после числительного "один" - в форме
именительного падежа единственного числа, поле числительных "два", "три", "четыре"
- в форме родительного падежа единственного числа, после других числительных - в
форме родительного падежа множественного числа (один стол, три стола, десять
столов).
Если подобные словосочетания дополнить прилагательными, которые в турецком
языке не изменяются, а в русском будут изменяться и по падежам, и по родам, и по
числам, задача для турецкого студента становится почти невыполнимой, если не
вооружить его четким, тщательно отработанным алгоритмом действий. Студент будет
оформлять подобное словосочетание в последовательности (существительное) -
числительное - существительное - прилагательное. Например, два новых стула ((стул -
это существительное мужского рода), а значит, пишем два; после числительного два
существительное используем в форме родительного падежа единственного числа (два
76
стула); прилагательные используются в форме единственного числа только после
числительного "один", значит, после числительного "два" записываем прилагательное в
форме родительного падежа множественного числа). Грамматическая схема готового
словосочетания в итоге такова:
два (числительное в форме именительного падежа мужского рода) новых
(прилагательное в форме родительного падежа множественного числа) стула
(существительное мужского рода в форме родительного падежа единственного числа).
Обучающий алгоритм и грамматическая схема при изучении подобных именных
словосочетаний помогут турецким студентам если не понять до конца, то хотя бы
запомнить логику данной грамматической конструкции.
ОБУЧАЮЩИЕ АЛГОРИТМЫ И СХЕМЫ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ТУРЕЦКИМ СТУДЕНТАМ
Аннотация: В преподавании русского языка турецким студентам применение
обучающих алгоритмов и схем особенно оправданно и результативно при изучении
русской грамматики. Грамматическая схема словосочетаний и высказываний в русском
языке имеет многоуровневую структуру со множеством исключений. Обучающий
алгоритм и грамматическая схема при изучении подобных словосочетаний помогут
турецким студентам запомнить логику данной грамматической конструкции.
Ключевые слова: методика преподавания русского языка как иностранного,
обучающий алгоритм, грамматическая схема.
LEARNING ALGORITHMS AND PATTERNS IN TEACHING RUSSIAN AS A
FOREIGN LANGUAGE Turkish students
Abstract
In teaching of Russian language to Turkish students to use learning algorithms and schemes
are especially justified and effectively in the study of Russian grammar. Grammatical scheme
phrases and sayings in the Russian language has a layered structure with a lot of exceptions.
Learning algorithm and the study of grammatical scheme of similar phrases will help Turkish
students to remember the logic of the grammatical construction.
Keywords: methods of teaching Russian as a foreign language, learning algorithm,
grammatical scheme.
77
ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ БИОГРАФИИ ПИСАТЕЛЯ
(НА ПРИМЕРЕ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ ЛЕРМОНТОВА)
Г.А. Островская
Областной институт последипломного педагогического образования, Ивано-Франковск
(Украина), к.пед.н., доцент
Биография – это история жизни и деятельности человека, источник информации
о личности в ее историческом, национальном, социальном осмыслении. Именно с нее
начинается изучение творчества писателя. Она требует особого внимания педагогов,
т.к. среди большого количества биографических материалов им необходимо отобрать
те, которые подтолкнут учеников к глубокому прочтению произведения, его
пониманию, раскроют мировоззренческую позицию писателя. Речь человека выступает
составной его когнитивной способности. «У автора есть определенная концепция мира,
которая раскрывается через события и персонажей… Роль человека в том и состоит,
чтобы разобраться в фактах…» [4, с.173-174]. Концептуальное мышление занимает
промежуточную позицию между отображением и созданием нового (творчеством)
путем использования определенного набора концептуальных понятий, где четко
понятны смысл каждого из них, их связь с другими системными понятиями.
Концептный подход к изучению биографии писателя помогает соединить теорию
познания другого человека, когнитивную лингвистику и методику обучения.
Методологической основой такого изучения биографии выступают исследования
ученых о соотношении искусства и действительности, единстве формы и содержания,
автобиографических мотивах и произведениях, профессиональной подготовке,
гегелевская триада «субъективное – объективное – общечеловеческое».
При подготовке учителей литературы к изучению с учениками творчества
писателя целесообразно использовать автобиографические параллели – события и
описания, которые наиболее точно соответствуют тому, что происходило с писателем в
реальной жизни. Для проведения автобиографических параллелей между
жизнедеятельностью и произведением писателя необходимо, во-первых, подобрать
соответствующий материал так, чтобы эти параллели прослеживались. Во-вторых,
предложить разные виды работы с этой информацией. В-третьих, дать возможность
студентам и учителям самим подобрать такой материал о другом писателе, подготовить
к нему задания, включить его в структуру урока.
Некоторые поступки людей удивляют, порой вызывают неприятие, но биограф
не имеет права отмахнуться от них. Ему приходится показывать человека таким, какой
он есть по документам и свидетельствам современников. В тоже время «творческая
фантазия подчиняется не точным документам истории, а тайным симпатиям сердца» [4,
с.192]. Любовь – начало личности нашей (Л.П. Карсавин). Одним с базовых концептов
и принципов жизни выступает любовь, которая одновременно раскрывает широту
человеческих чувств и объединяет с другими людьми. Сокровенное, личностное –
основа лирики. Русский поэт М.Ю. Лермонтов не хотел, чтобы другие раскрыли его
жизнь: «Я не хочу, чтоб свет узнал мою таинственную повесть; Как я любил, за что
страдал, тому судья лишь Бог да совесть!» [3, с.163]. Лермонтов был разным не только
на портретах, но и в жизни (с юных лет светское общество он олицетворял с
равнодушием, лицемерием, жестокостью). Гордый и стыдливый, нежный и властный,
благородный и мечтательный, смелый и насмешливый «среди безпощадного к нему
света и в кругу задушевних друзей, на людях и в одиночестве, в сражении и в
петербургской гостиной, в момент поэтического вдохновения и на гусарской пирушке»
[3, с.9]. Ранняя гибель матери, жизнь вдали от отца, неразделенная первая любовь,
разлука с Варварой Лопухиной, судьба изгнанника… Но, не смотря ни на что,
78
М.Ю. Лермонтов имел любящее сердце. Чтобы его постичь необходимо знать жизнь и
творчество поэта.
С четырнадцати лет и всю свою жизнь М.Лермонтов любил Варвару Лопухину.
Но противоречивость его характера, коллизии жизни… У Лермонтова было много
встреч. Каждая – особая страница, которая нашла отражение в поэтических строках.
Это – стихи откровения, признания, размышления о себе и жизни. В стихах,
посвященных К. Сушковой, поэт писал: «Встречал ли твой прелестный взор – не
билось сердце у меня», а цитируя Шиллера, подчеркивал: «Но ты мне душу
предлагаешь: На кой мне черт душа твоя!» [3, с.35]. Не понимая (или понимая!) в тот
момент, что любовь-страсть – непродолжительное чувство: «Страшись любви: она
пройдет, она мечтой твой ум встревожит, тоска по ней тебя убьет» [3, с.37]. И
собственное предначертанье сбывается: «Я знал: то не любовь – и перенес… Ко смеху
приучать себя нужней: ведь жизнь смеется же над нами!» (К***) [3, с.81-82]. Учителю
следует подчеркнуть, что именно через переживания «нежной, пламенной любви» к
Лопухиной он приобретал жизненный опыт преодоления проблем, понимания других,
что настоящая любовь не предполагает измен и фальши. Стараясь забыть страдания,
заставить замолчать свое сердце, в своих стихах к Н.Ф. Ивановой он напишет: «Я
недостоин, может быть, твоей любви; мне не судить, но ты обманом наградила мои
надежды и мечты, и я всегда скажу, что ты несправедливо поступила» [3, с.90]. Любила
ли М. Щербатова его, Лермонтов не знал, но с горечью писал ей: «Мне грустно, потому
что я тебя люблю, и знаю: молодость цветущую твою не пощадит молвы коварное
гоненье. За каждый светлый день иль сладкое мгновенье слезами и тоской заплатишь
ты судьбе. Мне грустно... потому что весело тебе», это же настроение («Всё это было
бы смешно, когда бы не было так грустно…») прослеживается в стихотворении «В
простосердечии невежды» для А. Смирновой. Любовь к Варваре Александровне
Лопухиной была настоящей наградой в жизни Лермонтова: «С тех пор, как мне
явилась ты, моя любовь – мне оборона от гордых дум и суеты…». Именно эта глубокая
любовь и привязанность сопровождают поэта всю его жизнь. Стихи, связанные с
В. Лопухиной, объединяют два взаимосвязанных мотива: возвышенность личности
лирической героини и способность на самопожертвование ради ее счастья.
Стихотворения, посвящённые Лопухиной – «К Л.» («У ног других не забывал…»; «К*»
(«Мы случайно сведены судьбою…»; «К*» («Оставь напрасные заботы..»; «Она не
гордой красотою…»; «Слова разлуки повторяя…»). В жизни Лермонтова была еще
одна женщина – Е. Быховец, дальняя родственница Лермонтова. Она была очень
похожа на В. Лопухину. («Люблю в тебе я прошлое страданье и молодость погибшую
мою… Таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю. Я говорю с
подругой юных дней. В чертах твоих ищу черты чужие, В устах живых, уста давно
немые В глазах огонь, угаснувших очей» («Нет, не тебя так пылко я люблю...») [3,
с.225].
Концептосфера поэта – совокупность концептов, с которых мозаично
складывается словесный портрет личности. В центре концептосферы Лермонтова
концепт любовь (нежная, пламенная, «огонь груди»), который «отягощен»
антропологическими (воля, судьба, молодость, будущее, прошлое, смех), социальными
(свет (общество), молва, свобода, «гоним повсюду»), моральными (душа, честь, обман,
достоинство).
На этапе подготовки к уроку педагогам целесообразно использовать такой
подход, т.к. концепты дают возможность учителю литературы свести различные факты
и события внешней и внутренней биографии к общему значению, провести
автобиографические параллели, раскрыть ученикам образ живой любящей души поэта.
79
1. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: учебное пособие. – Издательство:
Тетра Системс.– 2008.
2. Педагогіка і психологія життєтворчості: Навч.-метод. посібник / Ред. Рада:
В.М.Доній (голова), Г.М. Несен (заст. голови), Л.В.Сохань, І.Г.Єрмаков
(наук.ред.) – К., 1996. – 792 с.
3. Лермонтов М.Ю. Сочинения в двух томах. Том первый / Сост. и комм.
И.С. Чистовой; Вступ. ст. И.Л. Андроникова. – М.:Правда, 1988. – 720 с.
4. Моруа А. Мистецтво і життя: зб. / Андре Моруа ; упоряд., вступ. стаття, приміт.,
імен. покажчик і пер. з фр. І.М. Овруцької. К.: Мистецтво, 1990. 360 с.
(Пам’ятки естет. думки)
Островская Г.А. Подготовка к изучению биографии писателя (на примере
любовной лирики Лермонтова)
Составной общей профессиональной компетентности учителей литературы выступает
их готовность к изучению биографии писателя. Задание подготовки – установить
взаимосвязь между знаниями, умениями учителей и требованиями к подготовке урока в
школе. Новый подход помогает решить эту проблему.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, биография писателя, обучение,
концепт.
Ostrovska H.O. The preparing for the study of the writer's biography (on example of love
lyric of Lermontov).
The component of general professional competence of teachers of literature is readiness to
study the biography of writer. The task of training is to establish the relationship between
knowledge, skills of teachers and the requirements for preparing a lesson at school. The new
approach helps to solve the problem.
Keywords: the professional training, the writer’s biography, the preparation of teachers,
concept.
80
РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
А.В. Санникова
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, (Республика
Беларусь)
В теории и практике преподавания языка наряду с теорией учебной
грамматики и учебной лексикографии педагогическая деятельность кафедр
русского языка для иностранных учащихся выдвигает и утверждает ещё одну
составную часть лингвометодической теории – учебную текстологию, предмет
которой – изучение текста в учебных целях.
Как часть лингвометодической теории учебная текстология включает: а )
типологию учебных текстов; б) отбор и представление в учебниках и учебных
пособиях научных, общественно-политических и художественных текстов.
Произведения художественной литературы – это прекрасный материал
для обучения иностранцев русскому языку, ибо художественная литература
представляет собой высокохудожественные образцы употребления русского
языка, богатый потенциал страноведческого характера, средство формирования
коммуникативной компетенции, стимул познавательной деятельности и
мыслительной активности учащихся, образец речевой культуры.
Чтение художественного текста – это особый вид речевой деятельности,
которому необходимо специально обучать, а также учитывать потребности,
возможности контингента вуза, в котором обучаются студенты.
На кафедре нашего медицинского университета проводится гибкая модель
обучения этому виду речевой деятельности.
Учебный художественный текст – это обычно произведение малого жанра,
законченные, завершённые в смысловом и художественном отношении отрывки.
Для работы с этими текстами необходима следующая методическая работа:
предтекстовые, притекстовые и послетекстовые задания.
Изучение художественных текстов предполагает следующие этапы и виды
работы:
1) вступительное слово преподавателя;
2) предтекстовые упражнения, предупреждающие возможную
интерференцию языкового и внеязыкового характера;
3) аудиотексты, знакомящие с биографией автора, событиями,
повлиявшими на создание данного произведения, упражнения, снимающие
языковые трудности;
4)работа с текстом: лингвистическое толкование, послетекстовые
упражнения творческого характера, направленные на закрепление и
систематизацию полученных знаний.
На первом курсе у студентов-иностранцев ещё недостаточно
сформированы коммуникативно-познавательные потребности, которые
стимулируют интерес к чтению, поэтому обучение мы начинаем с
81
ознакомительного чтения на материале художественного текста о будущей
специальности, об известных врачах. На кафедре созданы методические
разработки адаптированных текстов, задания к тексту помогают студентам
понять его содержание, осознать специфику художественного произведения.
Студенты знакомятся с лучшими произведениями русской классики малых
жанров (А.П.Чехов, В.В. Вересаев, Л.Н. Толстой др.).
Работа с произведениями художественной литературы – это мотив для
возникновения учебной дискуссии. При обучении дискуссии реализуются
учебная и воспитательная задачи: совершенствуются навыки и умения говорения
и формируются определенные знания и убеждения, студенты учатся строить
развёрнутое высказывание. Необходимым условием дискуссии является наличие
двух или более противоположных точек зрения, оценок, суждений.
При отборе текстов художественной литературы необходимо учитывать
специфику учебного заведения. Профессионально-психологические особенности
личности обучаемого, тематику ситуаций реального профессионального
речевого общения, а также эстетическую и страноведческую ценность
художественного произведения.
Художественные произведения, входящие в методические разработки,
созданные на кафедре, позволяют обсудить широкий спектр проблем, связанных
с будущей профессией студентов. Эти произведения позволяют поговорить о
медицине, о медицинской этике, а также коснуться многих нравственных
проблем.
The Role of Fiction Prose Texts in Teaching Foreign Medical Students
The theory and practice of teaching a foreign language alongside with the
theory of practical grammar and lexicography in the teaching process of the
departments of the Russian language suggest and prove one more component of the
linguistic-methodical theory – training textology which deals with studying the text for
training purposes.
The report presents the principles of selecting fiction texts taking into account
the specific character of medical education.
82
К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ИМЕННЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
З.Ф.Юсупова, Л.Ф.Юсупова
КФУ, Казань (Россия)
В лингвистической науке второй половины ХХ века наблюдается смена
акцентов в выборе подходов к изучению языковых единиц, в том числе и морфологии:
переход от формально-грамматического к системно-структурному, функционально-
семантическому, этнолингвистическому, лингвокультурологическому, когнитивному,
ономасиологическому подходам (См. исследования Е.В. Клобукова, Е.С. Кубряковой,
Е.В. Падучевой, Н.Ю. Шведовой, А.С. Белоусовой, Н.Д. Арутюновой, М.А. Шелякина
и др.). Современная антропологическая парадигма исследования языка обусловливает
его изучение в непосредственной связи с когнитивной сферой и дискурсивным
пространством. Именно в этом русле проводятся исследования грамматической
системы русского языка. В научных работах последних двух десятилетий
рассматривается функционирование частей речи в политическом, научном,
публицистическом, художественном, разговорном дискурсах (Л.Д. Чеснокова, О.В.
Петрова, Ф.И. Панков, Е.В. Красильникова и др.)
Перспективным и результативным является изучение частей речи в аспекте их
функционирования в процессе коммуникации, выявления и описания функциональных
характеристик слов. В связи с этим актуальным является функциональный подход к
изучению именных частей речи, которые обладают богатым функционально-
прагматическим и коммуникативным потенциалом, специфическими свойствами,
которые позволяют им сыграть особую роль в создании связного высказывания на
содержательном или структурном уровне. Функционально-семантический аспект
предполагает рассмотрение свойств и функциональных возможностей именных частей
речи в структуре текста. Необходимость рассмотрения грамматических единиц с точки
зрения текстового функционирования подтверждается целым рядом исследований как
лингвистов (Л.М. Лосева, Г.Я. Солганик, О.А. Москальская, М.Б. Храпченко, Г.А.
Золотова, В.Г. Гак и др.), так и лингвометодистов (Л.И. Величко, А.Ю. Купалова, Н.А.
Ипполитова, А.Д. Дейкина, Л.З. Шакирова, К.З. Закирьянов и др.).
Функционально-стилистические особенности именных частей речи освещены в
исследованиях Д.Э.Розенталя, М.Н.Кожиной, С.И.Львовой, А.Н.Гвоздева и др.
Например, обнаружено использование имен существительных мужского и женского
рода при олицетворении как прием используется во многих поэтических текстах. Так, в
стихотворении М.Ю.Лермонтова «Дубовый листок» контраст существительных
мужского и женского рода дубовый листок – младая чинара создает яркую
экспрессивность. Экспрессивная роль имен прилагательных, числительных и
местоимений, их текстообразующие функции также активно изучаются
современными исследователями. Например, как связующий элемент текста могут
выступать порядковые числительные: «…Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша,
Ильюша, Костя и Ваня. Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет
четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими
чертами лица… У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные,
глаза серые, скулы широки. ... Лицо третьего, Ильюши, было довольно
незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое. …Четвертый, Костя, мальчик
лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором.
83
…Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле…» (И.С.
Тургенев. Бежин луг). Анализ приведенного отрывка позволяет определить, что
числительные осуществляют смысловое и структурное единство текста. В первом
предложении обобщающим элементом выступает количественное числительное пять в
сочетании с существительным мальчиков. Последующие предложения с порядковыми
числительными по смыслу прикреплены к первому предложению.
Местоимения-существительные могут выполнять функцию обобщения,
помогая осуществлять параллельную связь предложений: «На утренних и вечерних
зорях лесные жители поют и играют. Никто не смущается, если у него нет голоса.
Дятлы отыскивают звонкие сухие сучья. Это у них – барабан. А вместо палочек у них
– отличный крепкий нос…Рыжая цапля-выпь ткнет свой длинный клюв в воду да как
дунет в него! Бултыхнет вода, по всему озеру гул, словно бык проревел. А бекас, тот
даже хвостом умудряется петь: взовьется ввысь да вниз головой оттуда с распущенным
хвостом. Вот какой оркестр в лесу». (В.Бианки)
Функциональный принцип изучения именных частей речи способствует
совершенствованию научно обоснованной методики обучения русскому языку. Это
позволяет органически соединять два направления – освоение структурно-
семантических признаков изучаемых явлений и формирование речевых умений
учащихся. Следовательно, основным дидактическим средством в обучении русскому
языку становится текст, поскольку именно в тексте единицы языка становятся
коммуникативно значимыми, проявляют свои признаки, «обнаруживают новые,
текстообразующие, функции».(Н.А. Ипполитова). Особенно это важно при изучении
таких частей речи, как имена существительные, прилагательные, числительные,
местоимения, которые, как утверждают исследователи, могут активно выступать в
качестве средства межфразовой связи в тексте (Л.И. Величко, Л.М. Лосева, Г.Я.
Солганик, А.Ю. Купалова, Е.В. Падучева, Н.А. Ипполитова и др.).
Аннотация
В статье раскрываются некоторые особенности функционирования именных
частей речи в художественном тексте, освещаются текстообразующие, функционально-
стилистические, экспрессивные характеристики имен.
The article describes some of the peculiarities of nominal parts of speech in a literary
text, highlights text functional stylistic and expressive characteristics names.
Ключевые слова: именные части речи, художественный текст,
текстообразующие функции
Key words: nominal parts of speech, literary text, tekst function
ON THE FUNCTIONING OF NOMINAL PARTS IN LITERARY TEXT
84
ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ ДРЕВНЕЙ РУСИ И
XVIII ВЕКА
А.Ф.Галимуллина
КФУ, Казань (Россия)
Резюме: В статье рассматривается содержание, методы и приемы преподавания
русской литературы на национальных отделениях педагогических вузов. Дисциплина
по выбору «Русско-татарские взаимосвязи: литературные традиции» является
интегративным курсом.
Ключевые слова: литературные традиции, литература Древней Руси, русская
литература XVIII века, русско-татарские взаимосвязи, сопоставительный анализ
Формирование представлений о литературных традициях у студентов
национальных отделений педагогических вузов на примере литературы Древней Руси и
XVIII века предполагает осуществление преподавания историко-литературных курсов
на принципах преемственности, многоуровневости, системности; единства и
последовательности в подходах к организации учебной, научной, аудиторной и
внеаудиторной деятельности студентов; реализацию в учебном процессе контекстного
обучения литературе на культурологической основе, интеграцию содержательных
компонентов русской и татарской литератур в синхроническом и диахроническом
аспектах и их взаимосвязей с учетом этнокультурной и билингвальной направленности
литературного образования, а также специфики восприятия студентами-билингвами
русской литературы как неродной (транспозиция, интерференция).
Для повышения эффективности формирования представлений о литературных
традициях мы организовали самостоятельную работу студентов с помощью
электронных образовательных ресурсов (например, «История древнерусской
литературы» и «Традиции литературы XVIII века в литературном процессе XIX – XXI
веков» (ЭОР, официальный сайт КФУ http://bars.kfu-
elearning.ru/course/category.php?id=450))
При формировании представлений о традициях Древней Руси и XVIII века
устанавливаются преемственные связи между историко-литературными дисциплинами
«История древнерусской литературы» и «История русской литературы XVIII века» и
дисциплинами по выбору «Традиции русской литературы XVIII века в литературном
процессе XIX – XXI веков» и «Русско-татарские взаимосвязи: литературные традиции»,
на которых представления студентов о литературных традициях развиваются и
углубляются. В ходе самостоятельной научно-исследовательской работы на занятиях
дисциплин по выбору студенты выявляют развитие жанров от истоков до наших дней,
определяют специфику в изображении действительности, позицию автора, своеобразие,
зависящее от принадлежности к определенному литературному направлению
(например, древнерусские хождения, сентиментальные, реалистические путешествия,
пародирование жанра путешествия в литературе постмодернизма). Для
самостоятельного исследования студентов предлагаются следующие темы: 1. Теория
межкультурного взаимодействия: региональный аспект. 2. Русская литература и
татарская словесность: типология формы и содержания. 3. Компаративистика как
научная дисциплина. Парадигма научно-литературной компаративистики в свете
новейших методологических подходов и достижений. 4. Проблема тюрко-русского
диалога в «Слове о полку Игореве». 5. Образы правителей в русской и татарской
средневековых литературах («Слово о полку Игореве», «Поучение» Владимира
Мономаха, дастан «Бабахан», «Идегей», К. Гали «Сказание о Йусуфе»).
6. Просветительские тенденции в русской и татарской литературах XVIII – XIX вв. (На
85
примере творчества М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Г. Г. Кандалыя, Г. Чокрыя и
др.). 9. Своеобразие переводов стихотворений Г.Р. Державина на татарский язык и
другие.
Курс «Русско-татарские взаимосвязи: литературные традиции» является
обобщающим теоретико-практическим курсом, при изучении которого закрепляются
знания студентов в области теории и истории литературы, а также формируются
теоретические и практические знания и умения сопоставительного, сравнительного
анализов художественных произведений русских и татарских писателей, освоение
опыта отечественного сравнительного литературоведения в описании
межлитературного процесса. В ходе изучения курса студенты знакомятся с различными
формами взаимосвязей национальных литератур, выявляют их контактные связи и
типологические схождения.
Программа данной дисциплины предполагает изучение следующих тем: 1.
Вводная лекция о понятии «литературные связи». Социально-экономические и
духовные основы литературных связей. 2. Типологическое сходство русских и
татарских средневековых памятников («Слово о полку Игореве», К. Гали «Сказание о
Йусуфе», «Идегей», дастан «Бабахан», жанр хождения / саяхәтнәмә (паломнические и
светские) и др. 3. Просветительские тенденции в русской и татарской литературах
XVIII – XIX веков. 4. Специфика формирования литературных направлений в русской
и татарской литературах. Вопрос о существовании в татарской литературе классицизма
и сентиментализма как художественного метода и направления (М. В. Ломоносов,
Г. Р. Державин, Г. Г. Кандалый, Г. Чокрый). 5. Русско-татарские взаимосвязи
последней четверти XIX века (На примере творчества Загира Бигиева, Каюма Насыри,
Ш. Марджани в сопоставлении с творчеством русских писателей XVIII – XIX веков).
6. Русско-татарские литературные связи начала ХХ века (Г. Исхакый, Г. Тукай,
Ф. З. Амирхан, Г. Камал): диахронические и синхронические контакты и
типологические схождения. 7. Своеобразие и основные тенденции русско-татарских
литературных связей 1920 – 1930-х годов. 8. Специфика и основные направления
русско-татарских литературных связей на современном этапе.
Усвоение студентами-билингвами представлений о литературных традициях
Древней Руси и XVIII века в русле преемственности литературного процесса развивает
гуманистическое представление о мире, ассоциативное мышление, умения и навыки
комплексного анализа художественных текстов с установлением на их основе
интертекстуальных связей.
Integration of interdisciplinary connections in formation of ideas about literary
traditions of Ancient Russia and XVIII century
A.F.Galimullina
KFU, Kazan, Russia
The article discusses the content, methods and techniques of teaching of Russian
literature in national branches of pedagogical high schools. The discipline for choice
“Russian–Tatar relationship: literary traditions” is an integrative. Digestion by students-
bilinguals of ideas about literary traditions of Ancient Russia and XVIII century in the
tideway of continuity of literary process develops humanistic ideas about the world,
associative thinking, skills of the complex analysis of art texts, and it uses methods and
techniques that facilitate the process of perception of the Russian literature in a foreign
audience.
Keywords: literary traditions, the literature of Ancient Russia, the Russian literature
of XVIII century, Russian–Tatar relationship, the comparative analysis.
86
ТЕМА ДОСТОЕВСКОГО В ТВОРЧЕСТВЕ РОБАКИДЗЕ.
М. О. Долидзе, Доктор филологических наук,
Ассоциированный профессор Университета Грузии им. Давида Агмашенебели (Строителя).
Н. Ш. Чалаганидзе, Доктор журналистики, Ассоциированный профессор
Кавказского Международного Университета им. Ив. Джавахишвили.
О Федоре Достоевском неоднократно писали многие грузинские прозаики и поэты. Произведения
же Ф. Достоевского множество раз были переведены на грузинский язык. В грузинской прессе
часто говорилось о таланте Достоевского, отмечая, что его дар похож на интелект мученика, а
гениальность писателя поистине безгранична. О великом русском писателе было сказанно многое,
но каждый из авторов имел собственные взгляды и точки зрения.
Среди остальных, творчеством Достоевского особенно был заинтересован знаменитый
грузинский писатель Григол Робакидзе. Долгие годы в СССР имя Григола Робакидзе было под
запретом. Писатель был вычеркнут из литературы. Его произведения старались всячески
умалчивать.
В сегодняшней Грузии любые сведения о Григоле Робакидзе вызывают огромный интерес,
страна переживает своего рода бум.
Обозревая произведения Анны Ахматовой, Валерия Брюлова, Станислава Пшибижевского,
Робакидзе выделял и с искренним восхищением отмечал индивидуальные особенности творчества
Достоевского. Робакидзе называл его жестоким реалистом и, одновременно, крайним иреалистом.
Действительно, читая произведения Достоевского, мы отдаляемся от реального мира и переходим в
иреальное пространство. Г. Робакидзе сравнивал Достоевского с Гофманом, который синтезируя
тривиальное с фантастическим, с легкостью перевоплощался в нечто иреальное; с Эдгаром По,
который также достигал иреальности посредством мистики математики и сатанистической логики.
Сравнивая вышеназванных классиков с Достоевским, Робакидзе отмечал, что его творчеству это не
нужно.
О Федоре Достоевском неоднократно писали многие грузинские прозаики и поэты.
Произведения же Ф. Достоевского множество раз были переведены на грузинский язык. В
грузинской прессе часто говорилось о таланте Достоевского, отмечая, что его дар похож на
интелект мученика, а гениальность писателя поистине безгранична. О великом русском писателе
было сказанно многое, но каждый из авторов имел собственные взгляды и точки зрения.
Среди остальных, творчеством Достоевского особенно был заинтересован знаменитый
грузинский писатель Григол Робакидзе. Долгие годы в СССР имя Григола Робакидзе было под
запретом. Писатель был вычеркнут из литературы. Его произведения старались всячески
умалчивать. И сегодня творчество крупнейшего грузинского писателя в силу разных причин
остается малоизвестным, хотя у себя на родине, особенно в последние 10—15 лет, его считают если
не грузинским Солженицыным, то совестью нации.
Примечательно, что в современных изданиях известной Энциклопедии Брокгауза из
выдающихся грузинских писателей упоминаются только два имени — Руставели и Робакидзе.
В сегодняшней Грузии любые сведения о Григоле Робакидзе вызывают огромный интерес,
страна переживает своего рода бум. Создан фонд его имени. Учрежден университет имени Григола
Робакидзе — один из первых частный вузов республики.
К сожалению, до настоящего времени мозаика жизни этого писателя сложена далеко не
полностью. Остается много белых пятен, хотя историки литературы исследовали ряд тем,
посвященных отдельным страницам его жизни, а также отношениям и влиянию на писателя
творчества Ницше, Достоевского, Цвейга, Казандзакиса (с двумя последними он встречался и
дружил) и других мыслителей. (http://forum.ge/?f=18&showtopic=33617881&st=345).
87
Обозревая произведения Анны Ахматовой, Валерия Брюлова, Станислава Пшибижевского,
Робакидзе выделял и с искренним восхищением отмечал индивидуальные особенности творчества
Достоевского. Робакидзе называл его жестоким реалистом и, одновременно, крайним иреалистом.
Действительно, читая произведения Достоевского, мы отдаляемся от реального мира и переходим в
иреальное пространство. Г. Робакидзе сравнивал Достоевского с Гофманом, который синтезируя
тривиальное с фантастическим, с легкостью перевоплощался в нечто иреальное; с Эдгаром По,
который также достигал иреальности посредством мистики математики и сатанистической логики.
Сравнивая вышеназванных классиков с Достоевским, Робакидзе отмечал, что его творчеству это не
нужно. Все получается само собой, без лишних исскуственных усилий.
Робакидзе считал Достоевского величайшим писателем и в своих эссе и письмах не уставал
утверждать о его гениальности. Это период, когда произведения Достоевского переведены на
несколько языков и отзывы о нем напечатали Ш. Цваиг, Г. Гесе и др. Мнения, конечно, были
расхожи. Некоторые из великих писателей считали его талантливым прозаиком, другие- просто
хорошим психологом.
В начале 1922 года по инициативе "голубороговцев" в Тбилиси отмечалось 100-летие со дня
рождения Федора Достоевского. В газетах появилось несколько публикаций, приуроченных к этой
дате. Наиболее интересным оказалось эссе Григола Робакидзе, которое впервые в переводе на
русский (перевод Мананы Нинидзе) печатает журнал "Литературная Грузия" (1990, N 1).
"Прежде всего, - так начинается эссе Робакидзе, - поразительно следующее: строгий реалист и
вместе с тем крайний ирреалист, Достоевский любил говорить: я реалист, сама реальность есть
фантастика. Никто столь реально не воплощал этого сочетания... Достаточно простому осколку
истины попасть в его душу, и это соприкосновение превращает последнего в истинного фантасма...
Поразительно мирочувствие Достоевского: я в каждом и каждое во мне. Это формула. Нет во мне
ничего такого, чего бы не было в другом, и нет в другом такого, чего бы не было во мне. Это
мистическое ощущение. Весь феномен Достоевского в этом. Данная черта для него не просто
вербальное решение. Наоборот: это для него - живой нерв крайне прочувствованной реальности. В
этом тонус его творчества. Для него не существует феномена обезличивания. Принципум
индивидуационис" чужд его взору". Каждое явление для Достоевского есть "этот" и "тот", "первый"
и "второй", "второй" и "другой". Его взор затуманен, и в нем отражаются различные видения. Душа
его перешла в темное и подсознательное, где разыгрывается битва стихийных элементов. "Каждое в
каждом" - таково гибридное мирочувствие Достоевского.
Совершенно особо у него и творческое воплощение. Мы знаем, кто есть Отелло. Но мы не
знаем, кто есть Карамазов. Или еще точнее: мы знаем, кто он "есть", но мы не знаем, кем он
"станет". Характер героев Шекспира высекается с жесткой индивидуализацией. Каждая фигура
чеканится пластически выразительно. Характер героев Достоевского отливается по шекспировским
контурам, он тоже формируется строгим путем индивидуализации, но одно внезапное отклонение -
и перед нами предстает неизвестное лицо, неожиданное и неугаданное. "Отклонение" - "падение" -
таков пластический принцип Достоевского". (http://dlib.eastview.com/browse/doc/12170098).
Искусство Достоевского направлено не только в прошлое, но еще и в будущее. Он заранее
знает, что произойдет. Именно по этой причине Григол Робакидзе мастерством Ф. М. Достоевского
считает идею: каждый предмет в его творчестве материален и каждая вещь, вместе с тем,
фантастична.
По Достоевскому, каждая вещь должна быть исчерпана настолько, чтобы она сумела
превратиться в символ, некую фантазию.
Робакидзе писал: `Достоевский не умеет останавливаться, он находится в вечном пароксизме.
Он враждует со всем существующим. Если Гомер, Тициан, Гетте и Пушкин могут писать о земном,
о любви, Достоевскому этого недостаточно. Он ищет совсем другие идеи, его вдохновение
различно. Он не выносит нескончаемых ситуаций, хочет одним махом изменить весь мир. (газ.,,
Баррикады" # 6. 1.II.1922).
88
Робакидзе считает Достоевского настолько свободной личностью, что невозможно привить
его творчество к земному началу. Земля отнюдь не была стихией писателя. По словам публициста,
Достоевский не приемлит маленькие житейские проблемы. И сама земля не выносит его. Когда он
ходит, под ногами появляется пропасть, бездна. Да и сам Достоевский - это подземельное создание.
Он порождает развал. Стихией же великого писателя Робакидзе считат воздух – он чист,
неспокоен... Возможно, из-за этих качеств и сравнивает он Достоевского с путещественником.
Робакидзе отмечает, что многие в России были такими путешественниками: ,,Странничество было
философским началом творчества Лермонтова, Толстого и Достоевского, конечно...” (Газ. "Грузия"
232. 21.X.1917)
Говоря о Достоевском, Робакидзе часто сравнивал его с Ницше. Он отмечал схожие идеи
двух мыслителей: Гибридная страсть и волнение Достоевского не могут не напомнить Дионисскую
аперцепцию Ницше. Робакидзе заявлял, что это и есть самая главная идея, суть поворота вечности.
Поиск дороги к вечности для Ницше проходит через Диониса, а Достоевский видит его в Христе.
Г. Робакидзе сравнил Достоевского с апокалиптической стихией. Писатель и вправду был
болен эпилепсией. Робакидзе утверждал, что многие деятели творчества питают свое вдохновение в
припадках безумия. Но публицист считал, что еще никто не смог так достоверно, так четко передать
эпилептическое видение, как сумел показать нам его Достоевский в неупорядоченном, смешанным
с бормотанием монологе Кирилова. ,,Ритм апокалипсических настроений не чужд для многих. Оно
разрушает вселенную, уничтожая планеты, но, как Иоанн, видит другие земли и небеса"-пишет
Робакидзе. (Газета. ,,Баррикады" # 6.1.II. 1922).
Григол Робакидзе утверждал, что основное направление творчества Достоевского именно
апокалипсия, пропитанная холерическим темпераментом. Он сравнивал диалог Платона с диалогом
Достоевского. Первый из них характеризовал, как диалектический, а второй, как драматичный.
Если в Платоне на первый план выходит сила интеллектуальной динамики, в случае с
Достоевским – это планетарная динамика.
Гр. Робакидзе писал о т. н. доступе к миру в интерьере. Это и есть великая гибридная
формула Достоевского "Я всегда и все во мне." Достоевский стремится создать самую
гармоничную, самую гуманную, в его представлении, форму этических отношений, исключающую
подавление одной личности другой, исключающую конфликты, раздор, недопонимание, взаимное
недоверие."Худой мир лучше доброй ссоры" — основная форма его этической стратегии. Вся его
жизнь — это поиск средств и возможностей реализовать свою идеалистическую систему
отношений, причем его собственное поведение должно служить позитивным этическим примером.
Следствием такой установки являются характерные для людей этого типа повышенный самоанализ,
самокритичность и постоянное этическое самоусовершенствование. (Газ. Баррикады "# 6. 1.II. 1922)
Стремясь выполнить свое жизненное предназначение по установлению идеальных отношений в
мире реальных противоречий и конфликтов, Достоевский старается много и обстоятельно
размышлять над теми обстоятельствами, которые мешают жизненному воплощению его этической
программы. Причем в своих размышлениях он иногда приходит к выводу, что реальные
обстоятельства могут быть изменены под влиянием "правильных" этических установок, которые
можно (по его мнению) и нужно задать.
Примитивно эти размышления можно представить так: "В мире не будет вражды, если все люди
будут хорошо друг к другу относиться, что, в принципе, возможно, поскольку в каждом человеке
есть задатки добра, которые можно и нужно развить". (Как любой человек, Достоевский считает,
что все вокруг придерживаются его системы взглядов, просто некоторые, по своей душевной
слабости, соблазняются дурными примерами и впадают в заблуждения, из которых их нужно
вывести, или хотя бы попытаться это сделать.)
Сфера наблюдения Достоевского — эмоции человека, его чувства, состояние его души.
Достоевский всегда очень тонко подмечает настроение, душевное состояние, чувства и
переживания человека. Смысл самих слов при этом для него никакого значения не имеет. Он
убеждается только тем, что лично наблюдает, т. е. мимикой человека и его интонациями.
89
Достоевский умеет приспосабливать свое эмоциональное состояние к эмоциям и переживаниям
другого человека. Умеет снять раздражение, напряжение, умеет успокоить. Своих собственных
эмоций в общении старается не навязывать, поскольку сопереживает в первую очередь
эмоциональному состоянию других. С грустными он грустен, с веселыми — весел. Считает, что
испортить человеку настроение — значит, обидеть его, поступить с ним неэтично. (У Достоевского
вообще на этот счет своя теория. Например, если человек сделал неудачную покупку, ему об этом
говорить не следует: все равно ведь уже ничего не поправишь, а настроение у человека может
испортиться, а это нехорошо.)
Достоевский не позволит себе быть для кого-то источником неприятных эмоций: не любит
никого намеренно раздражать или дразнить. Более того, не позволит никому из своих близких
раздражать или дразнить других.
Гр. Робакидзе важное место в творчестве Достоевсого уделяет роли личности в обществе.
Достоевский человеколюбив. Он полноценно воспринимает людские судьбы, изучает трагедию
человеческой души. Робакидзе вспоминает братьев Карамазовых, сильного и своевольного Ивана.
Сравнивая Шекспировского Отелло с Карамазовым, выявляется невиданный индивидуализм
персонажа Достоевского.
Робакидзе считал, что мастерство Достоевсого состоит в его художественном начале.
Публицист рассказывает об истерии, как о методе самовыражения. По мнению Робакидзе, фантазии
Достоевского, это сети хаоса. Писатель намеренно запутывает нити, чтобы фабула трагедии больше
заворажила читателя. А цель – дать нам увидить, что в вопросах права и вины людские суждения
выглядят жалко. Хотя, можно и иначе трактовать суть романа - "Дело в том, что семью
Карамазовых Достоевский нарисовал без сильной индивидуализации, а с помощью безграничных
гибридных сетей"_ Гр. Робакидзе, (Газ. Баррикады " # 6.1.II. 1922).
Робакидзе рассказывал о мистике Достоевского: ,,Он мистик – реалист, поскольку его
реальность не отражает реально существующих персонажей и картины. Грузинский публицист и
прозаик пытался изучить и описать значительные стороны творчества Достоевского и объясняя
факты, четко и правильно оценить вопрос.
Робакидзе верил, что во всем человечестве Достоевский был первым и единственным
астралистом. Хваля писателя, в то же время Робакидзе не во всем соглашался с ним и удивлялся,
почему тот, мягко говоря, не долюбливалевреев и поляков, или же, почему не приемлил
религиозное право запада на признание Иисуса Христа. (Газ. "Баррикады № 1. 3.I.1920 сек.)
В портрете Достоевского, нарисованном Гр. Робакидзе, четко выявляется его собственная
позиция. Обозревая письмо трудно судить, кто все же доминирует в нем самом _ публицист или
философ?! Ясно лишь одно, этим письмом автор взял на себя огромную ответственность. Он
пытался показать обществу истинное лицо Достоевского и убедить, что истинный творитель не
может существовать без божественного огня. Достоевский же, это писатель, навеки оставший в
этом огне.
Ключевые слова: Публицистика; политика, проблематика; современность; редакция.
Keywords: Reading, politics, issues, modernity; edition.
Аннотация.
В течении долгих лет в Советском Союзе имя Григола Робакидзе было под запретом. Его
произведения старались всячески умалчивать. Прoшли десятилетия, но и сегодня творчество
крупнейшего грузинского писателя в силу разных причин остается малоизвестным. Еще меньше
общество знает он нем, как о публицисте. Вместе с тем, нужно отметить, чо публицистическая
деательность Робакидзе была довольно плодотворной и, с точки зрения тематики, обширной.
Робакидзе писал о политике, литературе, науке и культуре. Робакидзе писал о всех актуальных
90
вопросах своего времени. Пресса для него стала трибуной, дающей возможность проявить
собственное мнение. Двери редакций широко открылись перед Робакидзе. Со страниц разных
журналов и газет писатель проповедовал о проблемах, существующих в обществе и о путях их
решения.
Робакидзе был образованным человеком, а писательский талант и смекалка давали ему
возможность, узреть суть современных проблем. Изучая общественное настроение и политические
мотивы властей, он частенько обвинял правительство в происходящих в Грузии процессах,
стремясь хоть как-нибудь помочь народу. Робакидзе считал, что родина, это солнце, правда
раненное, но все же солнце. [Журн. `Беди Картлиса” 47, 1964 г., стр. 44].
Робакидзе интересовался не только проблемами родины, его волновала и судьба России. В одной
из своих публикаций, Робакидзе заимствует слова балерона Вл. Веидлесса, а потом старается
подытожить свой анализ. В статье упомянуто, что Россия имеет возможность вместо
псевдоимперии укрепить собственное царство [журн. `Беди Картлиса” #14, 1953 г. стр. 8].
Робакидзе, также, считал, что сила гения России лучше всего, проявляется в вере, музыке,
литeратуре, в театре и в балете.
Говоря о великой русской литературе, Робакидзе с восхищением отзывался о Анне Ахматовой,
Брюсове, Пшибишевском и др, стараясь выявить индивидуальные свойства каждого из них. Особое
восхищение Робакидзе испытывал от творчества Достоевского.
Summary.
During many years in the Soviet Union Grigol Robakidze was banned. His works have tried to conceal.
Today the writer's work remains little known. Even less society knows it him as a publicist. should be
noted that journalistic action Robakidze was fruitful and extensive. Robakidze wrote about politics,
literature, science and culture. Robakidze wrote about all the topical issues of his time. From the pages of
various magazines and newspapers writer preached about the problems in society and the ways to solve
them.
Robakidze was an educated man, and writing talent and wit gave him the opportunity to behold the
essence of contemporary issues. Studying the public mood and political motives of the authorities, he
accused the government of processes taking place in Georgia , trying to help people. Robakidze believed
that homeland, and the sun though wounded, but still the sun . [`Bedi Kartlis" 47, 1964 , page 44 ] .
Robakidze interested in not only the problems of the homeland, and he was excited with the fate of
Russia. Robakidze borrows words ballet dancers Vl. Veidlessa , and then tries to summarize his analysis .
The article mentioned that Russia has the opportunity to strengthen his own instead pseudo empire
strengthen his own kingdom w `Bedi Kartlis" # 14, 1953 page 8 ]. Robakidze , too, believed that the power
of genius Russia is best manifested in the faith , music, literature , theater and ballet.
Talking about the great Russian literature Robakidze admiringly spoke of Anna Akhmatova, Bryusov,
Pshibishevskom and others, trying to identify the individual properties of each. Special admiration
Robakidze experienced from Dostoevsky's work.
91
Жужуна Сихарулидзе - Агрыйский университет им.
Ибрагима Чечена, Турция
Лейла Авидзба - Тбилисский государственный университет
им. Джавахишвили, Грузия
ПРИЁМЫ И ПРИНЦИПЫ АДАПТАЦИИ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ
ОБУЧАЮЩЕМ ЧТЕНИИ НА МАТЕРИАЛЕ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗОК
Под единицами измерения понимают слова, используемые для обозначения
длины, веса, площади, объёма, расстояния, скорости, времени. В широком смысле
слова к ним можно добавить и ЛЕ (лексические единицы), относящиеся к календарной
системе, денежной массе, температуре и др., в которых необходим учёт
количественного фактора.
В процессе работы над иноязычным художественным текстом студентам-
иностранцам зачастую приходится сталкиваться с трудностями метрологического
характера, поскольку практически в любой культуре исторически имелись собственные
единицы измерения (русские: пядь, локоть, аршин, верста, – употреблявшиеся до
революции), кроме того, необходимо учитывать и возможность наличия единиц,
совпадающих по названию, но различных по реальной значимости.
В фольклорных текстах, а именно в волшебных сказках, которые являются
важным средством формирования у иностранных студентов лингвокультурологической
компетенции, единицы измерения, в частности, категории пространства («За тридевять
земель, в тридесятом царстве, за огненной рекой…», « .. на краю света, где восходит
красное солнышко), времени (« Долго ли, коротко ли…», « Много ли, мало ли времени
прошло…»), скорости (перемещение героя или волшебного помощника, чудесных
вещей: «Конь бежит – земля дрожит, горы-долы хвостом застилает, пни-колоды
промеж ног пропускает») выражены особыми сказочными формулами, отдельными
словами или словосочетаниями, что необходимо учитывать в процессе адаптации
сказочного текста, предназначенного для обучающего чтения.
Фольклорные формулы единиц измерения требуют не только расшифровки и
комментирования, но и работы над ними в предтекстовых, притекстовых и
послетекстовых заданиях, ориентированных решать задачи коммуникативно-
культуроведческой направленности.
Аннотация
В статье рассматривается проблема адаптации особенностей единиц измерения
(категории времени, пространства, скорости и др.) в волшебных сказках.
Предлагаются учебно-методические задания, направленные на формирование и
повышение у студентов лингвокультурологической компетенции.
Ключевые слова: адаптация, единицы измерения, коммуникативно-
культурологическая направленность, фольклорные формулы, повышениекомпетенции
обучения.
92
METHODS AND PRINCIPLES OF ADAPTATION OF UNITS OF MEASURMENT
IN TEACHING ON THE BASIS FAIRY TALES
Annotation
In the article author studies the problem of adaptation of measurement units (such as
categories of time, space, speed, etc.) in fairy tales.
Authors equally offers educational and methodological exercises aimed at creating and
enhancing students linguistic and cultural competence.
Key words: Adaptation, measurement units, communicative and culturological focus,
folkloric formulas, increasing educational competences
93
ПИСАТЕЛЬ И ПЕРЕВОДЧИК В ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЕ ВАЖА ПШАВЕЛА (НА ОСНОВЕ ПЕРЕВОДОВ М.
ЛЕРМОНТОВА)
Анна Долидзе
МагистрТбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили
Етер Бежанишвили Магистр
Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили
Великий грузинский писатель Важа Пшавела, выступая в роли переводчика,
попытался достойно представить грузинской читающей публике великого русского
писателя Михаила Лермонтова. Остановив внимание на стихотворении «Пророк» и
поэме «Демон», как бы пожертвовал своей творческой индивидуальностью ради
благого дела. К сожалению, до сегодняшнего дня грузинские литературоведы и
транслатологи не воспользовались уникальной возможностью изучить характер
переводов Важа Пшавела, в которых можно проследить внутреннюю борьбу писателя-
творца и переводчика, ограниченного прокрустовым ложе авторского текста.
Заинтересованность Важа Пшавела Лермонтовым не должна быть случайной, но
особое внимание он обратил на два произведения, осуществив их перевод.
Надо отметить, что переводя текст «Пророка», Важа Пшавела не прибегает к принципу
буквализма, т.е. пословному переводу.Текст настолько удаляется от оригинала, что
создается впечатление, будто текст даже не лежит перед переводчиком и только на
основе где-то услышанного он создает новое стихотворение, которое лишь идейно и
тематически перекрещивается с ним.Также не совпадает ритмика оригинала и
перевода. Вследствие этого возникает вопрос, чем обусловлен выбор именно этих
ремитируемых текстов? Прослеживание творчеста Важа Пшавела нам дает основания
думать, что он целеустремленно выдвигает на первый план христианские мотивы
подходящей проповедью и, особенно, темой пророчества, или же идеей существования
такого человека, который несмотря на то, что он голодный и голый и все же у него
никогда не возникает стремление к накоплению материального благополучия. Важа
Пшавела хочет показать, что в жизни богатство и доброжелательность общества не
главное. Главное – это усваивание духовных сокровищ, чем и занимаются лирические
герои всех его стихотворений. Непосредственно, на тему пророка Важа создает два
стиха – «Современный пророк» и «Вопль современного пророка», в которых он тему
пророка связывает с обществом, в котором во все времена люди думают лишь только о
своем материальном благополучии.
Нетрудно ответить и на то, почему Важа выбрал для перевода именно поэму
Лермонтова «Демон». Если не вникнуть, то может показаться, что в силу грузинской
тематики; но, если присмотреться, то грузинская тематика, природа Грузии и даже
94
образ робкой девушки всего лишь только фон для переживаний писателя и выражения
того главного, что следует показать. Главное же для переводчика то, на чем он хочет
заострить внимание читателя – это соблазн, от которого, оказывается, на этом свете
никто не застрахован, будь то достойный и богопреданный человек. Вопрос веры – вот
в чем состоит суть поэмы; эта было наизначительной проблеммой не только для XIX
века, актуальность которой не ограничивается грузинской литературой. Перевод
следует за текстом оригинала, впрочем, нельзя сказать, что буквально. Лексические
изменения, добавления и сокращения, местами даже смысловые различия, заметны
воочию.
Сравнивая лермонтовский «Демон» с пшавеловским переводом, еще больше
убеждаешься в том, что при выборе материала для перевода переводчиком движет
тематический интерес. В нем представляются Грузия и грузинский народ (прим., каким
должен быть настоящий человек, вера – безверие, борьба в человеке греха с
благодеянием). Переводы Пшавела с Лермонтова представляют собой примеры
свободных переводов.
Изменения, которые вносит переводчик определяются следующими причинами: 1.
Сделать текст более легким для восприятия грузинским читателем 2. Способами
тропической речи выразить более традиционные для грузинского художественные
образы и лексику; 3. Картинами природы, а также вплетением мифологических
представлений в лексику, оттенить собственный поэтический стиль
В его переводах виден сам Важа – талантливый писатель, который имеет свой язык,
фразеологию, предложения, собственные картины, оригинальность. В его переводе
видно, что это перевод Важа Пшавела. Насколько это хорошо для самого перевода, это
другой вопрос, да еще довольно спорный, но надо отметить, что Важа переводчик –
индивидуальный писатель, который по своему усмотрению меняет каждую деталь, не
по своей прихоти, а в результате глубоких размышлений о том, какой вариант будет
лучше восприниматься грузинским читателем, будет ближе его душе и природе. Таким
способом писатель и переводчик – Важа Пшавела доносит творчество Михаила
Лермонтова до грузинского читателя.
аннотация
Великий грузинский писатель Важа Пшавела, выступая в роли переводчика,
попытался достойно представить грузинской читающей публике великого русского
писателя Михаила Лермонтова.
Изменения, которые вносит переводчик определяются следующими причинами: 1.
Сделать текст более легким для восприятия грузинским читателем 2. Способами
тропической речи выразить более традиционные для грузинского художественные
образы и лексику; 3. Картинами природы, а также вплетением мифологических
представлений в лексику, оттенить собственный поэтический стиль.
95
В его переводах виден сам Важа – талантливый писатель, который имеет свой язык,
фразеологию, предложения, собственные картины, оригинальность. В его переводе
видно, что это перевод Важа Пшавела. Насколько это хорошо для самого перевода, это
другой вопрос, да еще довольно спорный, но надо отметить, что Важа переводчик –
индивидуальный писатель, который по своему усмотрению меняет каждую деталь, не
по своей прихоти, а в результате глубоких размышлений о том, какой вариант будет
лучше восприниматься грузинским читателем, будет ближе его душе и природе. Таким
способом писатель и переводчик – Важа Пшавела доносит творчество Михаила
Лермонтова до грузинского читателя.
ключевые слова: писатель, переводчик, лингвоперсонологическая структура
The Issues of Lingvopersonologycal compatibility of writer and translator, according to the
translation from Lermontov to Vazha-Pshavela.
The translations from Lermontov to Vazha-Pshavela mainly is templates of free translation.
The changes, which brings the translator into the translations are due to the following reasons:
1. To make the text easy to understand for the Georgian readers.
2. To express the techniques of “tropuli” speech for Georgian language with more traditional
vocabulary and artistic faces;
3. To demonstrate his poetic style including the picture of naturals and also mythological
conceptions in vocabulary.
It is able to see Vazha himself in his translations –talented writer, who has his own
language, phraseology, and sentencses, own pictures and originality.
Vazha - the individual writer and translator, who replaces each detail in its sole discretion
not to his will , but deep thinking about the consequences that this would have been a
better option for the reader, with their sole and it would be closer to nature.
In this way, a writer and translator, Vazha Pshavela - takes a closer Michael Lermontov’s
works to the reader.
Key words: writer, translator, structure of lingvopersonologycal.
96
М.Ю. Лермонтов, как объект изучения Грузинских
модернистов
(В. Гаприндашвили, ГР. Робакидзе)
Т.А. Гоголадзе
ГГУУ, Гори (Грузия)
Н.М. Миндиашвили
СГУ, Тбилиси (Грузия)
Творчество М.Ю. Лермонтова и сам поэт привлекал внимание грузинских
писателей и общественных деятелей ещё при его жизни. Его произведения переводили
(Гр. Орбелиани, Г. Эристави, позднее И. Чавчавадзе, А. Церетели, М. Гуриели), о нём
писали. Сам поэт бывал в Грузии и считал эту страну своей поэтической родиной.
Грузинка была нередко и поэтической музой М.Ю.Лермонтова (напр. Тамара в
«Демоне»). В своих стихотворениях поэт передавал образы грузин («Кинжал»). В
одном из писем Лермонтов сообщал своелму другу, что единственным его желанием
на тот момент было подоьше оставаться в Грузии, дабы лучше узнать эту страну.
Это обоюдное стремление М.Ю. Лермонтова к Грузинской земле и грузинских
поэтов к творчеству великого поэта выявляется на протяжении всего XIX-го столетия.
А в начале XX века на поэтической арене выступают грузинские модернисты
(символисты П. Иашвили, Т. Табидзе, В. Гаприндашвили). «Модернистический стиль
жизнепереживания в строчных воплощениях художественного слова, - вот что было
новой скрижалью их завета (1,48-97)"- писал грузинский писатель и эссеист Григол
Робакидзе (1882-1962), который познакомил молодых поэтов с европейским
модернизмом. Для грузинских модернистов основной целью стало создать новый
формы стиха, искать в нравоучениях Ф. Ницше и в поэзии Бодлера, По, Малармэ,
Бальмонта и Брюсова соответствующие с их стремлениями идеи. Но несмотря на их
влечение к новизне, традиционное отношение к литературе тоже давали о себе знать.
Это и соответствовало интересам русских модернистов творчеством А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова. Ещё написанном в 1924 году эссе «Валерии Брюсов» В.
Гаприндашвили (1889-1941) отмечал имя и пол Лермонтова в русской поэзии и
прeсущую ей демоничность.
Несмотря на вышесказанное, поэзия Лермонтова была не только приемлемо, но
еще и родной и любимо для В. Гаприндашвили. В поэте-романтике он прозрел его
непримиримость по отношению к царскому режиму и стремление всегда идти вперёд
(стихотворение «К памяти М.Ю. Лермонтова»). Как отмечает поэт-модернист в своем
97
стихотворении, Лермонтов создавал атмосферу любви и согласия и мог
предводительствовать молодых декадентов. Стихотворение и Эссе М.Ю., посвященное
Лермонтову были написаны позднее, в 1939 году.
В 1919 году Тифлисе в издательстве «Кавказский посредник», были напечатаны
эссе Григола Робакидзе «Пётр Чаадаев", "Лермонтов", "Василий Розанов", "Андрей
Белый", под заглавием «Портреты». Наше внимание привлекло эссе «Маска
Лермонтова», в котором писатель-модернист старается разузнать, что же скрывалось
под маской выдающегося поэта-романтика. Автор приводит исследователей
Лермонтова (Белинского,Скабичевского, В. Асоловьёва) и основываясь во на
воспоминание его университетского товарища Вастенгофа. Объясняются причины
раздвоенности поэта.
Эссейское наследие грузинских модернистов ещё раз удостоверяет факт
гениальности личности М.Ю. Лермонтова.
Литература
1.Робакидзе Гр. «Грузинский модернизм»
2. Журнал «ARS», Тифлис, 1918, №1
3. Гаприндашвили В.Н. «Стихи, поэмы, переводы, эссе письма материалы из архива»,
Тбилиси «Мерани», 1990 (На груз.аз.)
4. робакидзе Гр. «Портреты», Тифлис, «Кавказский просредник», 1919
5. Соколов А.Г. «История русской литературы конца XIX – начала XX века», Москва,
«Высшая школа», 1988
6. Сигуа С. «Модернизм», Тбилиси, «Мцерлис газети», 2008.
Аннотация
Творчество М.Ю. Лермонтова и сам поэт привлекал внимание грузинских
писателей и общественных деятелей ещё при его жизни. В начале XX века на
поэтической арене выступают грузинские модернисты. В 1919 году Тифлисе в
издательстве «Кавказский посредник», были напечатаны эссе Григола Робакидзе «Пётр
Чаадаев", "Лермонтов", "Василий Розанов", "Андрей Белый", под заглавием
«Портреты». Наше внимание привлекло эссе «Маска Лермонтова», в котором писатель-
модернист старается разузнать, что же скрывалось под маской выдающегося поэта-
романтика..Объясняются причины раздвоенности поэта.
Ключевые слова: Маска Лермонтова, стремление, демонизм.
98
M. Lermontov as a Research Object for Georgian Modernists (V. Gaprindashvili, G.
Robakidze)
Annotation M. Lermontov, himself and his creative work are closely connected to Georgian land and
Georgian poets. M. Lermontov was translated and was written about even during his life in
the XIX century.
We took interest in the ideas Georgian modernists of the early XX century (V. Gaprindashvili,
G. Robakidze) and decided to present it. These ideas concern the evaluation of the works by
M. Lermontov and his personal characters as well. Georgian modernists shared the
inheritance of his past and at the same time found something “demonical” in modernism.
From this point of view an essay “Lermontov’s Mask”(1919) by G. Robakidze is significant.
Key words: Lermontov’s mask; fighting aspiration, demonizm
99
СРЕДСТВА И СПОСОБЫ СЕКРЕТНОГО ЯЗЫКА
А.Н.Муратова
КГМУ, Караганда(Казахстан)
Исторически известно то, что сообщество людей, стремившихся к
определенному обособлению от остальной части народа, пыталось использовать в
общении те средства, которые были бы не понятны для всех остальных. Это
естественно, поскольку сама природа, структура тайны играет важную роль в жизни
человека. Несомненно, что язык, который используется в данном случае, будет иметь
отличное от общепринятого значение. Поэтому нам хотелось бы обратить внимание на
саму проблему тайны как философской категории, на ее природу. Проблема шифровки
как процесса, происходящего между некоторыми членами общества, является и
государственной проблемой.
Секретный язык - налаженная система специфического внутригруппового
общения, основная цель которой - скрыть смысл коммуникативных намерений от
чужаков. Секретные языки могут иметь языковой, неязыковой (жесты, знаки, рисунки),
а также смешанный характер.
В казахском языке шифровка сообщений, т.е сокрытие их значений происходит
различными способами. Люди, зашифровывая что-либо, используют не только
звуковой язык, но и различные знаки и жесты. Известно, что в речевом акте помимо
звуков, слов участвуют мимика и различные знаки. Например, Апаспакар, мепиняпы
пропыстипы (Аскар, прости меня). В энциклопедии казахского языка дается
следующее определение: «Қазақ жастарының ортасында өзінікін өзгеден жасыру,
құпиялау мақсатында сөз арасына буын қосып айту жиі кездеседі. Мысалы: «Секін
мақығақын кекіл (сен маған кел)» («секретный язык – речь, использующая
шифрованные сообщения для сохранения тайны в казахском обществе, один из видов
молодежного жаргона». Приводится пример: «Секін мақығақын кекіл (сен маған
кел/ты приходи ко мне)». В этом предложении каждое слово делится на слоги, к
каждому слогу добавляется слог –кы, в результате получается непонятная для
большинства фраза) (перев. авторов) [1, с. 36].
Этот способ используется в повседневном общении не только ради развлечения,
но и для того, чтобы скрыть какую-либо информацию. Такие способы имеются и в
других языках. В частности, русские ученые-лингвисты так пишут об этом: «От
остальных условных языков он отличается наличием только общеиспользуемых слов.
Особенно часто использовался способ, когда слова расчленялись на слоги, к которым
добавлялся одинаковый маскировочный элемент, например: «-фер» (вофердафер –
вода)» [2, с. 16].
Данный способ использовался достаточно часто во многих языках с целью
сокрытия какой-либо информации. В связи с этим этнограф Е.Р.Романов пишет
следующее: «Большинство понятий выражались общеупотребляемыми белорусскими
словами, затемненными специфическими вставками, приставками: «-ку»» [3, с. 12].
Такое же замечание мы встретили и в трудах других исследователей: «Самый
общеупотребительный и самый относительно старинный язык этого рода есть так
называемый разговор по «херам», когда слог «хер» или какой другой, что все равно,
вставляется между каждым слогом произносимого слова, причем к началу, а иногда и к
окончанию слова также приставляется избранный слог» [4, с. 267].
Секретный язык – использование слов для тайного общения среди части
казахского населения в прежние времена, один из видов молодежного жаргона. Для
этого между слогами одного слова вставляются дополнительные звуки с целью сделать
данное сообщение непонятным для чужого человека. Общающимся же должен быть
100
известен код дешифровки. Для адресата, не знающего ключа к данному коду,
сообщение не может служить средством общения [5, с. 405].
Одним из ярких примеров такого употребления может послужить диалог
Назыкеш и Сеита в романе Г.Мусрепова «Пробужденный край». Роман описывает
социальные потрясения, происходившие в казахской степи в начале 20 века. Сеит и
Назыкеш вставляли в каждое слово слоги «-фа», «-фе», чтобы сделать непонятным
разговор для окружающих.
Можно заметить, что данный способ с использованием дополнительных слогов
довольно часто раньше применялся молодежью. Помимо тайного языка были и другие
способы передачи секретных сообщений. Это можно наблюдать на следующем
примере:
Жесты между бием Младшего жуза и Бекболатом:
Кіші жүздің биі мен Бекболат шешеннің арасындағы ишара: Кіші жүздің биі екі
қолын айқастырыпты. –Бекболат «құп болады» депті (Би Младшего жуза скрестил
руки – Бекболат сказал: «Слушаюсь»). Би: Алақанын жұмып-ашыпты. –Бекболат «құп
болады» депті ( Би: открыл и закрыл ладони - Бекболат сказал: «Слушаюсь»). Би:
Қолын сермеп-сермеп қояды. –Бекболат «құп болады» депті (Би: помахал руками -
Бекболат сказал: «Слушаюсь») [6, с.134].
Кроме слова «слушаюсь» здесь нет больше никаких других слов. Однако
понимание между двумя людьми было достигнуто без слов при помощи движений рук,
пальцев, ладоней. Такие способы основаны на контекстной ситуации, т.к. жест
«скрестить руки» в зависимости от ситуации может быть интерпретирован по-разному.
Использование таких невербальных средств возможно только при наличии полного
взаимопонимания между адресатом и адресантом. Конечно, встречаются ситуации,
когда использование невербальных средств общения позволяет достичь понимания
между обеими сторонами. Такие случаи Т.Аяпова назвала термином «протоязык» [7, с.
266].
Хотя звуковой язык и является главным средством общения людей, тем не менее
это общение может осуществляться и без слов, с помощью различных движений. Такие
невербальные средства общения могут выражать не только какие-либо чувства
человека, но и выражать тайную информацию.
Много имеется замечаний, касающихся использования телодвижений во время
общения людей друг с другом. Например, ученый-лингвист К.Жубанов пишет
следующее: «Звуковая речь чаще всего дополняется движением, мимикой. Даже не
зная языка, можно по мимике, жестам узнать, о чем идет речь»[8, с. 148].
Невысказанное или пропущенное предложение может быть восполнено
слушающим при помощи невербальных средств. Это же подтверждают и другие
ученые: «Жест – с древности используемый универсальный воспринимаемый
сознанием сигнал. Он помогает правильно воспринимать информацию» [3, с. 26].
Однако ввиду того, что данные способы являются многозначными, они могут
привести к непониманию между носителями информации. Поэтому для того, чтобы
донести тайну, жест используется в значении, отличающемся от общепринятого, всем
известного. Б.Момынова и С.Бейсенбаева в «Казахско-русском толковом словаре
жестов и мимики казахского языка» указывают на три значения жеста «покачать
головой»: «выражение обиды», «удивление, выражение радости», «несогласие с чьим-
либо мнением» [1, с. 4].
В работе исследователей не указано, может ли этот жест использован в малой
группе как выражение согласия. Например, Айдын теріс бұрылғанда, Алма Асанға
басын шайқады [9, c.123]. В данном случае это обозначает согласие. Если значение и
101
смысл невербальных средств не понятны окружающим, то они становятся тайными,
несущими скрытую информацию.
Для передачи информации, чаще всего тайной, которая не должна быть понятна
большинству окружающих, используются средства общения, отличные от звукового
языка. Мы попытались проанализировать некоторые такие средства передачи тайных
сообщений, использовавшиеся в повседневном общении нашим народом. Анализ
подобных средств общения показал, что мимика, жесты, использование различных
знаков наиболее эффективны в тех случаях, когда необходимо, чтобы информация
была недоступна большинству.
Список литературы:
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская
энциклопедия, 1966. 444 с.
2. Момынова Б., Бейсенбаева С. Қазақ тіліндегі ым мен ишараттың қазақша-
орысша түсіндірме сөздігі. Алматы: Қазақ университеті, 2003. 136 б.
3. Головин Б.Н. Вопросы социальной дифференциации языка// Вопросы
социальной лингвистики. Л.: Наука, 1969. С. 345-350.
4. Приёмышева М. Н. Тайные и условные языки в России XIX в.: В 2-х книгах.
СПб.: Нестор-История, 2009. 455 с.
5. Приёмышева М. Н. Тайные языки и социальные диалекты // Социальные
варианты языка – VI: Материалы международной научной конференции.
Нижний Новгород: Изд-во НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2009. С. 265–269.
6. Камешева Г.К. Қазақ тілдесімінің көмекші құралдары. Астанаавтореферат дис.
. фил. ғылым. канд. : 10.02.02 / Г. Қ. Камешева; Еуразия ұлттық ун-ті ; Еуразия
ұлттық ун-ті. - Астана, 2007. - 24 б. - Библиогр.: 23-24 б. . -2007. 250 б.
7. Шәріпов Ә. Жол хикаясы және повесть. Алматы: Жазушы, 1974. 488 б.
8. Шешендік шиырлары: шешендік сөздер, нақылдар мен толғаулар жинағы /
[құраст. І. Есқожин]. Алматы: Қайнар, 1993. 230 б.
9. Жұбанов Қ. Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. Алматы: Ғылым, 1999. 581 б.
Аннотация
Статья раскрывает особенности невербальных средств, их роль в передаче
тайной информации. Автор, опираясь на различные источники, на примерах из
художественных произведений, проанализировала различные способы передачи тайной
информации. В ходе исследования были определено, что наиболее часто
встречающимися средствами секретного языка являются мимика, жесты, различные
знаки.
102
Ключевые слова и фразы: секретный язык, невербальные средства, шифровка
сообщений, молодежный жаргон, код, жесты, мимика, адресат, адресант, тайные
общение.
The means and ways of secret language
Annotation
The feature of nonverbal means their role in the transmission of secret information are
given in the article. The author based on different sources, from fiction analyzed various
ways of transmission secret information. Means of secret language are mimic, gesture and
other sings were determined during the research.
Key and phrases: secret language, non-verbal means, chipher message, young jargon,
code, gesture, mimic, sender and secret message.
103
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРИЗНАК БИЛИНГВИЗМА
Насырова А.Б.
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда (Казахстан)
Понятие «толерантность» в русском языкознании рассматривается в разных
аспектах: описывается лингвокультурологическое поле толерантности, выявляется
специфика представления толерантности и терпимости в русской языковой картине
мира, устанавливаются различия между толерантностью и терпимостью (Л.П.Крысин,
О.А.Михайлова, И.А.Стернин, Д.А.Шмелев и др.). В казахском языковом сознании
практически нет разницы между понятиями «толерантность» и «терпимость». Слово
төзімділік – «шыдамдылық, көнбістік»/«терпеливость, выдержанность» - обозначает
одбряемое казахским народом и свойственное ему терпимое отношение к
другому/чужому. Принятие этого чужого вырабатывалось на протяжении долгих лет
совместного проживания казахов и русских на одной территории. Понятие
«толерантность» многими казахстанскими философами связывается с идеей
евразийства (С.А.Акатай, Т.К.Бурбаев, М.Нысанбаев и др.). Они отмечают исконные
базовые ценности, выработанные в степи: терпимость, отзывчивость, доверчивость,
открытость, щедрость, приоритет духовного над материальным, компромиссность.
Именно эти ценности позволяют регулировать внутрикультурные и межкультурные
общественные отношения на основе взаимопониямания. Можно сказать, что
толерантность как категория, регулирующая прежде всего межличностные отношения,
сегодня стала восприниматься как залог успешного межнационального
взаимодействия.
Применительно к Казахстану особую важность приобретает межкультурная и
межъязыковая толерантность как на государственном, так и на бытовом уровне. В
многонациональном государстве, каким является Казахстан, необходим язык, который
был бы средством общения для всех людей, проживающих на одной территории. На
сегодняшний момент таким языком является русский. Русский язык на бытоыом уровне
обслуживает все слои сообщества? Независимо от возраста, пола, социальной,
этнической принадлежности. Государственная политика направлена на поддержку как
казахского, так и русского языков. Отсутствует государственное подавление одного
языка другим. Это способствует сохранению стабильности в обществе и формировании
толерантного межкультурного диалога.
Как известно, живая языковая среда является доминирующим фактором при
освоении языка. Именно в детском возрасте наиболее успешно усваивается язык,
фиксируется высокая степень толерантности речевого общения. Общаясь на разных
языках, они могут проявлять понимание и умение использовать различные языковые
формы.
Применительно к возрастной группе взрослых можно говорить о разной степени
толерантности. В общение вступают собеседники, преследующие решение
определенных коммуникативных задач, имеющие необходимые фоновые знания,
которые реализуются в процессе межкультурных контактов. Достижение полного
взаимопонимания в данном случае соблюдения норм внутрикультурного диалога. В
104
речевом общении представителей разных этносов особенно важным является выбор
языка общения. В последнее время наблюдается стремление русских к общению на
казахском языке.
Речевое поведение билингва – это выбор того или иного языка при общении, а
также кодовое переключение, под которым понимается смена участниками
коммуникации одного языка другим в пределах одного коммуникативного акта.
Сопоставительный анализ речевого поведения билингвов предполагает выявление и
описание включенных в тексты, написанные на одном языке, элементов второго языка
(морфем, лексем, словосочетаний, предложений), которые называют вкраплениями.
В сознании билингва совмещаются и для него естественным является
использование языковых единиц двух языков, что может даже привести к смешению
языков.
Совмещение в сознании билингва двух языковых систем может быть наглядно
продемонстрировано на примерах фонетических вкраплений, когда русские лексемы
произносятся в соответствии с законом сингармонизма и артикуляционными
особенностями казахских звуков (закун – русское «закон», болшайбек – искаженное
русское «большевик», шуленкөр – русское «член-корр»), произношение казахской
лексемы на русский манер (гумбульдизм – от казахского күмпілдек), соединения
казахских лексем с русскими аффиксами: адаец, адаевец, апашка, бишарашка,
побешбармачить, акиматчик, с какой-то шильдеханы, ходили на узату, соединения
русской лексемы с казахской флексией: «купи-продайдың» заманы (М.Кул-Мухаммед).
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы речевой толерантности билингвов в различных
ситуациях общения. Включение казахских слов, выражений в русскую речь
определяется лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Данное
включение может принимать различные формы, которые автор анализирует в своей
работе.
Ключевые слова: толерантность, коммуникативная толерантность, билингвизм,
языковая ситуация, межъязыковой контакт, межкультурный диалог, вкрапление.
Tolerance as a sign of bilingualism
Nassyrova A.B.
Karaganda state medical university, Karaganda, Kazakstan
Annotation
The problems of bilinguals’ speech tolerance in different communicative situations are
discussed in this article. The use of Kazakh words and phrases in the Russian speech is
determined by linguistic and extralinguistic factors. This use may take different forms which
the author analyzed in her work.
The key words: tolerance, communicative tolerance, bilingualism, linguistic situation,
interlinguistic contact (interaction), intercultural dialogue, dissemination
105
«ИГРЫ С КЛАССИКОЙ И ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ»: РЕЦЕПТИВНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ В РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ (А.Н. ОСТРОВСКИЙ, М.
РОЩИН, Г. ГОРИН, И. ВЫРЫПАЕВ)
Л.С. Кислова,
Тюменский государственный университет
Тюмень (Россия)
Современные драматурги, обращаясь к классическому материалу и активно
экспериментируя с жанрами, традиционно основываются на игровом восприятии
предшествующих текстов. Такие пьесы, как «Башмачкин», «Черный монах»,
«Вишневый ад Станиславского» О. Богаева; «Поспели вишни в саду у дяди Вани» В.
Забалуева и А. Зензинова; «Русское варенье» Л. Улицкой; «Анна Каренина II» О.
Шишкина; «Воскресение. Супер» братьев Пресняковых; «Облом off» М. Угарова;
«Русский сон» О. Михайловой; «Старосветская любовь», «Коробочка», «Иван
Федорович Шпонька и его тетушка» Н. Коляды; «Апокалипсис от Фирса, или
Вишневый сон Фирса», «Смерть Фирса» В. Леванова; «”Чайка” А.П. Чехов (remix)» К.
Костенко; «Гамлет.ru» В. Коркия; «Мой вишневый садик» А.Слаповского; «Пышка»
В.Сигарева построены на диалогических взаимодействиях с классическими
претекстами. Доминирование «вторичных» текстов становится одной из ключевых
тенденций современного литературного процесса: «Важным для определения
специфики современной литературы представляется обращение к так называемым
«вторичным» текстам (ремейки, пересказы, адаптации, сиквелы, комиксы и др.)»1.
Особенно распространенными рецептивными жанровыми моделями в пространстве
современной драматургии и кинодраматургии являются ремейк и сиквел. Термином
«сиквел» могут быть обозначены тексты, «продолжающие сюжетные линии той или
иной популярной книги. Сиквел, как правило, создается не автором первоначального
текста. Одни создаются непрофессиональными авторами, чтобы продлить бытие героев
культовых книг <…> Другие представляют собою род литературной игры <…>
Сиквелы третьего рода, как правило, заказывают издатели»1. Таким образом,
интерпретируя «чужой материал» и взаимодействуя с прецедентными образами, авторы
рецептивных жанровых моделей (в частности, сиквелов и ремейков) воплощают свою
художественную концепцию и выстраивают собственные отношения с миром.
Проект Ивана Вырыпаева «Валентинов день» (2001) содержательно пародирует
пьесу Михаила Рощина «Валентин и Валентина» (1970), обнаруживая карнавальную
природу символической «дилогии». Иллюзорный, отраженный мир по-своему
упорядочен в противовес хаосу, царящему в мире реальном. Окружающая
действительность воспринимается героями и М. Рощина, и И. Вырыпаева в
определенной степени как враждебная, ее дисгармонии и алогизму противостоит
скрытая потребность в гармонии. Постепенно романтическая история любви Валентина
и Валентины в проекте И. Вырыпаева приобретает отчетливые очертания фарса: драма
советских Ромео и Джульетты напоминает драму Антонио и Розалины – героев
трагикомедии Григория Горина «…Чума на оба ваши дома!» (1993). Все названные
тексты так или иначе продолжают знаменитую трагедию Вильяма Шекспира,
трансформирующую «бродячий сюжет» о двух несчастных влюбленных.
Предшественниками В.Шекспира считаются Овидий, Луиджи да Порто, Артур Брук,
ранее обращавшиеся к этой теме.
В русской классической литературе сюжет о «погибших любовниках» возникает
нечасто и, как правило, кардинально изменяется. Так, он появляется в весенней сказке
106
А.Н. Островского «Снегурочка» (1873), которую чаще сравнивают с такими текстами
В. Шекспира, как «Сон в летнюю ночь» и «Буря». Но сюжетообразующими в этой
пьесе являются ключевые мотивы трагедии «Ромео и Джульетта» – мотивы
всепоглощающей любви и неизбежной смерти. Именно перед смертью Снегурочка
произносит монолог, отсылающий к монологу Джульетты: «О царь! / Спроси меня сто
раз, сто раз отвечу, / Что я люблю его. При бледном утре / Открыла я избраннику души
/ Любовь свою и кинулась в объятья»1. В драматургии А.Н. Островского любовь
синонимична смерти, она, по сути, и есть смерть, поскольку бесконечно сильнее и
зачастую значительнее жизни: «В судьбе сценических героинь Островского
реализуется всемирный архетип любви / смерти, Эроса / Танатоса. Вероятно, поэтому
женщины у драматурга предчувствуют обреченность собственных порывов, этим
усиливается их пророческий страх, они словно предвидят безответность своей любви»1.
История повторяется не однажды, и продолжение классического литературного
произведения, созданное другим автором в более позднее время, зачастую имеет иные
коннотации, нежели предшествующий текст, а значит, может быть пародийным и
карнавальным: «Карнавальная же жизнь – это жизнь, выведенная из своей обычной
колеи, в какой-то мере “жизнь наизнанку”, “мир наоборот” (monde á l’envers)»1. В
весенней сказке А.Н. Островского «Снегурочка» представлен многоликий языческий
карнавал: веселый пир в финале сразу после гибели Снегурочки и Мизгиря, победа
Солнца и освобождение страны берендеев от власти Мороза. Как в любом
карнавальном пространстве, здесь тесно переплетены жизнь и смерть, скорбь и радость.
В финале пьесы И. Вырыпаева «Валентинов день» карнавальное действо
достигает высшей точки напряжения, поскольку предшествует наступлению «часа
истины» для Валентины. Трагикомедия Г. Горина «...Чума на оба ваши дома!» также
заканчивается появлением участников в масках и торжеством карнавальной стихии:
«Карнавал в Вероне! Карнавал! / Пусть же никогда он не кончается! / Пусть глаза
влюбленные встречаются, / Чтоб сразить друг друга наповал!..»1. Таким образом,
общей тенденцией, свойственной сиквелам, является тенденция к воплощению
карнавального мироощущения, так как карнавал становится основной формой жизни в
условном, иллюзорном мире новых-старых историй любви: «Давно замечено: у
истинных легенд / Нет окончаний, есть лишь продолженья»1.
Пародийное продолжение драмы «Валентин и Валентина» соотносимо с
пародийным продолжением трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта», а значит,
пьеса И. Вырыпаева продолжает не только современную историю в двух частях с
прологом из текста М. Рощина, но и рецептивно воспроизводит трагикомедию
Г. Горина. Все, произошедшее с Антонио – дальним родственником Монтекки из
Неаполя – и Розалиной – племянницей Капулетти (именно так звали первую
возлюбленную Ромео), словно повторяет сюжет о Ромео и Джульетте, но в ином,
ироничном ключе (показательны и выступления придворного театрика). Сама история
Монтекки и Капулетти в пьесе Г. Горина явлена как пародия на текст В. Шекспира,
однако в финале драма влюбленных Антонио и Розалины обретает истинные смыслы.
Отношения взрослой беременной Розалины и хромого вдовца Антонио словно сквозь
призму кривого зеркала отражают любовь прекрасных и юных Ромео и Джульетты, но
постепенно чувство пародийных персонажей убеждает читателя, смеховой дискурс
сменяется трагическим, а характерные персонажи превращаются в романтических
героев.
В пьесе «Валентинов день» И. Вырыпаева персонажи существуют в пародийном
контексте постоянно и даже «сцены прошлого века» – цитаты из текста М. Рощина
лишены острого драматизма и создают эффект «глухого телефона». И. Вырыпаев в
своем проекте совершенно сознательно не снижает иронический градус, а напротив,
107
усиливает его. И возникающая в финале ситуация Апокалипсиса (2012 год) лишь
обостряет иронию. Апокалипсис и карнавал в пьесе И. Вырыпаева воспринимаются как
явления идентичные. Разрушительная энергетика «новой драмы» рубежа ХХ–XXI
веков по-своему доминирует над креативной романтикой мелодрамы 1970-х годов.
Автор проекта «Валентинов день» выступает в роли оппонента автора пьесы «Валентин
и Валентина», поскольку отчетливое ощущение утраты, потери романтических идеалов
прошлой жизни является ключевым в тексте И. Вырыпаева. Но пьеса «Валентинов
день» тем не менее альтернативна и большинству традиционных агрессивно-
депрессивных текстов «новой драмы», поскольку любовь как свидетельство жизни –
явление почти уникальное.
Герои В. Шекспира погружаются в вечную жизнь, рождаются, умирают и
воскресают вновь во всех последующих произведениях о любви. Соответственно
образуется художественная парадигма, базирующаяся на рецептивных конструкциях:
В. Шекспир – Г. Горин – И. Вырыпаев; В. Шекспир – М. Рощин – И. Вырыпаев.
«Чужое слово» в пьесах Г. Горина и И. Вырыпаева перетекает в «свое», а трагедия
В. Шекспира и драма М. Рощина выступают в качестве претекстов по отношению к
трагикомедии Г. Горина и проекту И. Вырыпаева. Мотивы трагедии В. Шекспира также
просматриваются и в весенней сказке А.Н. Островского «Снегурочка». Заглавие пьесы
И. Вырыпаева «Валентинов день» носит символический, обобщающий характер.
Художественное время в этом тексте обретает особые смыслы: оно отражает историю
любви героев, созвучно их чувствам и ощущениям, поскольку час Апокалипсиса по
сути и есть не имеющий завершения День всех влюбленных, остановившееся
мгновение, миг, превратившийся в вечность. Таким образом, классический сюжет,
разрушающий стандартные традиционные каноны, продолжает возрождаться в новых
литературных произведениях.
Аннотация В статье рассматриваются драматургические тексты, авторы которых
(А.Н. Островский, М.Рощин, Г.Горин, И.Вырыпаев) обращаются к трагедии В
Шекспира «Ромео и Джульетта». Анализируя «чужой материал», драматурги
адаптируют классический сюжет к контекстам другой реальности, продолжая его и
создавая новые художественные парадигмы, основанные на рецептивных стратегиях и
базирующиеся на рецептивных конструкциях.
Ключевые слова: Претекст, «вторичный» текст, сиквел, рецепция, жанровая
модель, концепция, прецедентный образ, карнавал, пародия, дискурс, стратегии,
ремейк.
«GAMES WITH CLASSICS AND ETERNAL LOVE: RECEPTIVE EXPERIMENTS
IN RUSSIAN DRAMA (A.N. OSTROVSKY, M. ROSHCHIN, G. GORIN, I.
VYRYPAEV)
Summary
The article discusses the dramatic texts, the authors of which (A.N. Ostrovsky, M.
Roshchin, G. Gorin, I. Vyrypaev) apply to the tragedy of Shakespeare's «Romeo and Juliet».
Analyzing the «foreign material», playwrights adapt the classic story of contexts in a different
reality, continuing and creating new artistic paradigm, based on receptive strategies and the
receptive structures.
Key words: Pretext, «secondary» text, sequel, room service, genre model, concept,
precedent way, carnival, parody, discourse, strategy, remake.
108
«НЕИСЧЕРПАННЫЙ РОМАН С ЛЕРМОНТОВЫМ»: ТВОРЧЕСТВО
ЛЕРМОНТОВА КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОЙ ИНТЕНЦИИ В ПРОЗЕ ЮРИЯ
ФЕЛЬЗЕНА
Н.Б. Лапаева
Пермский государственный гуманитрано-педагогический университет, Пермь (Россия)
Юрий Фельзен (1894 – 1943) – представитель «незамеченного поколения»
русской эмиграции первой волны. Направленность творчества Фельзена, как и других
писателей и поэтов, принадлежавших к числу «литературной молодежи» (Борис
Поплавский, Гайто Газданов, Валериан Дряхлов, Лидия Червинская, Борис Божнев и
др.) предполагала стремление к воспроизведению внутреннего мира человека,
оказавшегося в экзистенциальной ситуации отрыва от своей прошлой жизни.
Оригинальность творческого дара Фельзена с особенной яркстью раскрылась в его
незавершенном литературном проекте – «Романе с писателем», идейно-
художественным ядром которого по праву сдедует назвать романную трилогию
«Обида» (1930), «Счастье» (1932), «Письма о Лермонтове» (1935). «Обман», «Счастье»,
«Письма о Лермонтове» - цикл относительно самостоятельных романов, объединенных
персонажами и сквозными сюжетными линиями. Романы запечатлевают творческое
желание главно героя написать о своей любви к Леле, связанной с ним непрочными,
постоянно меняющимися отношениями, чаще всего пренебрегающей его чувством и
причиняющей ему множество мучительных переживаний. Таким образом, в романах
«Лелиного цикла» соединяются, прорастая друг в друга, две важнейшие для творчества
Фельзена темы: тема «любви, сдобренной самоубийственной ревностью» (Василий
Яновский) и тема творческого созревания и самоопределения писателя-эмигранта.
Принципиально важным в этом контексте является утверждение Василия Яновского о
том, что «вся его [Фельзена – Н. Л.] литература держалась на “психологизме”; высшей
ценности он еще, кажется, не знал и в этом был верен себе. Он и Лермонтова так
любил, потому что видел здесь начало русского психологического романа». Таким
образом, по мнению Василия Яновского, для Фельзена как прозаика-психолога именно
Лермонтов стал художественным ориентиром и тем особенным «раздражитетем»,
который рождал у писателя творческие импульсы. Лермонтов для Фельзена в его прозе
– без всякого сомнения, объект авторской интенции. В этом контексте, с нашей точки
зрения, во-первых, актуально проанализировать «открытые» суждения Фельзена о
Лермонтове, высказвнные им в его романной прозе, а, во-вторых, - выявить
особенности рецепции творчества Лермонтова в поэтике прозы Фельзена, обнаружить
своего рода «лермонтовский след» в используемых писателем приемах создания
психологической прозы.
Мысли о Лермонтове, высказанные в «Письмах о Лермонтове», завершающем
произведении романной трилогии, носят программный характер и складываюмя в
своего рода философско-эстетический манифест. Отношение к Лермонтову для
Фельзена – сродни любви к женщите. Он признается: «Само чтение трех этих слогов
“Лермонтов” являлось столь же таинстенно-очаровывающим, как и первое, поразившее
меня женское имя». Лермонтов для Фельзена — «арбитр авторских дум и чувств»,
родоначальник психологической прозы («... ему предстояло сделаться именно
писателем-психологом, и немногое, им написанное – начало русского
психологического романа»), воплощение подлинной России («...Мне кажется, среди
немногих людей, видевших и как бы душвно осязавших (со всеми оговорками) свою
страну и свой народ, был, пожалуй, и Лермонтов»). Внимательно всматриваясь в
судьбу и характер Лермонтова, в «живое течение его жизни, щедро-беспечной,
трудной, самолюбивой, отказывающейся от легкого и простого, с готовностью за все
109
ответить, с опасным вызовом благополучию и пошлости», Фельзен резюмирует: «Он,
постоянно рискующий жизнью, непонимаемый, нелюбимый и одинокий и в то же
время по-светски равнодушно-скрытный никогда никому не жалующийся, насколько
он достойнее и как-то по-человечески милее». Но, может быть, главное откровение,
явившееся Фельзену в процессе его «романа с Лермонтовым». – это то, что, по его
признанию, он как-то очень глубоко и пронзительно почувствовал «лермонтовскую
грустную яркость – что жизнь как-то едина или бывает вдохновляюще и выразительно
единой».
В своей прозе Фельзен не только размышляет о творчестве Лермонтова, но,
создавая художественный мир своих собственных романов, преломляет лермонтовские
идейные и эстетические установски и принципы. Фельзену близки и лермонтовское
намерение быть «историком» человеческой души», и лермонтовская оптика –
приблизившись к человеку, проследить за извивами его душевных движений.
Изображая внутренний мир влюбленного в Лелю главного героя трилогии Володи, от
лица которого ведется повествование, Фельзен идет одновременно как «вслед» за
Лермонтовым, так и дальше своего предшественника: искусно описывая мельчайшие
душевные движения героя, он не только воспроизводит их, но всякое его чувство
«разлагает» на «психологические атомы». По уверению главного героя-нарратора, он,
препарируя свою личную драму, занимается «самосгрызанием» и «самоковырянием».
Перед Фельзеном стоит важная задача выбора адекватной жанровой формы,
применение которой давало бы ему возможность скрупулезного изображения
«диалектики души» героя. И в этой ситуации срабатывает «память жанра»: как и
Лермонтов, Фельзен применяет великолепно подходящий для этого жанр эпистолярной
исповеди. Форма то ли дневника, то ли полудневника и полуписем, обращенных от «я»
(Володи) к Леле, трудно и тяжело им любимой, представляют собой жанровый вариант
«внутреннего монолога». Фельзен понимает, что для изображения разнообразных и
«разноликих» внутренних переживаний человека подойдут модальности именно такого
– «искреннего» – письма: «дневникового», «эпистолярного», «исповедального».
Фельзен искусно использует потенции этих жанров, добиваясь максимального
сокращения дистанции между героем и читателем, предально обнажая душу своего
автобиографического героя и как бы демонстрируя ее абсолютный «нюдизм».
Рецепция Лермонтова обнаруживает себя и при конструировании Фельзеном
образа протагониста «Лелиной трилогии». «Я» как автобиографический герой
фельзеновских романов обладает всеми признаками лирического героя стихов
Лермонтова; он имеет также и свойства протагониста его романа «Герой нашего
времени». Перед нами - одинокий, отнюдь не счастливый, а, скорее, несчастный
человек, по сути, «лермонтовский» его тип. Фельзен, как и Лермонтов, убежден, что не
радость и счастье, но одиночество, «горе», «страшные провалы» позволяют человеку
глубже постичь феномен любви, ощутить силу жизни и тоньше почувствовать ее
подлинность. Страдание, по логике как Лермонтова, так и Фельзена, является также и
источником вдохновения («Я настроен грустно до безнадежности, к безнадежности
моей примешивается скорее уж творческий вздымающий полет»). Фельзеновский герой
находит в несчастье (в многочисленных уходах Лели, в ее изменах и запутанных
отношениях с другими) – «счастье». Для протагониста трилогии Фельзена несчастья,
являющиеся «счастьем»,– источник настоящей жизни, и он панически боится в любви
ее «отупляющего самоупоения». Лермонтовское кредо, содержащееся в его строках «Я
жить хочу! Хочу печали / Любви и счастию назло...» Фельзен трансформирует в
программное утверждение: «Дурные часы, отказ от возможных хороших часов, наше о
них сожаление и боль никогда не кончаются и не пропадают, и бесчисленные их следы
<...>, в сущности, нас и создают, и нам следует – ради человеческой своей высоты –
110
непременно добиваться и победы и в победе искупляющего великодушия».
Совершенно очевидно, что желание Фельзена «с болью прикасаться к тайне людских
отношений, всегда интересовавшей его» (Василий Яновский) реализуется в его прозе с
опорой на достижения Лермонтова, который для писателя воплощает
«необманывающую внимательную к людям доброту», «внутренюю честность»,
«опасный вызов благополучию и пошлости» и который дорог ему «самым
неожиданным и прельщающим – непрестанным желанием что-то свое додумать,
выразить, разъяснить».
Ключевые слова: Юрий Фельзен, «незамеченное поколение» в литературе
русского зарубежья, романная трилогия, рецепция Лермонтова, литературно-
художественный манифест, традиция психологического романа, жанры исповедального
письма, трансформация творческих принципов
Аннотация
Статья посвящена проблеме рецепции творчества Лермонтова в прозе Юрия
Фельзена (1894-1943), одного из талантливых представителей «незамеченного
поколения» русской эмиграции первой волны. Отношение Фельзена к такому феномену
культуры, как Лермонтов, а также особенности трансформации лермонтовской поэтики
в художественном мире произведений Фельзена анализируются на примере его
романной трилогии «Обман», «Счастье», «Письма о Лермонтове», в которой писателем
глубоко разработаны темы любви и творчества. Доказывается, что высказывания
Фельзена о Лермонтове в его романе «Письма о Лермонтове» носят программный
характер и складываются в своего рода литературно-художественный манифест.
Обнаружено, что при создании образа протагониста трилогии, Фельзен продолжает
заложенную Лермонтовым традицию психологического романа. Для изображения
внутренних движений души главного героя, он, как и Лермонтов, использует
модальности исповедальных жанров (дневника, письма). Утверждается, что Фельзену
близка мысль Лермонтова о «печали» и «страданиях» как «усилителях» восприятия
человеком мира и себя в нем, а также источниках творческого вдохновения.
Key words: Yuri Felzen, «unnoticed generation» in the literature of Russian abroad,
novel trilogy, reception Lermontov, literary-artistic Manifesto, the tradition of psychological
novel, genres of the confessional writing. the transformation of the creative principles
Abstract
The article is devoted to the problem of reception of creativity by Lermontov in prose Yuri
Felzen (1894-1943), one of the most talented representatives of the «undetected generation»
of Russian emigres of the first wave. The attitude of Felzen to Lermontov as cultural
phenomenon and peculiarities of transformation of Lermontov's poetry in the art world of the
prose by Felzen analyzed on the example of his novel’s trilogy «Deception», «Happiness»,
«Letters about Lermontov», in which the writer deeply developed the themes of love and
creativity. It is proved that the statements of Felzen about Lermontov in his novel «Letter
about Lermontov» have programmatic character and it is artistic Manifesto. It is found that in
creating the image of the protagonist in the trilogy Felzen continues Lermontov’s tradition of
psychological novel. To describe the internal movements of the soul of the hero he like
Lermontov uses modality confessional genres (diaries, letters). It is alleged that Felzen and
Lermontov though about «sadness» and «suffering» as «amplifiers» of human perception of
the world and men in it and as sources of creative inspiration.
111
Название статьи на английском языке «Inexhaustible love story with Lermontov»: Lermontov’s creativity as the object of
author's intentions in prose by Yuri Felzen
Хронотоп «Тифлис» в творчестве М.Ю. Лермонтова
( Запись на обороте листа)
И.В. Милорава
ТГУ,Тбилиси(Грузия)
Кавказ и Грузия чрезвычайно важны для русской культуры. Можно сказать, что
после постепеного вхождения и внедрения России в Кавказ пропорционально возрос и
интерес к грузинской культуре. В некоторой степени сформировалось противоречивое
отношение: с одной стороны, поработительское, суровое имперское и даже грубое и, с
другой стороны, человечное, творческое, с полным желанием русской нации
интеллектуально и эмоционально постигнуть Кавказ. Метафора этих двух в равной
степени различных отношений – деятельность Михаила Воронцова в Грузии. Он с
очень большим уважением относился к грузинской культуре и, с признательностью
нужно отметить, ему принадлежит большой вклад в формировании и развитии очагов
грузинской культуры (театр, публичная библиотека, периодические издания). Мы
заострили внимание на личности Воронцова по причине того, что он лучше всех
выражает двойственное отношение интеллектуальной, цивилизованной и в тоже время
обладающей властью части российского общества XIX века, в отличии от
солдафонской, прямолинейной, корни которой в той же эпохе, а последствия этой
амбивалентности не раз пришлось изведать обеим этим нациям. Иными словами, в
«круг Воронцова» входят люди, представляющие интеллектуальные или творческие
круги, струн душ которых Кавказ, Грузия, люди, природа, культура коснулись
легендами, мистической душой, мифопоэтическим пространством и своей
возвышенностью над проблемами и ранами имперского времени, несмотря на
жестокость и противоречия эпохи, как бы там ни было, именем прекрасного сближало
людей. Для Лермонтова Кавказ имел решающее значение и не случайно западные
слависты считают его – самым кавказским поэтом. Еще с детства на него произвели
неизгладимое впечатление пейзажи Кавказа. Его восхищали величие гор и красота
долин, бурные реки и глубокие ущелья. Хронотоп Кавказа является одним из
плодотворных в его творчестве. Просранство, которое им воспринималось как сугубо
мифопоэтическое, тесно связанное с временами преданий и мифов, породило
изумительный и неповторимый художественный мир его проиведений. Немалое место
в этом хронотопе занимает Грузия и, в частности, пространственная модель – хронотоп
«Тифлис». Тут же надо отметить, что образ города, непосредственно, не запечатлен в
его стихах, но атмосфера тогдашнего Тбилиси – города поэтов, прекрасных женщин,
музыки и романтики –не могла не произвести на поэта сильнейшего впечатления.
Тифлис с присущим ему гостеприимством и радушием принял Лермонтова. Он стал
гостем литературных салонови и всех светских собраний грузинского высшего
общества. По всей вероятности, здесь он и познакомился с грузинскими поэтами.
Встречи в Тифлисе косвенно отразились в его художественном мире. Лермонтов –
поэт-романтик воспринимает мир эмоционально и в тоже время в его художественном
времени и пространстве, которые выстроены на грани реального и воображаемого,
112
постоянно чувствуется наблюдательный взгляд аналитика. Реконструкция картины его
отношениий с грузинским обществом трудна даже приблизительно, хотя в связи с этим
существует прекрасная попытка – фундаментальная монография Ир. Андронникова.
При всем этом, вслед за исследователем деяний поэта все же можно вступить в
пространство старого Тбилиси. Лермонтова – романтика обязательно заинтересовали
бы грузинские романтики. Какими могли быть его взаимоотношения с ними? Какое
влияние оказали на поэта эмоциональный и прекрасный мир «Тифлиса? Смогло ли
бытие грузинской поэтичности и красоты оставить след в его душе? Ал. Чавчавадзе
был одним и выдающихся поэтом, политическим деятелем, основополжником
романтизма в грузинской литературе. Его дочери – Нина, впоследствии жена
Грибоедова, и Екатерина – супруга правителя Мегрелии Дадиани и муза Николоза
Баратащвили вместе с другими красавицами Тифлиса блистали в салонах и пленяли их
гостей. В числе известных грузинских красавиц-аристократок была княжна Маико
Орбелиани – женщина прекрасной души и трагической судьбы, в которой отразилась
судьба ее поколения, ведь она была близким другом Н. Баратащвили и постоянным
адрессатом его писем, в которых поэт откровенно делился с ней своими самыми
сокровенными мыслями. Прямых доказательств знакомства Маико и Лермонтова нет,
но существует листок бумаги на котором написано стихотворение «Спеша на север
издалека», а на обороте Лермонтов торопливо нацарапал карандашом слова: «маико
мая». Как известно, как раз ласкательным именем Маико называли известную
красавицу того времени княжну Марию Кайхосроевну Орбелиани, о которой
Я. П. Полонский писал в одном из своих стихотворений 40-х годов:
Из уст в уста ходила азарпеша,
И хлопали в ладони сотни рук,
Когда ты шла, Майко, сердца и взоры теша,
Плясать по выбору застенчивых подруг.
.
Как после праздника в глотке вина отраду
Находит иногда гуляка удалой,
Так рад я был внимательному взгляду
Моей Майко, плясуньи молодой 1
На связь этого стихотворения Лермонтова с Маико Орбелиани обратил внимание
Ираклий Андронников. Если Лермонтов виделся с Чавчавадзе в Тифлисе, это означает,
что запись посвяшается именно Маико Каихосроевне Орбелиани, а не Майе
Орбелиани, дочери Луарсаба Орбелиани. Наконец, важным доводом в пользу того, что
Лермонтов записал имя именно Маико Кайхосроевны Орбелиани, может послужить
письмо родственника и друга Лермонтова — Монго Столыпина, который в 1840 году
писал из Тифлиса о красавицах, каких не встретишь в Петербурге. Его тифлисскими
знакомыми были: маленькая княжна Аргутинская, а также Маико и Като Орбелиани —
«две нежные жемчужины из тифлисского ожерелья». «И масса других, которых я не
заметил, после того как увидел этих трех женщин». Столыпин находился в Тифлисе
одновременно с Григорием Гагариным, который тогда же сделал два портрета Маико
Орбелиани. Они не упоминают другую Майю. Лермонтов, как романтик и ценитель не
только физической, но и духовной красоты не мог не распознать в Маико Орбелиани
подругу и духовную сестру поэта-романтика Бараташвили. Вряд ли его внимание было
привлечено другой Майей. На подсознательном уровне он непременно узнал бы в ней
113
родственную ему душу, так-как и художественный и духовный мир Николоза
Бараташвили, преимущественным доверием которого пользовалась эта женщина,
поразительно похож на его собственный. Если Лермонтов встречался с Маико и
записал имя Маико на обороте листа, это может служить подтверждением того, что он
был знаком и с Александром Чавчавадзе, ибо Маико Орбелиани была троюродной
племянницей жены поэта – Саломэ. 11 октября 1837 года главноуправляющий Грузией
барон Розен устроил бал в честь прибытия императора, на котором среди
приглашенных современники отметили Нину Грибоедову и Маико Орбелиани. Вскоре,
после отъезда царя семья Чавчавадзе вернулась в свое цинандальское поместье, в
котором в свое время гостил и А. Пушкин. Тбилисский дом и цинандальское поместье
Чавчавадзе в то время были местом систематических встреч поэтов, художников,
общественных деятелей и их гостей. Вероятно, Лермонтов в Тифлисе, в их салоне
встретил красавицу Маико, имя которой записал на упомянутом листке, а потом в его
воображении переплелись образы прекрасной печальной девушки и величественной
горы Казбек и так родилось стихотворение «Спеша на север издалека»:
Если запись Лермонтова на обороте листа подтверждает, что он был знаком с
Александром Гарсевановичем Чавчавадзе то, следовательно, не исключена
возможность знакомства Лермонтова с другим грузинским поэтом-романтиком —
Григорием Орбелиани. В доме Чавчавадзе он мог видеть среди гостей и Николоза
Бараташвили в ту пору юношу двадцати одного года. Возникает вопрос: почему об
этом никто из современников не упомянул ни словом? У Ираклия Андронникова в
книге «Лермонтов. Исследования и находки» есть предпологаемый ответ на этот
вопрос: «Представители грузинского общества, с которыми познакомился Лермонтов,
виделись друг с другом постоянно и события их повседневной жизни оставались не
закрепленными на бумаге, не отразились в письмах».2
И вправду, даже Григорий
Орбелиани, которому в ссылку писали обо всех новостях, именно в это время
находился в Тифлисе, так что писменных доказательств нет, но есть прекрасное
стихотворение и загадочные нежные слова «маико мая», которые из глубины времени,
хоть чуть-чуть, приоткрывают завесу над движениеми души великого поэта.
Литература
1. Я. П. Полонский. Стихотворения («Библиотека поэта», большая серия). Л.,
«Советский писатель», 1954, с. 111, стихотворение «После праздника».
2. И. Андронников. Москва. Издательство «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА». 1977, с. 336.
Аннотация
Кавказ имел большое значение для Лермонтова. Он восхищался великолепными
пейзажами Кавказа. Кавказ был для него мифопоэтическим просранством, которое
породило изумительный и неповторимый художественный мир его проиpзедении.
Немалое место в этом хронотопе занимает Грузия и в частности, пространственная
модель, хронотоп «Тифлис». Тифлис со своим обычним гостеприимством и радушием
приняла Поэта. По всей вероятности, здесь он познакомился и с грузинскими потами.
Стоит вопрос был ли знаком позт с Ал. Чавчавадзе. Ответ на этот вопрос дает запись
Лермонтова на обороте листа на котором записано его стихотворение. Если в записи
114
«маико мая» подразумивается княжна Маико Орбелиани, можно считать, что встреча с
Ал. Чавчавадзе состоялась.
Caucasus had a great importance for Lermontov. He was admired by the beautiful landscape
of Caucasus. Caucasus was a mythopoeticall space for him, which created the amazing and
wonderfull aesthetical world of his product. The great importance in this Chronotop has
Georgia and in particular, space model, chronotop «Tiflis». Tiflis met Poet with its usuall
hospitality. Probably here he became acquainted with Georgian poets. We have a question:
Was he acquainted with Alexandre Chavcavadze or not. The answer is given in back of the
paper which recorded his verse. If the record «maiko maia» means princess Maiko Orbeliani,
we can think that Lermontov became acquainted with Alexandre Chavcavadze.
115
Chronotop «Tiflis» in Works of Lermontov
( The Record on the Back of the Paper)
Ключевые слова: Лермонтов Маико хронотоп Кавказ Тифлис
Keywords: Lermontov Maiko chronotop Caucasus Tiflis
СОВРЕМЕННЫЙ ИРОНИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И
ОСОБЕННОСТИ
А.О. Абаганова
ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Астана (Казахстан)
Современная массовая литература и в том числе иронические детективы как
важный сектор современного книжного рынка во многом «отражают парадоксы
социальной и культурной памяти современного читателя, массовые предпочтения, на
которые влияют не только субкультурные образцы и нормы, но и семейное воспитание,
качество школьного и вузовского образования и другие факторы».
В настоящий период в литературе возникли новые формы и жанры, которые
актуальны для современного периода жизни, когда массовый читатель уже не имеет
много времени на чтение. Так, появляются бульварные романы, шпионские романы,
бандитские романы, иронические романы – легкое чтиво, по преимуществу в
общественном транспорте и на отдыхе, потеснив, прежде всего столь же облегченный
любовный роман, но сохранив черты родового с ним сходства.
Они издаются в формате удобном для транспортировки, в яркой обложке и с
кричащим названием, выделенным крупными буквами, а также содержит непривычные
для глаза сочетания «Богиня прайм-тайма», «Я - судья. Божий дар». Имя же автора на
обложке обычно визуально не привлекательно и не запоминается. По ним иронический
детектив можно легко отличить от других жанров, так как они также клишированы, как
и содержание. Чаще всего они связаны с женскими реалиями и предпочтениями: «Дом-
фантом в приданое», «Миф об идеальном мужчине». Часто используются
прецедентные тексты: «Пороки и их поклонники», «Развод и девичья фамилия»,
«Подруга особого назначения».
На обратной стороне обложки обязательно размещается портрет автора, это еще
одна черта, составляющая его презентационный тип. Рядом с фотографией два текста:
аннотация, пересказывающая содержание произведения, и небольшая реклама автора.
Основа маркетингового успеха женского детектива очевидна: книжный рынок в
первую очередь рассчитан на покупательниц, а не на мужчин покупателей. Гендерные
причины понятны: самые беззащитные должны торжествовать победу хотя бы в
царстве вымысла.
На ранних стадиях бытования иронического детектива определение
«иронический» часто выполняло функцию «лакировки действительности»: небрежно
выстроенный, слабый во всех отношениях детектив можно было таким образом
представить как некую пародию серьезного жанра.
Название самого иронического детектива можно легко отличить от других
жанров, так как они также стандартизированы, как и содержание. Чаще всего они
связаны с женскими ситуациями в быту и предпочтениями, используются известные
для читателей тексты и другие.
Основоположником развития данного направления в детективе (иронический
детектив) по праву признана польская писательница Иоанна Хмелевская. Так,
особенности иронического детектива как особенного жанра, раскрываются через
116
понимание персонифицированного повествователя (автора - рассказчика), как правило,
это главная героиня иронического детектива.
Детективная литература (от лат. detectio – раскрытие; англ. detect – открывать,
обнаруживать; detective – сыщик) – литература, посвященная раскрытию методом
логического анализа сложной, запутанной тайны, чаще всего связанной с
преступлением.
Таким образом, сплетается смех и расследование. Ни маловажным
представляется и манера писательницы употреблять опасные и порой пугающие
события с иронией, юмором «Быстрее, быстрее!.. Какой-то пыльной, словно
выпачканной мелом тряпкой она потерла бок серванта, там, где трогала его, и
тряпку тоже затолкала в карман.
Что еще? Стол?.. Тоже протереть и немедленно уходить отсюда!..
Она остановила себя и свою панику — оказывается, все это время паника
оставалась с ней, в ней, и это именно паника хватала и засовывала в карман чашки и
тряпки».
При описании, в ироническом детективе, героиня часто похожа на самого автора
(реального) манерами, стилем общения, поступками и интересами, внешним видом.
Иногда автор даже указывает на подлинность героини в аннотации к ироническому
детективу (например, в романе Т.Устиновой «Первое правило королевы»)
«Посвящается Людмиле Селивановой. Такие женщины, подобно комете Галлея,
появляются раз в столетие».
Иронический детектив – это детектив игровой, написанный от первого лица и
как бы не вполне всерьёз, с латентной иронией по отношению к жанру и подчёркнутой
самоиронией повествователя. Это детектив, созданный женщиной, и потому менее
«кровавый», но более наполненный подробностями повседневной жизни и рефлексией
по их поводу. Подчеркнуто доверительная, разговорная интонация героини призвана
создавать атмосферу непринуждённой болтовни с подругами за чашкой кофе.
Детективное расследование в ироническом детективе описывается с
юмористической точки зрения. Зачастую романы Т.Устиновой, написанные в таком
ключе, пародируют штампы детективного романа. Это видно из сюжета романа – где в
центре стоит странное убийство, тайное и запутанное: «— Инна Васильна, ты? — Да.
Кто это?— Ты в Москве?— Да. Кто это?! — Это Якушев. — Так звали первого зама
губернатора. — Прилетай, у нас беда. Мухина убили. Сегодня ночью…». Акцент на
самом акте преступления в ироническом детективе не ставится. Это лишь условие для
ряда приключений главной героини.
Таким образом, иронический детектив – это феномен массовой литературы,
разновидность детектива, расследование в котором описывается с юмористической
точки зрения и направлено на раскрытие тайны.
117
ПОЭЗИЯ М.В. ЛЕРМОНТОВА В ПЕРЕВОДАХ Й. КОВАЧЕВА НА
БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК
Н.С. Иванова
Университет им. проф. д-ра Асена Златарова – Бургас (Болгария)
Творчество и богатая переводческая деятельность болгарских последователей Л.Н.
Толстого, несмотря на их большое культурное значение для болгарской литературы,
сегодня мало известны современному читателю. В этом смысле не является
исключением творческая судьба толстовца второго поколения Йордана Ковачева (1895-
1966) – адвоката по профессии, писателя по призванию, общественного деятеля по
душевному настрою.
И житейская судьба, и творчество Й. Ковачева основываются на нравственно-
этическом мировоззрении Л.Н. Толстого – на его христианском гуманизме и борьбе
против насилия и войны. Й. Ковачев писал: „Он /Толстой/ раскрывает все явные и
скрытые взаимные связи вещей, событий и людей. Он не боится проникнуть в
первопричины существующего зла. Он достигает самых потайных глубин человеческой
души и в самом интимном, откровенном и неповторимом раскрывает вдруг связь со
всем живым, независимость от всего мира и всего человечества” [5, с. 13] Как и Л.
Толстой, Й. Ковачев неуморно ищет правды и считает, что религиозность придает
человеку особую нравственную и душевную силу. Эти поиски находят отражение в его
художественном творчестве – оригинальном и переводном.
Кроме философских и художественных произведений Л. Толстого, Й. Ковачев
переводит шедевры русской и мировой поэзии. В его переводе на болгарский язык в
отдельных книгах выходят „Избранные стихотворения Ф.И. Тютчева” /1935/,
„Избранные стихотворения М.Ю. Лермонтова” /1941/, „Избранные стихотворения
Сюли Прюдома” /1945/, „Избранные стихотворения А.С. Пушкина” /1955/, „Избранная
лирика Надсона” /1962/, стихи П.Б. Шелли, М.И. Горбунова-Посадова и др.
Бесспорный литературный талант и высокое художественное мастерство переводчика
оценены прежде всего за рубежом. Русский критик И. Поступальский пишет
восторженный отзыв о его переводах Ф. Тютчева, который был опубликован на
страницах журнала „Новый мир”, редактором которого был К. Симонов. [3, с. 200-201]
Очень высоко оценены переводы А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Брюсова, а о
переводе лирики Надсона И. Поступальский высказался не без иронии: „возможно это
тот редкий случай, когда перевод – иногда, допустим, без сомнения более художествен,
чем оригинал”. ”. [4, с.110] И. Поступальский отметил, что даже чешская критика
„своевременно указала на достоинства труда Й. Ковачева и он был поставлен на одной
ступени с превосходным переводчиком русской поэзии Юлианом Тувимом. [4, с. 108]
Нужно иметь в виду, что этих замечательных успехов Й. Ковачев достигает, вопреки
неблагоприятным условиям и испытаниям судьбы. Переводы лирики М. Лермонтова
выходят в 1941 г., когда в царской Болгарии реакционеры поднимают антирусские
настроения, стихи Надсона переводит в концентрационном лагере в Белене, а стихи В.
Брюсова, когда ему было уже за 60 и он накопил достаточно житейской горечи и
мудрого примирения. Независимо от этого, переводы Й. Ковачева не только удачны, но
они отличаются вдохновением и искренностью, глубоким сопереживанием и несут
отпечаток его исключительного мастерства работы со словом.
118
Первое стихотворение, которое Й. Ковачев переводит, это стихотворение „Тучки
небесные” М.Лермонтова. Тогда юному переводчику было всего лишь 18 лет. Уже в
этом переводе заметен талант Й. Ковачева выходить за формальные рамки буквального
соответствия, но при этом сохранять эмоциональный пафос автора:
Облаци къдрави, облаци странници,
Над поля дъхави спрели керваните,
Скитате, сякаш със мене, изгнаници, .
Север оставили, юг за да браните… [7, с. 81]
В целом, этот подход Й. Ковачева характерен для всех его проникновенных
переводов лирики М. Лермонтова. Он сумел передать болгарскому читателю богатую
эмоциональную палитру поэта, его страстный порыв к активности и свободе, печаль от
житейских конфликтов и несоответствий, жажду к героизму,
Белей се кораб в синевата,
Самотно над вълни играй ..
Що дири той в далнината?
Какво остави в своя край?
В переводе Й. Ковачева выходят 68 стихотворений М.Ю. Лермонтова.
Слово великого поэта М. Лермонтова, одухотворенное талантом и исключительным
вдохновением поэта и переводчика Й. Ковачева, волнует читателей и сегодня.
Литература:
1. Дертлиева А. Страници от живота на един забравен писател /100 години от
рождението на Йордан Ковачев/. Летописи. Издание на СБП. Университетско
издателство “Св. Климент Охридски”. Март-април 1996.
2. Ковачев Й.. Интервю пред журналиста П. Тихолов. 1964 г.
3. Поступальский И. Стихи Ф. Тютчева в болгарском переводе. сп. “Новый мир”,
1957, кн. 12.
4. Поступальский И. Болгарский поэт Й. Ковачев – переводчик В. Брюсова.
Брюсовский сборник. Министерство просвещения РСФСР. СГПИ. Ставрополь, 1974
5. Ковачев Й. Първи опити в литературата. Юбилеен вестник “Й. Ковачев. 100
години от рождението 1895 – 1995.
6. Статков Д. Редакторът разказва. Юбилеен вестник. “Й. Ковачев. 100 години от
рождението 1895 – 1995”.
7. Лермонтов М. Ю. Избрани стихотворения. Преведе Й. Ковачев. Книгоиздателство
“Посредник”, С., 1941.
8. Василев, Д. Предтеча на нова епоха. На колене пред истината. Паметна библиотека
“А. Паскалев”. Хасково. 1994
9. Шели П. Б. Химн на интелектуалната красота. Превод: Й. Ковачев. В: сп.
“Септември”, 1968, кн. 10
119
АННОТАЦИЯ
Данная статья является частью обширного исследования деятельности и языкового
мастерства болгарских последователей Л.Н. Толстого. Фокусом в ней является
переводческая деятельность толстовца „второго поколения” – Йордана Ковачева,
гуманиста, писателя, талантливого переводчика русской поэзии и прозы. Й. Ковачевым
переведены стихотворения М. Лермонтова, В. Брюсова, Ф. Тютчева и др. русских
поэтов. Й. Ковачев перевел 68 стихотворений М. Лермонтова и издал их отдельной
книгой в 1941 г. Именно на этих переводах сосредоточен наш анализ, в нем
задействованы также многие неопубликованные до сих пор материалы из личного
архива Й. Ковачева, любезно предоставленные его сыном.
Ключевые слова: Йордан Ковачев, перевод, русская поэзия, М.Ю. Лермонтов
THE POETRY OF M.Y. LERMONTOV TRANSLATED INTO BULGARIAN BY
YORDAN KOVACHEV
ABSTRACT
The paper is part of the investigation of the language of the Bulgarian Tolstoists in the
framework of the research project on Bulgarian Tolstoism. It deals with the second
generation Tolstoist Yordan Kovachev – a great humanist, writer and talented translator.
Using original documents and unpublished archival materials belonging to the writer, Y.
Kovachev’s translations of eminent Russian poets, such as M. Lermontov, V. Bryusov and F.
Tyutchev, have been analysed. The undisputable artistic merit of these translations, which
have been highly acclaimed by the translators’ circles in the country and abroad, are pointed
out.
Key words: Yordan Kovachev, translation, Russian poetry, M.Y. Lermontov
120
РЕГИОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ
СПЕЦИФИКА РЕКЛАМЫ
А.А. Исакова, ТГНГУ, Тюмень (Россия)
Любой человек вынужден самостоятельно ориентироваться в мощном
информационном потоке, определяя свое отношение к тем или иным реалиям. В этом
плане очень интересен Тюменский регион (Западная Сибирь) с хорошо развитой
инфраструктурой и нефтегазовой промышленностью и постоянно увеличивающимся
населением за счет огромных потоков мигрантов из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Вопросам изучения коммуникативного пространства региона уделяется
пристальное внимание с конца XX века, в это время происходит наиболее активное
освоение нефтегазовых месторождений и, в свою очередь, фундаментальное развитие и
становление северного региона. Но особенно актуальной данная проблема становится в
настоящее время, поскольку Тюменский регион выбран в качестве «пилотной»
площадки основных трудовых ресурсов страны. Одновременно с этим происходит
процесс стихийного, нерегулируемого притока иностранных слов в русский язык,
поскольку он тесно связан с активизацией деловых, научных, торговых и культурных
связей между народами ближнего и дальнего зарубежья, особенно сейчас Тюменский
север изобилует совместными русско-иностранными предприятиями (например,
Шлюмберже, Бритиш петролиум, Ямато ятерым и др.), очень часто на улицах Тюмени
можно встретить иностранных граждан, приехавших на работу или в служебную
командировку. Все это порождает интенсивность коммуникативных контактов
носителей русского языка с носителями других языков, что является важным условием
не только для непосредственного заимствования лексики, но и для приобщения к
интернациональному пласту лексики, чаще созданному на базе германских (что
объяснимо современными процессами глобализации) и тюркских языков (в результате
тесных контактов с местным тюркским и пришлым населением из Турции, Ирана,
Казахстана и Кавказа).
В настоящее время именно реклама является одним из ярких показателей
заимствования и адаптации иностранной лексики в русском языке. Региональная
реклама является одной из форм массовой коммуникации, поскольку любой человек,
ступая на Тюменскую землю, включается в коммуникацию, глядя на рекламные щиты в
городе.
В Тюменском регионе особенно много иноязычных слов используется
предприятиями общественного питания. Всем тюменцам хорошо знакомы ресторан
украинской кухни «Шинок», казахское кафе «Азия», грузинское кафе «Алавердий»,
узбекское кафе «Тамерлан», армянское «Урарту», ресторан английской кухни
«Английский дворик», ресторан турецкой кухни «Бардак» и др. Некоторые кафе имеют
названия на английском языке, при этом ассортимент блюд достаточно разнообразный,
а именно: итальянская пицца, американские хот-доги, русские салаты, тем не менее,
название имеет и английский вариант«Free days», «Fast-Food», и русский «фридейз»
«фаст фуд» и т.д. Практически все названия не вызывают лингвистического шока и
свободно адаптируются в повседневной разговорной речи тюменцев. При этом
реклама всегда идет на русском языке с иностранными вкраплениями. Например,
Добро пожаловать в «Шинок», ласкаво просимо…, Быстро, качественно, недорого Фаст
Фуд, Английский дворик! Почувствуйте себя лордом. Welcome и т.д.
Актуальность данного исследования определяется самой повседневной жизнью,
поскольку, чтобы адаптироваться в условиях повседневной действительности человек
вынужден в большей степени самостоятельно ориентироваться среди городского
потока средств массовой информации.
121
Вместе с развитием рекламного бизнеса в Тюмени сформировалась особая сфера
коммуникации со своеобразным русским языком на основе языка рекламы Тюменской
области, которая требует определенного контроля и дальнейшего изучения.
В связи с этими предлагаемое исследование имеет вполне конкретную
практическую направленность: прежде чем начать формировать целенаправленную,
грамотную рекламу, необходимо иметь максимально возможную точную информацию
о реальной языковой и социокультурной ситуации в рекламе российской провинции,
которая в настоящее временя находится в стадии становления. Наряду с этим, целью
исследования является и научная оценка суггестивного влияния рекламного текста на
обыденное сознание различных слоев и когорт населения региона. Данная проблема
достаточно интересна и по-разному решается в различных регионах и странах, и в этой
связи очень интересен этнолингвокультурологический подход к решению этой
коммуникативной проблемы.
Всем нам известно, насколько возрос интерес современной лингвистики к
изучению языковых контактов разных народов («мир в языке»). Однако равноценное
внимание уделяется и тому, «как человек использует язык в качестве орудия общения»,
а также тому, «как в языковых единицах отразился сам человек» («человек в языке»).
Язык закономерно рассматривается как система, через структуру которой объективно
интерпретируются феномены культурных ценностей. Например: реклама автомобиля
Дэу (Я узбеков люблю, они хорошо заводятся), автомобиля Мерседес (Настоящее
немецкое качество), автомобиля Урал (Сильные машины для сильной России), реклама
автомобиля БМВ (В ролике которой показаны широкие и чистые немецкие дороги. За
кадром голос диктора: широкие дороги, широкие возможности.), реклама автомобиля
Шевроле Ласетти (Большой плюс итальянского дизайна, Шевроле Ласетти, развивает
чувство прекрасного), автомобиль Мицубиси (Безупречная японская собранность.
Мицубиси Лансер. Настоящий японский драйв). Язык отражает массовое мышление; он
реагирует на все изменения и нововведения.
Следовательно, возникновение конкретных фактов языковой культуры, в
конечном счете, может быть стимулировано культурным развитием общества.
Лингвокультурологический подход к описанию рассматриваемой глобальной
проблемы – это системное и паритетное рассмотрение диалога «культура-язык»,
образующих полевые структуры. Доминантой мышления здесь становится не познание,
а взаимопонимание, что неизбежно приводит к исследованию взаимодействия языка,
культуры и личности (антропологическая парадигма современного языкознания).
Аналогичным следствием положения о взаимосвязи языка и культуры является то, что
язык «прорастает» в культуру и, будучи предпосылкой ее развития, выражает и
составляет важную часть ее символической системы. Поэтому триада «язык-культура-
личность (нация)» является центральной триадой лингвокультурологии.
Однако при создании рекламы того или иного товара необходимо учитывать, что
для русского человека новое иноязычное название товара всего лишь квази-слово,
поэтому тюменские рекламисты вынуждены искать пути адаптации этих слов в
коммуникативном пространстве Тюмени, и в частности в ментальном сознании
тюменских граждан.
Тюменские рекламисты используют различные эффективные способы
привлечения внимания к рекламному тексту. Часто используется прием «сознательной
ошибки»: «Жевать – не пережЕвать» (жевательные конфеты «Miller»), «Ravsвратно
низкие цены» (мобильные телефоны «Motorola Ravs»). Однако хотелось бы поднять
вопрос о целесообразности использования сознательных ошибок в рекламных текстах,
поскольку не всегда они достаточно корректны. Например, «Пользуйтесь услугами
такси «ВЕЗИТ». Бесспорно, рекламисты в данном случае стремились создать иллюзию
122
быстрой езды (везет быстро), но для детей, которые являются самой благодарной
публикой, возможны проблемы в школе.
Как показывают результаты нашего исследования, русским языком, в основном,
существительные (типа: Old Spice, True Illusion, Raid, Ambassador), в этом проявляется
общая тенденция процесса заимствования, отмеченная лингвистами. Именно
существительные, благодаря присущей им номинативной функции, реализуют
потребность заимствующего языка в номинации. Эта закономерность всегда
сопутствовала процессам языкового проникновения. Легче всего поддаются
идентификации и адаптации те прагмонимы, семантические и фономорфологические
характеристики которых не нарушают нормы родного языка. Более того, основной
составляющей адаптации является интерференция со стороны родного языка.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ
СПЕЦИФИКА РЕКЛАМЫ
REGIONAL FUNCTIONAL- SUBSTANTIAL SPECIFICS OF
ADVERTISING
Ключевые слова:
Ономастическое пространство России, ядерно-периферийная структура, товарные
марки или словесные товарные знаки, прагмоним, поликультурная основа, язык
рекламы Тюменской области, создании национального колорита, пассионарности;
расширении корпуса именуемых объектов; обновлении онимического состава,
вовлечение в номинацию социально и национально маркированных языковых единиц,
включение иноязычных элементов, лингвокультурологический подход
Keywords:
Russian onomastic space, nuclear peripheral structure, trade mark or word mark,
pragmonims, the multicultural framework, the language of advertising of the Tyumen region,
the creation of national color and expressivity, expanding of the objective structure, updating
of onims, involvement in social and national nomination of marked linguistic units , the
inclusion of foreign language elements, lingvocultural approach
АННАТАЦИЯ
В настоящее время именно реклама является одним из ярких показателей
заимствования и адаптации иностранной лексики в русском языке. Региональная
реклама Тюмени является одной из форм массовой коммуникации, поскольку любой
123
человек, ступая на Тюменскую землю включается в коммуникацию, глядя на
рекламные щиты в городе.
Актуальность данного исследования определяется самой повседневной жизнью,
поскольку, чтобы адаптироваться в условиях повседневной действительности человек
вынужден в большей степени самостоятельно ориентироваться среди городского
потока средств массовой информации.
Вместе с развитием рекламного бизнеса в Тюмени сформировалась особая сфера
коммуникации со своеобразным русским языком на основе языка рекламы Тюменской
области, которая требует определенного контроля и дальнейшего изучения.
ABSTRACT
Any person has to be guided in a powerful stream of information, defining their attitude to
any realities. This fact is very interesting for the Tyumen region with the developed
infrastructure of the oil and gas industry. Due to the integration of production and labor
resources the population is constantly increasing. Therefore, the man arriving in the region,
down from the ladder of the plane, immediately enters into communication and falls under the
influence of the regional advertising.. Tyumen regional advertising is one of the forms of
mass communication. Any man, walking in the Tyumen land is included in the
communication looking at billboards in the city. The relevance of this study is determined by
the daily life, man is obliged to a greater degree of self-oriented among urban stream media in
order to adapt to the conditions of everyday reality. Thus the aim of the research is a scientific
assessment of influence of the advertising text on the ordinary consciousness of the different
layers and cohorts of the population of the region. It is useful and interesting for other regions
and countries.
124
ОБ ОБЩИХ ЭТАПАХ И ТЕНДЕНЦИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
СЛАВЯНСКОЙ И ГРУЗИНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТЕЙ
Чиалашвили-Гордеева Елена Шалвовна – Агрыйский университет имени Ибрагима
Чечена /Турция/
1. Исследование исторических процессов формирования грузинской и славянской
письменностей христианского периода, связанных с литературным древнегрузинским и
старославянским языками, позволяет сопоставить имеющийся научный материал и
найти общие закономерности создания древнегрузинского и старославянского
алфавитов.
2. Мысль о том, что между языковыми системами, существующими в мире, нет
принципиального различия, привела учёных к систематическим исследованиям
типологии языков и выявлениям общих черт в языках мира. В современной типологии
актуальны исследования отдельных микросистем и микроструктур языков.
Совокупность графических элементов отдельного языка также рассматривается как
микросистема со своей внутренней структурой и внешними связями с
соответствующей микросистемой других языков.
3. История грузинского алфавита Асомтаврули начинается с первой половины V
века, а история славянской азбуки Глаголица - с середины IХ века. Однако
относительно обеих письменностей имеются сведения некоторых авторов об их более
раннем дохристианском происхождении.
4. Алфавитная система – наивысший этап развития письменности, наиболее
эффективное средство графической фиксации речи с целью её передачи в пространстве
и времени. Каждый графический символ алфавитной системы выражает отдельную
фонему, консонантную или вокалическую, как в парадигматике, так и в синтагматике
системы. Это означает, что каждая алфавитная система имеет свою особую
парадигматическую структуру, свой специфический порядок элементов в системе,
особую линейную /по вертикали/ последовательность графем. Синтагматическая
структура выражается в соотношении графических символов в определённой
последовательности /по горизонтали/ в словах, словосочетаниях, предложениях и, в
целом, в тексте.
5. На существование универсальных «правил» составления алфавита, которые
соблюдались всеми без исключения, указывает Черноризец Храбр, выделяя семь
аспектов буквы: фонетическое значение, графическое изображение, числовое значение,
наименование, расположение в алфавите, преемственность между старыми и новыми
алфавитами, кабалистические и магические значения букв и цифр.
6. Нами выявлены следующие общие моменты и тенденции в истории развития
грузинской и славянской алфавитных письменностей:
6.1. Первоначальное наличие элементарного письма в виде «квирб», «рабошов»,
«черт» и др.
125
6.2. Последующее использование алфавита-посредника, кодирующего сообщение,
составленное устно на языке-источнике (так называемое аллоглоттографическое
письмо). Для грузинского языка в качестве посредника мог использоваться арамейский
язык, для славянского – греческий и латинский.
6.3. Наличие общей культурно-исторической ситуации, выражающейся в принятии
христианства и тенденции к распространению христианской литературы на базе
национального языка.
6.4. Наличие общего письменного прототипа – греческой системы письма. Основные
части обоих алфавитов упорядочены по модели греческого алфавита. Специфические
грузинские и специфические славянские буквы представлены в дополнительных частях
алфавитов и выражают числовые значения «тысяч».
6.5. Подчинение Асомтаврули и Глаголицы ионическому правилу, в соответствии с
которым буквы приобретают числовые значения и занимают строго определённое
место в алфавитном ряду. Именно тот факт, что Глаголица построена в соответствии с
требованиями ионического правила, позволяет исследователям прийти к выводу о том,
что её автором является Константин Философ. Числовые значения букв в Кириллице
не подчиняются ионическому правилу, совпадая со значениями греческих букв. Одним
из объяснений наличия у букв Кириллицы греческих числовых значений является то,
что, по всей вероятности, греческие буквы употреблялись как числа среди славян и до
составления старославянской азбуки.
6.7. Обе алфавитные системы характеризуются последовательно сменяющимися
графическими разновидностями, каждая из которых является развитием предыдущей.
Использованная литература:
1. Александров И.. Българското писмо и средновековният изток. София,1996
2. Гамкрелидзе Т.Происхождение и типология алфавитной системы письма
(Письменные системы раннехристианской эпохи). ВЯ №5,6 1988
3. Дуйчев И.. Българско средновековие. София,1972
4. Дзидзигури Ш.. Грузинский язык. Тбилиси,1968
5. Куев К. Черноризец Храбър. София,1967
6. Степанов Ю.С. Счёт, имена чисел,алфавитные знаки чисел в индоевропейских
языках. ВЯ №4, 1989
7. Чедиа В. Введение в славянскую филологию. Тбилиси, 1990
8. Церетели Г Армазское письмо и проблема происхождения грузинского
алфавита. Эпиграфика Востока. Тбилиси, 1949
9. i.javaxiSvili. qarTuli paleografia Tbilisi, 1949
10.Gerhevitch J. Alloglottographi of Old Persian. TPhS., 1987
126
Аннотация
В статье исследуются исторические процессы формирования грузинской и славянской
письменностей христианского периода, связанные с литературным древнегрузинским и
старославянским языками, что позволяет сопоставить имеющийся научный материал и
найти общие закономерности создания древнегрузинского и старославянского
алфавитов.
Ключевые слова: славянская письменность, грузинская письменность, алфавит,
асомтаврули, глаголица, кириллица.
About the general trends and stages of formation of Slavic and Georgian Writing
Elene Chialashvili-Gordeeva
Abstrakt
The article presents an analysis of historical formation of Georgian and Slavic literature of
Christian period associated with Old Georgian literary language and Old Slavic language.
Common steps and trends in Georgian and Slavic alphabets are also identified, specific
features of mentioned alphabetic systems are considered and final conclusions are drawn.
Keywords:
Slovenian and Georgian written-languages, alphabet, Asomtavruli, Glagolitic alphabet,
Cyrillc.
127
ОТ ЛЕРМОНТОВА ДО НАШИХ ДНЕЙ: К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ.
И.А. Шаронов. РГГУ. Москва. (Россия).
FROM LERMONTOV EPOCH TILL OUR TIME: CULTURAL AND HISTORICAL
PECULIARITIES OF EMOTIONAL EXPRESSION.
Перечитывая бессмертный роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»,
невольно ассоциируешь себя с персонажами, забываешь о том, что со времени
написания романа прошло уже без малого два столетия. Однако время от времени все
же спотыкаешься то на одном, то на другом эпизоде описания эмоционального
поведения.
― Я с вами не согласен, ― отвечал я, в мундире он ещё моложавее.
Грушницкий не вынес этого удара; как все мальчики, он имеет претензию быть
стариком; <…> Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошёл
прочь. ― Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было
мочи… <…> он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно,
хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку.
Эмоция героя в каждом случае понятна, но вот представить, чтобы современный
взрослый мужчина с досады топал ногой или от радости при неожиданной встрече со
старым товарищем кидался ему на шею, несколько сложно. Такое поведение в
современном мире характерно скорее для маленького ребенка, женщины, но не
офицера.
В психологических и лингвистических исследованиях для разграничения
непроизвольных и социализованных эмоций используют термины эмоциональность и
эмотивность [Ларина 2003]. Эмотивная коммуникация связана, скорее, с понятиями
этикета, хотя и основывается на непроизвольных эмоциях. Этикетные нормы
эмоционального поведения могут менять формы воплощения. Если судить по
классической и современной литературе, в XVIII-XIX вв. в Европе и в России дамы
высшего света значительно чаще, чем в наше время, падали в обморок. Ср.:
Родилась я в конце прошлого века, когда в моде еще были обмороки. Мне очень
нравилось падать в обморок, к тому же я никогда не расшибалась, стараясь
падать грациозно (Ф. Раневская. Дневник на клочках).
Однако такое поведение позволительно было не всем особам женского пола, а
только высшему сословию. Ср. пример из пьесы А. Чехова «Вишневый сад».
Д у н я ш а. Руки трясутся. Я в обморок упаду.
Л о п а х и н. Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься как барышня, и
прическа тоже. Так нельзя. Надо себя помнить
Стиль женского общения в дворянском обществе предполагал разные формы
утонченной сентиментальности, во многом утраченной в XX в. Редкие современные
примеры такого поведения лишь подчеркивают архаичность такого стиля. Ср.:
Она склонила голову, глубоко вздохнула и приготовилась слушать, комментируя
лишь междометиями. Охать, ахать, прикладывать кружевной платок к
глазам, как в прошлых веках (К Сурикова. Страсти по Ботичелли).
Мужчинам в XIX в. также не возбранялось в торжественные моменты капнуть
слезу. Ср.:
В 1887–1888 году к нему часто являлись различные лица, по его выражению,
философы и миссионеры то под видом священников, то чиновников из
128
Петербурга, и вели с ним беседы. Во время этих бесед его душа испытывала
особенно радостные ощущения, а у беседовавших часто капали слезы от
жалости к нему за перенесенные и испытываемые им страдания (В.М. Бехтерев.
Внушение и его роль в общественной жизни).
«Есть кого-нибудь глазами», то есть в упор, внимательно и долго разглядывать
кого-либо в современном этикете считается неприличным, агрессивным действием; при
встрече с глазами незнакомого человека принято немедленно отвезти взгляд. В XIX –
первой половине ХХ в. армейской среде «есть глазами начальство» было необходимым
компонентом военного этикета. Ср.:
Затем начиналось для молодых солдат тяжелое время учения. Ведь нужно было
из деревенского парня, ходившего неуклюже, вразвалку, в 2-3 месяца сделать
«справного» гвардейца, который мог бы держать «фрунт», «есть глазами
начальство», отдавать честь, «печатать» шаг и пр. (Д. А. Засосов, В. И. Пызин.
Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов (записки очевидцев).
В традиционной крестьянской культуре демонстрация эмоциональных
состояний представлена прежде всего смехом и плачем. Обрядовый смех в разных его
формах и функциях описан в работах [Пропп 1997: 211–213], святочный и
масленичный смех описывается в [Лихачев, Панченко, Понырко 1984: 154–203] и т. п.
В этнографической литературе и работах по славянскому фольклору можно
встретить указания на различные формы ритуального плача (голосить, причитать,
выть, вопить), связанного с погребальным обрядом, проводами в солдаты, долгой
вынужденной разлукой с близким человеком. Такие формы эмоционального поведения
включены в обряды в качестве составного элемента; они являются необходимыми и
ожидаемыми. Ср.:
Ф е к л у ш а. Надолго, милая, едет [хозяин]?
Г л а ш а. Нет, ненадолго.
Ф е к л у ш а. <…> А что, хозяйка-то станет выть аль нет? <…> Уж больно я
люблю, милая девушка, слушать, коли кто хорошо воет-то (А. Островский.
Гроза).
В докладе будут проанализированы разные типы эмоционального поведения,
принятого во времена М.Ю. Лермонтова и в XIX в. в целом, показаны пути их
трансформации или исчезновения на протяжении двух прошедших столетий.
ЛИТЕРАТУРА
Ларина 2003 – Ларина Т.В. Категория вежливости в английской и русской
коммуникативных культурах. – М., 2003.
Лихачев, Панченко, Понырко 1984 – Лихачев А.С., Панченко А.М., Понырко Н.В.
Смех в древней Руси. – Л., 1984.
Пропп 1997 – Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. – СПб., 1997
129
УДК: 82.0:82-1/-9
СИСТЕМА ТЕМЫ И ИДЕИ СТИХОТВОРЕНИЯ «УТЕС» М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
А.Е. Кулумбетова, А.А. Джунисова
ЮКГУ им. М. Ауезова (г. Шымкент, Республика Казахстан,)
А.С. Кузьмина
(СШ им. П. Шевцова, с. Тюлькубас,
Тюлькубасского р/на, Республика Казахстан, ЮКО)
Впервые стихотворение М.Ю. Лермонтова «Утес» [1], относящееся к 1841 году,
рассматривается в свете проблемы взаимосвязи содержания и формы при опоре на
четырехэтапный анализ художественного текста [2]. При этом внимание уделяется теме
и идее.
1 этап. Анализ названия (здесь и далее курсив наш. – Авторы) через роль
художественного языка текста. На основе словарного значения («утес – высокая скала»
[3]) раскрываем знаковый смысл названия для читателя. Он в чувстве одиночества. В
«Утесе» уже одиночество связано не с оторванностью лирического героя от Родины, от
семьи, от кроны как в «Листке», и не с отсутствием политических единомышленников,
а личной жизнью лирического героя. Сочетание с антонимичным смыслом (общность)
определяет суть фабулы (конфликт одиночества и общности). Контекстуальный
антоним к названию («Утес» – «тучка») говорит о нереалистическом характере
изображения в этом стихотворении. Смысл названия прояснится через знакомство с
этапами переживания лирического героя (функция сюжетно-композиционного уровня -
СКУ. Это указывает на неотъемлемую связь его с уровнем речи (знаковым уровнем –
ЗУ) не только в системе текста, но и в названии, и формирует психологический тип
жанровой разновидности, связанный с внутренними переживаниями личности.
2 этап. Выявление (завязки) верхней границы хронотопа настоящего времени
(НВ). Она соотносится с началом текста по пятому (с глаголом прошедшего времени в
начале текста) и шестому (с появлением главного героя) из восьми критериев [2, с. 12-
13] согласно закономерностям лирического рода с его акцентом на сиюминутных
переживаниях. И малая жанровая форма «Утеса» обусловлена ввиду небольшого
объема текста одной смысловой частью, когда завязка совпадает с развязкой (нижней
границей хронотопа НВ). Функция второго этапа анализа – обозначить в рамках
верхней и нижней границы хронотопа НВ содержательно-формальный характер
объектной темы (ОТ) как неразрешимого психологического конфликта личности,
поглощенной проблемой разлуки и встречи. Первый и второй этапы анализа «Утеса»
изоморфны по психологической жанровой разновидности – оценки автором с
психологических позиций внутренних переживаний личности и по нереалистическому
характеру изображения.
3 этап. Анализ активного центра – АЦ. Одночастность «Утеса» М.Ю.
Лермонтова нами подтверждена сквозной буквой (А) и использованием Лермонтовым
неординарного эпитета («тучка золотая»), передающего переживания, ныне
тревожащие душу лирического героя. Развязка «Утеса» М. Ю. Лермонтова – это восемь
строчек, объединенных смысловым единством выраженной темы печали (на основе
смысла последнего предложения) и рифмующихся слов («золотая – играя», «великана –
рано», «морщине – пустыне», «одиноко – глубоко»).
Ночевала тучка золотая а-4
На груди утеса-великана; а-4
Утром в путь она умчалась рано а-4 По лазури весело играя; а-2
130
Но остался влажный след в морщине а-2
Старого утеса. Одиноко а-2
Он стоит, задумался глубоко, а-2 И тихонько плачет он в пустыне. а-1
Чувства лирического героя, связанные с муками одиночества, сопровождаются
эмоциональной лексикой («тучка золотая» – эпитет, «утес-великан» – гипербола, «след в
морщине» – метафора, «он плачет» – олицетворение) и приемом повтора (утес, он – 2) с
его символикой тревоги и беспокойства (лирический род). Эпический род в этом
стихотворении выражается повествованием о тучке, которая лишь «ночевала» «на
груди утеса-великана», и переживаниях утеса из-за разлуки с возлюбленной.
Проявляются черты и драматического рода в «событие самого рассказывания» [4].
Малая жанровая форма стихотворения М. Лермонтова определяется в АЦ по
количеству абзацев (2 из 4 предложений), количеству ситуаций (1), количеству
персонажей (3: лирический герой, утес и «тучка золотая»). Психологическая жанровая
разновидность как тип оценки художником слова изображаемого с психологических
позиций вытекает из типа начальных синтагмы - ТНС АЦ («Ночевала тучка…»). Этот
акцент Лермонтова на переживаниях лирического героя, солидарного с утесом,
определяет психологический тип развязки. В последнем предложении – ПП («Одиноко
Он стоит, задумался глубоко, И тихонько плачет он в пустыне.») нет реальных
авторских антонимов, знаков (РДЗ). Потому потенциальный смысл (ПС) ПП в чувстве
печали от утраты «тучки золотой». Оно адекватно символике беспокойства в приеме
повтора. Антоним – радость, пережитая утесом от близости с тучкой. В содержании
текста ключевая пара контекстуальных антонимов т.е. деталей («утес» – «тучка»)
подтверждает психологический конфликт печали и радости. Антонимы в АЦ говорят не
только об авторской установке «порядке» [5]. Таковы тип и содержание объектной
темы стихотворения М. Лермонтова «Утес». Первичное читательское восприятие
(ПЧВ) дополняет ПС АЦ: мы разделяем печаль лирического героя и утеса в силу
очевидности авторской установки («порядка»). Это указывает на отсутствие подтекста
в жанре элегии с его обнаженным переживанием: чувство одиночества лирического
героя предельно ясно. Он пытается донести до читателя через прием параллелизма свою
печаль. Отсюда метафоричность лексики эмоционального характера («Но остался
влажный след в морщине», «И тихонько плачет он в пустыне») – основы
экспрессионистского метода. Эмоционально выразительны и хронотопы времени
суток («ночевала», «утром»): их традиционные смыслы беспокойства и надежды
трансформируются поэтом. Ночь – радость для утеса и тучки: для одного – приятное
сообщество в вечном одиночестве, для другой – пристанище в пути. А утро – знак
нового, начала: только для тучки – радость нового пути, а для утеса – горечь потери
привычной безмятежности, свойственной «великану». Доминирующим методом
является экзистенциалистский, сопровождающийся трагической интонацией и
проблемой выбора тучки – оставить утес в глубоком одиночестве и выбора утеса –
сосредоточиться на тоске по мимолетной радости. Также наблюдается символизм
изображения благодаря образам-символам («утес» – одиночество, «тучка» –
непостоянство, «золотая» - редкость и потому драгоценность). Значим и
романтический контраст непоколебимости и постоянства с легкомыслием («По
лазури весело играя»). ПС АЦ (печаль) имеет прогностическое значение: раскрывает
замысел, предмет изображения поэта в «Утесе». Дополняет знаковый смысл названия
(одиночество) в силу очевидности авторской установки («порядка»). Далее,
естественное чувство печали (антропологический мировоззренческий принцип)
контрастирует рассудку (радость), т.е. просветительскому мировоззренческому
принципу, формируя романтическое содержание [6] эстетического идеала М.Ю.
131
Лермонтова. ПС АЦ – подтверждение верности соотнесения завязки с началом текста
по 5 и 6 критериям определения верхней границы хронотопа НВ. Отсутствие подтекста
– примета жанра элегии. Прогностический ПС воссоздается М.Ю. Лермонтовым
методами экзистенциализма, экспрессионизма, романтизма и символизма.
Итак, стихотворение «Утес» М. Лермонтова синтезирует признаки трех родов
литературы. Оно малое по жанровой форме, по жанру – элегия, по жанровой
разновидности – психологическое. Стихотворению присущ двуплановый стиль
мышления ввиду трагической интонации и «порядку» в развязке и двум типам
образности (психологический и символический) [7]. Идея «Утеса» – утверждение в
качестве прекрасного постоянства чувства любви и духовного единения.
Литература
1 Лермонтов М.Ю. Утес//М.Ю. Лермонтов. Сочинения. Т.1. – М.: Правда, 1988. – С.
214.
2 Кулумбетова А.Е., Джунисова А.А., Садуакас Г.К., Мырзабекова А.К. Система
содержания и формы лирического, эпического и драматического художественного
текста/Уч. пособие. – Алматы: «Искандер», 2008. – 178 с.
3 Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ООО «ИТИ
Технологии», 2006. – С. 842.
4 Бахтин М.М. Форма времени и хронотопа в романе.//Вопросы литературы и
эстетики. – М.: ХЛ, 1975. – С. 234-236.
5 Пригожин Илья, Стенгерс Изабелла. Порядок и беспорядок//Время, хаос, порядок.
К решению парадокса времени. – М.: Прогресс, 1994.– С. 55.
6 Нигматуллина Ю.Г. Национальное своеобразие эстетического идеала. – Казань:
КГУ, 1970. – С. 20-107.
7 Гаджиев А. Романтизм и реализм. – Баку, 1972. – С. 100-101, 203-214, 175, 349.
THE SYSTEM OF SUBJECT AND IDEA OF A POEM “UTES”
BY M.Yu. LERMONTOV
Aliya Eleusizovna Kulumbetova, Ainura Abdashimovna Dzhunisova M. Auezov South Kazakhstan State University (the Republic of Kazakhstan, Shymkent city)
Anastasiya Sergeevna Kuzmina (the Republic of Kazakhstan, South Kazakhstan Region, secondary school named after
P.Shevtsov of Tyulkubas village, Tyulkubas district
Annotation
The subject and idea of a poem “Utes” by M.Yu. Lermontov have been revealed in the
text system for the first time.
Key words: subject and idea, methodology and technique of complex learning, four-
leveled analysis, text system, content and form.
132
DAĞLAR İLE TÜRK EDEBİYATINDA SABAHATTİN ALİ VE RUS EDEBİYATINDA
LERMANTOV
Prof. Dr. Beyman ASma
Dağlar, güç ve kuvvetin, heybet ve ihtişamın, yücelik ve azametin, sarplığın, aşılmazlığın, sertliğin
timsalidir. Dağları seviyor musunuz diye sorulsa inanıyorum ki çoğumuz; kocaman bir Evet!, diye
cevap verecektir. Bilmiyorum belki doğduğum şehirde Erciyes dağından olsa gerek,daha
çocukluğumda masallarda Erciyes dağını,Kaf Dağı’nı, efsanelerde Ağrı Dağı’nı, destanlarda Köroğlu
ile birlikte Bolu dağlarını, Çamlıbelleri öğrenmiş ve bunlarla hayallerimle süslemiştim.Küçük bir
çocuk iken aklımı, gönlümü dolduran, ruh dünyama giren, rüyalarımda dolaşan dağları bugün dahi
unutabildim mi? Birçok ülkeleri, bölgeleri, hatta tarihî olayları bunlar sayesinde hâfızamda yaşatmıyor
muyum?Çeşitli sebeplerle gezip gördüğüm, oturup kaldığım şehirlerimden bugün en çok hatırladığım
da o bölgelerin dağlarıdır.Kayseri deyince Erciyes’i, hatırlamamak mümkün mü? Şeyh Şâmil’i
destanlaştıran onu «Kafkas Kartalı» yapan ondaki îman ve yiğitliğin yanı sıra bu dağlar değil mi?
Türkistan kahramanı Osman Batur’u Altay ve Tanrı dağlarıyla tanımadık mı? Ferhat’ın sevda imtihanı
dağlarda geçmedi mi? Vatan savunmasıyla alâkalı bir konferansta dağların bugün bile ne kadar önemli
olduğunu dinlemiş, hayret etmiştim. Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya gelen atalarımız, dağlar
ülkesi diyebileceğimiz bu toprakları sevmiş ve vatan edinmişler. Masallarda, destanlarda, şiirlerde çok
sık rastlanan dağlar; şairlerimize, ediplerimize, ressamlarımıza ilham kaynağı olmuş, âşıklarımızın,
ozanlarımızın dilinden türkü olarak dökülmüş. Maddî ve mânevî, kültürel ve dînî, tarihî ve coğrafî
açılardan bizim insanımızın hayatında büyük yeri olan dağlar.
“Başım dağ, saçlarım kardır
Deli rüzgârlarım vardır
Ovalar bana çok dardır
Benim meskenim dağlardır dağlar.”
(Sabahattin Ali)
Başta eski Anadolu uygarlıkları olmak üzere bütün Ortadoğu söylencelerinde ve Eski Yunan'da bir
mitoloji ve masal motifidir Kafkasya dağları. Sümerlerin Gılgameş ve Tufan efsaneleri bu dağlardan
söz eder, Yunanlılar'ın Herkül'ü var olduğu söylenen altın posta ulaşmak için bu dağlara gelir, Promete
günahına karşılık bu dağlara çivilenir. Bazı eski tefsirciler Kur'an'da Kehf suresinde anlatılan Büyük
İskender kıssasında sözü geçen demir dağın Kafkas dağları olduğunu yazar. Kafkasya eski uygarlık
merkezleriyle her zaman ilişkisi olan bir coğrafyadır ve birçok yönden Rus edebiyatını ve kültürel
değerlerini etkilemiştir. Tüm eski Rus mitolojilerinde ulaşılması son derece güç bir yerde büyülü bir
dağ, o dağın ardında da büyülü bir diyardan söz edilir. Doğu mitolojisi bu dağın adını koymuştur. Kaf
Dağı... Gerek Hint Avrupa mitolojisinde ve masallarında, gerek Arap söylencelerinde, gerek Turan
sözlü edebiyatında bu dağın ve bu dağın ardında var olduğu düşünülen gizemli ülkenin önemli bir yeri
vardır. Rus edebiyat kaynaklarında ulaşılması son derece güç bir yerde büyülü bir dağ, o dağın ardında
da büyülü bir diyardan söz edilir. Doğu mitolojisi bu dağın adını koymuştur. Kaf Dağı... Gerek Hint
Avrupa mitolojisinde ve masallarında, gerek Arap söylencelerinde, gerek Turan sözlü edebiyatında bu
dağın ve bu dağın ardında var olduğu düşünülen gizemli ülkenin önemli bir yeri vardır. Şair Puşkin,
1829 yılında Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kafkasya’da bulunur ve oradan Kars ve Erzurum’a geçer.
Gerek Türklere karşı sevgi ve saygısı, gerekse yaralı Türk subaylarına nasıl yardım ettiğini anlatır.
Heybetli Ararat dağının ihtişamından bahseder. Koğuştan taze sabah havasına çıktım. Güneş
doğuyordu. Dupduru gökyüzünde iki başlı, karlı bir dağ parlıyordu. Gerinirken: “Ne dağı bu” diye
sordum.“Ararat” dediler. Seslerin etkisi ne kadar güçlü! Var gücümle baktım bu efsanevi dağa.
Yenilenme ve yaşam ümidiyle onun doruğuna yanaşan Nuh’un gemisini, bir iamın öteki barışın
simgeleri olarak uçup gelen kuzgunla güvercini gördüm.(Pushkin, Erzurum’a Yolculuk)
Dağ, birçok din sisteminin merkezinde değil midir? Çağrıştırdığı imgeler her bireyin bilinçaltına
işlemiştir. Ama bütün canlıların damarlarında akan ve her birimizde benzeri heyecanlar yaratan kanın
tersine, halkların çoğunun tanıyıp önünde saygıyla eğildiği kralın tersine, dağ bütün uygarlıkların
dikkatini aynı ölçüde çekmemiştir.
Kimileri, Yunanistan, Çin, Japonya, Kamboçya ve Endonezya’da olduğu gibi, öncelikli bir yer
vermiştir ona. Kimilerindeyse, Eski Mısır’da, Almanlar ya da Slavlarda olduğu gibi daha geri
133
plandadır...Yine de, oralarda yaşayanların içinde bile uyandırılmayı bekleyen bir “dağcı ruhu” vardır.
Dağ perilerine artık inanmıyor olsalar da, birçok çağdaşımızın içinde de uyur bu ruh. Elbette bir
patikanın dönüşünde, bir mağarada, keçilerini otlatan Pan’a ya da yırtıcılarla birlikte dolaşan
Artemis’e rastlayamayacağımızı biliriz. Kan, özü gereği çift yönlüdür: Hem iyidir hem kötü, uğurlu ve
uğursuz, arı ve bulanık. Kralınsa olumlu bir değeri vardır. Dağ, her ikisinden de aşağı yukarı aynı
uzaklıkta durur. Kasvetli, olumsuz, korkutucu bir yanı vardır. Ortaya çıkışları kimi zaman dehşet
vericidir: toprak kaymaları, volkanlar, çığlar, heyelanlar ve bunların getirebileceği fiziksel ve
psikolojik zararlar. Vahşetin barınağıdır dağ, en ham haliyle doğadır. “Şiddet ve dehşet, der Lucretius,
baltalıklarda, dağlarda ve ormanların derinliklerinde kol gezer, bu korkunç yerlerden kaçınmak da
neredeyse her zaman bizim elimizdedir.” Dağa çıkmak zordur ve zirvelere el değmemiştir. Ama
yararları zararlarını çok geride bırakır. Zirvelere yağmurlarla patlayan bulut kümeleri takılır; yağmur
hayat veren sulara dönüşür, seller ve ırmaklar akar yamaçlarda. Kalıcılığı, dayanıklılığı ve kuvveti
çağrıştırır dağ. Gözlerini yerden ayırabilen, ayakta durabilen tek yaratık gibi, insan gibi, dikeylik
idealini somutlaştırır. Dağda yaşanan birçok hadise, bir mağarada sahnelenir. Ermişin biri dağlarda
yalnızlığı, sertliği ve aşkınlığı arayacak olsa, bir mağaraya sığınır ve orada engin deneyimleriyle
konaklayabilir; böylelikle hem dağ adamı hem de mağara adamı olabilir. Melekler ve şeytanlar, ayılar
ve aslanlar, ölüler ve diriler de zirveler ve oyuklarda dolanır. Modern Batı edebiyatının kutsal dağlara
görece çok az yer vermiş olması şaşırtıcı, oysa en azından Rousseau’dan beri, edebiyat, dorukları
alışılageldik manzaralarına dahil etmiştir.
Batıya, taa batıya uçardım
Atalarımın tarlalarının çiçek açtığı yerlere
Boş bir şato ve sisli dağların yurduna
Unutulmuş mezarların huzur bulduğu yerlere
Eski duvarda atalarımın kalkanları
ve paslanmış kılıçları asılı
Evet.., bu kılıç ve kalkanların üstünden uçardım
Üzerindeki tozu kanatlarımla çırpardım
Ahh..! Hayaller imkânsız, yakarışlar boşuna
Kaderin zalim kuralları varsa burada
İçimde ve vatanımın dağları arasında
Mavi denizlerin dalgaları yayılır.
(Lermantov )
134
Н. М. Дзеранова
Владикавказ, Россия
Отражение норм обычного права в языке осетин
Термин туг «кровь» по праву считается одним из интереснейших
концептов как этнографического, так и юридического характера, он имеет
отношение к обычному праву осетин и лежит в основе большого
количества словосочетаний. Наше обращение к «Историко-
этимологическому словарю осетинского языка» [Т.III,1979:309] В. И.
Абаева дало возможность привести их в качестве иллюстраций к
положениям о кровной мести осетин. Кровная месть в прошлом являлась
одним из нерушимых институтов обычного права не только осетин, но и у
всех горцев Северного Кавказа: чеченцев, ингушей, балкарцев, черкесов,
карачаевцев и др., а также у грузин-горцев, хевсуров, абхазцев, сванов и
других народов Закавказья. Исследователи считают, что возникла она как
мера самосохранения и как самая эффективная форма самообороны. Этим,
думаем, можно объяснить её живучесть, пусть и в пережиточной форме, до
первых лет Советской власти [Магометов, 1974:263].
Обычай кровной мести возник у горцев Кавказа во времена родового
строя. Но уже в феодальную эпоху размер её выкупа (туджы аргъ «цена
крови»; «вира»; «возмещение за кровь») ставится уже в зависимость от
сословно-классовой принадлежности обиженного (тугисæг/тогесæг
«кровомститель», «мститель за кровь») и обидчика (туджджын
«кровник, т.е. человек, находящийся в отношениях кровной мести с родом
или семьей, член которых погиб от его руки или от руки представителей
его семьи, рода»). Члены рода должны были оказывать друг другу помощь
и защиту. В случае убийства на ближайших родственников убитого и на
его других его родственников ложилось священное право и обязанность
туг райсын «взять кровь» или туг исын «мстить за кровь».
135
Жертвой мстителя (тугагуыр «ищущий случая отомстить за кровь,
или кровомститель») мог стать как сам убийца марæг, так и любой из его
родичей (æрвад). В результате две фамилии или два рода становились
кровниками – туджджынтæ.
Бывали случаи, когда кровников туджджынтæ удавалось при
посредничестве авторитетных и красноречивых стариков примирить с
соблюдением особого ритуала туджы фынг / тоги цитæ «букв. стол
крови, т. е. пиршество, устраиваемое в знак примирения между
кровниками» и уплатой выкупа туджы аргъ «цена крови»; «вира»;
«возмещение за кровь».Заметим, что денежный выкуп достигал непомерно
высокой цены. Иногда ради примирения отдавали девушку цыты чызг
«девушка чести» тому, с кем становились кровниками.
Дело кровной мести было поставлено у осетин очень жестко,
тугдары «кровника», «лица, над кем тяготеет кровная месть» не
спрашивали о его виновности, считалось делом чести «взять цену крови» с
тех, кто туг дары букв. «задолжал кровь, т. е. подлежит кровной
мести».
Если сразу же или вскоре после убийства родственника не удавалось
йæ туг райсын «вернуть его кровь», то долг мести за кровь (туг фидын
«платить, возмещать за кровь») переходил по наследству.
Ещё М. М. Ковалевский писал, что «никакие описания родовых
междуусобий в песнях Эдды и Нибелунгах не в состоянии дать такого
верного представления о <…> кровной мести, как сухой перечень фактов,
делаемый протоколами медиаторского суда в Дигории или в Алагире»
[Ковалевский, II. 1886:3].
Литература
1. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т.III. Л.:
Наука, 1979.
136
2. Магометов А. Х. Общественный строй и быт осетин (XVII –XIX вв.).
Орджоникидзе: Ир, 1974.
3. Ковалевский М. М. Современный обычай и древний закон. Т. II. 1886.
Н.М.Дзеранова
Отражение норм обычного права в языке осетин
В статье рассматриваются нормы обычного права горцев через
концепт туг "кровь", лежащего в основе значительного
количества словосочетаний. Институт кровной мести горцев
Северного Кавказа возник ещё при родовом строе как
эффективная форма самообороны и самосохранения.
Ключевые слова: обычное право; институт кровной мести;
"взять" кровь; медиаторский суд; примирение.
N.M. Dzeranova
Customary law reflection in the Ossetian language
The article deals with customary law through the concept of
mountaineers tug "blood" that underlies a significant amount of phrases.
Institute vendetta Highlanders North Caucasus arose when the tribal system as
an effective form of self-defense and self-preservation.
Keywords: customary law; Institute of vendetta; "to take" blood; mediatory
court; reconciliation.
137
ОБ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОМ ЛЕКСИКОНЕ ЯЗЫКА ПОЭТА
Е. Б. Бесолова
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.
И. Абаева Владикавказского научного центра РАН и Правительства РСО-Алания,
Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания (Россия)
В настоящее время приобретают все большую актуальность и вызывают интерес
работы, в которых на достаточно обширном языковом материале разрабатывается
этнолингвистическая и лингвокультурологическая проблема «язык – культура –
человек – этнос».
Статей и работ по проблеме достаточно, в них обсуждаются вопросы теории и
методологии изучения языков, языковых единиц и явлений в этом плане. Но
конкретных исследований на конкретном языковом материале, систематизирующих и
фундаментально анализирующих эти единицы и явления в ономасиологическом плане
и увязывающих этот материал с культурой, психологией и историей народа, – все еще
мало, особенно – на материале «младописьменных» языков.
В стихах сборника «Осетинская лира» («Ирон фæндыр») Коста Левановича
Хетагурова, основоположника осетинского языка и литературы, представлена почти
вся номенклатура этнокультурной лексики осетинского языка.
Её богатство и разнообразие позволили нам создать новый тип словаря –
двуязычный ономасиологический лексикон, сочетающий в себе функции словаря языка
поэта, этнокультурологического и частотного словарей. Но это также – первый не
только в осетиноведении опыт словаря традиционной духовной культуры, но и один
из первых опытов подобного словаря, составленного на материале языков народов
Кавказа.
Выявить содержащиеся в поэтических произведениях Коста Хетагурова понятия,
соотносящиеся с базовыми ценностями осетинской национальной культуры; на этой
базе описать факты общенационального литературного осетинского языка, его
словарного состава – задача, поставленная автором словаря. И это для того, чтобы
воссоздать на их основе целостную традиционную картину мира осетин, их
космологические, мифологические, религиозные представления и верования,
особенности их мировоззрения и мировосприятия. Не секрет, что именно язык поэта
консервирует в себе архаические элементы мировоззрения и мировосприятия народа,
бытового и обрядового поведения, его психологии, оказывается одним из богатых и
надёжных источников для реконструкции традиционных форм культуры.
Составитель возлагает на словарь надежду, которая прочитывается в том, что
знакомство с ним должно способствовать повышению мотивации самих осетин к
изучению родного языка, словарное богатство которого хорошо иллюстрирует словарь,
осознанию ими необходимости в родном языке, освобождению от этнического и
языкового нигилизма. Он, на наш взгляд, сможет помочь осетинам преодолеть
культурную маргинализацию, порожденную отказом от родного языка, сыграет
определенную роль в сохранении и развитии осетинского языка.
Известно, что в любом языке выделяются универсальные, региональные и
национально-специфические признаки. Национальная специфика возникает вследствие
длительного и относительно автономного развития языка в рамках национальной
культуры. Каждый язык по-своему называет и членит действительность на основе
всеобщих законов и закономерностей. В каждом языке свой особый характер
распределения элементов культуры в самой системе языка, а слова разных языков
развивают свою систему значений. Слова называют реалии и явления национальной
138
культуры, не имеющие порою инокультурных соответствий. Слова разных языков
вступают в разные парадигматические и синтагматические отношения, а «синонимия в
языке – явление глубоко национальное и создаётся в разных языках различными
путями» [Шанский,1972:52]. Все эти явления связаны как с особенностями системы
языка, так и с экстралингвистическими факторами, либо с теми и другими вместе в их
совокупности и взаимообусловленности. Лексический состав языка поэта Коста Левановича Хетагурова в значительной
степени определяет «лицо» осетинской культуры, её особое мировидение, становясь
существенным элементом картины мира. Специфика языковой картины мира поэта-
билингва, отражающая реальность через культурную картину мира, подтверждает, что
нестандартное видение мира создают номинальные классы, экспрессивная и модальная
лексика, интенсификаторы и сочетания слов, формирующие ценностную картину мира
этноса, а также познавательные образы, которые создаются с помощью метафор и
косвенных наименований.
Словари, в которых фиксируется индивидуальная речь поэта или писателя в её
письменной разновидности, занимают, как известно, в лексикографии особое место в
системе словарей. Такие словари обладают двойной функцией: служат пособием для
изучения истории литературного языка той эпохи, в которую жил и творил писатель,
так как каждое слово в словаре документировано в своём употреблении, с другой
стороны, словарь языка писателя является ключом к пониманию стиля текста автора.
В словах осетинского языка прошлое и настоящее осетинского народа, его быт,
традиции, обычаи, обряды, нравы, а также особенности трудовой деятельности,
природной среды, верований, мифологических представлений и т.д., а не только чисто
коммуникативно-информативные возможности форм и значений или правил
соединения тех и других. Нужно помнить, что родная культура – не только
специальный объект изучения, ограниченный во времени и пространстве, это ещё и
живая жизнь, которая окружает каждого из нас, воспитывает и входит в нас с детства.
Культуру нельзя минимизировать, как нельзя выбирать между А. Пушкиным и Ю.
Лермонтовым, К.Хетагуровым и Б. Гуржибековым, Нигером и Г.Малиевым. Нужен
внимательный и творческий подход к их слову и тексту, нужно ощущение
необходимости и возможности такой работы, нужна выработка направления работы,
потому что существует большое количество слов и текстов, расширительный смысл
которых должен быть популярно объяснён и понятен читателю.
Знание культурно-исторического фона лексики и фразеологии лексикона Коста
необходимо для понимания культурного прошлого осетин, образа национальной
культуры.
Особого внимания требуют символические значения слов, прежде всего,
традиционная поэтическая символика. Она нужна для подлинного приобщения к
осетинской поэзии: ведь без знания традиционных осетинских поэтических символов
мы не сможем выделить символы других культур.
Через весь XX век шёл процесс интернационализации культур, и это уже
исторический факт. Но этот процесс не смог смыть неповторимость и яркость красок с
портрета национальной культуры и её языкового образа. Язык и культура –
долговечны. Входя в жизнь и овладевая языком, мы можем понять «красоту
разнообразия» (Г. Д. Гачев) только на прочной основе родного языка и родной
культуры, и надо помнить, что «народ и язык один без другого представлен быть не
может» [Срезневский, 1959:16].
Содержательная структура словника лексикона языка «Осетинской лиры»
представлена следующими лексико-семантическими группами: 1) наименования
артефактов; 2) наименования естественно-природных фактов; 3) соматизмы; 4)
139
названия, передающие онтологические и аксиологические стереотипы национального
мышления и мировосприятия; 5) наименования живых существ; 6) наименования
сверхъестественных персонажей; 7) наименования натурфактов .
Наименования артефактов представлены прагматонимами как лексическими
единицами, относящимися к хозяйственно-экономической жизни и окружающей среде;
это – орудия труда, охоты и сражения; посуда; домашняя утварь; игрушки; одежда;
обувь; кулинарные прагматонимы; постройки и их части и др. К наименованиям
естественно-природных фактов отнесены лексические единицы, связанные с
названиями овощей, фруктов, даров леса, корма для скота диких зверей и птиц,
названиями металлов и камней, огня, почвы, веществ, звуков и запахов; стихий и
природных явлений; и др.
Соматизмы, составляющие третью тематическую группу, включают в себя лексику,
связанную с анатомией и физиологией человека и животных; болезнями, а также
названиями, относящимися к коже и волосяному покрову, образованиям и выделениям
тела человека и животного, соматизмами, связанные с эмоциональной и духовной
жизнью человека. К названиям, передающим онтологические и аксиологические
стереотипы национального мышления и мировосприятия, отнесены лексические
единицы, связанные с чувственно-эмоциональным состоянием; наименования,
обусловленные осетинской ментальностью, религиозно-мистическими воззрениями; и
др.
В группу «Наименования живых существ», состоящую из двух разделов, вошли в
А) наименования людей, т. е. лексика, выражающая собирательно-обобщённую
структуру лиц; половозрастные и физические качества и особенности; наименования
лиц по роду занятий; термины родства и свойства; лексика, связанная с обычаями и
обрядами, выражающая нормы осетинского этикета; антропонимы и др.;
в раздел Б) – наименования бионимов. Это фитонимы (названия деревьев и
кустарников; названия трав), зоонимы (названия домашних животных; диких зверей),
орнитонимы (названия домашних и диких птиц, летучих мышей), ихтионимы
(названия рыб) и, наконец, бионимы других видов, к которым отнесены названия
пресмыкающихся; земноводных; бабочек; насекомых; а также лексика, замещающая
наименования животного мира.
В шестую главу вошли наименования фольклорно-мифологических персонажей.
В седьмой главе «Наименования натурфактов» дана лексика, связанная с
номинацией времени. Это – годовой цикл: сезонные феномены; ритуальный цикл; виды
циклического времени; линейное время; «жизненный» цикл; ход и сегментация
времени; а также лексика, замещающая временные номинации. Сюда же вошла лексика
номинации пространства, т. е. названия географического пространства;
географических объектов; топонимов; ритуально-значимых мест, а также лексика,
выражающая локативную заместительную номинацию.
Данный «Ономасиологический лексикон…», по нашему мнению, послужит базой
для будущего этнокультурологического и этнолингвистического тезауруса языка К.Л.
Хетагурова, подготавливаемого нами. Все ресурсы языка поэта, все его разнообразные
возможности ещё раз как бы подтверждают слова Н. В. Крушевского, что существует
«закон соответствия мира слов миру мыслей».
Литература
1. Хетагуров Коста. Полное собрание сочинений в пяти томах. Том первый.
Владикавказ, 1999.
2. Срезневский И. И. Мысли об истории языка. М., 1959.
3. Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. М., 1972.
140
Об «Ономасиологическом лексиконе языка поэта»
В статье речь идет о новом типе словаря, двуязычном ономасиологическом
лексиконе, соединяющем в себе функции словарей языка поэта, этнокультурного и
частотного.
Ключевые слова: ономасиология; лексикон; номенклатура; этнокультурная лексика;
прагматоним; соматизм; бионим; этнолингвистическая; натурфакты.
On “Onomasiological Dictionary of a Poet's Language"
The article is dedicated to a new type of dictionary, bilingual onomasiological lexicon
that combines in itself functions of three dictionaries: dictionary of a poet's language,
ethnocultural dictionary and dictionary of frequency language.
Keywords: onomasiology; lexicon; nomenclature; ethno-cultural lexicon; pragmatonim;
somatism; bionim; ethno-linguistic; naturfakty.
141
ЛЕКСИКА НЕКОТОРЫХ ОБРЯДОВЫХ ФУНКЦИЙ У ОСЕТИН И БОЛГАР
Фатима Абаева, кандидат филологических наук,
г. Владикавказ, Россия
Научный руководитель – проф.,
доктор филологии Елена Бесолова
В статье исследуются в сравнительно-сопоставительном аспекте лексика и
функции свадебных персонажей шафера (осет. къухылхæцæг и болг. девер) и кума
(осет. æмдзуарджын и болг. кум).
1. Обрядовые функции персонажей свадебного цикла в первую очередь зависят от
их принадлежности – к стороне жениха или невесты. Так, шафер и кум – это, как
правило, близкие родственники или друзья жениха (схоже у осетин и болгар).
2. У болгар кум кум– это посаженый отец, женатый и старшего возраста, в
последующем он должен был стать крестным отцом для детей жениха; у осетин
же – кум æмдзуарджын – это неженатый молодой друг жениха.
3. У болгар шафер девер – это неженатый младший брат жениха; у осетин шафер
къухылхæцæг – это счастливо женатый (необходимое условие) молодой
мужчина, состоящий в родственных или близко дружественных отношениях с
женихом.
4. Лиминальный статус невесты, принадлежность её к чужому роду представляют
опасность для рода жениха. Преодолевается эта опасность посредством
совместного прохождения обрядовых актов с шафером и кумом. Таким образом,
выходит, что они выполняют медиаторную функцию.
5. Девер приглашает гостей на свадьбу, носит свадебное знамя жениха, ломает
знамя невесты, бреет жениха, выкупает приданое невесты, везде сопровождает
молодых, надевает невесте венок на голову. В юго-восточной Болгарии девер
является символическим заместителем жениха: вместе с молодыми его
опоясывают одним поясом, вокруг всех троих зажигают ритуальный огонь,
протаскивают ребенка между женихом, невестой и деверем [Узенева, 2010: 42].
Къухылхæцæг принимает участие в сватовстве, сопровождает невесту на
протяжении всех свадебных ритуалов от момента вывода ее из отчего дома,
введения невесты в дом жениха, снятия фаты, оглашения приданого и подарков
до завершающих свадебный цикл обрядов. Более того, именно къухылхæцæг
является главным ответственным лицом за счастливую семейную жизнь невесты.
При всех перечисленных функциях данный участник свадебных действий также
выступает в роли одного из главных распорядителей на свадьбе.
6. Кум (болг.) покупает венки, фату для невесты, которые он вместе с кумой
(парный персонаж) приносят в церковь вместе с венчальными свечами, хлебом,
мёдом и тканью, на которой стояли молодые во время церковного обряда
[Узенева, 2010: 44]. Æмдзуарджын так же, как и къухылхæцæг, сопровождал
невесту на свадьбе, нес перед невестой зеркало, держал свадебное дерево,
выводил её из комнаты после обряда одевания и т.д.
142
7. Перечисленные персонажи имеют схожие функции в обрядовых свадебных
текстах осетин и болгар, однако есть и определенные расхождения. Замечено, что
у описываемых персонажей встречаются и перекрестные функции.
LEXIS OF SOME RITUAL FUNCTIONS OF THE OSSETIANS AND THE
BULGARIANS
Fatima Abaeva
V.I. Abaev North-Ossetian Institute of Humanitarian and Social Studies of VSC and
the Government of North Ossetia-Alania
Vladikavkaz (Russia)
The article investigates in comparative aspect the lexis and functions of wedding
groomsmen characters (Osset. kuhylhætsæg and Bulg. dever) and godmother (Osset.
æmdzuardzhyn and Bulg. kum).
Keywords: ritual lexis, ritual function, wedding, code of the wedding character.
143
4КОНЦЕПТ «АРД» (КЛЯТВА)
В ОСЕТИНСКИХ УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ
(слово – история – обычай)
И. А. Кодзати
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований
им. В. И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства РСО-Алания
г. Владикавказ, Россия
Научный руководитель – д ф н, профессор Е. Б. Бесолова
Язык народа – «своего рода исторический документ», «его исторический опыт,
обобщенный и зафиксированный в словах-понятиях и грамматических категориях» [1,
15]. С помощью таких «слов-документов древности», устойчивых сочетаний слов или
фразеологических единиц, сохранившихся в осетинских текстах, воссоздается картина
прошлого, передается характер, национальные черты, верования, обычаи и нравы
народа. Одним из таких «слов-понятий недавнего прошлого» является ард ‘клятва’ и
связанные с ней устойчивые сочетания.
В современном осетинском языке слово ард, дигорское арт означает 1) клятва,
присяга; 2) проклятие, немилость.
Обыкновенной формулой клятвы являлась присяга именем Бога. Человек, приносящий
присягу, призывал в свидетели «имя высшего существа – Хуыцау» (Бога) в том, что говорил
правду. Обряд завершался, а клятва считалась нерушимой. Клятва выступала как
магическая сила.
Особым почитанием у осетин пользовались «посланники и представители Бога» –
святые-покровители (дзуары). Торжественное обещание подкреплялось именем одного
из святых: Уастырджи (Св. Георгий) – покровителя мужчин, воинов, путников. «Имя
его (Уастырджи) часто произносится в клятвах и благословениях. Про него ходит в
Осетии много легенд...», – пишет Вс. Ф. Миллер [2, 242].
С именем другого мифологического божества Сáфа – покровителя очага и
надочажной цепи – рæхыс – связан обряд принесения клятвы. Держась за цепь, осетин
произносит клятву: «Клянусь тебе этой цепью». Клятва, данная именем Сафа, считалась
незыблемой, священной.
Огнем, «священной стихией древних иранцев, началом и основой человеческой
культуры» [3, 52], как и очагом, клялись осетины. Непрерывное горение огня,
очевидно, воспринималось как символ «непрерывности рода и благополучия семьи».
Испокон веков землей клялись (зæххы ард), и такая клятва считалась нерушимой.
Обычай клясться землей закрепился в языке во фразеологической единице.
Это было одно из самых страшных заклинаний. Народное поверье гласит: умирая,
дурной человек, грешник, долго не находит успокоения, земля не хочет принять его,
отказывая ему в вечном покое.
Обычай клясться землей как самой священной реликвией существовал и у других
народов: русских, кабардинцев, чеченцев, кумыков, грузин и т. д.
В русском языке данное выражение встречается в двух видах: как клятвенная
формула провалиться мне сквозь землю, если я лгу, означающее ‘острое желание
исчезнуть, скрыться куда-либо от стыда, страха и т. д.’, а также как гневное заклятие:
провались ты сквозь землю! «Оба варианта восходят к древним представлениям об аде,
подземном обиталище усопших грешников, где их души испытывали страшные
мучения», – сказано в историко-этимо-логическом словаре «Русская фразеология» [4,
144
249]. Если возникали споры, землю клали в рот, на спину, за пазуху и произносили:
«Пускай эта Земля меня задавит!» В древности во время клятвы, – замечает В. А.
Маслова, – «ели землю, изображая породнение с ней, как бы жертвуя собой при этом»
[5, 36].
Клятва в верности, взаимоподдержке, взаимопомощи, – обычай побратимства –
еще одна из форм клятвоприношения.
До середины 20-го века этот обычай был широко распространен в быту осетин и,
конечно, не мог не сохраниться в языке. Упомянутый обряд имеет древнейшую историю:
скифский обряд побратимства описывается Геродотом, изображен на археологическом
памятнике. У осетин существовал устойчивый ритуал. Он сводился к тому, что побратимы
трижды выпивали из одного бокала, наполненного аракой или пивом. Предварительно в
стакан бросали золотую или серебряную монету, после чего произносилась клятва.
Серебро, украшения из золота добавляли в воду и напитки для силы, чистоты, здоровья
и долголетия. Символический смысл обряда – при нарушении клятвы серебро обладало
способностью карать.
В нартовском эпосе встречается чудесная чаша Уацамонга – «одно из величайших
сокровищ Нартов». Содержимое чаши никогда не иссякало, сколько бы из нее ни пили.
Чаша обладала удивительным свойством подниматься к устам того, кто говорил правду
о своих воинских доблестях, и не сдвигалась с места, если человек лгал. Так, с
помощью волшебной чаши, «указующей героя», сразу обнаруживался лжец или герой.
Обычай этот уходит своими корнями в далекую старину. Упоминание о «кубке
героев» мы находим у отца истории Геродота. «Обряды принесения клятвы у скифов и
осетин настолько похожи, насколько позволяет интервал во времени и различие
цивилизаций», – считает Жорж Дюмезиль [6, 47].
В осетинском народном творчестве встречается традиция принесения клятвы на
бычьей шкуре – галдзармыл ард хæрын, – пишет Е. Б. Бесолова [7, 70]. Это еще один
обычай, пришедший из седой древности, описанный Лукианом. Скифский воин,
готовясь в поход, приносил в жертву быка. Все пожелавшие участвовать в походе,
ставя правую ногу на шкуру жертвенного животного, давали клятву верности.
«Собирается иногда с помощью шкуры большое число воинов. Такое войско
чрезвычайно стойко и непобедимо, ибо оно связано клятвой» [8, 51].
Осетины свято ценили обычай клятвоприношения. Народ присягал самыми
святыми вещами, тем, во что верил, и носила клятва религиозный, символический
характер. Бесчестие настигало обманувшего и нарушившего данную клятву. Народ
верил в то, что за клятвопреступлением следует болезнь, несчастье, что божественная
кара может настигнуть как в момент принесения присяги, так и годы спустя: не только
в мирской жизни, но и на том свете. Эти особенности отразились как реальность в
народных сказаниях, проклятиях, пословицах и поговорках, а также в устойчивых
выражениях.
Литература
1. Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949.
2. Миллер В. Ф. Осетинские этюды. Ч. 2. М., 1882.
3. Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949.
4. Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Русская фразеология. Историко-
этимоло-
гический словарь. М., 2005.
5. Маслова В. А. Лингвокультурология. М.: Издательский центр «Академия», 2001. С.
36.
6. Ж. Дюмезиль. Осетинский эпос и мифология. М., 1976.
145
7. Бесолова Е. Б. Об общекавказском субстрате в обрядово-фольклорной жизни
северокав-
казских народов // Известия СОИГСИ. Вып. 7(46). Владикавказ, 2012.
8. Блиев М. М., Бзаров Р. С. История Осетии с древнейших времен до конца XIX в. М.:
Вентана-Граф, 2005.
КОНЦЕПТ «АРД» (КЛЯТВА) В ОСЕТИНСКИХ УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ
(слово – история – обычай)
Концепт «ард» (клятва) и связанные с ним устойчивые сочетания
рассматриваются в статье сквозь призму духовной культуры осетин.
Привлекаются не только лингвистические данные, но и исторические и
этнографические факты.
Ключевые слова: клятва, проклятие, клятвоприношение, идиома.
CONCEPT «ARD» (OATH) IN THE OSSETIAN STABLE EXPRESSIONS
(word – history – custom)
The concept «ard» (oath) and associated with it stable combinations
discussed in this paper through the prism of the Ossetian culture. There involved
not only the linguistic materials, but also the historical and ethnographic facts.
Keywords: oath, cursing, oath-taking, idiom.
146
Хади БАК
Ататюркский университет, Турция
ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ В АТАТЮРКСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ «ОБУЧЕНИЕ ТУРЕЦКИХ
СТУДЕНТОВ РУССКОЙ УСТНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ»
Аннотация: Отсутствие работ, в которых бы проводился сопоставительный
анализ русских и турецких слов и конструкций, используемых в устной литературной
речи, русско-турецких параллелей, отражающих особенности двух языковых картин
мира привело к созданию в Ататюркском университете (г. Эрзурум, Турция) проекта
учебно-методического пособия «Обучение турецких студентов русской устной
литературной речи», посвященного актуальной проблеме совершенствования русской
речи и углубления знаний русского языка турецких студентов с учетом особенностей
межкультурных коммуникаций, национальных менталитетов и характеров русского и
турецкого народов.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, учебно-методическое
пособие, русская устная литературная речь.
PROJECT OF EDITION IN ATATURK UNIVERSITY OF EDUCATIONAL
AND METHODICAL MANUAL «TEACHING OF THE TURKISH STUDENTS OF
RUSSIAN VERBAL LITERARY SPEECH»
Annotation: Absence of works, the comparable analysis of the Russian and Turkish words
and constructions, in-use in verbal literary speech, Russian-Turkish parallels, reflecting the
features of two linguistic pictures of the world resulted in creation in Ataturk university
(Erzurum, Turkey) of project of educational and methodical manual «Teaching of the Turkish
students of Russian verbal literary speech» was conducted in which, devoted the issue of the
day of perfection of Russian speech and deepening of knowledges of Russian of Turkish
people.
Keywords: Russian as foreign, educational and methodical manual, Russian verbal literary
speech/
ВВЕДЕНИЕ
Проблеме обучения видам речевой деятельности, развития коммуникативных
умений иностранных студентов, взаимосвязи языка и культуры и межкультурных
коммуникаций посвящены многочисленные исследований российских ученых (См.
труды А.А. Акишиной, Т.М. Балыхиной, Е.А. Быстровой, Л.А. Вербицкой,
147
В.В. Воробьева, В.Д. Девкина, Е.М. Дейкиной, Г.А. Китайгородской, В.Г. Костомарова,
В.Т. Маркова, О.Е. Каган, Е.И. Пассова, Ю.Е. Прохорова, Л.Г. Саяховой, Е.Г. Таревой,
М.Б. Успенского, С.А. Хаврониной, Л.А. Ходяковой, А.Н. Щукина, В.М. Шаклеина и
др.).
Вместе с тем в Турции возникают определенные сложности в преподавании
русского языка в связи с отсутствием учебно-методических пособий, в которых бы
проводился сопоставительный анализ русских и турецких слов и конструкций,
используемых в устной литературной речи, русско-турецких параллелей, отражающих
особенности двух языковых картин мира. Поэтому в Ататюркском университете (г.
Эрзурум, Турция) на кафедре русского языка и литературы началась работа над
проектом подготовки и издания учебно-методического пособия «Обучение турецких
студентов русской устной литературной речи», посвященного актуальной проблеме
совершенствования русской речи и углубления знаний русского языка турецких
студентов с учетом особенностей межкультурных коммуникаций, национальных
менталитетов и характеров русского и турецкого народов. Проект рассчитан на 2015,
2016 гг.
Совершенствование устной литературной русской речи в процессе обучения
предполагает не только овладение ее нормами и осознанное противопоставление
нормы и антинормы, но и понимание того, что русский язык – это национальный
феномен культуры, а также предполагает умение использовать свои знания в акте
коммуникации.
При составлении учебно-методического пособия реализуются комплексный
(лингвистический, культурологический) подходы. В учебно-методическом пособии
предложены упражнения, организующие во взаимосвязи познание лексики, грамматики
русского языка и русской культуры, стимулирующие речевую деятельность студентов.
Пособие предназначено для турецких студентов, получивших подготовку по
русскому языку на уровне начального (элементарного) этапа и желающих продолжать
занятия языком, и построено на принципах этапности, уровневости, целостности,
системности, целесообразности.
Практическая значимость учебно-методического пособия состоит в том, что
его методические модели, направленные на совершенствование устной русской
литературной речи турецких студентов на основе культурно ориентированного
соизучения двух языков и культур, могут быть внедрены в практику преподавания
русского языка как иностранного.
148
Новизна проекта обусловлена отсутствием в Турции и за рубежом учебно-
методических пособий, в которых бы проводился сопоставительный анализ русских и
турецких слов и конструкций, используемых в устной литературной речи, русско-
турецких параллелей, отражающих особенности двух языковых картин мира.
Цель проекта – издание учебно-методического пособия, направленного на
поддержку преподавания устной литературной речи и русского языка турецким
студентам в высших учебных заведениях Турции, странах СНГ и России; на
обеспечение более высокого уровня владения русской речью в контексте русской
национальной культуры; формирование благоприятного для России общественного
мнения, распространение знаний о русском языке и русской культуре; на выработку не
только языковой, лингвистической, но и коммуникативно-культуроведческой
компетенций личности, которой способствует соизучение двух языков и культур,
восприятие русского языка на фоне турецкого.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Определить концепцию учебно-методического пособия, теоретические
принципы его составления, стимулирующие совершенствование устной русской
литературной речи турецких студентов на основе приобщения их к русской культуре и
соизучения русских и турецких языков и культур.
2. Подобрать культурно и художественно значимый, лингвистически
ориентированный дидактический материал, содержащий информативную справку о
каком-либо культурном явлении или отражающий языковые явления, характерные
только для русского языка, необходимый для формирования учебно-языковых,
коммуникативных, аргументативных и рефлексивных умений, связанных с
культуроориентированным познанием русского языка; являющийся специфическим
средством обучения русскому языку и базовым средством приобщения турецких
студентов к русской культуре.
3. Подобрать текстовый аудиовизуальный дидактический материал.
4. Сформировать у турецких студентов представление о русском языке как о
феномене культуры за счет культуроориентированной направленности
совершенствования устной русской литературной речи турецких студентов на основе
восприятия и изучения подобранных текстов.
5. Использовать методики работы со словом, пословицей, прецедентным
текстом и др., формирующие лингвистическую, коммуникативную и
культуроведческую компетенции у турецких студентов, способствующие
149
восстановлению недостающих звеньев в фоновых знаниях, обогащению словарного
запаса, углублению знаний о выразительных средствах языка, мотивирующих и
стимулирующих устную речевую деятельность.
6. Стимулировать создание развернутых устных речевых высказываний с
помощью использования художественно-информативных текстов, создания
комментариев и заданий к ним.
7. Подобрать для системы упражнений по устной литературной речи
русско-турецкие языковые параллели.
8. Создать комментарии к лингвоспецифичным русским словам и
выражениям, отражающим ключевые идеи русской языковой картины мира.
9. Создать систему упражнений, направленную на обучение устной русской
литературной речи, используемой в разных сферах социальной жизни (бытовой,
культурной, общественно-политической, научной, международной и др.),
формирующую орфоэпическую грамотность, предполагающую накопление достаточно
большого лексического запаса (в том числе культуроведческого) и знание основных
строевых закономерностей языка и позволяющую строить высказывания и
продуцировать устные тексты в соответствии с законами русского языка, воспринимать
высказывание, содержащее культуроведческую информацию, и реализовать
культуроведческое высказывание, выделять в тексте и использовать в устной речи
выразительные средств в области фонетики, лексики, грамматики.
10. Провести презентацию изданного учебно-методического пособия.
Работа на проектом осуществляется в два этапа.
На первом этапе коллективом авторов создается концепция учебно-
методического пособия (сентябрь – октябрь 2015 г.)
На втором этапе:
1) осуществляется подбор культурно и художественно значимого
лингвистически ориентированного дидактического материала из произведений русских
писателей и современных турецких писателей, чьи прозаические тексты переведены на
русский язык, создаются комментарии и задания к ним (ноябрь – декабрь 2015 г.);
2) создаются упражнения для выработки у турецких студентов умений и
навыков устной разговорной литературной речи в разных сферах социальной жизни,
включающие в себя русско-турецкие языковые параллели, формирующие
орфоэпическую грамотность, предполагающие накопление достаточно большого
лексического запаса (в том числе культуроведческого) и знание основных строевых
150
закономерностей языка и позволяющие строить высказывания и продуцировать устные
тексты в соответствии с законами русского языка, воспринимать высказывание,
содержащее культуроведческую информацию, и реализовать культуроведческое
высказывание, выделять в тексте и использовать в устной речи выразительные средств
в области фонетики, лексики, грамматики, а также разрабатываются комментарии к
лингвоспецифичным русским словам и выражениям, отражающим ключевые идеи
русской языковой картины мира (январь – апрель 2016 г.);
3) издается учебно-методическое пособие (май 2016 г.);
4) проводится презентация изданного учебно-методического пособия (июнь
2016 г.). Цель презентации – ознакомление представителей русских отделений
университетов Турции с учебно-методическим пособием нового типа, с возможностями
его использования на занятиях по русскому языку и литературе, распространение
знания о русском языке и русской культуре.
Координацию работы исполнителей проекта, экспертизу культурно и
художественно значимого лингвистически ориентированного дидактического
материала, системы упражнений будет осуществлять его руководитель, заведующая
кафедрой русского языка и литературы Ататюркского университета Эрзурума, доктор
филологических наук, ассистент профессора Бахар Гюнеш.
Для выполнения проекта будут использоваться помещения, производственные
мощности и технические средства Ататюркского университета г. Эрзурум (Турция).
Авторы издания:
доктор филологических наук, ассистент профессора Бахар Гюнеш
доктор филологических наук, профессор Салават Мидхатович Аюпов
доктор филологических наук, доцент Светлана Будимировна Аюпова
доктор филологических наук, доцент А.В. Поселенова
Научный редактор издания:
доктор филологических наук, ассистент профессора Шелале Рамазанова.
В дальнейшем на кафедре русского языка и литературы Ататюркского
университета предполагается выпуск серии учебно-методических пособий по
фонетике, лексике, грамматике русского языка, построенных на принципах соизучения
двух языков и культур.
151
ХРОНОТОП ДОРОГИ (ФÆНДАГ) В ОСЕТИНСКОЙ «НАРТИАДЕ»
М.В. Дарчиева
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований
им. В.И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства РСО–Алания, г. Владикавказ
(Россия)
Хронотоп, объединяя вечные онтологические понятия времени и пространства,
способствует целостному восприятию художественного произведения, создавая особый
фон повествования. Сам по себе мотив дороги является одним из наиболее часто
встречающихся в мировой литературе. В символическом плане дорога представляет
олицетворение жизненного пути человека от рождения до смерти, а в некоторых
культурах и сама смерть представляется началом пути. В обоих случаях мы имеем дело
с универсальной метафорой, имеющей фольклорно-мифологическую основу.
С точки зрения традиции собственно дорога представляет собой сюжетно
организованный текст, в линейной последовательности развивающийся от момента
ухода до момента возвращения (Щепанская Т.Б.). Изначальнаяхронотопичность дороги
обоснована восприятием пути как пространства, но обязательно осмысливаемого в
категориях времени. Хронотоп дороги затрагивает практически все фольклорные
жанры, однако ярче всего проявляется в сказочной прозе и эпических текстах.
К примеру, для русской былинной традиции ситуация выбора пути в некотором
смысле обязательный компонент сюжета. В осетинской «Нартиаде» архетип дороги
репрезентирован особым образом, всвязи с чем целесообразным является вычленение
групп сюжетов, актуализирующих хронотоп дороги. С мотивом пути соприкасается
мотив дома, родного очага, т.к. он является отправной точкой, началом путешествия. В
эпосе о нартах сюжетообразующую роль играет собственно путешествие, в частности,
такая его разновидность, как балц – завоевательный поход, предпринимаемый лучшими
из нартов. Среди основных черт завоевательного похода – его инициационный
характер, определённая заранее длительность (чаще – год), а также сугубо
завоевательная цель.
Другая группа сюжетов концентрируется вокруг охоты эпического героя на
диких зверей. Эта разновидность путешествия, естественно, отличается от предыдущей
длительностью и постановкой цели, но едина в наличии мотива дороги.
Сюжетная линия, связанная с героем Нартовского эпоса Сосланом, включает
мотив путешествия в Царство мёртвых и возвращения оттуда. Обратный путь
проделывают некоторые другие персонажи (к примеру, Тотрадз или безымянный сын
Уырызмага), оказавшиеся в Царстве мёртвых и покидающие его на время. Здесь дорога
представляет более сложное образование – связь разных миров. Для этого вида дороги
действуют определенные законы, которые не характерны для дороги в привычном
понимании. Время возвращения героя в Царство мёртвых строго регламентировано: он
непременно должен вернуться до захода солнца. Особым правилам подчинен и уход и
Царства мёртвых – герою приходиться прибегнуть к хитрости, чтобы за ним не
последовали другие обитатели.
В осетинской традиционной религии особо почитается святой Уастырджи –
покровитель путников; по народным верованиям, под его защитой находится вся
Осетия. Образ Уастырджи не мог не найти отражения в эпических текстах (большей
частью в «Нартиаде»), где он является действующим лицом наряду с другими героями,
участвуя в завоеваниях и ответственных походах. В его ведении находятся все пути, а
герои, перед тем как отправиться в путешествие, обращаются к нему с
молитвословиями (что характерно и для традиционной религии осетин), в которых
выражается просьба о благополучной дороге и счастливом возвращении. В связи с этим
152
необходимым представляется и рассмотрение одного из базовых концептов осетинской
традиционной культуры – формулы-благопожелания счастливой дороги «фæндараст
у!».
Мотивы встречи и встречного персонажа (æмбæлæг) также способствуют
раскрытию хронотопа дороги. Согласно народным поверьям, от встретившегося на
пути у вышедшего из дому человека зависит дальнейший исход дороги и всего дела. Со
встречей связан ряд примет, некоторые из них нашли отражение в эпосе. Разумеется,
богатый материал представляют и малые жанры – пословицы и поговорки о дороге,
которыми изобилуют эпические тексты.
Отличительная черта фольклорного текста – наличие устойчивых формул.
Традиционные формулы, встречающиеся в «Нартиаде», самобытны, многочисленны и
разнообразны; вызывают интерес их построение и перевод.Здесь же важно указать на
наличие устойчивых формул с семантикой дороги, а также национальные особенности
последних.
В любой традиционной культуре есть система ритуалов, связанных с дорогой,
рассмотрение их отражения в кадагах и легендах представляет особый интерес в
рамках вопроса о соотношении мифа и обряда.
Таким образом, в эпических текстах, по сравнению с другими жанрами
осетинского фольклора, хронотоп дороги предстает в самом широком понимании.
Значения, которые придаются символу фæндаг (дорога / путь), отличаются
разнообразием и насыщенностью. Герои эпических сказаний немыслимы без
пространственного перемещения, постоянных походов, поисков, завоеваний. А
представления о дороге – неотъемлемая часть национальной картины мира.
ХРОНОТОП ДОРОГИ (ФÆНДАГ) В ОСЕТИНСКОЙ «НАРТИАДЕ»
Аннотация: Хронотоп дороги не раз становился объектом исследования
литературоведов и фольклористов, однако ещё не рассматривался в осетинских
эпических текстах, к которым относится «Нартиада».По сравнению с другими
фольклорными жанрами эпические тексты обладают большей широтой реализации
категорий времени и пространства, что подтверждено нами неоднократно. Не является
исключением и хронотоп дороги, символическая составляющая которого ярче всего
проявляется именно в эпосе, в частности в мотиве предприятия героями
завоевательного похода балц. При этом включение малых фольклорных жанров (к
примеру, благопожеланий, пословиц и поговорок) свидетельствует о богатстве языка
эпоса.
Ключевые слова: Нартовский эпос осетин, хронотоп, мотив дороги,
завоевательный поход, ритуал, благопожелание.
ROAD’S (FÆNDAG) CHRONOTOPE IN THE OSSETIAN "NARTIADE"
Summary:Chronotope of the road was often the object of study of literature and folk
researchers, but not yet considered in the Ossetian epic texts, which include also the
"Nartiade". Compared to other genres of folklore, epic texts possess a greater breadth of
implementation categories of time and space that we have repeatedly confirmed. Chronotop of
road, which symbolic part is most pronounced in the epic texts, in particular in the motif of
153
conquests (balc) undertaken bymain heroes, is not an exception.At the same time the
inclusion of small folklore genres (for example, good wishes, sayings and proverbs) shows
the richness of epic language.
Keywords:an OssetianNarta epos,chronotop,road’s motive, aggressive campaign,
ritual, good wishes.
154
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ Г. ГЕЙНЕ И М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
Н.И. Николаев, Т.В. Швецова САФУ имени М.В. Ломоносова, Северодвинск (Россия)
Лермонтовские переводы произведений Г.Гейне до сих пор представляют собой
одну из наиболее загадочных страниц его творческой биографии. Прежде всего не
прояснены мотивы столь откровенной трансформации оригинальных текстов русским
автором. И не смотря на огромное количество комментариев к этим произведениям,
накопленным более, чем за 170 лет с момента их написания, в русском литературном
пространстве, простой вопрос, для чего эти смысловые отклонения от немецкого
оригинала потребовались М.Ю.Лермонтову, остается фактически без ответа. Вместе с
тем наблюдения над рукописями очевидно свидетельствуют, что эти отклонения
(расхождения с оригиналом) усиливались русским поэтом по мере его работы над
текстом. Рассуждения о том, что приведенные в качестве эпиграфа в лермонтовском
тексте «Они любили так долго и нежно…» первые оригинальные строки гейновского
произведения, «должны были увести читателя от возможности автобиографического
прочтения стихотворения» 1– не выдерживают никакой критики. Совершенно очевидна
иная установка русского поэта (тоже отмеченная в литературоведении) на
сопоставление текста оригинала и перевода, настойчивое указание на их значимое
несовпадение.
Особенно акцентированно несовпадение оригинала и перевода в последних
строках. Гейновские герои умерли, так и не заметив этого обстоятельства. Герои М.Ю.
Лермонтова свиделись после смерти, но в мире новом не узнали друг друга. Несомненно, оба автора в совершающих строках своих стихотворений стремятся
подчеркнуть трагическую бессмысленность прежней жизни героев, для которых смерть
не принесла никаких ожидаемых перемен. Напряженное ожидание счастливого исхода
жизни в русской и немецкой версии создает нервный узел, источник высокого
эмоционального напряжения в каждом произведении. И в этом смысле они совершенно
идентичны. Для переводчика (М.Ю. Лермонтова) важно было передать эту атмосферу
напряженного ожидания, которому не дано сбыться, и фатального разочарования,
следующего за этим. Но по своему содержанию ожидание героев (и читателя)
несомненно разняться, и причины этого следует искать в русской и немецкой
литературной традиции.
Почти за полвека до лермонтовского перевода русский читатель был потрясен
повестью Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», сентиментальная героиня которой кончает
жизнь самоубийством. Вопреки православной традиции ее смерть не сопровождается
осуждением, а открывает возможность преодоления земного непонимания, диссонанса
в отношениях любящих людей. «Теперь, может быть, они уже примерились!» 1 –
завершает свою повесть Н.М. Карамзин, намекая читателю на посмертную встречу
Эраста и Лизы, снимающую все противоречия их земных отношений. Смерть для Н.М.
Карамзина не завершает ценностно значимых отношений между людьми, их контакт в
форме личного общения, только освобожденного от диссонансов земной жизни,
возможен и даже неизбежен. И в этом ожидании сказывается глубокий оптимизм
русского автора.
За полвека до анализируемого здесь произведения Г. Гейне в немецкой (как и в
целом европейской) литературной жизни произошло еще более потрясающее событие –
публикация «Страданий юного Вертера» И.-В. Гете, герой которого тоже кончает
жизнь самоубийством, одним из основных мотивов становится неразделенная любовь.
155
Добровольный уход в иной мир немецкого героя связан со светлой надеждой на
избавление от земной жизни, где принципиально невозможна великая любовь. Однако
внешнее сходство мотивов ухода из жизни немецкого героя и русской героини эпохи
сентиментализма сочетается с их глубокими различиями. Прежде всего, ни Вертер, ни
автор произведения ничего не говорят о возможности посмертной встречи с
возлюбленной. В порыве восторга герой Гете иногда грезит о своем соединении с
божественной субстанции и растворении в ней. Это минуты наивысшего духовного
просветления, создающего оптимистический фон романа. Однако восторг,
сопровождающий этот акт «растворения в божественном» несовместим с идеей
«личной встречи героев», которая так вдохновляет Н.М. Карамзина и не только его.
После Карамзина русская литература предлагает огромный набор ситуаций посмертной
встречи любящих героев (Е.А. Баратынский, А.С. Пушкин, А.К. Толстой, В.Н. Майков,
А.А. Фет 1). И это характерно не только для послекарамзинской эпохи, но и для его
современников, весьма своеобразно прочитывающих (интерпретирующих) роман Гете
«Страдания юного Вертера».
Конец XVIII – начало XIX столетия были отмечены появлением довольно
большого количества поэтических текстов в русской литературе, повторяющих одну и
ту же элегическую ситуацию: Лотта на могиле Вертера. В.М. Жирмунский дал в своей
книге подробное описание этого эпизода в истории отечественной литературы 1. Этот
литературный пласт позволяет составить некоторое представление о восприятии
романа Гете, образа Вертера в русской литературной среде. Ситуация русских стихотворений подсказана предсмертным письмом Вертера из
романа Гете: «Когда ясным летним вечером ты взойдешь на гору, вспомни тогда обо
мне, о том, как часто поднимался я вверх по долине, а потом взгляни на кладбище на
мою могилку, где ветер в лучах заката колышет высокую траву…» 1.
В русских поэтических текстах вертеровская мольба о воспоминаниях стабильно
преломляется в физически ощутимое присутствие тени героя в знакомых местах и
желание соединиться с ним в его гробнице.
На этом фоне становится понятным то читательское ожидание посмертного
исхода отношений героев лермонтовского произведения, к которому апеллирует
русский поэт. Нелепость и трагизм жизни – в несбыточности этих надежд.
Для немецкого классика (Гете), который не допускает мысли о личной встрече
героев после смерти, важен сам переход в Вечность, слияние с божественным началом
и освобождение в этом акте от диссонансов земной жизни. Восторг, сопровождающий
этот акт, не может быть не замечен. Нелепость и трагизм жизни в стихотворении
Г.Гейне состоит в несбыточности этих надежд. Таким образом, перевод М.Ю.Лермонтовым стихотворения Г.Гейне следует
признать в высшей степени точным, однако не по формальным признакам. Это
блестящий перевод на другой по своей сути ментальный язык.
Список литературы 1. Гете И.В. Избранные произведения в двух томах. Т.II. – М., 1985. 2. Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. – Л., 1982. 3. Исрапова Ф. Об эпиграфе стихотворения М.Ю. Лермонтова "Они любили друг друга
так долго и нежно...": Поэтический перевод как форма осуществления "поэзии поэзии"
// Поэтика заглавия. - Тверь, 2005. 4. Карамзин Н.М. Бедная Лиза // Русская литература XVIII века / Сост. Г.П.
Макогоненко. – Л., 1970. 5. Кошемчук Т.А. Русская литература в православном контексте. – СПб: Наука, 2009.
156
Аннотация
Жизнь и смерть в представлениях Г. Гейне и М.Ю. Лермонтова В центре внимания авторов доклада перевод М.Ю. Лермонтовым стихотворения
Г. Гейне «Sie liebtensichbeide, dochkeiner...». Мотивы смысловых отклонений от
гейневского оригинала уже не раз становились предметом литературоведческого
осмысления. Однако сколь-нибудь внятного ответа на этот вопрос до сих пор нет. По
мнению докладчиков, и гейневское стихотворение, и лермонтовский перевод
построены на приеме «неоправданных ожиданий читателя». Именно это создает
внутреннее напряжение русского и немецкого текста. Однако сама природа
«ожидания» в русском религиозно-культурном пространстве несколько иная, нежели
та, которую имел в виду Г. Гейне, создавая свое произведение.
Сопоставление текстов литературных предшественников Г. Гейне и М.Ю.
Лермонтова (И.-В. Гете и Н.М. Карамзин) в части представлений их авторов о «вечной
жизни» позволяют говорить о «неслучайности» лермонтовских отклонений от текста
оригинала. Существенные расхождения немецкого оригинала и русского перевода
обусловлено глубинными причинами ментального характера. Ключевые слова: русская литература, немецкая литература, литературная
компаративистика, М.Ю. Лермонтов, Г. Гейне, Н.М. Карамзин, И.-В. Гете,
ментальность, литературный герой.
Heine’s and Lermontov’s ideas about life and death
The authors focus on M. Lermontov’s translation of the poem «Sie liebten sich beide,
doch keiner...» wrote by Heine. Motives of meanings deviations from the original have been
an often object for literary criticism. Hence, there is still no clear answer to this question. The
authors consider that both Heine’s poem and its translation made by Lermontov, are
constructed on the basis of “the unjustified reader’s expectations”. It is exactly what creates
the inner tension of the Russian and German texts. Still, the nature of “expectation” as it is
given in the Russian religious and cultural context differs from that one, which was meant by
Heine. Comparing “eternal life” ideas in the texts of Heine and Lermontov’s foregoers like
Goethe and Karamzin, proves that Lermontov didn’t change the meaning of the original
incidentally. Considerable differences of the Russian translation and Heine’s original are
caused by the deeply rooted mentality traits. Key words: Russian literature, German literature, Comparative literature studies,
Lermontov, Heine, Karamzin, Goethe , Mentality, a character.
157
РЕМЕЙК ЧЕХОВСКОЙ ЧАЙКИ В ТВОРЧЕСТВЕ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ
Л.В. Сафронова
КаНПУ имени Абая, Алматы (Казахстан)
Постмодернизм, связанный с классической литературой не столько принципом
преемственности, сколько по типу конструкции тезис-антитезис, то есть по принципу
усиления качеств предшествующей литературы до невозможного, карикатурного
предела, проговаривает и договаривает то, что было в предшествующей культуре как
бы «недоношенным», доводит до логического конца, до полной ясности и
окончательного диагноза.
В сказках Л. Петрушевской персонажи Чехова определяются по доминантной
составляющей их характера, превращаясь в прозрачные по значению и сюжетной
функции архетипы, преодолевая незавершенность чеховских комедийных образов:
«Аркадина — козел Толик. Нина Заречная — волк Семен Алексеевич. <… > Маша —
собака Гуляш <…> Тригорина, все-таки знаменитого писателя, должен был играть
лягушка Самсон, а Треплева (?!) вообще улитка Герасим…»1 [c. 149].
Поэтому и чеховская «комедия про птицу», в которой, как минимум, три смерти
(юноши, ребенка и животного), называется у Л. Петрушевской своим настоящим
жанровым именем, то есть «порноспектаклем театра зверей» + фильм ужасов
феминистской направленности («…получился настоящий девичник, лягушка Самсон не
в счет, он молчал непонятно на какую тему, хотя пил наравне» [c. 183]), где крупным
планом дана кукушка Калерия в роли дохлой чайки (затем чучела дохлой чайки и
мумии).
Кукушка Калерия (отчасти аффилированная с чеховской Аркадиной по
принципу ослабленности материнского инстинкта) одновременно и символ смерти,
контролирующей всех (отсчитывающей время), и секс-символ: «у ней трагически
полуопущенные глаза жертвы, обнажена кисть ноги и неприкрытая грудь — этот
фотопортрет работы таракана Максимки был помещен в эротической газете
«Кукушководство» как иллюстрация позы “Ямщик”» [c. 152].
Чайка (варианты: гагара, уточка) в фольклоре также символизирует девушку в
период половой зрелости, эротической активности, на выданье. Эти две основные
линии любви/смерти, по сути, представляющие собой сюжет инициации, и
просвечивают чеховскую «Чайку» насквозь в интерпретации Петрушевской.
Петрушевская эпатирующе, концентрированно биологизирует Чехова,
вытаскивая из его пьесы, по сути, собственный постмодернистский автопортрет. И тем
самым косвенно предъявляет претензии к концептуальной недопроявленности его
письма, стилистически явно с ним конкурирует. Вступая в симбиотические отношения
с классическим донорским текстом, она и конфликтует, ведя собственную Эдипову
войну, и одновременно «подлечивает» его депрессивность, корректируя изнутри.
Однако этому ее карикатурному гомеостазу с Чеховым не откажешь в определенной
дозе объективности анализа, а главное, с ним не поспоришь, так как опора на
бесспорный художественный авторитет является супердейственным приемом
постмодернистского манипулирования. «И когда позвонил оса Ося, комар Стасик,
ковыряя в зубе, даже не стал с ним ругаться: у тебя своя трактовка, а у меня своя»
[c. 85].
Аннотация
158
В статье рассматривается пародийный вариант чеховской пьесы «Чайка»,
представленный в нескольких сказочных текстах Л. Петрушевской. В сказках Л.
Петрушевской персонажи Чехова определяются по главной черте их характера,
превращаясь в архетипы, преодолевая незавершенность чеховских комедийных
образов. Петрушевская эпатирует текстами Чехова, выделяя в них биологические и
физиологические моменты, делая его похожим на собственный постмодернистский
автопортрет. И тем самым стилистически явно с ним конкурирует. Вступая в тесные
отношения с классическим донорским текстом, она и конфликтует, ведя собственную
Эдипову войну, и одновременно лечит его депрессивность, корректируя изнутри.
Ключевые слова: Постмодернизм, ремейк, пародия, архетип.
Abstract This article discusses a parody version of Chekhov's play "The Seagull", presented a fabulous
lyrics L. Petrushevskaya. In fairy tales L. Petrushevskaya, Chekhov characters are defined by
their chief characteristics, turning into archetypes, overcoming incompleteness Chekhovian
comedy images. Petrushevskaуa shocking Chekhov texts, highlighting them in biological and
physiological aspects, making it look like a postmodern own self-portrait. And thus
stylistically clearly competes with him. Entering into a close relationship with the classical
text donor, she and conflicts, leading his own Oedipus war, and at the same time it treats
depression by correcting the inside.
Keywords: Postmodernism, remake, parody, archetype.
159
ТРАГЕДИЙНО - ИСПОВЕДАЛЬНЫЙ ТОН В ПОЭЗИИ ЛЕРМОНТОВА И
УСМАНА НАСЫРА
Кадырова О. Х.
Термез (Узбекистан)
В истории русской литературы имя Лермонтова стоит рядом с
именем Пушкина. Вместе с тем, имя Лермонтова стало поэтическим
выражением новой исторической эпохи - эпохи, наступившей после
декабрьского восстания 1825 года, эпохи безвременья, когда разгул
реакции породил неверие в возможность общественных перемен, желание
отойти от социальных проблем. И в этом мире безмолвия прозвучал
гневный голос поэта. Лирика Лермонтова отразила напряженность
духовных поисков, сомнения и надежды тридцатых годов.
Глубокий психологизм, реалистическая глубина его
творчества, в конечном счете, оказали решающее влияние на узбекских
писателей, учившихся у него. Но поначалу их привлекали
преимущественно романтические образы и настроения. Особенно понятна
была узбекскому читателю романтическая поэзия Лермонтова, его поэмы,
отражающие интерес великого художника к культуре и литературе
Востока, где на фоне пышной восточной природы показаны цельные,
монолитные характеры, напоминающие героев дастанов. В романтической
поэзии Лермонтова читатель мог найти привычную модель восприятия
мира, то есть, образы и идеи, уже знакомое по восточной литературе или
перекликающие с ними.
Романтическая поэзия Лермонтова оказала благотворное
влияние на поэтический облик известного поэта и переводчика 30- х годов
ХХ века Усмана Насыра, который писал в стихотворении «Снова к моим
стихам»: «Поэзия сдружила меня с Гейне, сделала учеником Лермонтова».
У. Насыра привлекает мятежная поэзия Гейне и Лермонтова в силу её
созвучности его собственному мироощущению. Сама личность поэта, его
склонность к исповедальному тону были близки узбекскому поэту.
Например, в творчестве У. Насыра нашёл отзвук одно из наиболее
юношеских стихотворений Лермонтова « Так жизнь скучна, когда боренья
нет…»:
Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.
Всегда кипит и зреет что-нибудь
В моем уме. Желанье и тоска
160
Тревожат беспрестанно эту грудь.
Но что ж? Мне жизнь всё как то коротка
И всё боюсь, что не успею я
Свершить чего- то. Жажды бытия
Во мне сильней страданий роковых1
Выраженные здесь жажда действия, душевная неуспокоенность созвучны
эмоциальной атмосфере поэзии Усмана Насыра. В этом отношении
характерно его стихотворение «Путник»:
Вперёд, мой конь, мой верный друг!
Кто к цели стремится – домчится всегда.
Разве не жаждой бури бьётся сердце?
Что жизнь без горестей и напряженного труда?
В этом небольшом стихотворении заключена жизненная программа
лирического героя У. Насыра. В нём содержится мысль о его стремлении
идти к намеченной цели, борясь, страдая, преодолевая трудности. Оно
перекликается и с другими стихами Лермонтова:
«Я жить хочу! Хочу печали!
Любви и счастью назло…»,
А также со строками:
«Что без страданий жизнь поэта
-И что без бури океан?»1
Романтическая символика стихотворения У. Насыра
олицетворяет беспокойную жизнь, стремление к дальним и трудным
дорогам. Лирический герой «Путника» родственен герою лермонтовского
«Паруса», в котором воплощена жажда тревожной, деятельной жизни.
А он мятежный просит бури,
Как будто в бурях есть покой.
(Лермонтов «Парус»)
Лишь жаждой бури
должно биться сердце
(У. Насыр «Путник»)
У. Насыр романтик по складу своего дарования. Ещё в ранних
стихах «Бегущие строки» и «Хлопкороб» он создал образы, овеянные с
романтическим пафосом. С течением времени романтизм его претерпевает
существенную эволюциюю.Пафос его, нередко лозунговый, обретает
неподдельный лиризм. Стихи Усмана Насыра, свободные от
натуралистических, заземляющих черт, имеет большую силу идейно –
эмоционального воздействия. Например, некоторые строки
161
лермонтовского « 1831-го июня,11 дня» нашли отзвук в стихотворении «К
Насиме» Насыра:
Меня ждут грозные испытания,
Тяжёлые бои.
Насима! Горячая кровь моя
Прольётся, быть может,
Я погибну…но, клянусь,
Буду счастлив, если в трудные дни
К борьбе пригожусь.1
Так появляется в поэзии У. Насыра трагедийный пафос, перекликающийся
с теми произведениями Лермонтова, в которых звучат обречённость, тоска
и решимость. Есть у русского поэта строка, которая является как бы
прообразом приведённых выше стихов У. Насыра: «Может быть, Насима, я
умру» напоминает лермонтовскую строку – «За дело общее, быть может, я
паду». Круг идей и настроений, как мы видим, близкий. Здесь та же
«жажда бытия», готовность к тяжёлым испытаниям, к подвигу во имя
торжества идеала.
У. Насыра сближает с Лермонтовым субъективность поэтического
видения, исповедальный тон. Лирическая насыщенность,
проникновенность стихов составляет сильную сторону его таланта. Во
многих стихотворениях («Сердце», «Мой стих», «Чёрные строки») чувство
лирического «я», нераздельно сосуществующие в сознание героя с
чувством действительности, эпохи, - также в значительной мере идёт от
лирического героя Лермонтова с его самоанализом.
Поэзия Лермонтова с его удивительным уменьем выразить
тончайшие оттенки переживаний человека, научила У. Насыра и других
узбекских поэтов ХХ века искусству психологического анализа,
раскрытию духовного мира героя.
1 Лермонтов М. Ю. Сочинения в 2- х т. Т.1. (Сост. и коммент. И. С. Чистовой, вст. ст. И.
Л. Андронниковой. - М.: Правда, 1988. - с.18. 1 Лермонтов М. Ю. Сочинения в 2- х т. Т.1. (Сост. и коммент. И. С. Чистовой, вст. ст. И.
Л. Андронниковой. - М.: Правда, 1988. - с. 245-246. 1 Творческие связи узбекской литературы. /Отв. ред. Э. А. Каримов. – Ташкент.: Фан,
1983. – с.67.
162
ТРАГЕДИЙНО - ИСПОВЕДАЛЬНЫЙ ТОН В ПОЭЗИИ ЛЕРМОНТОВА И
УСМАНА НАСЫРА
Аннотация: В статье рассматривается сравнительно - типологический
анализ поэзии М. Ю. Лермонтова и Усмана Насыра. Изучение и анализ
общности сюжетов, тем, идей в поэзии двух поэтов представляет
достаточный научный материал для определения узловых пунктов
межлитературной типологии.
Ключевые слова: романтическая символика, исповедальный тон,
психологический анализ, романтические образы, монолитные характеры,
трагедийный пафос.
Tragic - confessional tone in the poetry of Lermontov and Usman Nasir
Annotation: The article discusses a relatively - typological analysis of poetry of Mikhail
Lermontov and Usman Nasir. Study and analysis of community plots, themes, ideas in the
poetry of the two poets is sufficient scientific data to determine key points literary typology.
Keywords: romantic symbolism, confessional tone, psychological analysis, romantic images,
solid characters, tragic pathos.
163
СЛОВО «ХОРОШИЙ» КАК ФРАГМЕНТ ЦЕННОСТНОЙ КАРТИНЫ
МИРА В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Н.А. Кипиани
Университет имени Ибрагима Чечена, г. Агры (Турция)
Современная лингвистика изучает не только собственно лингвистические
формы, но и воплощённое в языковых единицах и категориях мировосприятие и
мировоззрение носителя языка вообще.
Именно человек в своём сознании концептуализирует языковую
действительность, а язык отражает происходящие в когнитивной области процессы
получения, обработки и последующего сравнения данных.
Новое направление в языкознании – аксиологическая лингвистика – является
фундаментом построения лингвистической антропологии, понимаемой как общая наука
о Человеке. Задачей аксиологического исследования является выявление ценностного
компонента языковой единицы или высказывания. А ценности и нормы, в свою
очередь, выступают базовыми единицами аксиологической картины мира.
Аксиологическая лингвистика даёт исследователю ключи к объяснению основ
мировоззрения и глубинных мотивов поведения как отдельного человека, так и целых
народов.
Слово хороший является лексической константой, абсолютной универсалией.
Это слово открывает для исследователя один из каналов проникновения в культурную
картину мира народа, раскрывая его отношение к важным культурным ценностям.
В статье исследуется семантика слова с общеоценочным значением - «хороший»
- в антропоцентрическом аспекте в славянской (на материале русского языка) и англо-
саксонской (на материале английского языка) лингвокультурах.
Сфера употребления прилагательного хороший исключительно широка.
Хороший включает в себя рационалистическую оценку, эстетическую оценку и
этическую оценку. Набор положительно оцениваемых качеств в целом схож для
сопоставляемых лингвокультур.
Хороший , а также его синонимы светлый, благой, демонстирующие
непрерывность номинации являются не только оценочными словами, но, как этические
оценки, предполагают ориентацию на образец, идеал.
«Внутренняя форма» аксиологически нагруженных лексем позволяет выстроить
словообразовательную цепь со следующим направлением семантического развития:
имя Бога ↔ качества Бога → нравственные качества человека, созданного по образу и
подобию Божьему. Ср. в «Новом Завете» слова Иисуса Христа, обращенные к народу:
«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матф., 5:48). Человек в
эпоху номинации благое понимал как отблеск божественного, кладя в основу
ценностных характеристик понятие света = Бога.
Нравственность – это единственная форма ценностного сознания, которая
объединяет людей независимо от каких бы то ни было мировоззренческих и
поведенческих различий. Нравственные нормы не имеют конкретной даты зарождения.
Они появились вместе с появлением самого общества. А этика как философская наука
возникла гораздо позже. Мораль в этике осмысливается с определённых
мировоззренческих позиций.
Религиозный подход к обоснованию нравственности представляется в
богословской литературе как единственно возможный. И данные языка – в
закодированном виде – подтверждают именно теологическую концепцию, а не
натуралистическую или социально-историческую этическую концепцию.
164
Литература
1. Колесов В.В. Язык и ментальность. - СПб: Петербургское
востоковедение, 2004. - 240 с.
2. Ляшевская О.Н., Шаров С.А. Частотный словарь современного русского
языка (на материалах Национального корпуса русского языка). - М.: Азбуковник, 2009
– URL: dikt.ruslang.ru
3. Обнорский С.П. Прилагательное хороший и его производные в русском
языке. //Язык и литература. Т. III. Л., 1929.
4. Потебня А.А. Слово и миф. - М.: Правда, 1989. – 624 с.
5. Потебня А.А. Полное собрание трудов: Мысль и язык. – М.: Изд-ство
“Лабиринт”, 1999. – 300 с.
6. Таранець В.Г. Спорiдненiсть етимологiй слова «Бог» в германьских та
словʼяньских мовах //Актуальнi проблеми вивчення мови та мовлення мiжособовоï та
мiжкультурноï комунiкацiï. Мiжвуз. зб. наук. праць. – Харкiв: Константа, 1996. – С.
177-179.
7. Словарь языка Пушкина: в 4 т. - М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей,
1956-1961.
8. Словарь русских синонимов (онлайн версия). URL: www.classes.ru/all-
russion/russian-diktionary-synonyms-term
9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х тт. Пер. с
нем. и дополнения О. Н. Трубачева. - М., 1987.
10. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского
языка. В 2 томах. – М.: Русский язык, 1999.
11. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago: Chicago University
Press, 1980. – 242 p.
12. Liberman Anatoly. Good God and Etymology. URL:
https://blog.cup.com/2009/11/
13. An Etymological Dictionary of Modern English by Ernest Weekley. London,
1921. URL: https://archive.org/details/etymologicaldict00weekuoft
14. Geoffrey Leech, Paul Rayson, Andrew Wilson «Word Frequencies in Written
and Spoken English: based on the British National Corpus». London: Longman 2001. URL:
ucrel.lancs.ac.uk/bncfreq/
15. Online Etymology Dictionary. URL: www.etymonline.com
16. Synonyms and Antonyms Dictionary in English by Collins. URL:
dictionary.reverso.net/english-synonyms
165
«ХОРОШИЙ» КАК ФРАГМЕНТ ЦЕННОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА В
РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Н.А. Кипиани
Университет им. Ибрагима Чечена, г. Агры (Турция)
Аннотация. В статье представлены наблюдения над семантикой слова
«хороший» в антропоцентрическом аспекте. Структура исследуемого фрагмента
ценностной картины мира представляется нам универсальной для английской и
русской лингвокультур.
«Внутренняя форма» аксиологически нагруженных лексем свидетельствует о
системности номинации этических оценок в русском языке, и «лингвистический
подход» к явлениям культуры, несомненно, аргументирует теологическую концепцию
нравственности.
Ключевые слова: аксиологическая лингвистика, этическая оценка, внутренняя
форма, непрерывность номинации, теологическая этика.
«GOOD» AS A PART OF THE VALUE OF THE WORLD PICTURE IN
RUSSIAN AND ENGLISH LINGVOCULTURES
Summary. The article presents observations on the semantics of the word «good» in
an anthropocentric aspect. The structure of the analyzed fragment of values picture of the
world appears to us to be universal for English and Russian lingvocultures. The «internal
form» axiologically loaded lexeme indicates systemic nomination ethical evaluation in
Russian language, and «linguistics approach» to the phenomena of culture, undoubtedly,
justifies the theological concept of morality.
Keywords: axiological linguistics, ethical evaluation, the internal form, the continuity
of the nomination, theological ethics.
Сопоставление поэмы М.Ю. Лермонтова "Демон" и стихотворения грузинского
поэта-романтика Бараташвили Н. "Мерани"
Авторы:
Церцвадзе Константин Гелаевич, ТГУ, студент теретьего курса
института Русистики
Немсадзе Анна Тамазиевна. Малая Академия, факультет гуманитарных
наук, Тбилиси, Грузия
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Филина Мария
Анатольевна
Поэма "Демон" принадлежит шедеврам не только лермонтовской, но и всей русккой
романтической поэзии. Образ восходит к библейскому мифу об изгнании из рая,
содержание которого свободно-поэтически переработано Лермонтовым. Вслушиваясь
в произведение, замечаем, что Демон обречен на вечное одиночество, что пожалуй,
самое страшное, что может выпасть на долю человека и всякого-одиночество.
166
"Демон" – поэма, над которой М.Ю.Лермонтов работал на протяжении всего своего
творческого пути. Образ Демона владел чувствами и мыслями поэта с
четырнадцатилетнего возраста. Он много раз переделывал начатую поэму. Но с каждой
новой переделкой поэма становилась всё более художественной по содержанию и по
форме.
В основе поэмы "Демона" – древний миф о гордом ангеле, восставшем против Бога.
Сюжет поэмы не сложен. Основное место в поэме занимают монологи Демона,
раскрывающие его мысли и чувства, описания природы, подробные изображения
переживаний героини – Тамары. Демон, "печальный дух изгнанья", которому в жизни
наскучило всё, видит смертную девушку, красавицу Тамару… Он очарован ею.
Охваченный чувством любви, он мечтает о возрождении. Ему кажется, что любовь
Тамары приведёт его к добру, к правде. Он проникает в монастырь, где после гибели
жениха скрывается Тамара, и своими пламенными речами возбуждает к себе жалость и
сочувствие Тамары. Поцелуй Демона оказывается смертельным для Тамары. Демон
пытается овладеть её душой, когда светлый ангел уносит её в рай. "Она моя!" –
восклицает Демон, но ангел отвергает его. Тамара – символ красоты. Влечение
Демона к Тамаре – это отчаянная попытка замкнутого в себе индивидуалиста выйти из
состояния отчуждённости и вынужденного бездействия, найти в красоте отраду и
забвение. Но любовь гордого индивидуалиста заканчивается печально. В развязке
выступает "Ангел" – символ противоположных Демону начал: любви и прощения.
Появление Ангела подчёркивает всю безысходность положения Демона: на пути, по
которому он идёт, на пути индивидуализма, когда собственное "я" ставится в центре
всего существующего, нет ни счастья, ни живой деятельности. Образ Демона является
двойственным. С одной стороны в нём воплощено отрицание всего косного, отрицание
человеческой пошлости, ограниченности, устаревших авторитетов, преданности
старым устоям и традициям. Демон произносит страстную речь, в которой клеймит
земную жизнь,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить,
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
Современники Лермонтова воспринимали его поэму как призыв к освобождению и как
осуждение существующих общественных условий. Увлечение "Демоном" было велико:
он в рукописях ходил в публике, как некогда ходило "Горе от ума". По словам одного
из известных критиков того времени, все увлеклись так "Демоном" потому, что пафос
его есть с "небом гордая вражда".
В стихотворении Николоза Бараташвили "Мерани" в лике главного героя
можно узнать самого автора, который готов бороться ради свободы до последней
167
капли крови, лишь бы не подчиняться судьбе и злу, ведь компромисс со злом
теряет достоинства человека и веру в победу добра над злом. МЕРАНИ –
мистическое имя скакуна, поэтический символ бесстрашного борца за Высокие
Идеалы. Герой произведения не испытывает страх перед этой неукротимой
стихией , всадник Мерани не боится смерти, находясь в ожидании ее пусть даже
внезапного прихода. Говоря о вербализации концепта конь в романтических
поэмах, следует отметить, что здесь больше общего, чем индивидуального,
этнокультурного. Думается, что созданию образа коня-птицы способствовали
народные мифы сказания, легенды: это Тулпар в восточных сказках, образ
арабского скакуна – мечты, крылатый конь – Пегас.
Без дорог летит, мчит меня вперед мой Мерани,
Мне зловеще каркает ворон вслед. – Мчись быстрей
Из границ судьбы и за той неведомой гранью,
Мой Мерани, мрачные мысли скачкой развей!
Николоз Бараташвили готов сказать «нет» обо всём, отказаться от любви, от родины,
от всего интимного и божественного, лишь бы не подчиняться судьбе.
Пусть навек покинуть отчизну мне, пусть лишиться друзей и сверстников,
Не увидеть больше родных, любимую, голос ее забыть!
Где застанет ночь, там и будет кров – станет кровлею высь небесная,
Только верным спутникам – вечным звездам – мне душу свою открыть!
При сравнительном анализе выявляются множество общих моментов в
концептуальном плане, по своей структурности, композиционному построению,
также встречаются и характерные, несмотря на некую однородность
семантических пространств, отличия.
Сопоставление стихотворений грузинского поэта романтика Николоза
Бараташвили и русского поэта Михаила Лермонтова.
Авторы:
Церцвадзе Константин Гелаевич (филолог русского языка и литературы)
студент третьего курса ТГУ института Русистики
Немсадзе Анна Тамазиевна- филолог грузинского языка и литературы
Аннотация
Поэма "Демон" принадлежит шедеврам не только лермонтовской, но и всей русккой
романтической поэзии. Образ восходит к библейскому мифу об изгнании из рая,
содержание которого свободно-поэтически переработано Лермонтовым. Вслушиваясь
в произведение, замечаем, что Демон обречен на вечное одиночество, что пожалуй,
самое страшное, что может выпасть на долю человека и всякого-одиночество.
168
Авторское отношение к герою сложно. С одной стороны, в произведении имеется
автор-повествователь, рассказывающий «восточную легенду» из давних времен, точка
зрения которого не совпадает с индивидуальными позициями героев и отличается
широтой и объективностью. На разных уровнях текста осуществляется авторский
комментарий судьбы демона, в том числе на уровне сюжетной организации. Развязка
романтической истории — демон убивает Тамару своей любовью — воспринимается
как форма суда над героем.
В произведении Николоза Бараташвили "Мерани" передаётся конфликт между
человеческими идеалами и реальностью. В этом произведении видим борьбу человека
с судьбой, над которым гонится и которого преследует "черный ворон"-символ смерти
и зла, сходный с символом демона.
Поэт просит своего коня помочь ему, избавить его от неизбежной смерти.
Николоз Бараташвили готов сказать «нет» обо всём, отказаться от любви, от родины,
от всего интимного и божественного, лишь бы не подчиняться судьбе.
Будет интересным сопоставление данных стихотворений.
Считем, что при сопоставлении двух произведений поэтов или писателей разных
поэтических истоков, разных ментальностей , разных литературных направлений
можно выявить такие глубинные черты и потаённые моменты в произведений ,
которые без сравнения остаются скрытыми.
Comparative Analysis of Poems by Georgian Poet Baratashvili Nikoloz and Russian
poet Mikhayl Lermontov
Authors:
Tsertsvadze Konstantine ( Philologist of Russian language and literature)
Nemsadze Ann (Philologist of Georgian literature and language)
Annotation
Lermontov is known to all Russian speakers, but relatively unknown to the rest of the world.
The poem by Lermontov “The Demon” -It is a love story without a happy ending. It has
romantic gestures and the main character changes, which at first seems that we are to
sympathize with the poor one but then he turns evil. The poem also shows that love can
overcome obstacles but at times you must pay for it.
The poem by Mikhayl Lermontov "The Demon" is the classic poem for Russian romantic
poetry. The image comes from the biblical myth of the expulsion from heaven.
[LUCIFER in heaven, before his rebellion, was a high and exalted angel, next in honor to
God's dear Son. The Son of God and true, loyal angels prevailed; and Satan and his
sympathizers were expelled from heaven.]
According to the work, we can notice that the Demon is doomed to eternal loneliness and that
is perhaps the worst thing that can befall a person – being alone.
169
The author's attitude towards the hero is exceptional and different. On the one hand, the poem
has the author-narrator telling the "east legend" from ancient times, the view does not
coincide with the positions of the individual characters of the author. Decoupling romantic
stories – Tamara. The Demon kills his love and it is perceived as a form of judgment of the
hero.
In the poem of the Nikoloz Baratashvili “Merani” we can clearly see the conflict between the
human ideals and reality. We can also see the fight of man with fate. This is the fight for
existence. There is the image of the black bird, the symbol of the evilness, and this image is
similar to the image of the Demon.
The author is ready to say “NO” to everything: to homeland, to give up on love, on
everything intimate and divine and to not obey to destiny and survive.
The poet is asking for help from his horse, to save and keep him.
We think that the comparative analysis of these two poems will be interesting and think,
that in comparing the two works of poets and writers of different origins, of different
mentalities, different literary trends can reveal underlying and secret moments in the
works that are hidden without comparison.
170
Использование аутентичных поэтических художественных текстов на
уроках РКИ как основа формирования межкультурной компетенции
Ольга Далкылыч
Эрджиесский Университет, Кайсери (Турция).
Мотивация как вектор культуры и межкультурной коммуникации
Исследуя понятие и процессы формирования межкультурной компетенции,
важно обратиться к определению понятия «культура», в которое входит не столько
определённый этнос, сколько каждый индивид в отдельности. Являясь как носителем,
или производной культуры, так и её активным производителем, индивид является
синтезом внутренних мотивов и окружающих факторов, или мотиваторов. Принимая во
внимание данные определения, можно сказать, что понятие мотивации играет одну из
центральных ролей в формировании как культуры, так и культуры индивида.
Рассматривая культуру индивида на лингво-культурологическом уровне, важно
отметить её составляющую – языковую личность – постоянную характеристику
индивида, изменяющуюся в процессе изучения иностранного языка. Её изменение
происходит посредством межкультурной коммуникации, то есть интеракции между
индивидами – представителями определённой культуры в контексте культурного поля
изучаемого языка. Таким образом, межкультурная коммуникация – это всегда
межличностная коммуникация в специальном контексте, происходящая между
носителями разных культур (Лотман 1993, цит. по: Сопова 2007, с.80) и
способствующая изменению взаимодействующих субъектов и формированию новых
качеств языковой личности (Сопова 2007, с.80). В данном контексте понятие
мотивации играет роль активизатора коммуникации и придаёт вектор
формированию языковой личности.
o Этические принципы как мотивация межкультурного обучения
С одной стороны, как результат соприкосновения с межкультурными
различиями, активизируется процесс трансформации этноцентричных качеств
индивида, а именно: отрицание различий, самозащита или их минимизирование, - в
этно-относительные качества, такие как акцептирование различий, адаптация к ним и
интеграция (Bennett 2004, цит. по: Pelkonen 2005). Таким образом, формируется
межкультурная чувствительность, то есть готовность к постоянной переоценке
собственного этноцентричного мировоззрения и взглядов на жизнь (Bennett 2004, цит.
по: Pelkonen 2005).
С другой стороны, любое соприкосновение с культурными различиями или
подготовка к соприкосновению, пониманию и оценке данных различий ведёт к
межкультурному обучению (Pelkonen 2005: 74), что, в свою очередь, базируется на
постепенном формировании межкультурной чувствительности. Mestenhauser и Barsig
(1977) соотносят процесс межкультурного обучения с определением межкультурной
перспективы или эмпатичного понимания, отличающегося от академического
знания неизмеряемостью, а от академического дедуктивного мышления –
нестандартностью и индуктивностью, однако содержит основу для критической
рефлексии культурологического материала. Именно благодаря рефлексии в результате
межкультурного обучения формируется межкультурная компетенция (Gill 2007).
171
В результате вышеописанных рефлексивных процессов, трансформирующих
языковую личность индивида и его культурное сознание, формируется межкультурное
осознание, то есть осознание разнообразия и сравнимости существующих в мировом
обществе идей и видов деятельности, или понимание того, как эти идеи могут быть
рассмотрены с различных точек зрения (Mestenhauser ja Barsig 1977: 12). К тому же, по
мнению других исследователей, межкультурное обучение является не просто
изучением признаков другой культуры, но и основательным трансформативным
процессом, способствующим формированию компетенций, поддерживающих
понимание, диалог и адаптацию к новому контексту, а также процессом,
охватывающим этическое измерение (Pelkonen 2005). Подчёркивается, что
межкультурное обучение основано на этических принципах равенства,
справедливости, прав человека и на гуманных ценностях (Jokikokko 2005: 188), так как
именно сравнивая, анализируя, осознавая и придавая ценность межкультурным
различиям, стираются границы между правильным и неправильным (Lustig & Koester
1996, viidatud Jokikokko 2005: 188). Межкультурное обучение при условии открытости
индивида по отношению к межкультурным различиям, ведёт, в свою очередь, к
формированию межкультурной компетенции (Bennett 2004, цит. по: Pelkonen 2005),
которая определяется как умение свободно ориентироваться в ином культурном
пространстве и адкватно взаимодействовать с носителями языка и культуры (Денисова
2007, с.207).
Основополагающим в данных определениях видится автору понятие
открытости по отношению к иной культуре, или, другими словами,
мотивированности индивида к содействию, диалогу и его рефлексии, к познанию,
сравнению, эмпатии, анализу и самоанализу в контексте изучаемого языка и культуры.
Таким образом, одной из главных составляющих межкультурной коммуникации,
межкультурного обучения и межкультурной компетенции является именно этическая
сторона, которая, как и понятие культуры, базируется на понятии мотивации.
o Этика и эстетика поэзии как мотивация межкультурной
компетентности
Следует отметить, что приобретение и развитие межкультурной компетенции
исследователи относят прежде всего к понятиям опыт и экспериментальное
обучение, так как изучение языка и его культуры связаны прежде всего с
приобретением первичного опыта интеракции с представителем изучаемого языка.
Основным принципом экспериментального обучения является обучение на основе
анализа и осознанной рефлексии собственного опыта и придания ему
индивидуального значения. Аналогичным образом можно определить и понятие
межкультурного обучения, ядром которого является межкультурный опыт,
способствующий сравнению, сравнительному анализу и осознанной рефлексии родной
и изучаемой культур и приданию данному опыту новое индивидуальное значение.
В случае непосредственного межкультурного контакта вышеописанные
процессы формирования межкультурной чувствительности, межкультурной
перспективы и эмпатичного понимания, способствующих формированию
межкультурной компетенции посредством межкультурного обучения, имеют свойство
происходить естественным путём. Однако, в случае изучения иностранного языка вне
аутентичной языковой среды требуются дополнительные активизаторы или
мотиваторы постижения изучаемой культуры именно на её этическом уровне. Это
172
значит, что изучение иностранного языка вне аутентичной языковой среды может быть
лишено характера экспериментальности, что, в свою очередь, отражается на
недостаточности источников познания этической стороны изучаемого языка и
культуры.
В данном исследовании решение данной проблемы видится автору в
продуманном и целенаправленном использовании аутентичного художественного
текста на уроках иностранного языка, в частности, использовании аутентичного
поэтического текста на уроках обучения РКИ. В силу своей направленности на
субъективное восприятие читающего, потенциала побуждать учащихся
активизировать восприятие собственного мира для объяснения чужого мира
(сравнение, анализ и рефлексия опыта) и вызывать различные эмоции (придание
индивидуального значения) (Денисова 2007, с.208-209), аутентичный художественный
текст может служить основой для формирования межкультурной компетенции. К тому
же, художественный текст несёт в себе эстетическую интерпретацию, выраженную
в художественных образах, а также этическую позицию автора (Лаврикова 2005, цит.
по: Сопова 2007, с.82). Таким образом, воздействуя на эмоциональную и ценностно-
смысловую сферу личности, художественные тексты могут служить источником
обогащения её духовно-нравственного опыта в процессе формирования
коммуникативной компетенции, активизации и обогащению словарного запаса,
углублению страноведческих знаний, повышая мотивацию изучения иностранного
языка (Сопова 2007, с.82). Следовательно, активизация именно эмоциональной и
ценностно-смысловой сфер личности способствует повышению не только учебной
мотивации, но и мотивации к диалогу, к переоценке мировоззрения, анализу лингво-
культурологических различий, их акцептированию, что, в свою очередь, ведёт к
формированию межкультурной чувствительности, межкультурной перспективы и
эмпатичного понимания, и, в конечном результате, – к формированию
межкультурной компетенции.
Поэтический текст, кроме вышеперечисленных этических характеристик,
является носителем ритмических, рифмических и фонетических эстетических
особенностей, варьирующихся от языка к языку и отражающих характер, менталитет и
ценностные ориентиры личности в разных языках и культурах. Данные особенности
можно рассматривать параллельно с музыкально-интонационным богатством языка и
культуры. Так, Житкова и Качалов (2007, с.105-106) выделяя три стороны общения –
коммуникативную, интерактивную и перцептивную, - предлагают активизировать
их посредством использования музыкальных произведений на уроках обучения
иностранному языку, опираясь на факт «сходства материала речи и музыки, близости
функций речевой и музыкальной интонации»: интерактивную сторону общения –
через обмен идеями и мнениями на предмет прослушанных произведений,
перцептивную сторону – через восприятие и познание учащимися друг друга, через
восприятие и обсуждение произведения, а коммуникативную сторону – через обмен
информацией. Цитируя Quast (1996, цит. по: Житкова, Качалов 2007, с.106), те же
исследователи выделяют общие функции языка и музыки, а именно: способствование
как запоминанию и бессознательному учению, так и расслаблению; стимулирование
потребности в общении и усиление динамики в группе как результат; оптимизацию
мыслительных процессов. Подчёркиваются также возможные последействия
музыкального произведения, как побуждение к познавательной, коммуникативной
или творческой продуктивной деятельности (Житкова, Качалов 2007, с.106).
173
Как утверждает Рубинштейн (2009, с.318), «мысль, заострённая чувством,
сильнее убеждает, чем объективная, равнодушная, безразличная мысль». Обращаясь к
практике преподавания РКИ в турецкой аудитории, можно подтвердить данную мысль,
опираясь на позитивную реакцию учащихся при работе с поэтическим текстом.
Во-первых, прослушивание и чтение поэтических текстов пробуждает
внимание учащихся благодаря наличию ритма, рифмы и особой эмоциональной
интонации (см. оптимизация мыслительных процессов, способствование
расслаблению);
во-вторых - побуждает к активной работе над текстом, способствует развитию
языковой догадки благодаря сочетанию не известных учащемуся
изобразительно-выразительных средств языка и более понятной интонации (см.
побуждение к познавательной деятельности);
в-третьих – способствует сравнению интонационных характеристик
поэтического текста изучаемого и родного языков, пробуждает эмоции и
потребность делиться впечатлением с партнёрами по обучению (см.
стимулирование потребности в общении и усиление динамики в группе);
в-четвёртых – внутренне мотивирует запоминать, воспроизводить и
применять в собственной речи услышанное или прочитанное поэтическое
произведение или его лексику (способствование запоминанию и
бессознательному учению);
в-пятых – пробуждает к интерес к «пробе пера» - написанию собственных
аналогичных – содержащих лексику, повторяющих стиль, тематику,
фонетический или визуальный строй услышанного или прочитанного
поэтического текста – произведений (побуждение к творческой продуктивной
деятельности).
Сопоставление теоретических гипотез и практических наблюдений позволяет
сделать следующие выводы. Поэтический текст, совмещая в себе свойства языка и
музыкального произведения, является мотиватором различных видов продуктивной
учебной деятельности, в том числе и языковой, каждая из которых направлена на
диалог, общение – прямое или косвенное, на стремление понять, принять, и через
собственное «Я» выразить и прорефлектировать предмет изучаемой культуры,
особенности ценностно-этической стороны её представителей. В контексте
изучения иностранного языка, в частности, на уроках обучения РКИ, поэтический
текст может выполнять не только функцию ознакомления с литературным и
историческим наследием русской культуры, её фразеологическим, лексическим,
синтаксическим и фонетическим богатством, но и функцию основы формирования
межкультурной компетенции. Именно первичный опыт интеракции учащегося и
этического и эстетического содержания русской поэзии имеет потенциал
поспособствовать формированию межкультурной чувствительности,
межкультурной перспективы и эмпатичного понимания и, как следствие, стать
необходимым мотиватором интеграции в изучаемую культуру.
Список использованной литературы
o Денисова, Т.М. (2007). Роль аутентичных художественных текстов
в формировании межкультурной компетентности при обучении иностранному
языку. Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, 13, с.207-209. [02.05.2014]
http://elibrary.ru/defaultx.asp
174
o Житкова, Е.В., Качалов, Н,А. (2007). Музыкальные произведения
как средство обучения иноязычному общению. Вестник ТГПУ. Серия:
Гуманитарные науки (филология). Методика преподавания иностранных
языков, 4/67, с.104-108. [09.05.2014] http://elibrary.ru/defaultx.asp
o Рубинштейн, С.Л.. (2009). Основы общей психологии. Серия
«мастера психологии». С.-Петербург: ООО «Питер Пресс» [12.05.2014]
http://books.google.com.tr/
o Сопова, Н.В. (2007). Оригинальный художественный текст как
средство духовно-нравственного развития вторичной языковой личности.
Вестник ВГУ, серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2/1, с.80-87.
[02.05.2014] http://elibrary.ru/defaultx.asp
o Gill, S. (2007). Overseas Students’ Intercultural Adaptation as
Intercultural Learning: a Transformative Framework. Compare, 37/2, 167-183
o Jokikokko, K. (2005). Perspectives on Intercultural Competence.
Conditions for Intercultural Leraning and Co-operation. Eds. Räsanan, R., San, J.
Turku: Finnish Educational Research Association.
o Mestenhauser, J. A., Barsig, D. (1977). Foreign Student Advisers and
Learning with Foreign Students. Minneapolis: Minnesota University. [2008, oktoober
25] http://search.epnet.com
o Pelkonen, P. (2005). Intercultural Learning for International
Cooperation. Conditions for Intercultural Leraning and Co-operation. Eds. Räsanan,
R., San, J. Turku: Finnish Educational Research Association.
Аннотация
Данная статья рассматривает потенциал использования поэтического текста на
уроках РКИ в целях формирования межкультурной компетенции. Автор опирается на
способность поэтического текста совмещать в себе свойства языка и музыкального
произведения, которая мотивирует виды продуктивной языковой учебной
деятельности, направленые на диалог и стремление прорефлектировать изучаемую
культуру и её ценностно-этические особенности. Таким образом, интеракция
учащегося и этико-эстетического содержания русской поэзии может способствовать
формированию межкультурной компетенции.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, аутентичный текст,
поэтический художественный текст, индивидуальное значение, рефлексия.
175
Usage of authentic poetic fiction texts in Russian as foreign language lessons as a basis
for shaping intercultural competence
Annotation
This article focuses on the potential of usage of poetic texts in RFL lessons to shape
multicultural competence. The author bases on the ability of a poetic text to combine the
qualities of a spoken language and of a musical work, which motivates the types of productive
language learning activities fostering dialogue and tendency to reflect the learned culture and
its value and ethical features. Thus, the interaction between the learner and the ethical-
esthetical content of Russian poetry is able to foster the shaping of intercultural competence.
Key words: intercultural competence, authentic text, poetic fiction text, individual
meaning, reflection.
176
İNDEX
1. Р.М. Болгарова………………………………………………………….....……….…1
2. Х. В. Букатчук…………………………………………………..………....……….…3
3. Бонев Виктор Петрович…………………………………………..……………….…5
4. Возняк Святомира Васильевна.................................................................................9
5. С.В. Гузина……………………………………………………………..……………12
6. Э.А. Исламова………………………………………………………...………..……15
7. Л.П. Казанская, О.Г. Каменская……………………………………………………17
8. Короткова Лариса Владимировна…………………………………………….……20
9. О.И. Лазова………………………………………………………………………..…25
10. С. А. Муджири, И. Б. Капанадзе……...………………………………………….…27
11. О.Е.Орлова……………………………………………………………...……………30
12. Сарбаш Л.Н……………………………………………………………………..……33
13. Ситникова Виктория……………………………………………...…………………36
14. Е.В. Суровцева………………………………………………………………………40
15. Фесенко Эмилия Яковлевна……………………………………...…………………43
16. Н.Ш.Хинчагашвили…………………………………………………………………46
17. М.Б. Хожанов………………………………………………………………..………48
18. Т.А. Чеишвили - Москаленко …………………………………...…………………51
19. Шарапа А.А………………………………………………………………………….53
20. Тариел Сихарулидзе, Мурат Йылмаз………………………………....……………55
21. L.V. Adonina…………………………………………………………………………57
22. С.М. Аюпов, Т. Е. Харисова……………………………………...……………….60
23. С.Б. Аюпова ,Н.А. Куклина……………………………………………………...…63
24. С.Б. Аюпова ,Н.А. Куклина………………………………………………………...67
25. С.Б. Аюпова , С. Рамазанова ………………………………………………………72
26. Гюнеш Б., Поселенова А. В………………………………………………………...75
27. Г.А. Островская…………………………………………………………………..…77
28. А.В. Санникова……………………………………………………………...………80
29. З.Ф.Юсупова, Л.Ф.Юсупова……………………………………………………..…82
30. А.Ф.Галимуллина……………………………………………………………………84
177
31. М. О. Долидзе………………………………………………………………..………86
32. Жужуна Сихарулидзе, Лейла Авидзба …………………………………………….91
33. Анна Долидзе……………………………………………………………….….....…93
34. Т.А. Гоголадзе, Н.М. Миндиашвили…………………………………….…………96
35. А.Н.Муратова………………………………………………………………..………99
36. Насырова А.Б……………………………………………………………………….103
37. Л.С.Кислова………………………………………………………………………...105
38. Н.Б. Лапаева………………………………………………………………………...108
39. И.В. Милорава……………………………………………………………………...111
40. А.О. Абаганова……………………………………………………………………..115
41. Н.С. Иванова………………………………………………………………………..117
42. А.А. Исакова………………………………………………………………………..120
43. Чиалашвили-Гордеева Елена Шалвовна……………………………………….…124
44. И.А. Шаронов………………………………………………………………………127
45. А.Е. Кулумбетова, А.А. Джунисова………………………………………………129
46. Beyhan Asma………………………………………………………………………..132
47. Н.М.Дзеранова……………………………………………………………………...134
48. Е. Б. Бесолова………………………………………………………………………137
49. Фатима Абаева……………………………………………………………………..141
50. И. А. Кодзати…………………………………………………………….…………143
51. Hadi Bak………………………………………………………………...…………..146
52. М.В. Дарчиева……………………………………………………...………………151
53. Н.И. Николаев, Т.В. Швецова………………………………………………..……154
54. Л.В. Сафронова………………………………………………………….…………157
55. Кадырова О. Х………………………………………………………………...……159
56. Н.А. Кипиани…………………………………………………………….…………163
57. Н.А. Кипиани………………………………………………………….……………165
58. Церцвадзе Константин Гелаевич, Немсадзе Анна Тамазиевна………………....167
59. Olga Dalkılıç…………………………………………..……………………………170