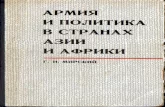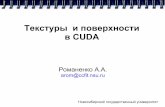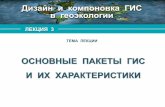Служба и служение: отставные военные в вятских и...
Transcript of Служба и служение: отставные военные в вятских и...
58 № 2 - 2014 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
АРМИЯ И ОБЩЕСТВО
ПОСКОЛЬКУ монастыри были недовольны возложенной на них повинностью, ссы-
лаясь на отсутствие средств для содержания военных, в 1723 году царь повелел больше монахов не постригать, а определять на ме-ста умерших иноков отставных военных. При желании они мог-ли принять монашество. Правда, вскоре стало очевидным, что при-нять постриг пожелают немногие из военных, да и те, кто станови-лись монахами, в основном были людьми неграмотными и не могли принять священство, чтобы слу-жить в храме. Поэтому в 1725 году
помимо отставных было разреше-но постригать и представителей вдового духовенства2. При этом военных, находившихся в дей-ствительной службе, постригать в монашество категорически за-прещалось.
Царский указ 1724 года подвёл определённый итог предшествую-щему законодательству в отноше-нии отставных военных. При мо-настырях указывалось создавать госпитали и богадельни. При этом число братии в монастыре должно было определяться количеством живших там отставных военных и «прочих прямых нищих»: от двух до четырёх солдат или нищих на одного монаха, в зависимости от тяжести их заболеваний. Осталь-ные же иноки, оставшиеся «за числом служения», должны были получить от монастыря землю и заниматься земледелием. При этом служащим монахам указыва-лось своих келий не иметь, а жить в чуланах в тех же больницах, где находились солдаты3.
Вопрос о социальном обе-спечении отставных военных и инвалидов в XVIII столетии при-влёк внимание историков ещё в XIX веке4. Новая волна интереса к теме проявилась уже в 2000-е годы5. Среди публикаций послед-него времени особо следует от-метить статью И.Г. Дурова, посвя-щённую законодательству Петра I в отношении отставных военных и его реализации в первой четверти XVIII века6. Однако в указанных ра-
ботах основное внимание уделя-лось анализу политики правитель-ства. Осуществление же указов на местах до сего дня остаётся малоизученным вопросом.
В Вятской и Великопермской епархии реализация петровских указов началась уже после смерти царя-реформатора. Первые от-ставные стали прибывать сюда в 1725 году. На выбор епархии и монастыря влияли мнения воен-ной коллегии и местного архие-рея, а также пожелание самого отставного военного. Первым делом вышедший в отставку по-лучал паспорт. В нём указывались полк и звание человека, возраст, внешние приметы («росту мало-го, лицем худощав, волосом и бровью сед, глаза карие, нос на конце широковат»), прежнее со-словие, место проживания до от-бытия на службу, время нахожде-ния на службе, место назначения (монастырь). Владельцу паспорта указывалось «…везде в россий-ских городах и уездах, где ему быть случится, чинить свободной и безпрепятственой пропуск и держать без всякаго опасения и при том показывать ему всякое благодеяние». Сам же военный «…никому никакого озлобления чинить не должен под опасением по указу штрафа»7.
Распределял присланных во-енных по монастырям епархии архиерей, исходя из того, где были «убылые монашеские пор-ции». Информацию об умерших
СЛУЖБА И СЛУЖЕНИЕ: ОТСТАВНЫЕ ВОЕННЫЕ В ВЯТСКИХ И ПЕРМСКИХ МОНАСТЫРЯХ В XVIII ВЕКЕ
Аннотация. В статье на примере монастырей Вятской и Великопермской епархии рассматривается вопрос социальной защиты отставных военных в XVIII в.
Ключевые слова: Пётр I; отставные военные; инвалиды; монастыри; Вятская и Великопермская епархия.
Summary. Giving an example of monasteries of the Vyatka and Great Perm´ diocese the article examines social protec-tion of retired military men in the XVIII century.
Keywords: Peter I; retired military men; disabled servicemen; monasteries; Vyatka and Great Perm´ diocese.
Система социальной защиты военных в России начала формироваться ещё в XVII веке. Но масштабный размах эта деятельность приобрела только в начале XVIII столетия. В условиях Северной войны, которая сделала многих солдат инвалидами, остро встал вопрос их даль-нейшего существования. При скудных ресурсах страны Пётр I, прагматично относившийся к Церкви, переложил основной груз этой проблемы на русские обители. Отставных военных стали направлять в синодальные богадельни и монастыри, которые должны были предо-ставлять им жильё и выдавать денежное и хлебное жалованье. Правда, посылать предпо-лагалось только тех, кто не имел собственного дома и денежных средств1.
Нестроевой пехотного полка 1763—1786 гг.
59ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 2 - 2014
Е.В. КУСТОВА. Служба и служение: отставные военные...
и выбывших монахах обители присылали каждую треть года. Например, в сентябре 1739 года из Коллегии экономии были при-сланы к вятскому архиерею для пропитания отставной вахмистр Василий Белоусов и лейб-гвардии Семёновского полка солдаты Иван Веренинин, Фёдор Кулаков, Григорий Рязанов. Оказалось, что в Успенском Трифоновом монастыре имелись 38 убылых монашеских порций, а из бра-тии Пыскорского монастыря за 10 лет выбыл 41 человек. Однако архиерей, исходя из своих инте-ресов, оставил всех военных при архиерейском доме, поскольку служителей там имелось «весь-ма малое число», указав жалова-нье им платить из убылых порций Пыскорского монастыря. Только Григорий Рязанов был отослан в Трифонов монастырь8.
Если отставной военный жил в прошлом в слободке какого-то монастыря, то, выйдя в отставку, он старался туда вернуться9. Не-которые из ветеранов поступали в монастырь не сразу, а спустя какое-то время. В 1745 году в Казани во время ревизии обна-ружили отставного солдата Шир-
ванского полка Иону Мурогова, который был уволен от службы ещё в 1729 году. Его отправили на родину, в Хлыновский уезд, где в то время ни дома, ни родных у него уже не было. Он ушёл в Ка-зань, стал жить на подворье Спас-ского монастыря, зарабатывая на пропитание работой. Поскольку Мурогов был родом из вотчин Трифонова монастыря, решено было определить его в больнич-ную келью обители и кормить как больничных монахов10.
Как свидетельствуют докумен-ты, солдаты и офицеры могли отказаться от предложенного места проживания. В 1748 году из-за большого числа отставных военных в Трифоновом мона-стыре было решено отправить несколько офицеров и солдат в Пыскорский монастырь. Однако поручик Феофилакт Максимов-ский заявил консистории (специ-альное присутственное место при епархиальных архиереях. — Е.К.), что «в Преображенской Пыскор-ской мнтрь (монастырь. — Е.К.) на пропитание ехать нежелает, а желает быть в домовых архиерей-ских вотчинах управителем, где будучи определённого указного
жалованья из вышереченного Успенского мнтря требовать себе не будет». Через месяц его вновь попытались отправить в Пыскор-ский монастырь, но в итоге были вынуждены оставить в Хлыно-ве11. Также в 1745 году отставной профос (армейский чин. — Е.К.) Яков Ребинин отказался ехать в Чердынский монастырь «за дал-ностию от града Хлынова». Ду-ховные власти были вынуждены смириться и оставить его в Три-фоновой обители12.
Повинность по содержанию военных в епархии несли только мужские монастыри. Основная тя-жесть этого груза легла на плечи крупнейшего в крае Успенского Трифонова монастыря. Военные начали прибывать в обитель в 1725 году. Первоначально были присла-ны на пропитание 10 отставных солдат. В 1739—1745 гг. их число увеличилось до 22 человек, в 1749 году — сократилось до 14, в 1757 году вновь увеличилось до 26. К 1764 году, вероятно, в связи с Се-милетней войной, их число резко возросло — до 166 человек, не считая 11, бывших в отлучке13.
Однако, как видно из таблицы, соотношение числа отставных и
Численность отставных военнослужащих
в Успенском Трифоновом монастыре в 1725—1764 гг.
Год Число отставных военнослужащих Число монахов
1725 10 99
1746 20 27
1764 177 36
Наименование военных чинов Размеры пенсионных окладов(1731)
руб. коп.
Полковник 100
Подполковник 50
Майор 49 66⅔Капитан 33 33⅓Поручик 26 66⅓Подпоручик 16 66⅓Прапорщик 16 66⅓Унтер-офицер 5 49
Рядовой 3 66
Размеры пенсионных окладов находившихся на довольствии в монастырях отставных военных,
установленных императрицей Анной Иоанновной (в год)
Составлена по: Дуров И.Г. Указ. соч. С. 45. Размеры пенсионных окладов 1722 г. автором указаны, по-видимому, на примере Троице-Сергиевой лавры, т.к. низшие офицеры и солдаты получали жалованье в зависимости от размера монашеских порций в том или ином монастыре.
60 № 2 - 2014 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
АРМИЯ И ОБЩЕСТВО
монахов менялось: если за 40 лет численность отставных увеличи-лась более чем в 17 раз, то число монашествующих сократилось почти втрое. В результате «удель-ный вес» солдат на одного монаха значительно возрос.
Если брать сведения по всем вятским и пермским монастырям, соотношение монашествующих и военных было следующим. В 1747 году на 116 монашествующих при-ходилось 49 отставных (11 обер-офицеров, 8 унтер-офицеров, 30 рядовых солдат, драгун, матросов). Однако с учетом жён и детей, жив-ших вместе с военными, положе-ние было гораздо более сложным. Больше всего военных было в Три-фоновой (20 человек) и Пыскор-ской (14 человек) обителях14.
Монастыри должны были со-держать военных, выдавая им денежное жалованье и хлебное довольствие. Оно сильно раз-личалось в зависимости от зва-ния. По указу 1722 года рядовым должны были давать по одной монашеской порции, унтер-офи-церам — по полторы, а штаб и обер-офицерам — в соответствии с регламентом. В 1731 году чётко были определены размеры жа-лованья вне зависимости от мо-настыря, правда, одновременно размеры пенсионного оклада со-кратились15.
Насколько велика была сумма по сравнению с покупательной спо-собностью рубля в тот период? Так, в 1716 году фунт хлеба (409,5 г) стоил 1 коп., четверть крупы (около 131 кг) — 3 руб., фунт го-вядины — 4 коп., фунт сливочного масла — 11 коп., кружка вина — 20 коп., 8 пудов соли — 5 руб.
Кроме того, унтер-офицеры и солдаты получали от монастыря хлебное жалованье: холостые по 3 четверти 1,5 четверика16, женатые — в два раза больше17. Общая сумма, которую тратил мо-настырь на содержание военных, менялась вместе с их численно-стью. Так, в 1725 году Трифонов монастырь тратил в год на 10 че-ловек 59 р. 17 к. и 65 четвертей 6 четвериков хлеба18. В 1764 году на 166 военных в год обителью расходовались 1035 р. 22 к., 630 четвертей ржи и 39 четвертей 3 четверика крупы19.
Повинность для монастыря была очень тяжёлой. Например, во всех вятских монастырях в 1745 году содержались 48 человек, на которых тратились 488 р., не счи-тая ржи и овсяной крупы. Из них основную сумму (303 р. 72 к.) пла-тил военным Успенский Трифонов монастырь20. Такое положение дел не позволяло монастырским властям выдавать монахам поло-женное по закону жалованье: «…а монашествующим… денежных и хлебных порцей в даче не произ-водится за скудостию и умалени-ем монастырских доходов, а пита-ютца монахи за общею мнтрскою трапезою также и одеянии полу-чают из общества мнтрского»21. Среднее жалованье монахов в то время составляло 5 рублей в год.
Документы последующих лет также свидетельствуют о том, что монастырю содержание солдат было непосильно. В 1740—1750-е годы в консисторию неоднократ-но поступали прошения отставных военных, живших в монастыре, с требованием выдать жалованье22. К примеру, поручик Матвей Маче-хин поступил в Трифонов мона-стырь в 1751 году после много-летней службы. Монастырские власти отправили его в Кырчан-скую и Куменскую вотчины для сбора с крестьян подушных денег. Несколько лет он не получал ни хлебного, ни денежного жалова-нья от монастыря, отчего пришел «во всеконечную скудость», хотя о выдаче жалованья в монасты-ре «многократно просил». Из-за скудости он был вынужден уехать из вотчин в Уржумский уезд, где и стал жить, продолжая просить выдать жалованье за годы, про-ведённые в монастыре23. В 1758 году находившийся «за старостию и дряхлостию» в монастыре «ге-нерал-маэор» Фон-Штокман вме-сто жалованья пожелал получить от монастыря пищу. Этот немец на русской службе был известен
тем, что в 1743 году возглавил по-стройку Оренбургской крепости, и в честь него даже был назван один из бастионов города. Одна-ко заслуги не помогли: монастырь не смог ему выдать ни пищи, ни жалованья24.
Ещё в 1748 году монастырь стал возражать против такой повинно-сти. Архимандрит Иоасаф писал в духовное правление, что дохо-дов у монастыря 872 руб. в год, из которых платится в канцелярию Синодального экономического правления 335,5 руб. Оставшие-ся деньги необходимы на содер-жание братии, офицеров кормить нечем, да и в будущем платить им жалованье не из чего. Некоторые из них «жалованья уже более года не получают». Монастырь в то время содержал 23 военных, не считая около 200 студентов. Было решено оставить из военных в Хлынове капитана, унтер-офице-ров, 5 рядовых, а также студентов, а остальных отослать в богатый Пыскорский монастырь, где ис-пользовать их для управления со-ляными промыслами25.
Вятская духовная консистория пыталась воздействовать на мо-настырь, указывая выдавать во-енным хлеб и деньги, «дабы оныя отставныя в содержании себе с домашними не претерпевали крайней нужды и более в духов-ную консисторию от них проше-ний не было»26. Правда, откуда брать необходимые средства, не сообщалось. Тяжёлое положение монастыря в результате пожара 1752 года и крестьянских волне-ний 1740—1750-х годов вынудило духовные власти в 1757 году про-сить канцелярию Синодального экономического правления боль-ше никого в Успенский Трифонов монастырь не определять27.
Возникали проблемы с обеспе-чением солдат и у других вятских монастырей28. Некоторые из бед-ных монастырей заранее огова-ривали, что не будут выплачивать денежного жалованья, а только хлебное29. Иногда вместо жалова-нья больным военным предостав-лялось содержание больничных монахов. В 1746 году отставной солдат Вологодского пехотного полка Климонт Головин требовал себе «за не имением себе ника-кого препитания за старостию и дряхлостию и за слепотою на препитание в Успенский Трифо-нов монастырь». Взят он был в военную службу из Бобинской архиерейской вотчины в 1711 году и был уволен в 1721 году. Его
Офицер инвалидного корпуса 1756—1761 гг.
61ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 2 - 2014
Е.В. КУСТОВА. Служба и служение: отставные военные...
решили отослать в Верхочепец-кий Крестовоздвиженский мона-стырь, где определить в больнич-ную келью и кормить с братией, а жалованья особо не давать30.
Что известно о военных, кото-рые поступали в монастыри, и как протекала здесь их жизнь? Читая их имена и истории болезни, можно представить всю тяжесть профессии и военного быта того времени, когда солдаты служили бессрочно (25-летний срок был введён только в 1793 г.) и не имели шанса вернуться домой здоровы-ми. Одни болезни происходили от «старости и дряхлости» (паралич, удушье, глухота, слепота, ломота в ногах, «великий в голове шум»). Но большинство было получено во время сражений: многочис-ленные раны, «волочение ноги», отсутствие пальцев, рук и ног, оторванных ядром, «чахоточная болезнь, коя ему приключилась от разбитья пушечною картечью гру-ди». Встречаются «раздавление груди фурою», «помятие рук, ног и всего корпуса патронным ящи-ком». У каждого рода войск были и свои особые недуги: «обозжение груди и головы порохом» у бом-бардиров, переломы, «разбитие» лошадью ног и рук у кирасиров и драгун. Появлялись многочислен-ные болезни и от тяжёлых условий военного быта: грыжа, цинга, вы-вихи, «животная болезнь», чахот-ка, «лаптурная болезнь» (по одной из гипотез название болезни ука-зывало на бледную кожу. — Е.К.), отгнитие пальцев, «меленхоличе-ская болезнь», косноязычие, «кро-вавый понос» (дизентерия?)31.
В обителях содержались в ос-новном военные преклонных лет. Так, в 1744 году в Трифоновом монастыре находились: майор 53 лет, рангом ниже шли 2 капитана 77 и 70 лет, 4 поручика 75, 64, 61 и 57 лет, 2 прапорщика 55 и 45 лет, 2 сержанта 54 лет, гвардии солдат 59 лет, 3 капрала 35, 26 и 67 лет, 2 солдата 48 и 72 лет, драгун 62 лет, плотник от флота 62 лет32.
Многие, находясь на службе или выйдя в отставку, женились. Из 50 отставных, находившихся в вятских и пермских монастырях в 1744 году, 13 имели при себе семьи. Монастырь оказывал влияние на их жизнь. Так, в 1758 году по просьбе находящегося в Трифоновой обители отставного прапорщика Анисима Увыкина была крещена его жена-люте-ранка Анна33. Правда, вышедшим в отставку не всегда удавалось воссоединиться с семьей по-
сле отправки в монастырь. Так, в 1757 году находившийся на про-питании солдат Даниил Шулятьев, живший в Хлыновском монасты-ре, был вынужден ездить к своей жене в Москву34.
Некоторые из военных, живших в монастырях, имели при себе де-тей. К примеру, в 1744 году в Три-фоновом монастыре у поручика был 4-месячный сын, у квартир-мейстера — 13-летний сын, у сер-жанта сын учился в Петербурге в солдатской школе, а при нём жил пасынок отставного солдата 4 лет, у солдата — 3-летний сын. Жили в то время при монастыре и дети умерших отставных: сын сержанта 15 лет, сын капрала 14 лет, а также трое детей умершего капрала Ми-рона Прокопьева: Алексей 14 лет, Иван 9 лет, Савва 1,5 лет. Кто-то из солдат брал детей из пленных для воспитания. Так, майор Афа-насий Дьячков, не имевший своих детей, держал при себе «завоё-ванного башкирёнка новокрещён-ного Ивана 18 лет». Воспитывал 14-летнего крещёного башкира и живший при монастыре слепой подпоручик Андрей Попов35.
Монастыри не всем предостав-ляли жильё в городе или в мона-стырских слободках около обите-ли. Так, в 1745 году в Успенском Трифоновом монастыре из 20 отставных чинов 11 жили в своих домах или на квартирах в вотчи-нах и слободках монастыря, 1 — в больничной келье обители, 2 — в братской келье36. Военные мог-ли уехать домой или к родным. В этом случае на время поездки жалованье им не выплачивалось37. Также не платилось жалованье
постоянно жившим за предела-ми монастыря и его вотчин. На-пример, в 1751 году игумен Вер-хочепецкого монастыря Феодот (Ившин) просил освободить его от уплаты жалованья поручику Се-мёну Аристову или перевести того в другое место. Помимо малодо-ходности монастыря и постигшего его неурожая основным доводом стало проживание поручика в соб-ственном доме в г. Хлынове38. Это предложение поддержал и сам Аристов, попросив перевести его в более обеспеченный Успенский Трифонов монастырь и пообещав исполнять любое возложенное на него послушание39.
Присланных военных старались привлечь к работам и службе по духовному ведомству. Монастыри были заинтересованы в присылке относительно здоровых солдат и низших офицеров (унтер-офи-церов): им меньше полагалось жалованья, и больше работы можно было на них возложить. Обер-офицеров просили не при-сылать, поскольку им не из чего было платить положенное по за-кону жалованье40. Причём стара-лись дать послушание не только сравнительно здоровым, но даже больным и увечным воинам41.
Порой военные сами просились в ту или иную обитель, выражая готовность исполнять возложен-ную на них работу. В 1751 году отставной прапорщик Анисим Увыкин был перевёден по жела-нию из московского Симонова монастыря в Трифонов, указав, что «…есть ли какое по усмотре-нию того монастыря властей по достоинству ево определено бу-
План Пыскорского Спасо-Преображенского монастыряВторая половина XVIII в.
62 № 2 - 2014 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
АРМИЯ И ОБЩЕСТВО
дет послушание, оное исполнять всетщателно будет»42.
Каковы были послушания для военных? Большинство были за-нято монастырским хозяйством. Они собирали хлеб и съестные припасы у монастырских кре-стьян, «помольные» деньги на монастырских мельницах, «над-зирали скот и лошадей». В мона-
стырских сёлах солдаты следили за работой крестьян и наёмных работников, вместе со старо-стами, выборными сборщиками и монастырскими служителями собирали подати и недоимки. Особенно почётным и денежным для отставных офицеров являлась должность управителя монастыр-ских и архиерейских вотчин. Бо-лее того, 30 сентября 1757 года вышел особый указ о назначении в монастырские вотчины управ-ляющими отставных офицеров, который закрепил существовав-шее положение дел.
Также отставные служили кара-ульными при духовной консисто-рии, рассыльщиками, содержали ямскую гоньбу. Иногда солдат от-правляли на тяжёлое послушание в хлебню — сеять муку для пече-ния хлеба братии. Грамотные при казённой келье читали присылав-шиеся в монастырь указы и вели монастырские письменные дела. Благочестивых солдат оставляли в храме следить за тем, чтобы во время богослужений было без-молвие, «…а хто с кем учнёт иметь разговоры и с такового брать штраф по указу». В Пыскорском монастыре, который имел ос-новные доходы от продажи соли,
5 отставных солдат и офицеров находились при промысловых делах — они следили за соляной вываркой, вели дела в соляной конторе, находились у продажи соли, порой способные солдаты «за неимением монашествующих» исполняли чисто монастырские должности келаря и казначея43.
В 1748 году «из-за крайней нуж-ды в монашествующих» на долж-ность эконома архиерейского дома был назначен отставной поручик Петр Вестов, которого отправили в архиерейские вот-чины для измерения земли и за-писи собранного хлеба44. До 1756 года был депутатом по новокре-щённым в воеводской канцелярии Слободского уезда прапорщик Анисим Увыкин45.
Власти использовали знания и опыт отставных в военном деле. В 1739 году для сбора с пермских солеварен драгунских лошадей и рекрутов был отправлен находив-шийся в Пыскорском монастыре поручик Семён Аристов46. В 1746 году вятская провинциальная кон-систория просила находившегося в Трифоновом монастыре пору-чика Филарета Максимовского, «ежели оной в том монастыре никакими делами не обязан, для
Рядовой драгунского полка 1732—1742 гг.
Монастырь / пустынь Числоотставных военных
Средний возраст
Из них женатых
При них детей мужского пола
Успенский Трифонов 20 58 4 11, в т.ч. 2 «башкирёнка», 6 пасынков
Слободской Богоявленский 2 67 1 —
Верхочепецкий Крестовоздвиженский 4 66 3 2
Подгородный Богословский — — — —
Истобенский Троицкий 4 50 2 3
Пыскорский Преображенский 12 66 2 3
Соликамский Вознесенский 1 62 — —
Чердынский Богословский 2 68 — 1
Шерьинская Богородицкая — (двое приняли постриг в 1744 г.) — — —
Оханная Зосимосавватиевская 1 60 — —
Верхъязвенская Успенская 3 56 1 1
Чусовская Успенская 1 63 — —
Итого по всем монастырям:
1 штаб-офицер,14 обер-офицеров,14 унтер-офицеров,21 рядовой,всего 50 человек
13 21
Семейное положение отставных военных в вятских и пермских монастырях в 1744 году
Составлена по: ГА КО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 392. Л. 5, 8, 9 об.—11 об., 13, 15, 16, 20—23 об., 30—34, 43, 50.
63ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 2 - 2014
Е.В. КУСТОВА. Служба и служение: отставные военные...
надлежащего нынешнего на-бора рекрут до отправления к полкам содержания и обучения экзерциции отослать во оную канцелярию»47. В том же году по определению магистрата от ду-ховных вотчин полицмейстером в Хлынове был назначен содержав-шийся в Трифоновом монастыре отставник Яков Ребинин. Он дол-жен был распределять орудия для тушения пожара по дворам служи-телей и разночинцев Успенского монастыря и архиерейского дома, следить, чтобы не было драк и других «непотребных поступков», а виновных приводить в конси-сторию48. В мае 1763 года Вят-ский провинциальный магистрат просил о присылке из Трифонова монастыря до 15 человек обер- и унтер-офицеров «для посылки и поимки злодеев»49.
Так, в 1745—1746 гг. из 48 от-ставных, живших в монастырях епархии, в работах были задей-ствованы 27, остальные жили «праздно», в основном по состо-янию здоровья50.
Многое зависело от личных качеств и морального уровня отставных. Монастыри были за-интересованы в том, чтобы жив-шие у них военные не нарушали благочестия и спокойствия, по-этому архиерей наставлял их «…житие иметь благочинное и быть у настоятеля в послушании и не пьянствовать, а естли станет чи-нитца непослушен и ево оттого монастыря отрешить невозбран-но»51. Однако подобные увещева-ния не всегда находили должный отклик. Встречались бывшие во-енные, склонные к рукоприклад-ству, воровству и доносам. Так, в 1746 году в Пыскорском мо-настыре жил отставной капитан Худошин. О нём сообщалось, что «будучи в 745-ом году от соляных оного монастыря промыслов до нижнего в лодейном с солью ка-раване послан главным управите-лем и явился подозрительным во употреблении из оного каравана немалого числа на свои прихоти денежной казны, о чем произво-дится следствие»52. В 1744 году прапорщик Афанасий Карсунский ложно обвинил архимандрита Трифонова монастыря, а также казначея и подьячего «по 2 пун-кту», который касался вопроса «о бунте и измене» против государя или государства53.
Чтобы военные не наруша-ли сложившийся монастырский уклад, их старались переводить в вотчины. Но и там порой бывшие
военные злоупотребляли своим положением и применяли по отно-шению к мирному населению зако-ны и нравы военного времени. Так, в 1739 году казначей Трифонова монастыря жаловался на отстав-ного поручика Семёна Аристова, что он, будучи управителем Сун-ской вотчины, крестьянских мужа и жену бил «батожьём безвинно» и убил их 20-летнего сына54. В том же году были наказаны «плетьми нещадно» двое солдат из Котель-ничского Предтеченского мона-стыря, которые собирали недо-имки «насильством»55.
Но были и противоположные случаи. Например, живший в 1740-е годы в Трифоновом мона-стыре отставной майор Афанасий Дьячков отдавал своё денежное жалованье в Троицкий кафедраль-ный собор Хлынова «на строение и на покупку на свещи воску», а сам кормился в архиерейской Кырмыжской вотчине, куда был направлен управителем56.
В целом отставные в вятских и пермских монастырях вели себя за редким исключением доста-точно благочестиво, что далеко не всегда наблюдалось в других российских монастырях. В не-которых обителях новые насель-ники из числа бывших солдат нередко бесчинствовали, устра-ивали драки. Дело доходило до того, что монахи порой бесцере-монно изгонялись из монасты-рей, и монастырские вотчины оставались без надзора. Позд-нее Монастырский приказ был вынужден возвращать изгнанных монахов в свои обители, чтобы восстановить подорванное мо-настырское хозяйство57.
Судьба военных, живших в монастырях, складывалась по-разному. Основная масса за-вершила в стенах обители или в монастырских землях свои дни. Причём некоторые жили здесь по 20 лет и более. В 1750 году в Три-фоновом монастыре скончался отставной капитан Иван Широков, который находился там с 1729 года. Несколько лет он являлся управителем Куменской вотчины, где у него был собственный дом58.
Были редкие исключения, когда военные возвращались на службу. В 1748 году в Хлыновский мона-стырь поступил «за болезнию» Ярославского пехотного полка отставной поручик Петр Вестов. Спустя три года он сообщал сво-ему начальству, что «…ныне де от показанной болезни своей чув-ствует облегчение и желает в во-
енной или гражданской пределах службе быть»59.
Некоторые шли по третьему пути, сменяя службу Отечеству на служение Богу. Правда, та-ковых всегда было немного60. В этом проявилось существенное отличие вятских монастырей от уральских и сибирских, где значи-тельную долю монашествующих составляли именно служилые со-словия61.
Обычно желавшие принять по-стриг из военных находились в монастырских послушаниях пол-года, после чего по закону без разрешения Синода принимали постриг. Впервые прошение о по-стрижении военных в вятских и пермских монастырях встречает-ся в 1738 году. «Семён Иванов сын Титов» с 1715 по 1721 год служил в полку Санкт-Петербургского гарнизона, в 1721 году был пере-ведён в команду для переписи населения и до 1732 года служил в Царицынском пехотном полку. В 1732 году «за очною» и иными болезнями вышел в отставку и уехал домой в Переяславль-Ря-занский, где прожил несколько лет. А в 1738 году «…по обещанию своему приехал в город Хлынов для восприятия иноческаго чина в Успенской Трифонов монастырь». Правда, когда он ехал в Хлынов, его ограбили разбойники, за-брав у него вклад в монастырь. Это были золотые и серебряные богослужебные сосуды, золотая парча, иконы, украшенные жемчу-гом и позолоченными окладами, серебряная, оловянная и медная посуда, монашеское облачение, повседневная одежда, пара лоша-
Рядовые пехотных гарнизонных полков 1720—1732 гг.
64 № 2 - 2014 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
АРМИЯ И ОБЩЕСТВО
дей и коляска. Отставной прапор-щик вез с собой денежных и ма-териальных ценностей примерно на 1,5 тыс. руб. Мы оставляем за рамками статьи вопрос об источ-нике этих средств, отметим лишь, что жалованье прапорщика в то время составляло около 50 руб. в год62, а годовой доход Трифонова монастыря обычно не превышал 900 руб., из которых 335 руб. от-сылалось в Коллегию экономии. Наверняка с таким вкладом пору-чик рассчитывал на особый приём в обители, однако судьба распо-рядилась иначе63.
В 1744 году приняли постриг двое отставных военных из Ше-рьинской пустыни — боцман Пимин Никифоров сын Монин (в монашестве Петр) и солдат Андрей Афанасьев сын Шлыков (наречён Александром). Андрей женат не был, а у Пимина жена умерла лет 10 назад, детей не осталось64.
Следующее прошение от во-енных на пострижение поступи-ло только в 1755 году. Отставной солдат Трифонова монастыря Ти-мофей Михеев просил за старо-стью и болезнями постричь его в монахи65. В 1757 году там же принял монашество отставной прапорщик Сидор Моденов, ко-торый служил конюшим в мона-стыре и являлся монастырским вкладчиком66. В 1759 году сразу 5 отставных военных, живших при Трифоновом монастыре, подали прошение о пострижении. Среди них — проведшие в обители 20 лет вдовец, отставной поручик Семён Аристов и бывший драгун Дмитрий Глистин. Они поступили в монастырь ещё в 1739—1740 гг. и приняли здесь постриг «за со-вершенною старостию»67. В том же году был пострижен в мона-шество бывший плотник 1-й ко-рабельной команды Андрей Фё-доров, просили о пострижении солдат Аника Бородулин и драгун Нестор Лобовиков68.
В последующие годы XVIII сто-летия, когда монастыри уже не содержали отставных военных, известны лишь три обращения с просьбой о постриге, причём все они относились также к Успенско-му Трифонову монастырю. В 1764 году солдат Пётр Костылев, про-жив какое-то время в монастыре, был отпущен домой в Сунскую вотчину на содержание родствен-ников. Однако вскоре он обратил-ся с прошением о постриге: «Же-лает всеусердно воспринять чин монашеский и пребывание иметь в реченном Успенском монастыре до скончания жизни ево». Его раз-решили постричь, но пребывать
указали в Крестовоздвиженском Верхочепецком монастыре69.
В ноябре 1788 года в Трифонову обитель поступил секунд-майор дворянин Николай Иванович Еси-пов. Его служба началась в 1739 году в 12-летнем возрасте, когда он был записан в полк. В 1763 году он вышел в отставку, после чего с 1765 по 1788 год находился при статских делах. Семейная жизнь его не сложилась: жена умерла, не оставив детей. Поэтому офи-цер просил «…по оскудению в служении сил ево, а особливо по старости ево, как ему от роду шестьдесят два года, во избежа-ние от мирских сует, усердное желание имеет воспринять чин монашеский и быть в Успенском Трифонове монастыре, просил о пострижении ево в монашеский чин». Ему было позволено жить в монастыре «в надежде постриже-ния»70.
Кто-то сворачивал в жизни с ду-ховной стези и сложными путями вновь возвращался на неё. В 1799 году поступило прошение от от-ставного солдата Костромской роты Якова Осипова Княгина. Сын дьячка Нолинского уезда, он об-учался в славяно-латинской шко-ле, затем служил канцелярским работником в духовном ведом-стве. Будучи подканцеляристом Вятской духовной консистории, в 1796 году выдал справку о венча-нии крестьянскому малолетнему сыну, ложно увеличив его возраст, к тому же был замечен в пьянстве. За это в 1797 году 66-летний Кня-гин был отдан в военную службу, а через год вышел в отставку. Полу-чил он и увольнительный паспорт из армии: «За имеющимися в нём болезнями и за старостию лет от службы уволен на собственное пропитание в город Вятку с тем, чтоб он по миру не ходил, мило-стыни не просил, платье немец-кое носил, бороду брил, и никому никаких обид не чинил, а вёл себя честно и благопристойно». Остав-шись без средств к пропитанию и потеряв в 1798 году свою супругу, Княгин обратился с прошением о принятии монашества в Три-фоновом монастыре, в котором желал находиться «до скончания жизни»71.
В результате секуляризации церковных земель 1764 года, по которой они перешли в соб-ственность государства, мона-стыри избавились от повинности по содержанию солдат. В указе Екатерины II говорилось: «Мы знатную годовую сумму от той же
Вятский Успенский Трифонов монастырьКонец XIX в.
План Вятского Успенского Трифонова монастыряКонец XVIII в.РГВА
65ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 2 - 2014
Е.В. КУСТОВА. Служба и служение: отставные военные...
Коллегии Экономии определили на пенсию верно и долговремен-но служившим и без пропитания оставшимся Офицерам, на инва-лидов, на госпитали, богадельни и на многия по смерть временныя дачи, такожде вдовам и сиротам, и всего более 250 000 рублей в год к тому назначили»72. Военные были направлены в разные горо-да, среди которых были города Вятской провинции Хлынов и Сло-бодской73. Вскоре за Трифоновым монастырём появилась особая инвалидная слободка. Жившие в ней военные поступили в распо-ряжение и на обеспечение граж-данских властей. В 1764 году из бывших при Успенском монасты-ре военных 12 человек были на-правлены в штат провинциальной канцелярии74. Сведения о судьбе военных других монастырей не сохранились.
В Вятской и Великопермской епархии петровские указы, свя-занные с содержанием отстав-ных военных, проводились в жизнь с некоторым отставанием. Далеко не все инициативы Петра I были реализованы. Некоторые из законов, в частности, указ 1724 года о создании госпиталей и введении штатов монахов, ока-зались в полном забвении, что было характерно и для многих других российских обителей. В то же время вятские и пермские монастыри при скудости своих средств сумели исполнить воз-ложенную на них государством повинность: на протяжении 40 лет содержали отставных во-енных русской армии, что по-рой ставило сами монастыри на грань выживания.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Полное собрание законов Россий-ской империи. Собрание 1-е (ПСЗ-I). Т. 5. № 3409. Указ 29 июня 1719 г.; Т. 6. № 3576. 3 мая 1720 г.; № 3962. Указ 12 апреля 1722 г.; Т. 7. № 4183. Указ 8 марта 1723 г.
2 Там же. Т. 7. № 4151. Указ 28 января 1723 г.; № 4672. Указ 3 марта 1725 г.
3 Там же. № 4450. Указ 31 января 1724 г.4 Исторический очерк призрения
отставных военных чинов в России с XIV по XVII вв. // Военный сборник. 1863. № 12. С. 315—390; Каверзнев А.Н. Краткое историческое обозрение пра-вительственных мероприятий в России по обеспечению отставных служащих и их семейств. СПб., 1909; Лебедев А.С. Отставные военные на монастырских порциях в монастырях. М., 1881; Ма-лицкий Н.В. Инвалиды на содержании монастырей Владимирской епархии
// Владимирские епархиальные ве-домости. 1904. № 11. Часть. неофиц. С. 356—360; Россов. Исторический очерк призрения в России отставных военных чинов в прошлом веке и в на-чале нынешнего столетия // Военный сборник. 1863. № 4. С. 240—256; Энский Ф. Отставные солдаты. СПб., 1873.
5 Козлова Н. «За старостью и болез-нями от службы отставлен» // Родина. 2009. № 2. С. 99—103; Попов Ю.М. За-рождение системы социальной защиты военнослужащих (XVIII в.) // Воронеж-ский вестник архивиста. 2004. Вып. 2. С. 133—152; Щербинина Ю.В. Особен-ности формирования системы социаль-ной защиты военнослужащих в XVIII—XIX вв. // Гуманитарные науки: про-блемы и решения. СПб., 2005. Вып. 3. С. 91—93.
6 Дуров И.Г. Пенсионное обеспечение отставных военных и морских чинов в монастырях Русской православной церкви в первой четверти XVIII в. // Меншиковские чтения — 2010: науч-ный альманах. СПб., 2010. Вып. 1(8). С. 20—54.
7 Государственный архив Кировской области (ГА КО). Ф. 237. Оп. 74. Д. 79. Л. 2, 2 об.
8 Там же. Оп. 2. Д. 3. Л. 94, 94 об.9 Там же. Д. 6. Л. 418, 418 об.10 Там же. Д. 7. Л. 103, 103 об.11 Там же. Д. 137. Л. 2, 2 об., 5—7.12 Там же. Д. 79. Л. 1, 2, 5 об., 7, 11, 12.13 Вятка: Материалы для истории го-
рода XVII—XVIII столетий. М., 1887. С. 253, 304, 305; ГА КО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 3. Л. 286 об., 367, 410; Оп. 2. Д. 11. Л. 319 об.; Оп. 74. Д. 27. Л. 29 об.; Д. 78. Л. 26—28, 50 об., 51.
14 Там же. Д. 136. Л. 83.15 ПСЗ-I. Т. 6. № 3962. Указ 12 апре-
ля 1722 г.; Т. 8. № 5688. Указ 31 января 1731 г.
16 Продовольственное снабжение во-еннослужащих делилось на порцион и рацион. К порциону относились про-дукты, выдававшиеся для питания лю-дей, а к рациону — фураж для лошадей. И порцион, и рацион для всех категорий военнослужащих был одинаковый. Раз-ница в уровне питания заключалась в том, сколько порционов и рационов по-лучал военнослужащий. Один суточный порцион состоял из следующих про-дуктов: хлеб — 2 фунта (819 г); мясо — 1 фунт (409,5 г); крупа — 219 г; вино (водка) — 2 чарки (246 мл); пиво — 1 гарнец (3,27 л); соль — 29 г. Четверть — мера измерения объема сыпучих тел. 1 четверть = 8 четверикам + 209,66 л. С конца ХVII в. 1 четверть ржи = 8 пудов = 131,04 кг.
17 Вятка. Материалы… С. 253.18 ГА КО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 27. Л. 25
об.—31 об.19 Вятка. Материалы… С. 260, 304.20 ГА КО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 78. Л. 54 об.21 Там же. Оп. 2. Д. 8. Л. 160 об.22 Там же. Д. 5. Л. 3; Д. 6. Л. 500—503,
547; Д. 15. Л. 337 и др.23 Там же. Д. 13. Л. 485, 485 об.24 Там же. Оп. 1. Д. 4. Л. 330.25 Там же. Оп. 2. Д. 11. Л. 319 об.; Оп.
74. Д. 137. Л. 2—4 об., 6, 9.26 Там же. Оп. 2. Д. 15. Л. 337.
27 Там же. Оп. 1. Д. 3. Л. 128.28 Там же. Оп. 2. Д. 3. Л. 51; Д. 7. Л. 186.29 Там же. Д. 4. Л. 131.30 Там же. Д. 8. Л. 107.31 Вятка. Материалы… С. 299—305.32 ГА КО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 392.
Л. 20—21 об.33 Там же. Оп. 1. Д. 4. Л. 193 об.34 Там же. Д. 3. Л. 416 об.35 Там же. Оп. 81. Д. 392. Л. 20, 21 об.36 Там же. Оп. 74. Д. 78. Л. 26—28, 50
об., 51.37 Там же. Оп. 1. Д. 2. Л. 21 об.; Оп. 2.
Д. 20а. Л. 813.38 Там же. Д. 1. Л. 490—492.39 Там же. Д. 14. Л. 95.40 Там же. Д. 13. Л. 769, 769 об.41 Там же. Д. 7. Л. 103, 103 об.42 Там же. Д. 13. Л. 274.43 Там же. Оп. 1. Д. 4. Л. 193 об.; Оп.
2. Д. 4. Л. 126—131, 134; Оп. 74. Д. 78. Л. 21, 24, 26—28, 31, 36, 36 об., 42 об., 44, 46, 50 об., 51; Д. 88. Л. 31, 57 об.; ПСЗ-I. Т. 14. № 10765. Указ 30 сент. 1757 г.
44 ГА КО. Ф. 237. Оп. 2. Д. 10. Л. 662, 662 об.
45 Там же. Оп. 1. Д. 1. Л. 527.46 Там же. Оп. 2. Д. 2. Л. 23.47 Там же. Д. 8. Л. 66.48 Там же. Л. 382, 382 об.49 Там же. Ф. 170. Оп. 1. Д. 353. Л. 121.50 Там же. Ф. 237. Оп. 74. Д. 78. 51 Там же. Оп. 2. Д. 3. Л. 136.52 Там же. Оп. 74. Д. 88. Л. 40, 41.53 Там же. Оп. 2. Д. 6. Л. 110, 111, 155.54 Там же. Д. 3. Л. 27.55 Там же. Д. 2. Л. 133.56 Там же. Д. 6. Л. 123, 123 об.57 Смолич И.К. Русское Монашество.
Возникновение. Развитие. Сущность. (988—1917). М., 1997. С. 265.
58 ГА КО. Ф. 237. Оп. 2. Д. 12. Л. 5.59 Там же. Оп. 1. Д. 1. Л. 527; Оп. 2.
Д. 13. Л. 769, 769 об.60 Там же. Оп. 81. Д. 6. Л. 53—60; Д. 45.61 См., например: Нечаева М.Ю.
Уральское монашество XVIII века: нормы и практика пострига // Религия и церковь в Сибири. Вып. 8. Тюмень, 1995. С. 24, 25.
62 Медушевский А.Н. Утверждение аб-солютизма в России. М., 1993. С. 241.
63 ГА КО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 137. Л. 2; Оп. 81. Д. 139. Л. 1; Д. 156. Л. 1, 2.
64 Там же. Д. 392. Л. 23 об., 25, 37 об.65 Там же. Оп. 2. Д. 17. Л. 59.66 Там же. Оп. 1. Д. 2. Л. 21 об.; Д. 3.
Л. 201 об.; Оп. 2. Д. 13. Л. 120, 120 об.; Ки-ровский областной краеведческий музей. № 3789. Синодик Вятского Успенского Трифонова монастыря. Л. 558 об.
67 ГА КО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 4. Л. 219, 438, 521; Оп. 2. Д. 3. Л. 27; Д. 14. Л. 95, 95 об.; Оп. 74. Д. 78. Л. 27 об., 28.
68 Там же. Оп. 1. Д. 4. Л. 476, 521, 543.69 Там же. Оп. 2. Д. 20а. Л. 813.70 Там же. Оп. 1. Д. 24. Л. 79, 79 об.71 Там же. Оп. 76. Д. 798. Л. 1—6.72 ПСЗ-I. Т. 16. № 12060. 26 февраля
1764 г.73 Там же. Т. 44. Ч. 2. Штаты по духов-
ной части. С. 33.74 ГА КО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 741. Л. 1.
Е.В. КУСТОВА