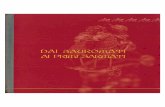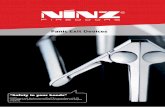Scientific Collection (exit N 5), Astrakhan branch, Russian Presidential Academy - RANEPA
Transcript of Scientific Collection (exit N 5), Astrakhan branch, Russian Presidential Academy - RANEPA
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Астраханский филиал
Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС
Сборник научных статей
Выпуск 5
Астрахань, 2014
2
УДК 3 ББК 6/8 Н 34
Редакционная коллегия: В.Г. Никифорова, кандидат экономических наук (гл. редактор);
Э.Ш. Идрисов, кандидат политических наук (отв. редактор); Н.Б. Горяшкиева, кандидат философских наук; Т.Б. Вайчулис, кандидат экономических наук;
Т.Н. Пэк, кандидат экономических наук.
Обсуждено на Ученом совете Аф РАНХиГС 30 мая 2014 года
Издание размещено в РИНЦ
Рецензенты: Ю.С. Фролова, доктор социологических наук
А.А. Курапов, кандидат исторических наук
Н 34 Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС: сборник научных
статей. Вып. 5. Челябинск: Изд-во Метеор-сити, 2014. – 164 с. ISBN 978-5-9905317-8-9 Сборник составлен из статей преподавателей вузов и сотрудников научных учреждений
России и Украины. Издание включает в себя материалы по региональной истории, пробле-мам современного регионального управления и социально-экономического развития.
Издание предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей и ученых в обла-сти общественных наук, государственных и муниципальных служащих.
© Астраханский филиал РАНХиГС, 2014
3
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ............................................................................................................. 5 Историческая регионалистика и социокультурное развитие ................ 6 Викторин В.М. Кочевая и полукочевая (номадная) межэтническая потестарность: ба-
ланс народовластия, этнократия и элитарность (на Волго-Каспийском порубежье Евразии) — к постановке проблем и история их изучения ....................................................................... 6
Грибовский В.В. Город Ногайск в контексте седентаризации приазовских ногайцев первой половины XIX века ........................................................................................................ 12
Ишмухамбетов Р.В. К историографии изучения служилых групп Внутренней Букеев-ской Орды .................................................................................................................................... 24
Кумуков А.М. Мусульманская община Китая ................................................................. 27 Никольский А.Б. Античное наследие в современной политической культуре ............ 29 Петрова Л.Н. К современной этнолингвокультурной политике в историческом Кур-
дистане и в связи с мировым «курдским фактором» ............................................................... 34 Торопицын И.В. Меры российских властей по пресечению и предупреждению побе-
гов астраханских юртовских татар за границу в XVIII веке ................................................... 38 Управление социально-политическими процессами ............................. 45 Казимагомедова З.А. Агропромышленный комплекс как основа продовольственной
безопасности региона.................................................................................................................. 45 Королева В.В. Установление «криминальных фильтров» в избирательной системе
России ........................................................................................................................................... 47 Лоскутова А.В. Государственно-частное партнерство в системе здравоохранения
Астраханской области ................................................................................................................ 50 Перепеченов А.А. Защита интеллектуальных прав в информационно-коммуникацион-
ных сетях: проблема и перспективы ......................................................................................... 53 Сенчукова Е.А. Имидж органов местного самоуправления: специфика и механизмы
совершенствования ..................................................................................................................... 56 Смагина К.С. Развитие «Открытого (Электронного) правительства» на региональном
уровне ........................................................................................................................................... 61 Смотрова А.И. Формирование и реализация системы обеспечения региональной без-
опасности на примере Южного Федерального округа (Астраханская область) ................... 63 Сулимин А.Н. Социосинергетический подход к процессам демократизации в совре-
менной России ............................................................................................................................. 65 Цымбалова О.А. Форсайт-технология как инструмент повышения активности на ре-
гиональном уровне ...................................................................................................................... 70
4
Региональная экономика, менеджмент и финансы ................................ 72 Вайчулис Т.Б. Проблема формирования капитала коммерческих банков в условиях
российской экономики ............................................................................................................... 72 Васильева В.А. Стратегия диверсификации сельскохозяйственного предприятия ..... 75 Зайцев С.В. Анализ инвестиционной привлекательности Астраханского региона ..... 77 Лебедева А.А. Организация бюджетного процесса в регионах России (на примере
УФК по Астраханской области) ................................................................................................ 91 Муравьёв С.Р. Характер связи инфляции и безработицы в российской экономике ... 96 Никифорова В.Г. Инновационный проект «Банк времени»: социально-корпоративная
взаимопомощь в условиях ограниченных финансовых ресурсов ........................................ 104 Пэк В.В., Пэк Т.Н. К вопросу о внедрении регулярного менеджмента на базе корпо-
ративных информационных систем ........................................................................................ 109 Развитие гражданского общества ............................................................ 112 Воробьева О.И., Идрисов Э.Ш. Оценка возможностей межсекторного социального
партнерства на региональном уровне (на примере Астраханской области) ....................... 112 Горяшкиева Н.Б.-Г. Актуальные аспекты развития гражданского общества в России..... 117 Давыдова Р.А. Политический ресурс региональной власти и гражданского общества:
настроения и интересы населения (на материалах Астраханской области) ....................... 120 Кишибаев Р.Я., Разгонникова Н.В. Оценка степени взаимодействия молодежи с ор-
ганами местного самоуправления Приволжского района Астраханской области (по мате-риалам социологического опроса) .......................................................................................... 125
Миронова Ю.Г. Общественные экологические организации и движения как субъекты формирования гражданского общества .................................................................................. 129
Шакирова В.Х. Добровольчество как ресурс развития территории ............................ 136 Проблемы воспитания, общего и профессионального образования .... 140 Богдюк Л.А. Роль информационных технологий в системе организации общего обра-
зования ....................................................................................................................................... 140 Зобнина О.А. Лингвокультурологический аспект формирования общекультурных
компетенций по предмету иностранный (английский) язык направления подготовки «Ме-неджмент» .................................................................................................................................. 144
Идрисов Э.Ш. К характеристике этнокультурных процессов и постановке этнокуль-турной работы в молодежной среде ........................................................................................ 148
Корникова А.И., Соловьёва С.В. Профессиональная адаптация на государственной службе: проблемы и способы решения ................................................................................... 152
Никифорова В.Г. Современный тренд развития в высшей школе .............................. 154 Список авторов работ ...................................................................................................... 161
5
ВВЕДЕНИЕ Предлагаемое издание является продолжением выпусков «Научного вестника», выхо-
дивших под грифом Астраханского филиала Волгоградской академии государственной службы. Традиционно в сборнике представлены научные статьи, посвященные актуаль-ным вопросам регионального развития Астраханской области. В этот раз мы решили при-гласить для участия в издании, кроме преподавателей филиала, коллег из научных цен-тров России и Украины. Характеризуя данный выпуск, также хочется отметить, что мы впервые предоставили место в сборнике для лучших публикаций студентам, проходящим обучение в нашем вузе.
В первом разделе сборника представлены статьи по проблемам исторической регио-налистики и социокультурного развития. Хочется отметить работы как известных уче-ных В.М. Викторина, В.В. Грибовского, А.Б. Никольского, И.В. Торопицына, так и ис-следования начинающих авторов Р.В. Ишмухамбетова, А.М. Кумукова и Л.Н. Петровой.
Второй раздел посвящен проблемам управления социально-политическими процесса-ми. Наиболее актуальными выглядят исследования В.В. Королевой и А.А. Перепеченова, посвященные правовым вопросам, а также теоретическое обобщение по политическому развитию современной России А.Н. Сулимина. Основное содержание раздела определили статьи студентов филиала З.А. Казимагомедовой, А.В. Лоскутовой, К.С. Смагиной, Е.А. Сенчуковой, А.И. Смотровой и О.А. Цымбаловой.
В третьем разделе издания представлены работы освещающие темы региональной экономики, менеджмента и финансов. Значимые вопросы менеджмента рассмотрены в статьях В.А. Васильевой, В.Г. Никифоровой, В.В. Пэк и Т.Н. Пэк, финансовая проблема-тика представлена материалами Т.Б. Вайчулис, А.А. Лебедевой, анализ инвестиционной привлекательности региона произведен в публикации С.В. Зайцева, взаимосвязь инфляции и безработицы в российской экономике проследил в свой статье С.Р. Муравьев.
Одним из направлений исследований наших преподавателей является изучение про-блем развития гражданского общества. Данной теме посвящен четвертый раздел. Здесь представлены как теоретическая статья Н.Б.-Г. Горяшкиевой, так и публикации, основан-ные на анализе социологических данных О.И. Воробьевой и Э.Ш. Идрисова, Р.А. Давыдо-вой, Р.Я. Кишибаева и Н.В. Разгонниковой, Ю.Г. Мироновой, В.Х. Шакировой.
Еще одним традиционным направлением исследований, представленным в сборнике, является проблема развития образования и современного воспитания молодежи. Пятый раздел сборника составлен из статей по этой теме. Современные тенденции развития об-щего и высшего образования рассмотрены в публикациях Л.А. Богдюк и В.Г. Никифоро-вой, компетентностному подходу в образовании менеджеров посвящена работа О.А. Зоб-ниной, проблема профессиональной адаптации рассмотрена в статье А.И. Корниковой и С.В. Соловьёвой, постановке этнокультурной воспитательной работы с молодежью по-священа статья Э.Ш. Идрисова.
Надеемся, что наш очередной выпуск «Научного вестника» вызовет интерес у всех, кто интересуется актуальными вопросами социально-политического, экономического и культурного развития России и сопредельных территорий.
Редакционная коллегия
6
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
В.М. ВИКТОРИН
КОЧЕВАЯ И ПОЛУКОЧЕВАЯ (НОМАДНАЯ) МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ПОТЕСТАРНОСТЬ: БАЛАНС НАРОДОВЛАСТИЯ,
ЭТНОКРАТИЯ И ЭЛИТАРНОСТЬ (НА ВОЛГО-КАСПИЙСКОМ ПОРУБЕЖЬЕ ЕВРАЗИИ) —
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМ И ИСТОРИИ ИХ ИЗУЧЕНИЯ Сложная мысленная связь истории с современностью и социальной прогностикой пред-
ставляет собою обширнейшее поле перспектив, состояний и ретроспектив — как по соб-ственно событийному ходу, так и в их научно-практическом постижении, в т.ч. и на приме-ре Астраханского региона. Напомним (включая и данный контекст) события ужé трёхлет-ней давности — I-ые преподавательские научные чтения во вновь учреждённом Аф ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», в рамках XIII-ой конференции студентов и учёных «Власть и общество», встречу-семинар по трендам демократии в России и в мире (от 11 апреля 2011 г.).
Право же, педагогам-исследователям было что обсудить. Известно, что политика есть способ организованного общения разнородных и разноуровневых социальных сущностей (даже в рамках отдельной семьи!). Это всегда баланс интересов, намерений и путей сов-местных действий людей. И демократия как прямая и косвенная власть народа (как и её «сопутствие»: публичное право-закон) — наиболее развитая её форма политики, во мно-гообразии её схем властвования.
Но политика и демократия, скорее всего, н е синхронны человеческому общежитию — они возникают (тем более, осознанно и оформляясь в целевом направлении) на его раз-витых этапах. Хотя предпосылки их имеют гораздо более глубинную древность. И именно о подобной стадиальности интересно и полезно вести дискуссию.
Это так, поскольку и демократия, и политика — это не только лишь античные изоб-ретения. Ибо их черты и особенности (вплоть до необычных) этнологи и этнополиологи усматривают повсюду на планете. Утвердившись в странах Европы, эти явления по-своему (и чуть ли не ранее …) воплотилась в Азии, Африке и Америке, бывшем зависи-мом и колониальном, развивающемся мире.
Несколько лет осмысления были полезны и поучительны. Думается, второй семи-нар, такого же рода и направления, станет желателен уже вскоре. И если обратиться к родному нам Нижневолжью и северу Прикаспия, их традициям, то откроется немало любопытного. Так же, как приобрела оригинальность в г. Астрахани научная школа вла-стоведения (политологии, «кратологии») и государствоведения («стэйтологии»).
Мы рассмотрим характерный для Востока, «аграрно-ирригационный, азиатский», об-раз жизни и труда, но — подробнее «азиатский мобильный, неоседлый» (кочевой и полу-кочевой) тип. Напомним, что «чистых» кочевников на планете насчитывается до 5-и млн., полукочевников — троекратно больше. Потомков тех и других, т.е. «носителей недавней кочевой традиции», можно насчитать сотни млн. чел.
Специфические «пред-политика» и её «пара-политология» (в форме «потестáрности» и «потестáроведения»), «около, возле-закон» существуют и по сей день. Проявляются они сейчас и в своей реальности, и в пережитках, в т.ч. и на фоне «образцовых», «античных» моделей политического влияния и руководства.
Формулируя актуальность и злободневность данного аспекта темы, несложно заме-тить, что вся обозначенная проблематика значительно обострилась на рубеже наших ты-сячелетий. Поскольку в событиях «Арабской Весны – 2011 г.», как и в синхронных и бо-
7
лее ранних кровопролитные конфликты на Кавказе, отразилась вся хозяйственно-культурная и социально-регулятивная специфика всех групп тамошнего населения. Точно так же, как разнородно-традиционный, сразу демократический и авторитарный, политиче-ский и «предполитический», «околополитический» (в новых терминах — «потестáрный») строй их, с оценочно-побудительным («обычно-правовым») оформлением (о большой ро-ли «обычного права», в принципе, подробно и инт. см. в [11, с. 120–127].
Разумеется, что наш, Астраханский, край гораздо стабильнее всех перечисленных, хо-тя по сути своей он — и приграничный, и «евразийский». И «характер власти» в степных и прибрежных пространствах, на пересечении торговых и транзитных магистралей разно-образен, но всегда и весьма специфичен.
Буквально под руками — неисчерпанный, обширный и многообразный фактический материал. Полезен и увлекателен и «региональный этнокультурный» срез властвования и властоведения. В т.ч. в историко-географическом Нижневолжье, за его многие прошед-шие века, в рамках Астраханских «воеводства – губернии – округа – области».
Несколько расширяя рамки дискуссии, коснёмся важных для участников обсуждения и нашего студенчества тенденций общего и специального изучения этого увлекательного блока научных вопросов. Подробнее, по в бóльшей мере фактологич., менее методич. ори-ентированной базе, сошлёмся здесь на крупную совместнуюстатью в строгом науч. изда-нии, вышедшую за минувшие годы в свет в г. Санкт-Петербурге [7, с. 102–108].
Источниковая база здесь невелика и нестандартна (вплоть до фольклора в публика-циях и собственных полевых сборов в экспедициях названных далее авторов). Обращаясь непосредственно к номадам и полуномадам юга России зафиксируем, что «потестáрность» и «обычное право» кочевников — явление очень многосоставное. От древнетюркского с проявлением ордынско-ханской «Ясы» Чингизидов, притом с важной и яркой этниче-ской спецификой в каждом отдельном случае, влиянием нормативной культуры воспри-нимаемых кочевниками религиозных систем. А под конец — влияние официального зако-на Российской империи.
Существенно, что свои устно-письменные правовые кодексы в рассматриваемое время приобретали, проводя традицию от «Великой Ясы (Ясака)» Чингиз-хана: калмыки — “Их(и) цааз, цааж, цаажин бичиг” — общеойратское «Великое степное уложение» в 1640 г., затем дополненные, уже в Астраханской губ., законами хана Дондук-Даши в 1750 г. и ещё «Зензелинскими протоколами» от 1822 г., казахи — «Законы хана Тауке — “Жеты Жаргы”», названные так, поскольку были оформлены в правление Таваккул — Мохаммеда Батыр-хана (в быту, сокращённо — “Тауке”), 1680–1718 гг.1
У отдельных групп ногайцев, но больше в крымско-кубанской их части возникали по-пытки кодификации обычаев — «адатов» (т.н. “Торе”, воспроизводимое к традициям Чин-гиз-хана)2. Затем их сменили, практически полностью, примирительные и согласовавтель-ные, согласительные процедуры — «маслагáты» (астраханско-тюркское., междиалектное произнесение “маслихáт”). Они создавались при старейшинах — а позже, с оседанием, при мечетях : как специфические советы-суды, действовашие тоже по традиции и её по-ниманию в коллективном быту.
Занятны позиции (в самой же кочевой среде) о мусульманах «лучших» и «худших». И хотя о ˜канлык˜ — «кровной мести» данных прямых нет, полукочевники считали по-гибших от рук кочевников не иначе как «павшими за веру» (˜ша’úт˜, ног. ˜сеúт˜); отсюда, кстати, и название с. Сеитовка.
Важнейший рубеж был пройден в теч. 1801 г. — при переселении, с царского разре-шения, в нижневолжские степи многочисленных казазов Внутренней (султана Букея Ну-ралиева) орды из состава Младшего жуза. С этого-то момента и произошло полное, хотя
1 Весьма ёмкое социорегулятивное понятие-концепт — Жаргы, яргы — имеет этимологич. происх. от.
тюрко-монг. «йаргу» (Г. Дёрфер, А.К. Арденс), перешедшего в перс. и афг. как «жарга, джарга», пушт. «джирга», в общ. комплексном значении — «собрание, сбор, совет, суд, отряд, военный строй».
2 Как и вообще, очевидно, гнездо правовых терминов «яса – ясак – ясыр – яса(в)ул – есаул».
8
и не весьма устойчивое размежевание сфер степного влияния, в общем вéдении астрахан-ского губернатора: с востока, в левобережье — казахи, с запада, в правобережье — кал-мыки (примерно равные вдоль Нижневолжья по численности).
Методологические основы и методический приёмы изучения фактических данных разнообразны — и не сложились окончательно. В сáмые давние предшествовавшие века проблемы «пред-политики» и разных форм «обычного прáва» в Европе рассматривали да-леко не только тогдашние политологии и юристы в Германии, но и философ Г.Ф.В. Ге-гель, фольклористы — знаменитые братья Гримм, в Скандинавии — «саговеды» К. Гисла-сон и С. Эгильсон, так же как и социокультурантропологи Э.Б. Тэйлор, Л.Г. Морган, Д.Д. Фрэзер, этнолог-регионовед Б. Малиновский и мн. др.
В науке же нашего Отечества отметим бесценный вклад специалистов по комплекс-ному и «смежному» гуманитарному знанию. Среди них — семья Анучиных и несколько поколений фамилий Казембеков и Рейснеров, Н.И. Зибер и М.М. Ковалевский, а также историк и психолог Б.Ф. Поршнев, философ-палеосоциолог Ю.И. Семёнов, философ-деонтолог Д.Ж. Валеев, этнопсихолог М.М. Муканов, политопсихолог Д.В. Ольшанский, номадоведы-юристы Б.-А.Б. Кочекаев, Е.А. Поноженко, З.Г. Аминев, Н.С. Ахметова, фольклористы В.М. Жирмунский и А.И.-М. Сикалиев и др.
Продуктивный и ёмкий термин «потестáрность» (от лат. potestas — «власть, мощь, по-тенциальное властвование») следует тоже считать весьма существенным достижением отечественный этнологической и всей гуманитарной науки. Конкретным инструментом здесь служит «обычное право» — сразу и вид, форма права, и его традиционно-бытовая альтернатива. Исследования всех данных проблем (Ю.П. Аверкиева, Ю.В. Бромлей, А.И. Першиц, А.М. Хазанов, Л.Е. Куббель, В.А. Попов и др.) остаются актуальными, их содержание углубляется, обогащаясь за счёт новых аспектов.
Бесспорно — важный аспект в рассмотрении строго данного комплекса проблем (включая «астраханский» срез) — социогеографическая по сути теория «историко-этнических областей» и «хозяйственно-культурных типов» (С.П. Толстов, М.Г. Левин, Н.Н. Чебоксаров, Б.В. Андрианов, С.И. Брук, П.И. Пучков, Я.В. Чеснов, С.Я. Козлов и др.). Примеры её сторонники черпали от населения многих степных и пустынных терри-торий — от предгорий Кавказа и вплоть до центра Азии, с присущим им веками номад-ным способом производства.
Поэтому рассмотрим ещё и самые ключевые труды по кочевничеству и порлукочев-ничеству, которые опубликовали этнографы, востоковеды, археологи Н.Н. и М.Н. Хару-зины, Н.А. Аристов, С.А. Токарев, С.П. Толстов, А.И. Першиц, А.М. Хазанов, Л.Е. Куб-бель, Б.Г. Литвинский, А.А. Марущенко, С.А. Плетнёва, Е.И. Кычанов, Э.А. Грановский, С.Г. Кляшторный, А.А. Никишенков, Г.Е. Марков и К.П. Калиновская, Р.Х. Керейтов, отец и сын Масановы, Т.И. Султанов, Т.Д. Скрынникова, Н.Н. Крадин, В.В. Трепавлов, В.Б. Ковалевская, Е.Е. Кузьмина и мн. др.
По особо интересующему нас, соответствующему, «пóлно» и «частично» подвижно-му, населению севера Прикаспия и Нижневолжья имеются исследования П.И. Небольсина (самый 1-й, общ. и предельно компетентный обзор), А.А. Новосельского и В.В. Трепалова (ногайцы), В.В. Вострова и М.С. Муканова, А.З. Асфандиярова, А.Ю. Быкова (казахи), У.Э. Эрдниева, А.Г. Митирова, Г.О. Авляева, В.И. Колесника, А.В. Цюрюмова, Э.П. Бака-евой и Э.-Б.М. Гучиновой, А.А. Курапова (калмыки), а также А.И. Исина, Ж.Б. Кундакба-евой, Т.И. Султанова, (контакты этносов) и др.
Данный нечастый, но важный сюжет, глубоко традиционный рассматривается нами далее, применительно к этноистории Астраханского края с его самых древних времён (П.С. Паллас и И.Г. Георги, Я.Ю. Потоцкий, П.И. Небольсин) до классических послевоен-ных (Г.А. Фёдоров-Давыдов, А.М. Мандельштам, А.Н. Мелентьев и А.А. Марущенко, Е.В. Шнайдштейн) и новейших (Д.В. Васильев, В.В. Плахов, Е.М. Пигарёв, В.В. Трепав-лов и И.В. Зайцев, В.М. Викторин, Э.Ш. Идрисов, А.В. Сызранов, А.Р. Усманова, М.Г. Хрущёва и др.).
9
Хозяйственно-экономическая основа степного народовластия — простая частно-семейная собственность на стадá животных — многократно усложнялась с пониманием возможности присвоения земли. Но о «разделении властей» и речи не шло. Ведущей оста-валась идея подданства, а никак не «согражданства».
И «народ» (др. — тюрк. “будýн”, исламизир. — тюрк. “хальк”) понимался не просто как «простой, незнатный и небогатый» народ. Но как «свой народ», в противопоставлении иному подвластному, чуть иному по диалекту и традициям, зачастую оппонировавшему в степи «чужóму, чýждому народу» (См. подробно и инт. у проф. Б.Ф. Поршнева).
Там, где не возникало совместных интересов, кочевое народовластие оставалось «де-мократией для своих», спаянных родством или мифологическом пониманием такового, «оживляемом»при объединяющих острых проблемах.
Общие собрания м у ж ч и н - воинов происходили у ногайцев в дни солнцестояния 21 –22 июня, у казахов — в сентябре-октябре. Новых провозглашаемых — по воле большин-ства — хáнов и бéков поднимали за углы «на белой кошмé» обычно именно здесь. Эти же собрания ежегодно собрания могли оспорить любое решение, а то и сместить властителя.
Но «генеалогиúческий» принцип (кто – чей – потомок) оставался ведущим и, по уста-новочному согласию, не оспаривался. И «критика семейственности» не имела бы успеха в кочевой потестáрной среде. С учётом этого, можно считать, что генеалогические струк-туры (В.В. Бартольд, Н.Н. Крадин, В.В. Трепавлов, Т.И. Султанов и др.) на практике при-миряли «демократичность» и «элитарность», непосредственную власть и её представи-тельность, что тоже воспринималось вполне естественно.
О «разделении властей» речи, разумеется, не шло. Первые должностные лица боевой, мирной (или смешанной) направленности, писцы и советники, составляли первый чинов-ный аппарат в кочевой степи.
Полноправными субъектами прáва, демократии и участия во власти признавались взрослые семейные мужчины, имеющие свои юрту и стадо, способные выступить в каче-стве умелых воинов в походе или защите от нашествия. Но «элемент народовластия» рас-пространялся на всех жителей степи — женщин, детей, даже, ограниченно, на военно-пленных и их потомков, иных зависимых и лишь обязанных (поначалу) групп.
Женщины были, в основном, выключены из этих процессов. Но не абсолютно — лишь в целом, как общий «социальный слой» (П.А. Сорокин и др.), а не в индивидуальном по-рядке. Кочевницы пользовались весьма большой свободой (даже в исламе и буддизме-ламаизме), даже вступая в брак – с гарантированным приданым. Напомним обычное заяв-ление «вопреки мужу» у молодой жены-карагашки: «Мен киизли куьймели кельдем» — «я пришла к тебе со своим ковром и красивой свадебной повозкой».
Не признавалось традиционное полноправие и за детьми, подростками. Но их стара-тельно, в традиционных же формах, готовили к взрослой жизни, побуждая к ответствен-ность и инициативу. Причём именно астраханский материал позволил проследить (В.М. Викторин, Э.Ш. Идрисов, А.Б. Никольский) «притяжение» младшего поколения к «демократическому воспитанию». Имеется в виду такое продолжение собраний-схóдов, специально структурированных для подростков «трудного» возраста, как система “джиéнов” [6, с. 100–104].
И именно в аспекте общественной активности возможно новое, расширенное рассмот-рение проблемы: есть отрывочные данные о “джиéнах” девушек — и о совм., отлаженных и дисциплинированных вечеринках таких «двух “джиéнов”» (И.М. Махмудов, один из первых видных партийно-госуд. деятелей Нижневолжья, притом из бедняков, но бывш. “джиéн агасы” одного из пос. в Зацарево). И практич. та же традиция, отмечал он в руко-писи 1968 г., была применена в данном селении (две традиционные, если по названиям и символам, но противоборствовавшие группы) уже в классовой борьбе двух революций — с февраля 1917 по февраль 1918 гг.
Притом первые неформальные объединения взрослых (наподобие «третьего сектора») реализовывались в ту же переломную пору – особенно, у интеллектуальной элиты быв-
10
ших полукочевников (Ср., как факт, «Исследовательский “Джиéн” А.-Х.Ш. Джанибекова» в пос. на р. Царев для молодых учёных-тюркологов, созданный тоже в феврале 1917 г.). Как видим, традиция всегда сохранялась глубинно, но всякий раз кардинально преобразо-вывалась внешне — в иных формах, «под» новые «вызовы».
Завершая постановочное рассмотрение проблемы, отметим: Астраханский край многолик в отношениях своей этнической специфики. Проявлением его своеобразия явля-ется пример отношений народов принадлежащих к земледельческой культуре и народов, связанных с номадным способом производства. И те и другие внесли вклад в общую куль-туру народов дельтовой цивилизации Нижней Волги, показали разные примеры этнокуль-турного и социального приспособления к природным условиям Прикаспийской зоны. Но как показала история, определяющим процессом развития этих обществ было взаимодей-ствие друг с другом на разных уровнях.
Более того, пробированные веками на Астраханской земле, традиции дружбы народов и их солидарности, добрососедства этнокультурного взаимообмена, будут продолжены и преумножены в жизни нынешнего и последующих поколений.
Но реальные, нынешние или дальнейшие, ожидаемые проявления рассмотренных в статье традиций потребуют ещё гораздо более всестороннего и внимательного изучения — в дальнейшем, за пределами собственно предлагаемого текста статьи.
В любом случае, такие обсуждения знающих и хорошо знакомых коллег и соратников, как упомянутые I-ые преподавательские чтения (встреча-семинар, 11 апреля 2011 г.) по демократическим тенденциям в регионах, стране и на планете, на базе Астраханского фи-лиала Большой Академии, важны и показательны. Теперь, через 3–4 года, такое обсужде-ние не мешало бы (на наш уверенный взгляд) вскоре и повторить.
Список литературы
1. Арсланов Л.Ш. Татары Нижнего Поволжья и Ставрополья (Язык. Фольклор. Сло-варь). Набереж. Челны : Газет.-книж. Изд-во КАМАЗ. 1995. 192 с.
2. Бреус И.С. Прошлое и настоящее обычного права: к вопросу о содержании термина // Олень всегда прав. Исслед-ния по юридич. антропологии (Мат. III-ей Летней школы, СПб. – Пушкино, ИЭА РАН, Ассоц. малочисл. народов …, 19-24 августа 2003 г.). М., 2003. С. 21-52.
3. Викторин В.М. Социальная организация и обычное право ногайцев Нижнего По-волжья (XVIII-нач. XX вв.). автореф. дис. … к. истор. н. [Лен. Часть Ин-та этногр. АН СССР]. Л., 1985. 15 с.
4. Викторин В.М. Российское государство и кочевые народы // История России. Рос-сия и Восток. СПб., 2002. С. 152–189.
5. Викторин В.М. К феномену обычно-правовой регуляции в периферийной этносоци-окультурной среде : общие подходы и специфика у населения Юга России и Сибири (сек-ция «Культура северных территорий») // Таймырские чтения – 2011 г. Сб. X-го Межреги-он. этнокульт., краевед. и творческо-методич. конкурса-семинара. Посвящ. юбилею 50-летия Норильск. индустриал. ин-та (гг. Норильск-Дудинка, горно-металлургич. фак-т Но-рильск. индустриал. ин-та, 1-3 марта 2011 г.). Ч. II. Норильск: [ГОУ ВПО «НИИ»]. 2011. С. 171–177 (и сайт «Центр Л.Н. Гумилёва – Современное евразийство» / gumilen-center.ru, от 1 апреля 2013 г.).
6. Викторин В.М., Никольский А.Б. Возрастные подростково-юношеские объединения и их роль в процессах социализации (воинской, трудовой, семейной) на различных исто-рических этапах // Мужчины в традиционной культуре народов Поволжья. Мат. М/н. научно-практич. конф. (г. Астрахань. Гос. фолькл. центр «Астрахан. Песня», 15-17 мая 2003 г.). Астрахань: Изд-во Астрахан. гос. ун-та. 2003. С. 100–104.
7. Викторин В.М., Идрисов Э.Ш. Кочевое и полукочевое население Нижнего Повол-жья в составе России: социально-хозяйственная и политико-потестарная эволюция в XVIII–нач. XX в. // Ранние Ранние формы потестарных систем. Сб. ст. Сост. и отв. ред
11
проф. В.А. Попов / МАЭ им. Петра Великого – Кунсткамера РАН, РФФИ, проект «Нация и государство в мировой истории». СПб.: МАЭРАН. 2013. С. 202–228
8. Идрисов Э.Ш. Потестарно-политические процессы в традиционалистской этноспе-цифической среде: на примере Нижнего Поволжья. автореф. дисс. … к. полит. н. Волго-град: [Волгоград. акад. госслужбы]. 2005. 25 с.
9. Идрисов Э.Ш. Хозяйственная деятельность ногайцев Нижнего Поволжья в XVII–XIX вв. // Историческая и современная регионалистика Верхнего Дона и Нижнего Повол-жья. Сб. ст. по мат. научн. конф. «Историческое и этнокультурное развитие Нижнего По-волжья» (г. Волгоград, ИЭ и МЗ «Ст. Сарепта», 10 сентября 2004 г.). Волгоград, 2005. С. 148–155.
10. Кидирниязов Д.С.-А. Ногайцы в XV–XVIII вв. (Проблемы политических, экономи-ческих и культурных взаимоотношений с сопредельными странами и народами): моногр. Махачкала: [Ин-т ист., археол. и этн. ДНЦ РАН]. 2000. 532 с.
11. Маркс К.Г. Дебаты IV-го Рейнского ландтага. Ст. III — Дебаты по поводу закона о краже леса // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-ое. Т. I. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. 1955. С. 119–160.
12. Небольсин П.И. Очерки Волжского низовья. СПб.: [Типогр. МВД]. 1852. 197 с. 13. Переписка с Астраханским губернским правлением, с Астраханским и Чернояр-
ским земскими судами, Саратовским губернатором и другими учреждениями об отводе земель в Саратовской губернии для каракалпаковских киргизов / ГААО, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 238. Л. 1-49. Находка в фондах от 1987 г.
14. Потоцкий Я.Ю. (И.О.) Путешествие … в Астрахань и окрестные страны в 1797 г. // Исторические путешествия. Извлечения из мемуаров и записок иностранных и русских путешественников по Волге в XV–XVIII вв. Сост. В.Н. Алексеев. Сталинград: Краев. кн. изд-во. 1936. С. 195–217.
15. Рахимов С.Т. Габдрахман Гөмəри: фəнни-биографик җыентык («Шəхеслəребез» сериясе). Абдурахман Умеров: научно-биографич. сб. (серия «Наши биографии») (на та-тар.-латин. яңалиф и русск. яз.). Казан: «Рухият» нəшрияте. 2002. 384 б.
16. Сахаров П. Заключение об астраханских туркменах. От 22 сентября 1925 г. // ГАРФ. Ф. 1235. Оп.120. Д.2. Л.429-430. – Док-т открыл и обработал в научном плане наш так же младший колл. Серг. Серг. Плюцинский, к.и.н., бывш. аспирант ВолГУ.
12
В.В. ГРИБОВСКИЙ
ГОРОД НОГАЙСК В КОНТЕКСТЕ СЕДЕНТАРИЗАЦИИ ПРИАЗОВСКИХ НОГАЙЦЕВ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА
После ликвидации Крымского ханства и присоединения его территории к Российской
империи царское правительство столкнулось с крайне сложной проблемой управления но-гайскими кочевниками, сосредоточившимися на правобережье Кубани. Военно-поли-цейские мероприятия, предпринятые А.В. Суворовым летом-осенью 1783 г., имели след-ствием массовую миграцию ногайцев за пределы владений России и их активное участие в антироссийских выступлениях представителей кавказских обществ, поддерживаемых Турцией. Тех ногайцев, которые оставалась под российской властью, в 1790 г. переселили в Северное Приазовье, где им отвели территорию между речками Молочная, Берда и Ток-мак. Здесь для них создавали максимально льготные условия, ссылаясь на которые можно было агитировать их единородцев, находящихся в турецких владениях, к переходу в рос-сийское подданство. В 1804 г. у поселенных в Приазовье ногайцев возник острый внут-ренний конфликт, вызванный злоупотреблениями их мурз. Большинство кочевников отка-залось от своих «древних прав», закрепленных в указе Александра I от 16 июля 1801 г. о создании Ногайского казачьего войска, и согласилось перейти в состояние «свободных земледельцев», чтобы избавиться от произвола родовой знати. Осенью 1804 г. в Приазовье было учреждено отдельное приставство, перед которым правительство поставило задачу в кратчайшие сроки обоседлить всех находящихся в его ведомстве кочевников без причи-нения им ущерба [4].
Седентаризация этих последних номадов Приазовья примечательна значительным участием государства, которое оказывало им материальную и технологическую помощь, заявляя, таким образом, о своей высокой культуртрегерской миссии. Важной составляю-щей этого процесса стало строительство портового города Ногайск, призванное не только повысить товарность земледелия ногайцев, но и способствовать их переходу к некоей «культуре» — в том виде, в каком ее понимали в Петербурге. Рассмотрение сложности и противоречивости данного случая чрезвычайно важно как для понимания специфики кочевнической социальности — силы ее сопротивления привнесенным извне процессам, так и выявления палитры средств, применяемых империей Романовых для включения но-мадов в свое социально-политическое пространство.
Главным организатором седентаризационных мероприятий у ногайцев был герцог А.-Э. де Ришелье — екатеринославский, херсонский и таврический военный губернатор. Как писал один современник, «он хотел использовать закон Магомеда, деспотически пленив-ший разум его приверженцев, и с этой целью построить постоянные мечети, где муллы призывали бы пять раз в день правоверных к молитве, и тем как бы привязать их к этим священным местам, вынудить к оседлому образу жизни» [15, с. 32]. Хотя автором самой этой идеи был предшественник Ришелье — А.Г. Розенберг, который разработал положе-ние о Ногайском приставстве. В 1805 г. по его представлению министр внутренних дел В.П. Кочубей вынес на рассмотрение Александра I вопрос о строительстве на государ-ственный счет «в приличном и удобном месте мечети, и подле нее дома для муллы, а так-же несколько домиков из сыраго кирпича для тех [ногайцев], кои на первый случай захо-тят во оных водвориться». Все это министр предлагал сделать «на манер татарских», имея в виду крымских татар и считая их культуру близкой ногайцам [8, л. 197, 198 об., 206–206 об., 207]. Таврический гражданский губернатор Д.Б. Мертваго, переняв от Кочубея тон культуртрегерской заботы о ногайцах, добавил от себя предложение о том, чтобы, кроме мечетей и домов для мулл, построить еще и школы для ногайских детей. С одной оговоркой: «мечети для ногайцов и дома для духовных, кажется, должны быть сообразны обстоятельствам и обичаям сих людей, следовательно — не великолепны. В степном краю, где все делается из землянаго кирпича и покрывается землею, строении дорого сто-
13
ить не могут» [8, л. 208 об.]. Итак, с целью обоседления мусульман-кочевников право-славная монархия готова была возводить исламские культовые сооружения за свой счет, не проявляя, конечно, при этом особой щедрости.
К началу марта 1806 р. Мертваго подписал типовой проект и смету мечетного ком-плекса для ногайцев. Он состоял из собственно мечети, дома для муллы со школой, а так-же минарета, расположенного между ними. Мечеть должна была иметь в длину 7 и в ши-рину 3 косых саженей (14,9 и 6,4 м), возводилась из саманного кирпича с минимальным использованием древесины (каркас и кровля); в смете также значились: 1 дверь, 9 застек-ленных окон и крыша из камыша. Дом для муллы и школы имел в длину 8 и ширину 2,5 косых саженей (17 и 5,3 м), 3 двери, 6 застекленных окон и 2 внутренние выложенные из кирпича печи. Общая стоимость постройки составляла 290 руб. 25 коп. [8, л. 215, 223]. Большая часть этих средств отпускалась на покупку и доставку древесины — очень доро-гой в степных краях. Изготовление самана («земляного кирпича») в смету не вошло, по-скольку считалось повинностью ногайцев, которую они должны отбывать по очереди, 50–70 чел. в каждой [8, с. 29]. Согласно проекту, предполагалось построить мечети в 11 ме-стах, предназначенных для будущих селений. 4 мая 1806 г. Александр I утвердил ассигно-вание из государственной казны 12836 руб. 90 коп., предназначенных для строительства «мечетей в ногайских селениях и домов, а также на покупку земледельческих орудий» [8, л. 239]. Позднее де Ришелье добился выделения еще 35 тыс. рублей, которые давались ногайцам в кредит на обустройство мечетей и школ [15, с. 33].
В июле 1806 г. в главном ногайском ауле Единохта состоялась торжественная заклад-ка первой мечети и школы-дома для муллы. На пиру, устроенному по этому случаю, при-сутствовало местное мусульманское духовенство и старики, демонстрировавшие россий-скому начальству свое полное одобрение его действий. В августе заложили еще 4 мечети и столько же домов для мулл со школами. До января 1807 г. построено восемь мечетных комплексов, к маю того же года — еще два [10, 29–30]. Однако ногайцы крайне неохотно строили жилые дома за собственный счет и не спешили селиться в казенных строениях, что вызвало неудовольствие губернского начальства на пристава Тревогина. В апреле 1808 г. его сменил французский эмигрант граф Яков де Мезон (Мезон Жак де ля Фер) [10, с. 31–32], получивший гораздо бо́льшие полномочия и пользовавшийся поддержкой гер-цога де Ришелье.
Убедившись в том, что религиозная мотивация сама по себе не может побудить ко-чевников-мусульман к переходу в оседлое состояние, новый пристав сделал ставку на экономическое стимулирование. По его замыслу, появление в ногайских кочевьях крупно-го центра торговли, в котором его подопечные могли продавать выращиваемое ими зерно, убедило бы их в преимуществах земледелия. Предприимчивый француз нашел располо-жение главного ногайского аула Единохта возле мелководной речки Молочная неподхо-дящим для создания такого центра и обратил внимание на урочище Обиточное (ногайское название — Ялангач), находящееся на берегу Азовского моря. Здесь он задумал основать портовый город и назвать его в свою честь: Менил-Мезон. Честолюбивый пристав рассчи-тывал, что эта его личная «маленькая Одесса» соединит местную крайне вялую торговлю с мировыми рынками и, тем самым, значительно оживит ее. Он перенес свою резиденцию в это место, приказал торгующим в ногайских кочевьях купцам строить в нем свои дома и разместил здесь весы, использование которых стало обязательным для торговых опера-ций; пошлина, взымаемая за взвешивание ими, шла в казну ногайского общества [10, с. 31–32]. Эта мера была нацелена на установление постоянного контроля действий заез-жих армянских, караимских и еврейских коммерсантов, которые часто вели нечестную торговлю с местными кочевниками, слабо адаптированными к рыночным отношениям. Скупка всего имеющегося у ногайцев производилась по заниженным ценам, с использо-ванием неточных весов; часто кочевники становились жертвами обмана в кредитных опе-рациях и втягивались в ростовщическую кабалу. Большое распространение, в связи с этим, у них получила постыдная торговля женщинами [17, с. 230].
14
Приставу не составило большого труда заставить торговцев размещать свои конторы и склады в указанном им пункте (хотя это не остановило их хищные действия в отдален-ных аулах). Гораздо труднее было убедить кочевников строить дома в будущем городе. Ногайцы располагали свои стационарные жилища на большом расстоянии друг от друга и использовали их, по большей части, как традиционные зимовники, продолжая кочевать в весенне-осенний период. Губернатор де Ришелье, не желая считаться с хозяйственными нуждами ногайцев, настойчиво требовал от них «строиться в линию», по регулярной пла-нировке. Ногайские юз-баши (выборные старшины, сотские) неоднократно читали возле мечетей его распоряжения. Но тщетно: кочевники их игнорировали, зная по опыту, что сосредоточение скота вокруг одного населенного пункта неминуемо приведет к истоще-нию близлежащих пастбищ (пасторальной дигрессии) и, следовательно, потере поголовья. Ни де Ришелье и де Мезон, ни представители местного российского чиновничества, как свидетельствуют их распоряжения, не имели четкого представления о том, какими кон-кретными мерами можно было преобразовать кочевое скотоводство в стационарное жи-вотноводство. Напористость градостроительных порывов пристава могла довести пору-ченное ему дело до состояния острого конфликта, если бы Таврическое губернское прав-ление не усмотрело нескромности в названии будущего ногайского города и запретило его дальнейшее обустройство [10, с. 32]. Кроме того, выезд более 3 тыс. ногайцев из Приазо-вья в Турцию осенью 1812 г. [10, с. 36] вынудил правительство более осторожно обра-щаться с оставшимися.
К 1811 г. во всей ногайской «резервации» насчитывалось 4043 дома и 669 кибиток, в которых, как оправдывались чиновники, жили одни «старики, сироты и вдовы убогие» [10, с. 37]. В действительности же, это были обычные кочевые группы. Объезжая ногай-ские селения весной 1812 г., де Мезон увидел, что большинство домов остаются незасе-ленными, а ногайцы живут в кибитках, установленных рядом с домами. Летом того же го-да по его приказу кибитки были сожжены [10, с. 31–32]. Но и эта радикальная мера не привела ногайцев к окончательной оседлости. Д. Шляттер в 1820-е годы отметил, что в ногайских домах постоянно находятся только одни женщины; остальные же, включая и детей, заняты выпасом крупного рогатого скота [17, с. 237]. Немногим ранее «закоп-тившиеся палатки» ногайцев упоминал маркиз де Кастельно, отмечая и то, что они «все еще дорожат своими старыми привычками», хотя «собирают с избытком яровую пшени-цу, просо и все виды овощей» [14, с. 344]. То есть, ногайцы находили нечто среднее меж-ду тем, что требовал от них пристав, олицетворявший здесь всю мощь Российской импе-рии, и тем, что было для них привычным и возможным. В итоге получалась видоизменен-ная форма подвижного скотоводства, при которой в выпасе все еще была задействована бо́льшая часть населения, проводившая значительное время вне постоянных домов.
Дисперсия мелких стационарных поселений сама собою выдвигалась как приемлемый для кочевников вариант перехода к оседлости. Разместить ногайцев в 11 селениях, в кото-рых на казенный счет строились мечети, школы и жилые дома, оказалось делом совер-шенно невозможным и чреватым рисками социальных потрясений. То, что в документах значилось как селение, зачастую относилось не столько к реальному населенному пункту, сколько к планируемому и едва начатому; реальными в нем были стандартные мечеть с минаретом, школа-дом для муллы и еще несколько жилых домов, включая и те, что ис-пользовались для административных нужд (в центрах волостей). К селениям приписыва-лись аулы, т.е. устойчивые кочевые группы, которые селились в хуторах. Потому в при-ставской отчетности отражено неизменное количество селений и постоянно меняющаяся численность аулов. Последнее первоначально обозначало устойчивую кочевую группу, названную по доминирующему в ней родовому образованию. По мере оседания каждой такой группы формировалось что-то вроде хутора или кустовых образований, состоящих из группы связанных между собой хуторов, о́бще именовавшихся аулами. В конце 1810 г. числилось 67 таких аулов, которые были распределены по 4 волостям и расписаны между 11 селениями. В том же году записано 43 аула, в 1812 г. — 68 «аулов или деревень» [10,
15
с. 32, 44–46]; в 1815 г. зафиксировано 5 волостей и 73 аула [17, с. 72]. К концу 1830-х чис-ленность приазовских ногайцев составила около 32 000 чел., которые проживали в 76 «де-ревнях» [16, с. 276]. Примечательно, что и количество мечетей с минаретами и школами-домами для мулл также не менялось: таковых и в 1830-х годах числилось 11, все они рас-полагались в тех же селениях. В аулах находились «молитвенные дома» [5, с. 15], которые российская бюрократия отличала от мечетей. Состоянием на 1816 г., каждый ногайский аул располагал от 1 до 3 таких домов (иногда они упоминаются как мечети); при мечетях и «молитвенных домах» находилось по несколько мулл, точнее, лиц, принадлежащих к мусульманскому духовенству, а также членов их семей. Например, в ауле Актамгали проживало 283 чел., было 3 мечети, 18 мулл; в ауле Кандакузли — 204 жителя, 3 мечети, 10 мулл [15, с. 117].
Поскольку селения и аулы начали жить отдельной от официальных бумаг жизнью, разница между ними очень скоро исчезла. Аулы объединялись и дробились, появлялись новые, в том числе и за счет очередных ногайских мигрантов. Не всем селениям суждено было стать полноценными населенными пунктами; вероятно, те из них, которые ногайца-ми назывались «мечетями» [3, с. 25], ничего, кроме собственно мечети, школы-дома для муллы, может быть еще нескольких домов и официального статуса селения, не имели. Со-стоявшиеся же селения, о́бще с другими стационарными поселениями назывались аулами.
В виду изложенного выше, нельзя согласиться с утверждением А.А. Шенникова о длительной, внутренне обусловленной и общей для всех номадов эволюции жилища приазовских ногайцев [12, с. 64]. На ограниченной источниковой базе этот исследователь сделал вывод о том, что стартовым пунктом данной эволюции был зимовник, используе-мый для содержания скота, к которому приставлялась неразборная юрта-отюй, круглого-дично служащая для жилья. Далее, по его мнению, появился двухкамерный дом, посред-ством превращения отюй в кухню-сени, в которой от прежней юрты осталось размещение очага посредине, а помещение для скота трансформировалось в жилую комнату. Исследо-ватель также допускал и вторую линию эволюции: место отюй занимает землянка или по-луземлянка, со временем превратившаяся в кухню-сени [12, с. 54–61, 65]. В источниках, отражающих состояние приазовских ногайцев в начале ХIХ в., не встречается подтвер-ждения того, что зимовник у ногайцев всегда представлял собой стационарную постройку. Как писал губернатор Мертваго в 1805 г., «Ногайцы все вообще не имеют у себя постоян-ных жилищ. Кочевья или будки свои со всем семейством и имуществом своим переносят с одного места на другое, куда их или работа в обделивании полей, или обильнейшая пастба для скота призывает. Имеют непременные свои зимовники, куда на зиму в глубо-кую уже осень съезжаются, приготовив там за времянно топливо и некоторые весьма в малом количестве на случай крайности для скота сена. Зимовники их в том единственно заключаются, что каждое семейство, или по их названию казан, отделяется небольшим окопом. В прочем во все времена защищаются от непогод и холода в одних и тех же буд-ках» [8, л. 81–81 зв.]. Т. е., даже если принять во внимание, что небольшое количество стационарных построек ногайцы на то время все-таки имели, в большинстве случаев юр-ту-отюй не было к чему приставлять. И зачастую не этот тип юрты использовался в каче-стве жилья, а более просторная разборная юрта-терме. Кроме того, двухкамерные дома ногайцев, подробно описанные Шляттером, отметившим их однообразность [17, с. 275–281], ничем не отличались от дома для муллы и школы, представленного в рассмотренном выше типовом проекте. Поэтому ни о какой “эволюции” ногайского дома в данном случае говорить не приходится. Речь идет исключительно о привнесенной извне практике домо-строительства, стандартизированной и навязанной административными средствами.
Итак, после сожжения кибиток у ногайцев стала складываться кустовая система рас-селения. Надежды де Ришелье на то, что крупные поселения с регулярной планировкой будут возникать возле мечетей, в силу воображаемого им действия «закона Магомеда», оказались такими же тщетными, как и намерения де Мезона основать портовый город и назвать его своим именем. Основанное им поселение в урочище Ялангач / Обиточное
16
в течение десяти лет оставалось всего лишь резиденцией пристава, имевшей для ногайцев значение постольку, поскольку к этому их принуждали административные правила. Но именно с этими правилами, сообразуясь с которыми пристав издавал свои распоряжения, была связана кардинальная ломка всего привычного уклада жизни ногайцев.
Наибольшего внимания приставская администрация уделяла увеличению занятости ногайцев земледельческим трудом, добиваясь расширения посевных площадей. В 1808 г., когда де Мезон принял дела приставства, ногайцы собрали 43 035 четвертей пшеницы, ячменя и проса, продали — до 35 000 четвертей [10, с. 37–38]. Получение этого урожая стало следствием выполнения распоряжения пристава, который обязал ногайцев произво-дить посев из расчета по 2 четверти на человека, что всего должно было составить 40 000 четвертей [16, с. 288]. В 1812 г. урожай зерна снизился до 15 000 четвертей, в 1822 г. – повысился на 30 000 четвертей. Преобладала яровая пшеница, посев озимой производился только в 1819 г., урожайность которой тогда составила чуть больше сам-2, яровой — сам-4,5; общее количество собранной пшеницы — 127 977. Годовое потребле-ние на 1 человека не превышало 3 четвертей пшеницы, почти столько же — ячменя и до 1 четверти проса. Основная часть урожая зерновых шла на продажу [10, с. 37–38].
Современники весьма саркастически комментировали низкий уровень земледелия приазовских ногайцев [5, с. 225]. Бывшие кочевники неумело пользовались плохими плу-гами, в которые впрягали по 4–5 пар волов, в то время как живущие по соседству немец-кие колонисты применяли двухволовую упряжку и делали намного больше работы. Для обмолота зерна ногайцы использовали лошадей [16, с. 289], как и в прежние времена. Навязываемое приставом земледелие, всегда считавшимся у кочевников непрестижным и вынужденным, не пробуждало у ногайцев мотивации работы и овладения соответству-ющими навыками. Не будучи заинтересованными в результате земледельческого труда, они работали на полях лишь на виду у присланного приставом чиновника. «Ногаец может пребывать либо в полном бездействии, либо заниматься принудительным трудом; он мо-жет выполнять конкретную задачу, но самостоятельно трудиться целый день не может», — писал по этому поводу Кс. Омер де Гель [16, с. 284]. О «лености» ногайцев, не вдаваясь в ее причины, упомянул и маркиз де Кастельно, противопоставляя им «активных, береж-ливых и искусных» немецких колонистов [14, с. 344]. Несмотря на наличие богатых рыб-ных угодий, вылов рыбы также не получил значительного распространения среди ногай-цев и почти полностью отдавался на откуп [10, с. 39].
Значительно лучше дело обстояло со скотоводством, хотя его количественные показа-тели заметно снизились с момента перехода ногайцев от кочевого скотоводства к менее подвижной форме использования пастбищ. В 1811 г. у приазовских ногайцев зафиксиро-ваны 41 491 лошадь, 92 665 голов крупного рогатого скота, 39 311 овец, в 1823 г. — 59 665, 162 284, 142 497 соответственно [10, с. 38]. Е. Спенсеру в 1836 г. приходилось наблюдать “мириады” различных видов домашних животных, с которыми ногайцы очень легко управлялись и которые составляли их основное богатство [19, с. 130]. Существен-ным сдерживающим фактором – как для развития земледелия, так и интенсификации ско-товодства — являлось то, что земля, отведенная ногайцам, не была размежевана по каким-то, всем понятным, принципам, — даже между аулами, которые в сложившихся условиях выступали в качестве земельных общин. Из-за этого постоянно возникали споры и пре-тензии, особенно во время косовицы [16, с. 289].
Хоть объем проданного ногайцами зерна с 1812 по 1822 гг. вырос в два раза, он, все-таки, не достиг того масштаба, который бы позволил превратиться поселению с пристав-ской резиденцией в Обиточном в полноценный центр торговли, на основе чего мог сфор-мироваться город. Главный товар, который ногайцы могли предложить рынку, был скот. Но торговля скотом, производимая исключительно в живом весе, не имела никакого зна-чения для морской коммерции, с которой де Мезон связывал развитие будущего ногай-ского города. Торговля ногайскими лошадьми, как писал Спенсер, «всецело находится в руках евреев», отправляющих гурты в Польшу, Венгрию и «Старую Россию» (Оld
17
Russia) [19, с. 131]. Т.е. приставу, несмотря на предпринятые им меры по регулированию торговых операций, не удалось блокировать действия скупщиков-оптовиков. Собственно, как и установить постоянный контроль над всеми ногайскими аулами [10, с. 35–36].
Примером «административно-педагогической политики графа де Мезона» (выражение А.А. Сергеева) может служить Ногайский общественный сад, заложенный в селении Оби-точном в 1811 г. Сад изобиловал фруктовыми деревьями — яблонями, грушами, абрико-сами, шелковицей и др. Для обслуживания сада и, по мысли пристава, обретения ногай-цами навыков земледелия и садоводства, каждый аул должен был направить по одному взрослому работнику или мальчику, не младше 10 лет. Кроме того, к работе в саду при-нуждались те, кто совершил административные проступки (прежде всего — нарушение паспортного режима) и допустил бытовую неопрятность (не побеленные дома и пр.) [10, с. 41–42, 127]. По мнению французского эмигранта, заброшенного злосчастной судьбой к этим, как он считал, «дикарям», работа в саду должна произвести на них цивилизующее воздействие. Особенно высоко пристав ценил своего соотечественника — садовника Жана (Иоанна) Клерфона, услуги которого ежегодно обходились ногайской общественной казне в 750 руб.; он также получал «поощрительные награды от губернатора и знаки отличия». Общие затраты на сад превышали 2 тыс. руб. ежегодно, хотя прибыль с него составляла около 200 руб. [11, с. 183].
Переход ногайцев к оседлости не во всем привел к желаемым для правительства ре-зультатам. В 1806 г., после упразднения Ногайского казачьего войска, из приазовских ко-чевий на территорию Войска Донского выехали наиболее видные мурзы, вместе с быв-шим начальником ногайцев Баязет-бием [8, л. 91 об.–92]; с этого момента влияние мурз значительно ослабло. Строительство мечетей и мектеб за казенный счет в комплексе с другими причинами привело к увеличению численности мусульманского духовенства и усилению его социальной роли. В 1811 г. общее количество ногайцев в приставстве со-ставляло 17 579 чел.; из них — 16 323 «поселян», 528 мурз, 728 мусульманского духовен-ства (в т.ч. 411 лиц мужского пола). В 1821 г. зафиксировано 18680 ногайцев, включая 227 мурз и 534 представителя мусульманского духовного сословия [10, с. 45–46, 131]. За десять лет, как видим, количество мурз сократилось почти вдвое, в то время как сниже-ние численности духовенства не было критичным (его можно объяснить не только депо-пуляцией, но и распространенной практикой отправки муллами своих сыновей для обуче-ния за пределы Приазовья, чаще всего — в Крым).
В каждом ногайском ауле, где находилось от 1 до 3 мечети или молитвенных дома, численность мулл (вместе с членами их семей) колебалась от 2 (2-я Единохта, Тобал, Мачкир и др.) до 15 (Орманче) и 18 чел. (Актамгали) [15, с. 115–118]. Обязанности мулл у ногайцев традиционно заключалась в исполнении богослужебных обрядов и обучении детей грамоте. Содержались они за счет десятины от «каждого сорта хлеба» и 1/40 части от приплода скота; годовой доход муллы колебался от 20 до 100 руб. [10, с. 44]. Вместе с введением территориально-административного деления и постройкой мечетных ком-плексов, в Приазовье появилась и официально закрепленная градация мусульманского ду-ховенства, выстроенная по образцу Русской Православной Церкви — точно так же, как и на Северном Кавказе [13, с. 32]. Мулла (эфенди) приравнивался к священнику, кадий — к протопопу (благочинному), а муфтий — к епископу; соответственно этому производи-лось официальное закрепление территории, на которую распространялась их духовная власть. Приазовские ногайцы пребывали в ведомстве крымского муфтия, имевшего свою резиденцию в Симферополе [10, с. 120–121]; непосредственно религиозными делами но-гайцев ведал подмуфтий, пребывающий в ауле Оймаут (Еммаут) [5, с. 16]. В каждой воло-сти находился кади, при каждой мечети — эфенди, имам и один муэдзин (все они в стати-стических документах значились как «муллы»), в каждом ауле был либо имам, либо муэд-зин [15, с. 72]. Кроме того, кади сохранили за собой право частичного рассмотрения су-дебных дел по шариату и подчинялись крымскому муфтию [16, с. 279], а посему — имели не только духовное, но и административное значение, ограничивавшее действия пристава.
18
Увеличение социального веса мусульманского духовенства беспокоило графа де Мезона. Задумав нанести удар по системе исламского образования, он 22 июля 1816 г. отправил на рассмотрение Таврического губернского правления предложение об учре-ждении в Обиточном «Русско-татарской школы». Главной ее задачей пристав считал обу-чение ногайцев русскому языку, незнание которого, как он выразился, все еще «разделяет совсем ногайцев от россиян», несмотря на белее чем 30-летнее пребывание их в россий-ском подданстве. Также полагал, что обучение в этой школе будет способствовать вовле-чению ногайцев в «коммерческую промышленность», в которой они еще никак не пре-успели. Исправная работа этой школы, по мнению пристава, была возможной при условии ограничения деятельности мектебов изучением одной лишь азбуки, что, как он полагал, должно подтолкнуть «ищущих высшего знания поступать в Ногайскую школу». Именно она должна была стать единственным учебным заведением, в которой ногайцы могли бы «учиться русской и татарской грамоте, читать и писать с преподаванием арифметики». Пристав предлагал нанять на средства ногайского общества двух учителей — «русского и татарского», набрать 100 учеников, на казенный счет построить здание школы и дома для учителей. Подчинение школы он предлагал разделить между собою и кади, как пред-ставителем крымского муфтия [10, с. 57–58]. Инициируя этот проект, де Мезон исподволь пытался реанимировать вопрос о предоставлении административному центру приставства статуса города.
Проект «Русско-татарской школы» раскритиковал министр просвещения А.Н. Голи-цын, который отметил, что «родители с трудностию будут отдавать детей своих в учили-ще», если «татарский язык» в нем не будет преподаваться «по алкорану муллою» [10, с. 58]. Крымский муфтий Аджи Абдураим-эфенди, как и следовало ожидать, жестко вы-сказался против планов де Мезона. Из жалоб мусульманского духовенства, находящегося в ногайских аулах, муфтий заключил о его намерении «учредить одно только училище с тем, чтобы более нигде уже во всех ногайских деревнях такого рода заведений не было». В письме от 14 сентября 1817 г. муфтий напомнил приставу, что мусульманские школы «состоят под непосредственным моим заведыванием» и что любое посягательство на его духовные прерогативы «противно нашему закону и высочайше дарованных нам правам». Также Аджи Абдураим-эфенди отметил, что открытие училища в Обиточном «не только неудобно, но даже и невозможно, потому что там, по малому населению жителей и по от-даленности от других деревень, обучающиеся по многочисленности своей не будут иметь никаких выгод к содержанию своему» [10, с. 120–121]. Пристав де Мезон не нашел друго-го что ответить муфтию, как выразить негодование за то, что его письмо было запечатано не надлежащей печатью, а двухкопеечной монетой [10, с. 121]. В итоге, рассмотрение во-проса об открытии Ногайской школы отложили. Тем не менее, де Мезону удалось добить-ся успеха в главном для него вопросе: он убедил херсонского военного губернатора напи-сать представление на высочайшее имя об основании г. Ногайска с портом на месте селе-ния Обиточного, о чем и последовал императорский указ от 18 января 1821 г.
К тому моменту, как де Мезон наконец дождался появления своей «маленькой Одес-сы», его положение становилось все более шатким из-за череды крупных неприятностей. В 1816, 1818 и 1819 гг. ногайцы подавали жалобы на него в Таврическую следственную комиссию, обвиняя своего начальника в злоупотреблениях [9, л. 2–2 об.]. К этому добави-лись еще и интриги подчиненных ему чиновников; «испытав много горечи и впав в уны-ние» [16, с. 279], он 8 июля 1821 г. написал прошение об отставке [10, с. 56]. Но и это не гарантировало ему прекращения неприятностей. В 1823 г. во время проезда по Таври-ческой губернии император Александр I принял жалобу из рук ногайцев. Начавшееся вскоре следствие под контролем Сената вскрыло такие его нарушения: сбор денег с но-гайцев на починку собственного дома, принуждение их к работе в общественном саду, употребление их лошадей на свои нужды, продажа им собственных материалов для по-стройки мечетей. Дело закончилось выговором, не предусматривавшим для бывшего при-става строгого наказания [9, л. 4 об.]. Конечно, это вряд ли смягчило горечь его отставки,
19
которую современники-французы называли незаслуженной и полагали, что он «принес себя в жертву во имя цивилизирования ногайцев» [14, с. 346; 16, 278–279].
В императорском указе от 18 января 1821 г. о создании города Ногайска были объяв-лены 4 причины появления данного акта: 1. Ногайцы полностью отошли от кочевания и «водворились прочным образом в устроенных ими селениях»; 2. Наличие среди ногай-цев лиц, имеющих капиталы, достаточные для ведения торговли на правах принадлежно-сти к купеческому и мещанскому званию, и выразивших намерение поселиться в Обиточ-ном «для сего предмета»; 3. В Обиточном появилось более 60 лавок, в которых торговали разными продуктами; 4. Желание ногайского общества об учреждении города под назва-нием Ногайск. Полагая цель в дальнейшей стимуляции аграрного производства у ногайцев и большем вовлечении их в рыночные отношения, указ предусматривал освобождение на десять лет от казенных податей тех из них, как и «других наций людей», которые построят дома в этом городе. Сам факт появления в городе домовладения служил основанием для причисления его владельца в купеческое или мещанское звание, с правом торговать во всей Таврической губернии без платежа гильдейских податей. Сборы с находящихся в черте города рыбных промыслов и питейных заведений назначались для городской каз-ны. Управление городом вверялось действующему на тот момент начальнику ногайцев, в соответствии с положением от 13 мая 1805 г.; ему в помощь назначался один частный пристав по усмотрению военного губернатора. Открытие магистрата откладывалось до времени, «пока город довольно населится». Городские и земские повинности отбывались всеми горожанами на тех же условиях, что и во всей Таврической области [7, с. 467–566].
Проект строительства пристани на Обиточной косе был утвержден еще 30 октября 1817 г., но к его реализации приступили осенью 1823 г. и осуществляли за счет ногайцев. Но уже в следующем году новороссийский генерал-губернатор граф М.С. Воронцов оста-новил строительные работы, убедившись в неудачном выборе места для порта — мелко-водного и отстоящего от г. Ногайск в 4 верстах. По его распоряжению, на Бердянской ко-се, находящейся на территории Ногайского приставства, был заложен новый порт, откры-тие которого состоялось 1 июля 1830 г. Потеря перспективы превращения Ногайска в пор-товый город обусловила его крайне медленное заселение и экономическое развитие. В 1825 г. в нем было всего 34 дома и 298 жителей, большая часть которых принадлежала к «малороссийской и великороссийской породе», но никак не к ногайцам. 24 августа 1832 г. Государственный совет отменил должность ногайского пристава и постановил по-ставить приазовских ногайцев «на ровную с коренными русскими поселянами степень и … одинаковый … порядок управления». Их перевели в ведомство Мелитопольского нижнего земского суда Таврической губернии; в г. Ногайск учреждена полиция в составе полицеймейстера и двух частных приставов, один из которых находился при Бердянской пристани [10, с. 55–56, 66–67, 128–129].
Совершенно по-другому сложилась ситуация с портом у Бердянской косы, террито-рию которого отмежевали 3 ноября 1827 г. Вскоре возникшее здесь поселение было при-писано к г. Ногайску; его жители указывались в метрических книгах как «мещане города Ногайска», а в одной из метрик 1832 г. оно обозначено как Новоногайск. Лишь в 1734 г. установилось его название Бердянск, под которым этот населенный пункт получил статус отдельного города в следующем году [2, с. 33–34]. Удачный выбор места для порта и наличие поблизости преуспевающих аграрных хозяйств — прежде всего, в колониях немцев-меннонитов — обусловили быстрый рост г. Бердянска. Об этом подробно расска-зал графу Воронцову представитель меннонитского общества Иоганн Корнис 29 января 1843 г., отметивший, что «соседство Бердянска дает им все больше возможностей для сбыта самой разнообразной продукции» [1, с. 88]. То, что задумывалось в отношении но-гайцев и Ногайска, но не было воплощено, успешно реализовалось в Бердянске и пошло на пользу меннонитам.
После отставки де Мезона политика административного стимулирования занятий но-гайцев земледелием была свернута. Урожай, собранный с засеваемых ими площадей,
20
в 1830-е годы не превышал 19000 четвертей и постепенно снижался [16, с. 288]. Ограни-чение свободы передвижения пагубно сказывались на скотоводческом хозяйстве ногай-цев, сохранявшем подвижной характер и потому подверженном рискам от природных ка-таклизмов. Летом 1824 г. саранча опустошила поля и пастбищные угодья, вследствие чего у ногайцев катастрофически сократилось поголовье лошадей (с 53 614 до 17 158) и рога-того скота (с 101 636 до 58 209), собрано 2 710 четвертей пшеницы, 329 — ржи, 1 222 — ячменя; 4 370 чел. оказались в крайне бедственном положении. В том же году ногайцы подали прошение разрешить им временный перегон скота на пастбища в Область Войска Донского и Кавказскую губернию, но воспользоваться такой возможностью смогли толь-ко отдельные лица, получившие от пристава соответствующий билет. К 1828 г. ногайцы восстановили поголовье примерно в прежнем объеме (54 045 лошадей, 10 121 рогатого скота), однако 1831 г. был снова отмечен его существенным сокращением (28 799 лоша-дей, 88 790 рогатого скота) [10, с. 60–61, 133–134].
Тяжелая зима 1837–1838 гг. имела фатальное значение для скотоводческого хозяйства приазовских ногайцев; именно с ее последствиями Кс. Омер де Гель связывал их оконча-тельный переход к земледелию. Как отметил этот наблюдатель, ногайские женщины, ранее занимавшиеся исключительно домашним хозяйством, теперь «сами принялись помогать своим мужьям в работе на полях» [16, с. 279, 288]. Значительную помощь и содействие зем-ледельческим занятиям ногайцев оказывал крупный предприниматель и пропагандист агро-технических новинок немец-меннонит И. Корнис [16, с. 288]. Ногайцы и ранее, как писал маркиз де Кастельно, имели возможность наблюдать быстрый рост благосостояния в мен-нонитских колониях, отделенных от них неширокой р. Молочной [кастельно, с. 344]. Но-гайские дома постепенно преобразовывались на немецкий лад, возле них появлялись сады и огороды [16, с. 279–280]. Но менее внимательному европейскому наблюдателю ногайские аулы представлялись «еще более жалким зрелищем, чем российские села»; в то же время немецкие колонии казались ему «оазисами в пустыне» [18, с. 23].
Окончательно склонившись к вынужденной оседлости, ногайцы жили в своем замкну-том мире, не имея ни малейшей потребности посещать г. Ногайск, если только к этому их не принуждали административные правила. Последнее из таких было связано с открытием государственной школы для ногайцев в 1826 г., которого в свое время безуспешно доби-вался пристав де Мезон. Весной того года в Ногайскую школу получили назначение двое учителей: «русский» — Дмитрий Концевич и «татарский» — Абдувели-мулла. В школу доставили 30 русских букварей, 10 учебников по грамматике и столько же по арифметике, затем присланы катехизис и священная история [10, с. 58]. Ученики получали бесплатно квартиру с отоплением, но одевались и питались за свой счет. Каникулы полагались толь-ко один раз в году в течение одного месяца — июля; к 1 августа ученики должны были вернуться в школу. Однако их возвращение зачастую производилось при помощи поли-ции; потому даже во время каникул они находились под присмотром волостных правле-ний [10, с. 58–59]. Набор в Ногайскую школу был очень небольшим: в первый год в нее поступило всего 10, осенью 1832 г. — 33 ученика. По данным того же года, большинство из них составляли ногайцы, но было также 6 «россиян», 2 армян, 2 сыновей садовника-француза Клерфона; возраст учеников колебался от 8 до 28 лет [10, с. 59–60]. Со време-нем, доля ногайцев среди учащихся становилось все меньшей. Так, в 1841 г. из 41 учени-ков было всего 12 ногайцев, зато русских — 26, армян — 2, был также 1 немец-колонист [11, с. 184]. Как писал А. Сергеев, «Школа не пользовалась доброй репутацией в глазах ногайского населения. Повинуясь приглашению начальства, ногайцы поставляли учени-ков в школу как рекрут… Попав в школу, [они] убегали назад в аулы; их ловили, пороли и возвращали в ученье» [11, с. 183].
С целью большего привлечения ногайцев к обучению в казенной школе, был открыт пансион для наиболее способных учеников; предполагалось, что по окончании курса они станут волостными писарями в своих аулах [10, с. 59–60]. На пансион из государственно-го казначейства отпускалось по 103 руб. 16 коп. ежегодно на каждого из 5 пансионеров;
21
содержание школы производилось из городской казны и обходилось примерно в 1750 руб. ежегодно [11, с. 183–184]. Несмотря на вполне сносную сумму годового содержания, ре-альное положение учеников-пансионеров было отчаянным. Об этом свидетельствует слу-чай, произошедший в 1836 г. и получивший широкую огласку. Ученики пожаловались по-лицеймейстеру Ногайска Мейзенкампфу на то, что они голодают и что некоторые из них заболели цингой. Мейзенкампф усмотрел в этом бунт, одного из жалобщиков посадил под арест, другого приказал высечь, еще двоих собственноручно отхлестал по щекам и поста-вил на колени во дворе училища. На произведенный во время экзекуции шум сбежалось много народа — ногайцев, русских и армян. Министр внутренних дел Д.Н. Блудов, осве-домившись о происшествии, ограничился вынесением строгого выговора полицеймейсте-ру за превышение полномочий и «вмешательство не в свое дело» [11, с. 183–184].
Фрагментарные данные не позволяют сколько-нибудь полно воспроизвести процесс обучения в Ногайской школе, хотя его общие черты понятны из приведенного выше упо-минания об учебной литературе – русские буквари, учебники по грамматике, катехизис и священная история свидетельствуют о явном перевесе в сторону изучения русского язы-ка и основ православной религии. На это указывает и разница в оплате труда «русского» и «татарского» учителей: первый получал 700 руб. годового жалования, второй — всего 300 руб. [10, с. 58]. Нет оснований говорить, что Ногайская школа дала результат, хоть минимально соотносимый с ожиданиями правительства. Ее выпускники-ногайцы не были заметными на государственной службе, никак не проявили себя в сельскохозяйственном предпринимательстве и торговых делах, бесконечно далеких от столь желанного и вы-нужденно оставленного ими кочевания. Они не дали той новой, интегрированной в социо-культурное пространство Российской империи интеллигенции, о которой А.Е. Крымский писал на примере крымских татар: «в средине ХIХ – или в 1880-х совсем легко было встретить образованного крымчака.., который, окончив русскую школу или попросту по-служивши длительное время на российской государственной службе.., выходил скорее русским интеллигентом, нежели татарином» [6, с. 169].
Приазовские ногайцы продолжали жить своей анклавной жизнью, покорно платили налоги и отбывали государственные повинности, демонстрируя внешние знаки лояльно-сти к российской власти. До царской полиции время от времени доходили сведения о тай-ных собраниях у ногайцев и о том, что муллы распространяют в ногайских аулах, перепи-сывая от руки, поступившую из Турции запрещенную литературу, вроде книг «Рисоле» с «предсказанием о взятии в 1833 г. египетским пашею Крыма», а также сборников песен, призывающих мусульман к борьбе против русских [10, с. 65, 140–141]. Вполне понятно, что эти книги привлекали гораздо большее внимание ногайской молодежи, чем русские буквари и православный катехизис.
Приазовские ногайцы относительно спокойно пережили Крымскую войну 1853–1856 гг. Но в 1860 г. они, совершенно неожиданно для российского правительства, попали под влияние своих единородцев-мухаджиров, проживавших на Кавказе, за бесценок рас-продали имущество и почти в полном составе выехали в Османскую империю — в Доб-руджу, а также Брусский и Кокийский вилайеты в Малой Азии [11, с. 180, 216–222]. Опу-стевшие ногайские аулы заняли болгарские переселенцы, украинцы, русские старообряд-цы и др. (полный список ногайских поселений и их локализация представлены В.А. Бушаковым [3]). Ногайская школа была реорганизована из-за отсутствия в ней но-гайцев. Прекрасный сад в Ногайске, вызывавший восхищение современников, уже в 1850-е годы пришел в запустение, а затем бесследно исчез. Заштатный городок продолжал жить по административной инерции, так и не получив экономических оснований для сво-его роста, как и многие другие города Южной Украины, которые основывались как круп-ные административные центры, но так и не смогли превратиться в средоточия социально-экономической и культурной жизни: Вознесенск, Кременчуг, Никополь (Славенск) и др. В 1964 г. он потерял первоначальное наименование, превратившись в поселок городского типа Приморское, с 1996 г. — город Приморск, районный центром в Запорожской обла-
22
сти. Хотя старый топоним сохранился в названии Ногайского сельскохозяйственного тех-никума, расположенного в г. Приморск, сейчас — Ногайский колледж Таврийского госу-дарственного агротехнологического университета.
Итак, несмотря на активно предпринимаемые российскими властями мероприятия и оказываемую ими материальную и технологическую помощь, процесс оседания приазов-ских ногайцев длился больше двух десятилетий и сопровождался скрытыми формами их противодействия. Данный процесс проходил через стадию дисперсии кустовых поселе-ний, при которой значительная часть населения была занята подвижным скотоводством и проживала в стационарных домах только в зимний период. Этот тип скотоводства нель-зя определять как отгонно-пастбищный, а скорее как усеченную модификацию кочевни-ческого хозяйственно-культурного типа. Окончательный переход к оседлости произошел в 1738 г., в результате природного катаклизма. Миграция приазовских ногайцев в Турцию 1860 г. подвела окончательный итог безуспешной политики их интеграции в социально-политическое, экономическое и культурное пространство Российской империи.
Список литературы
1. Архив князя Воронцова. Кн. 38: Бумаги фельдмаршала кн. М.С. Воронцова. М.: Университетск. тип., 1892. 536 с.
2. Бастрыга И., Лыман И. Начала истории Бердянска. Запорожье: б.и., 2002. 132 с. 3. Бушаков В.А. Студії з ономастики та етимології. К.: Інститут української мови
НАН України, 2007. С. 20–32. 4. Грибовський В.В. Ногайське козацьке військо: юридичний статус і соціальний кон-
тент // Кубань–Україна: питання історико-культурної взаємодії. Вип. VII. Краснодар; Київ: ЭДВИ, 2013. С. 266–300.
5. Корнис И. Краткий обзор положения ногайских татар, водворенных в Мелитополь-ском уезде Таврической губернии // Телескоп, журнал современного просвещения, изда-ваемый Н. Надеждиным. Ч. 33. М.: тип. Н. Степанова, 1836. С. 3–23, 210–230, 269–297.
6. Кримський А.Е. Література кримських татар // Студії з Криму. Відбитки з “Записок Історично-філологічного відділу”. К.: друкарня ВУАН, 1930. С. 165–198.
7. Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. Т. 37: 1820–1821. СПб.: тип. II отд. ЕИВ канцелярии, 1830. 984 с.
8. Российский государственный исторический архив (далее–РГИА). Ф. 383. Оп. 29. Д. 917: “По представлению херсонскаго военнаго губернатора Розенберга о нагайцах оставшихся из орд Едисанской, Едичкульской и Джамбуйлуцкой”. 15 апреля 1804–6 мая 1807. 252 л.
9. РГИА. Ф. 1151. Оп. 1-1823. Д. 105: Дело о начальнике нагайцов, надворном совет-нике графе де Мезоне. 6 л.
10. Сергеев А. Ногайцы на Молочных водах (1790–1832 г.). Исторический очерк // Известия Таврической ученой архивной комиссии. Т. 48. Симферополь: тип. Таврич. гу-бернск. земства, 1912. С. 1–144.
11. Сергеев А.А. Уход Таврических ногайцев в Турцию в 1860 г. // Известия Таври-ческой ученой архивной комиссии. Т. 49. Симферополь: тип. Таврич. губернск. земства, 1913. С. 178–222.
12. Шенников А.А. Жилые дома ногайцев Северного Причерноморья // Славяно-русская этнография. Ленинград, 1973. С. 46–72.
13. Ярлыкапов А.А. Ислам у степных ногайцев. М.: ИЭА РАН, 2008. 266 с. 14. Castelnau Gabriel, de. Essai sur l’histoire ancienne et moderne de la Nouvelle Russie.
Statistique des provinces qui la composent. Fondation d’Odessa; ses progrès, son état actuel; détails sur son commerce. Voyage en Crimée, dans l’intéret de l’agriculture et du commerce. T. 2. Paris: Rey et Gravier, 1820. 387 p.
15. De Gouroff. De la civilization des Tatars Nogaїs dans le midi de la Russia europeene. Charcow, 1816. 122 р.
23
16. Hommaire de Hell Xavier. Les steppes de la mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et la Russie méridionale. Voyage pittoresque, historique et scientifique. T. 1. Paris: P. Bertrand, éditeur; Strasbourg: V. Levrault, libraire, 1843. P. 262–293.
17. Schlatter Daniel. Bruchstücke aus einigen Reisen nach dem südlichen Rußland, in den Jahren 1822 bis 1828: mit besonderer Rücksicht auf die Nogayen-Tataren am Asowschen Meere. St. Gallen: Huber, 1830. 496 s.
18. Seymour H. D. Russia on the Black Sea and Sea of Azof: being a narrative of travels in the Crimea and bordering provinces with notices of the Naval, military and commercial re-sources of those countries. Third edition. London: John Murray, 1855. 365 p.
19. Spencer E. Travels in Circassia, Krim Tartary etc. in 1836. London: Henry Colburn, 1837. 425 p.
24
Р.В. ИШМУХАМБЕТОВ
К ИСТОРИОГРАФИИ ИЗУЧЕНИЯ СЛУЖИЛЫХ ГРУПП ВНУТРЕННЕЙ БУККЕВСКОЙ ОРДЫ
История служилых групп Букеевской Орды, к числу которых относились ногай-
казахи, каракалпаки и тюленгиты, является неотъемлемой частью этого социально-политического образования, которая тесно связана с историей народов Астраханской об-ласти и прилегающих районов Республики Казахстан.
Служилые группы, сложившиеся в Букеевской Орде и игравшие в ней определенную политическую роль, связанную с управлением, становились предметом изучения различ-ных исследователей. Для того чтобы провести собственное исследование и сделать пра-вильные выводы мы решили сделать обзор историографии по данной теме.
Историография изучения данных групп, несмотря на сравнительно небольшое количе-ство письменных источников, достаточно широко освещает её. В основном источники, описывающие процесс образования и развития субэтнической группы ногай казахов, представляют собой не прямое, а косвенное описание этих событий в свете общеногай-ской и общеказахской истории, тем не менее, эта тема не была обделена вниманием раз-личных авторов.
Важные сведения о процессе принятия казахами русского подданства, а также и о условиях складывания служилой группы ногай-казах можно почерпнуть из донесений российского чиновника (татарского мурзы по происхождению) И.В. Тевкелева, активно участвовавшего в процессе принятия младшежузовскими казахами российского поддан-ства [9].
О предках ногай-казахов и их бегстве к казахскому хану Нурали впервые сообщается в книге российского чиновника, географа и краеведа П.И .Рычкова «Топография Орен-бургская», вышедшей в Петербурге в 1762 г.
В описании общей истории казахов видное место занимает книга А.И. Левшина «Описа-ние киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей», которая вышла в Санкт-Петербурге в 1832 году. Это исследование признано первым в своем роде самым подробным описанием истории культуры и даже особенностей языка и литературы казахского народа, а также при-роды и топографии нынешнего Казахстана. А.И. Левшин подробно коснулся проблемы про-исхождения и статуса туленгитов в качестве служилой группы [7, с. 120–150].
Одна из первых работ в историографии уже собственно служилых групп среди буке-евцев, обстоятельно описывающая является книга «Очерки Волжского Понизовья» под авторством П.И. Небольсина. Автор, отдавший много лет своей жизни этнографии, со-вершил по поручению Русского Императорского Географического общества путешествие в прикаспийские и казахские степи в 1850–51 гг.
П.И. Небольсин в своей книге-исследовании написанном в увлекательной форме по-вествования, в живой манере описал быт и этнографические особенности народов, насе-лявших тогда в Астраханскую губернию и соседнюю Букеевскую внутреннюю казахскую Орду, в составе которой были как раз ногай-казахи, каракалпаки и туленгиты. В главе по-священной Букеевской Орде, П.И. Небольсин коснулся описания происхождения, быта и социального положения всех этих групп. Исследование Небольсина является ценней-шим материалом для изучения истории народов нашего края [8, с. 135–140].
Важное место среди источников по истории ногай-казахов занимает книга А.Н. Хару-зина «Киргизы внутренней Орды». А.Н. Харузин русский этнограф и антрополог, окончил физико-математический факультет Московского университета в 1889 году. По поручению Императорского общества любителей естествознания предпринимал в 1887 и 1888 годах путешествие в киргизскую Букеевскую степь. Книга А.Н. Харузина особенно цена и со-держательна в описании истории субэтнических служилых групп ногай-казахов, каракал-
25
паков и тюленгитов, особенностей их социального положения, быта и этнографических и антропологических особенностей, а также традиционного места кочевок [11, с. 50–80].
К собственно казахским исследованиям касающимся истории служилых групп буке-евцев относятся работы К-Х. Бабажанова и воспоминания самого хана Джангира Букеева.
В советский период этой темой занимались несколько ученых, которые обобщили ис-следования дореволюционных авторов.
Статья «Институт туленгутства в патриархальном Казахстане» В.В. Шахматова пред-ставляет большую ценность для нас, так как будучи посвященной проблеме происхожде-ния и социального статуса туленгутов, была написана с привлечением большого количе-ства источников и представляет собой детальный анализ этой проблемы [13].
В.В. Востров и М.С. Муканов в своем исследовании о происхождении и расселении казахов, также коснулись темы традиционных расселения ногай-казахов и тюленгитов, а так же дают характеристику их положения [3, с. 238–247].
Важным и не утратившим актуальность является и работа по истории Букеевского ханства С.З. Зиманова. Необходимо подчеркнуть ценность сведений и широту использо-вания источников в данной работе, вместе с тем, автор в силу влияния господствовавшей в то время идеологии не мог выйти за рамки определений марксисткого учения в истори-ческой науке и социологии [4, с. 20–70].
К исследованиям постсоветского периода относятся статьи астраханского ученого В.М. Викторина который возродил интерес к данной теме. Его цикл статей посвященный ногай-казахам и каракалпакам сочетая архивный материал и этнографические сведения также служит ценным материалом для сегодняшних исследователей по данной теме [1, 2, с. 52–59].
Этой же темы коснулся в своих публикациях изучая ногайско-казахские связи Э.Ш. Идрисов, он привлек важные архивные данные, поясняющие мотивы переселения в Букеевскую Орду части ногайцев-карагашей [5]. Также следует отметить статьи запад-но-казахстанского краеведа Н.Ш. Курумбаева. который привлек материал связанный с по-явлением ногай-казахов и карагашей в Букеевской Орде [6, с. 254].
В целом, подходы, используемые исследователями в зависимости от направленности и метода исследования можно разделить на несколько направлений:
1) «естественно- этнографический» (П.И. Небольсин, Ч.Ч. Валиханов); 2) «островной» (А.И. Тевкелев, Я.В. Ханыков); 3) «эволюционисткий» (А.И. Харузин); 4) «советский» (С.З. Зиманов, В.В. Шахматов); 5) «современный» (В.М. Викторин, Э.Ш. Идрисов). Под естественно-этнографическим нами понимается такой подход, когда во главу угла
исследователем поставлена фиксация этнографических особенностей изучаемой группы. Под «островным» иначе «колониальным» понимается взгляд на изучаемую группу со сто-роны ,когда автор заведомо ставя изучаемую группу на иную более низшую ступень раз-вития общества, а основной целью его является приобрести сведения для облегчения «приведения к покорности» и управления.
Под «эволюционистским» мы понимаем такой подход, когда автор рассматривает группу и общество с позиций учения эволюционизма, как находящуюся на некой стадии неизбежной в развитии общества.
Под «советским» подразумеваем подходы и методы сформированные в советский пе-риод, когда марксистско-ленинское учение господствовало в науке что отразилось на ис-следованиях того времени.
Под «современным» понимаем подходы и методы, сформировавшиеся в новых усло-виях постсоветской России и на территории бывших союзных республик с привлечением новых источниковых данных.
Такое разделение, конечно, является условным, так как в исследованиях многих авто-ров эти подходы совмещаются.
26
Изучение служилых групп Букеевской Орды — истории их сложения, политических и управленческих функций, участия их в исторических событиях, а также изучение их эт-нографических особенностей, прошлого и моделирование предполагаемого будущего уже в качестве этнотерриториальных групп с особым самосознанием — представляется инте-ресной темой для дальнейших исследований.
Список литературы
1. Викторин В.М., Идрисов Э.Ш Астраханские ногайцы // Возрождение. 2006. №9. 2. Викторин В.М. Субэтносоциум «нугай-казак» на границе Западного Казахстана
и Нижнего Поволжья: парадоксы взаимодействия тюркских этносов // Сарепта: Историко-этнографический вестник. Вып. 2. Волгоград, 2006. С. 52–59.
3. Востров В.В. Муканов М.С. Родоплеменной состав и расселение казахов. Алма-Ата, 1968.
4. Зиманов С.З. Россия и Букеевское ханство. Алма-Ата, 1981. 5. Идрисов Э.Ш. Ногайско-казахские историко-культурные связи и современные от-
ношения // Перекрёстки истории. Актуальные проблемы исторической науки: Материалы Всероссийской научной конференции. Астрахань, 17 апреля 2010 г. Астрахань, 2010. С. 158–161; Идрисов Э.Ш. К вопросу об управлении полукочевыми ногайцами-карагашами в составе Астраханской губернии (конец XVIII–I пол. XIX вв.) // Каспийский регион: политика, экономика, культура. №2. С. 19–26.
6. Курумбаев Н. Этнические группы Букеевской Орды // Материалы XXXVIII Урало-Поволжской археологической студенческой конференции. Астрахань, 2006. С. 254.
7. Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких гор и степей. Алма-ты, Санат, 1996.
8. Небольсин П.И. Очерки Волжского низовья. СПб., 1852. 9. Рычков П.И. Топография Оренбургская. СПб., 1762. 10. Тевкелев И.В. Журнал, происходящим по комиссии бригадира Тевкелева киргис-
кайсацким делам 1748 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Do-kumenty/M.Asien/XVIII/1720-1740/Tevkelev_A_I/text32.htm (дата обращения: 12.03.2014).
11. Харузин А.Н. Киргизы Букеевской Орды. М., 1889. 12. Ханыков Я.В Очерк состояния Внутренней Киргизской Орды М., 1847. 13. Шахматов. В.В Институт туленгутства в патриархальном Казахстане [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/1820-1840/Tulen-gut/text.htm (дата обращения: 12.03.2014).
27
А.М. КУМУКОВ
МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА КИТАЯ
Ислам начал проникать в Китай в VII в. по морским путям. Первые мусульмане нача-ли приезжать в Китай еще при жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословение Ал-лаха. Тогда его четыре сподвижника отправились в Китай с призывом к компактно жив-шим там арабам. С тех пор на территории нынешнего Китая на протяжении 1400 лет жи-вут мусульмане.
В последующие годы практически во всех крупных городах начали появляться му-сульманские общины, но больше всего, переселенцы оседали в портовых городах Подне-бесной - Гуанчжоу, Цюаньчжоу, Ханчжоу и в других местах сосредоточения международ-ной торговли возникли многолюдные мусульманские общины, состоявшие главным обра-зом из персидских и арабских купцов. После переезда в тот или иной город, переселенцы сразу начинали строить мечети.
Мусульманские торговцы везли в Китай пряности, специи, янтарь; вывозили шелк, фар-фор и чай. Благодаря ним, мир узнал о таких изобретениях китайцев, как компас, бумага и порох, что стимулировало экономический и культурный обмен между Востоком и Западом. Многие арабы осели в Китае и женились на представителях местного населения [1].
Сегодня в Китае проживает 56 национальностей и 10 из них являются мусульманами. Наибольшее распространение ислам получил среди 10 национальных меньшинств: хуэйцев, уйгуров, казахов, дунсянов, саларов, баоаньцев, киргизов, узбеков, татар и таджиков [2]. Се-годня, помимо Синьцзяна, мусульмане живут и в провинциях Нинся и Хэбэй, в Пекине есть целый мусульманский квартал, еще со времен эпохи Тан живут мусульмане в Сиане. Кроме того, мусульманами, также традиционно, обжит большой юго-восточный ареал. Это провин-ции Юньнань Ганьсу, Шаньдун, Гуйчжоу, Фуцзян, Гуандун. Небольшая народность, предста-вители которой исповедуют ислам, представлена также на острове Хайнань [1].
Во всех вышеперечисленных провинциях в основном проживают хуэйцы (дунгане). Этот народ компактно и разрозненно проживает во всех уголках Китая, и являются самым много-численным по численности национальным меньшинством Китая. А все остальные мусуль-манские народы проживают на территории Синьцзяна — Уйгурского автономного района.
В настоящее время в Китае по официальным данным проживает более 23 миллионов мусульман. По неофициальным данным, их намного больше, иногда речь идет о 65,3 или о 100 миллионов человек, — то есть до 7,5% населения страны. На сегодняшний день в Китае действует около 30 тысяч мечетей, где работают около 50 тысяч имамов [5]. Практически все мусульмане исповедуют ислам суннитской ветви, только таджики явля-ются шиитами.
На протяжении многих веков тесные контакты мусульман с местным населением при-способили их к местному укладу жизни. Спустя несколько веков после появления первых мусульман на территории Китая их потомки начали повсеместно носить китайскую тра-диционную одежду, давать своим детям китайские имена, говорить по-китайски и даже строить мечети и медресе в китайском архитектурном стиле [4].
Однако, несмотря на тесные контакты между китайцами и мусульманами, это не помешало последним сохранить отчетливое осознание своей обособленности от китайской культуры. В китайских городах мусульманские общины жили и живут замкнутой жизнью в определенных мусульманских кварталах, где находится мечеть и другие религиозные учреждения.
В истории проживания мусульман в Китае был период времени, когда мусульмане находились даже выше в социальной иерархии, чем местное китайское население. Влия-тельной политической и экономической силой мусульмане в Китае стали в период владыче-ства монголов, которые рассматривали их как иностранцев, внушавших больше доверия, чем китайцы. Монгольские правители Китая охотно поручали мусульманам руководство государственными финансами и различными торговыми операциями. За время монгольско-
28
го владычества численность мусульман в Китае резко возросла. Уже с конца ХIII в. мусуль-мане составили значительную часть населения на северо-западной окраине Китая. Крупные общины появились на равнине Хуанхэ, в Юньнани (долгое время находившейся под управ-лением чиновников-мусульман) и в других районах. Тогда же, в период Юань, вошло в обиход традиционное наименование китайских мусульман — хуэшуэи [1].
Не так долго мусульмане руководили в Китае, уже с 15 века, когда в Китае сошло на нет монгольское владычество и власть вновь обрели китайские правящие династии, между мусульманами и властями произошёли ряд столкновений. Крупные мусульманские волне-ния имели место в середине XVII в. и позднее. Как следствие, цинские власти приняли ряд мер, стеснявших свободу вероисповедания мусульман Китая. В 1731 г. мусульманам было отказано в праве на ритуальное заклание животных, а позднее император Яньлун запретил постройку новых мечетей и паломничество в Мекку [3].
Между 1862 и 1878 годами в провинции Ганьсу происходило настоящее истребление народа: за это время ее население уменьшилось с 15 миллионов до 1 миллиона человек, две трети из которых были мусульманами хуэйской национальности [5].
В 1912 году маньчжурская династия была свергнута, но насилие против мусульман-ского населения все еще продолжалось до 1930 года. Почти через двадцать лет председа-тель Коммунистической партии Мао Цзедун основал Китайскую Народную Республику — марксистское государство, в котором подвергались гонениям все религии [3].
Мусульман вместе с другими религиозными меньшинствами преследовали и убивали, мечети разрушали. Только после смерти Мао положение меньшинств начало меняться в лучшую сторону.
Ни правительственные гонения, ни попытки ассимиляции мусульман не подорвали позиций ислама в Китае. Среди причин живучести мусульманской общины исследователи указывают, во-первых, их географическую распылённость, а во-вторых — многоликость китайских мусульман. С одной стороны, власти не имели перед собой компактной массы мусульманского населения, которую можно было бы расчленить и тем самым ослабить. С другой стороны, китайские мусульмане выступали одновременно и как религиозная, и как этнокультурная группа населения. В результате у властей не было единого критерия квалификации мусульманских подданных.
На сегодняшний день положение мусульман — как и последователей других религий — уже значительно лучше. Создаются исламские организации, школы, колледжи, строят-ся мечети, наблюдается хоть и не масштабное, но заметное возрождение ислама.
В современном Китае репрессий со стороны властей по отношению к мусульманам прекратились. Китайские мусульмане живут в благополучии, налаживают межэтнические связи внутри страны и с мусульманами за рубежом.
Китайские власти не запрещают иметь по два и даже три ребенка представителям му-сульманских меньшинств, а по отношению ханьского большинства действует закон «од-ного ребенка». Большинство китайских мусульман других народностей пользуются этим правом, и таким образом община растет.
Список литературы 1. История, современность и будущее мусульман Китая [Электронный ресурс]. URL:
http://www.islamnews.ru/news-22185.html (дата обращения: 15.01.2010). 2. Мусульмане в Китае: краткий обзор [Электронный ресурс]. URL: http://www.is-
lam.ru/content/obshestvo/1192 (дата обращения: 11.04.2009). 3. Мухаметов А.Р. Хуэйцы и Ислам в Китае [Электронный ресурс]. URL: http://an-
sar.ru/person/2013/04/02/39351 (дата обращения: 02.04.2013). 4. Хамуч Мухаммад, Ислам в Китае [Электронный ресурс]. URL: http://www.islam-
religion.com/ru/articles/486/ (дата обращения: 16.04.2012). 5. Этар Эль-Кататни, Земля истины и чистоты. Мусульмане в Китае [Электронный
ресурс]. URL: http://islam.com.ua/islam-today/1138-musulymanskiy-mir/624-zemlya-istiny-i-chistoty-musulymane-v-kitae (дата обращения: 25.12.2013).
29
А.Б. НИКОЛЬСКИЙ
АНТИЧНОЕ НАСЛЕДИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Говоря о влиянии, которое оказала античная цивилизация на современную культуру, исследователи нередко забывают о политической сфере или не уделяют ей должного вни-мания. Хотя, нужно отметить, что степень воздействия античной культуры на развитие современной политологической мысли можно считать, во многом, определяющим. Начи-ная с эпохи Возрождения, философы и политические деятели обращались к античной эпо-хе для того, чтобы обосновать свои теории или подвести основу для формирования идео-логии.
Античное наследие так прочно вошло в структуру современной культуры, что, напри-мер, в современной Европе при обсуждении проекта Конституции Европейского Союза в преамбуле было указано, что европейская цивилизация восходит своими корнями к гре-ко-римской культуре, и, несмотря на то, что это упоминание не вошло в итоговый текст проекта, преамбула начиналась словами, взятыми из труда древнегреческого историка Фукидида: «Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве (демоса)» [23]. На саммите в итоге проект конституции был подписан, но в силу не вступил, а фраза Фукидида, вообще, не попала в итоговый текст договора [1].
Изъятие из текста итогового документа Конституции ЕС фразы о влиянии античного наследия много и серьезно критиковалось в Европе, однако, даже с учетом того, что роль античной культуры не декларируется, мы все равно видим, что оно значительно. Цитата из Фукидида ярко демонстрирует, что особо она значимо именно в политической сфере. Демократия на сегодняшний день является строем, на котором зиждется политическая си-стема европейской цивилизации. Это вполне может относиться и к человеческой цивили-зации в целом. Так «Международный пакт о гражданских и политических правах», приня-тый в Организации Объединенных Наций 16 декабря 1966 года предусматривает право человека на самоопределение, свободу собраний и ассоциаций, право принимать участие в ведении государственных дел, голосовать и быть избранным, т.е. все принципы, пере-числяемые в пакте, относятся к демократическим государствам.
Мы видим, что такая форма государственного устройства как демократия безогово-рочно признается единственной приемлемой. Своего рода кульминацией этих идей стал труд Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек» [24]. В этом труде утвер-ждается, что с развитием капитализма повсеместно будут развиваться либеральные демо-кратии во всём мире, что может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства [17, с. 509–510]. Таким образом, демократия является, своего рода, высшей точкой разви-тия государства 1.
Но насколько данные современные представления политологов перекликаются с ан-тичным наследием. И необходимо определится вот с каким вопросом, является демокра-тия современная и античная схожими по своим основным параметрам?
Термин демократия довольно часто встречается в трудах античных авторов. Однако после восторженного панегирика демократии в труде Фукидида остальные античные ав-торы довольно скептически относились к данной форме государственного устройства. Одним из первых ярых критиков демократии являлся Сократ [13, с. 129–130].
Ученик Сократа Платон также критиковал демократию, как строй, при котором ак-тивно происходит порча нравов. Демократия, по мнению греческого философа, может легко превратиться в тиранию [13, с. 152].
1 Данная концепция, несмотря на растиражированность труда Ф. Фукуямы, довольно активно
критикуется.
30
Аристотель наблюдал кризис демократии и поэтому тоже был не в восторге от этой формы устройства греческого полиса. Поэтому к демократии Аристотель довольно крити-чен. Он считает, что при власти большинства власть принадлежит не народу, а «демаго-гам», которые управляют от имени народа [13, с. 201; 16, с. 44].
В труде Полибия мы снова встречаем положительное отношение к демократии. Это одна из последних положительных оценок данной формы государственного устройства. По его мнению, демократия «правильная» форма государственного устройства (наряду с аристократией и монархией). Демократия может существовать лишь до тех пор, пока люди дорожат свободой. Говоря о причинах ее вырождения, Полибий отмечает, что при демократии люди перестают быть сообществом равных, и начинается общественная диф-ференциация, разделение происходит в основном по имущественному принципу. Богатые граждане стремятся получить власть любым путем и начинают постепенно развращать народ подачками, так демократия трансформируется в олигархию [14, с. 71; 21, с. 88].
Разумеется, мы не хотим сказать, что демократия оценивалась в античный период только негативно, в источниках хватает также и положительных оценок, например, афин-ской демократии, но здесь мы ставили задачу подчеркнуть, что демократия не считалась единственной приемлемой формой государственного устройства. Древние философы бы-ли не столь категоричны в своих заявлениях и они выделяли несколько форм государ-ственного устройства, разделяя их на «правильные» и «неправильные».
В период формирования Республик в Европе постепенно начинается обращение к ан-тичному наследию. Возрождение античности привело к формированию классического об-разования, при котором основной упор делался на изучение античной традиции — древние языки, тексты, культурные памятники1. Политическая теория этого периода ищет подтвер-ждение своих концепций в текстах древних авторов. Примером может служить классиче-ский труд Николо Макиавелли «О первой декаде Тита Ливия» [11]. В этом труде он говорит о социальных основах Республики, опираясь на труд известного римского историка.
Отсутствие своих республиканских традиций заставляло обращаться к античной тра-диции за обобщением опыта демократического управления, традиций народовластия, нравственного воспитания. Идеи древности становятся популярны в обществе и они «из сферы абстрактного теоретизирования переводились в конкретную жизненную форму» [2, с. 22]. Все эти процессы приводят к тому, что античное наследие становится фунда-ментом, на котором зиждется любая политическая теория этого периода.
Особенная необходимость обращения к античному наследию происходит в период буржуазных революций. Политические мыслители старались выйти за рамки христиан-ской идеологии. Естественно, что античность давала необходимые аргументы в пользу развития народного управления. Республиканская идеология в Англии и Франции ставила античность в пример. Борьба с тиранами в древних Афинах и древнем Риме вызывало восхищение у деятелей эпохи Просвещения.
С развитием политической мысли стало понятно, что политическая идеология не мо-жет оставаться в рамках античной традиции. Если республиканизм еще мог опираться на античную идеологию [19, с. 49], то формирующийся либерализм попытался отойти от устаревших стандартов. Так, Бенджамен Констан, призывал полностью отказаться от под-ражания античности [27, p. 260–262]. Ему вторит А. Гамильтон, он писал: «Искать образ-цы в простодушной эпохе Греции и Рима так же смешно, как отправиться на поиски их к готтентотам и лапландцам» [26, p. 103]. Это связано, прежде всего, с тем, что большое развитие получило развитие идеи о гражданских правах и свободах.
Мы уже привыкли, что в современное толкование этого понятия входит наличие большого количества либеральных прав и свобод. Только в Конституции России, приня-
1 Средневековье также было знакомо с античным наследием, но как выразился А.Х. Горфункель
«включенное в принципиально иную систему духовных ценностей, оно играло в ней специфическую роль внеисторического, вневременного авторитета» — Горфункель А.Х. Полемика вокруг античного наследия в эпоху Возрождения // Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984. С. 6.
31
той на референдуме в 1993 году, гражданам гарантируется право на неприкосновенность частной жизни, на неприкосновенность жилища, право на бесплатное образование, на свободу передвижений и т.д. Конечно, защита некоторых прав иногда обеспечивается не должным образом, но в нашей статье речь пойдет о другом. Само их наличие приводит индивида к тому, что эти права являются неотъемлемой частью его статуса гражданина. При этом, сами граждане зачастую забывают о своих обязанностях по отношению к свое-му государству. Ситуацию с гражданскими правами в древности можно назвать диамет-рально противоположной.
Необходимо отметить, что такого термина в античный период не существовало. Были определенные гарантии соблюдения определенных процедур и они были связаны с соци-альным положением индивида, проживающего в общине полисного типа. При этом, чем выше социальный статус проживающего в общине человека, тем больше на него могут накладываться обязанности. Однако, реальность отступала на второй план, когда дело ка-салось идеологии.
Либеральные историки пытались продемонстрировать, что древняя история может быть примером для подражания. Это приводило к процессу идеализации и модернизации в исторической науке. Так Дж. Грот, английский историк-либерал, идеализировал древние Афины [18, с. 9; 20, c. 153].
При этом консерваторы и республиканцы могли в качестве идеала выдвигали спартан-ское государство. Со временем идеализация Спарты стала одним из краеугольных камней фашисткой идеологии в Германии 30-х г. XX в. [10, с. 98–99]. В речах А. Гитлера встре-чаются отсылки к истории древней Спарты, она именовалась ни больше, ни меньше как «чистым расовым государством в истории» (den klaren Rassenstaat der Geshichte). Есте-ственно, что третий Рейх лидер нацистской Германии сравнивал с древней Спартой [18, с. 30]1. Античная история стала ареной современных идеологических споров и даже после войны в труде Карла Поппера мы встречаем критику спартанского государства, которое объявляется чуть ли не предшественником тоталитарных режимов Германии и СССР [15].
При этом мы можем констатировать, что такое передергивание античной истории, ее терминов и идей характерно не только для идеологов демократического движения.
Левая идеология также искала в античности идеологические опоры. В истории выде-лялись примеры народно-освободительного движения [5; 7; 8], при этом такие поиски приводили к натяжкам, и историческое исследование, если не фальсифицировалось, то, во всяком случае, подстраивалось под нужный результат 2. Герои подобных движений древ-него мира идеализировались и мифологизировались. Примером может послужить образ Спартака.
Его фигура со времени Великой Французской Революции занимает особое положение в мировой культуре. Но, по настоящему, он был поставлен на пьедестал идеализации в советской историографии. Это имя стало нарицательным и было символом классовой борьбы [25, с. 193–220].
1 Интересно, что на Родине фашизма Италии идеализировалась история древнего Рима. Муссолини даже финансировал съемки фильма «Сципион Африканский» в 1937 г. Это был самый грандиозный исторический фильм того времени. Но, из-за своей идеологизированности фильм очень критично восприняли на Западе и в Советском Союзе, даже несмотря на награду на Венецианском фестивале. На Западе его сняли с проката, из-за того, что он фактически воспевал вторжение Рима на территорию Северной Африки. Ведь съемки и прокат фильма проходили на фоне вторжения итальянских войск в Абиссинию. Газета «Юманите» ВТО время писала о фильме: «Итальянские фашисты используют тот факт, что история их страны начинается с Рима. Если не хватает собственной славы, то всегда можно задрапироваться в античную тунику и заявить: “мы и древние римляне – это одно и то же”. Именно в таком духе и сделан новый итальянский пропагандистский фильм». Цит. по книге Лапин И. Ганнибал. М., 1939. С. 56.
2 Приведем пример подобного исследования – исследование восстания скифов под руководством Сав-мака – См. Жебелев С.А. Первое революционное восстание на территории СССР (историческая справка) // Сообщение ГАИМК. 1932. № 9–10. С. 35–37; Он же. Последний Перисад и скифское восстание на Боспоре // ВДИ. 1938. №3.С. 43–71. Данное исследование критикуется и некоторые российские ученые считают, что выводы исследования слишком гипотетичны – Фролов Э.Д. Русская наука об античности. Историографиче-ские очерки. СПб.: ИД «Гуманитарная академия», 2006. С. 444.
32
Подводя итог данной статьи можно констатировать, что за последнее время значение античного наследия в политической культуре и политической идеологии заметно ослабло. Это вызвано несколькими причинами:
– Первая, развитие либеральной политической идеологии, которая идет вразрез в ан-тичными политическими идеалам.
– Вторая, снижение интереса к изучению античной культуры и философии. Данная тенденция стала проявляться уже в XIX веке. Античность стала символом консервативно-сти и в новых социально-экономических условиях не могла быть основой для развития новых идеологий. Латинский и древнегреческий языки стали символом старых ненужных знаний. Недаром ведь А.П. Чехов в своем рассказе «Человек в футляре» подчеркивая ото-рванность главного героя Беликова от реальности живого мира, его консерватизм делает его преподавателем древнегреческого языка.
– Третья, упрощение гуманитарного обучения и фактическое уничтожение системы классического образования, как в системе средней, так и в системе высшей школы [12, c. 81–82], что в свою очередь сказалось на уровне знаний текстов античных авторов и античной культуры, в целом. Фактически изучение античной культуры и философии оста-лось уделом небольшой группы лиц, получивших классическое образование. Именно по-этому в массовом сознании античное наследие так безжалостно трансформируется (например, в кинематографе) и это не встречает возмущения и неприятия со стороны по-требителя 1.
В связи с этим выглядит совершенно логичным, что в популярной трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры» представители Капитоля (элита выдуманной писательницей страны Панам) носят античные имена — Кориолан Сноу, Сенека Крейн, Цезарь Фликер-ман, Цинна, Клавдий Темплсмит. Фактически эти вычурные и непонятные большинству имена должны, по мнению автора, подчеркнуть отчуждение аристократии от остального народа. Это довольно символично могло бы подводить черту о роли античного наследия сегодня — оно сегодня выступает в роли далекого, покрытого пылью, прошлого, ставшего уделом только ученых и небольшой группы лиц, получивших классическое образование2. Но это был бы несколько упрощенный подход, поскольку несмотря снижение интереса к античному наследию в обществе оно до сих пор является основой европейской цивили-зации и его влияние, пусть уже не напрямую, влияет как на развитие мировой политиче-ской мысли, так и формирует современную политическую культуру. И хотя античная идеология сильно трансформируется в угоду сиюминутным конъюнктурным идеям она лежит в основе практически любой современной политической идеологии.
Список литературы
1. Бенси Дж. Конституция ЕС осталась «безбожной». Спор вокруг исторических кор-ней Старого Света зашел в тупик // Независимая газета. 23.06.2003.
2. Брагина Л.М. Гражданский гуманизм и античная этико-политическая мысль // Ан-тичное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.
3. Егорова Е.Н., Чиглинцев Е.А. Массовые представления об античности. Некоторые наблюдения // Античность: события и исследователи. Казань, 1998. С. 143–148.
4. Жебелев С.А. Первое революционное восстание на территории СССР (историче-ская справка) // Сообщение ГАИМК. 1932. №9–10. С. 35–37.
1 Такие вольности с историческим материалом встречают серьезную критику, если это касается средне-вековой или новой истории. В качестве примера можно назвать целую дискуссию по обсуждению романа Дэна Брауна «Код да Винчи», или жесткую критику таких фильмов как «Сокровище нации» Д. Тёртелтауб или «Бесславные ублюдки» К. Тарантино.
2 В 1997 году проводилось анкетирование по выявлению массовых представлений об античности. Оно было проведено среди студентов 1 курса негуманитарных специальностей Казанского государственного университета. По результатам данного опроса лишь 16 процентов считают, что античность является фундаментом всей мировой цивилизации – Егорова Е.Н., Чиглинцев Е.А. Массовые представления об античности. Некоторые наблюдения // Античность: события и исследователи. Казань, 1998. С. 148.
33
5. Жебелев С.А., Ковалев С.И. Великие восстания рабов II–I вв. до н.э. в Риме // Из истории античного общества. Известия ГАИМК. Вып. 101. М.; Л., 1934. С. 139–180.
6. Жебелев С.А. Последний Перисад и скифское восстание на Боспоре // ВДИ. 1938. №3.С. 43–71.
7. Ковалев С.И. Проблема социальной революции в античном обществе // К. Маркс и проблемы докапиталистических формаций. Известия ГАИМК. Вып. 90. М.; Л., 1934. С. 295–328.
8. Ковалев С.И. К вопросу о характере социального переворота III–V вв. н.э. в Запад-ной Римской империи // ВДИ. 1954. №3. С. 33–44.
9. Лапин И. Ганнибал. М., 1939. 10. Лурье С.Я. О фашистской идеализации полицейского режима древней Спарты //
ВДИ. 1939. №1. С. 98–105. 11. Макиавелли Н. О первой декаде Тита Ливия // Сочинения. М., 2001. 12. Маркин А.Н. Диалог с античностью // Антиковедение в системе современного об-
разования. М., 2003. С. 81–83. 13. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 1979. 14. Никольский А.Б. Элитологические воззрения Полибия // Вопросы элитологии. Т. 4.
Астрахань, 2004. С. 65–72. 15. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т. Т. 1. Чары Платона. М., 1992. 16. Строгецкий В.М., Донин А.Н. Античность и проблемы мировой культуры. В 3-х ч.
Ч. 2. Нижний Новгород, 2001. 17. Семёнов Ю.И. Конец истории? // Философия истории. М.: Современные тетради,
2003. С. 509–510. 18. Старкова Н.Ю. Притяжение древней Спарты. Ч. 2. Ижевск, 2002. 19. Филимонова М.А. Классический республиканизм в американской и французской
революциях конца XVIII века // Новая и новейшая история. 2004. №1. С. 47–64. 20. Фролов Э.Д. Античная демократия (к оценке исторического феномена) // Парадок-
сы истории — парадоксы античности. СПб., 2004. С. 153–163. 21. Фриц К. фон. Теория смешанной конституции в античности: Критический анализ
политических взглядов Полибия. СПб., 2007. 22. Фролов Э.Д. Русская наука об античности. Историографические очерки. СПб.: Гу-
манитарная академия, 2006. 23. Фукидид. История II. 37. Перевод Ф. Г. Мищенко. СПб., 1999. 24. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2010. 25. Чиглинцев Е.А. Рецепция античности в культуре конца XIX–нач. XX вв. Казань, 2009. 26. Hamilton A. The Papers: 27 vois. New York–London, 1961–1987. Vol. 3. 27. Holdheim W.W. Benjamin Constant. London, 1961.
34
Л.Н. ПЕТРОВА
К СОВРЕМЕННОЙ ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ КУРДИСТАНЕ
И В СВЯЗИ С МИРОВЫМ «КУРДСКИМ ФАКТОРОМ» Специфический и существенный «курдский вопрос» на Ближнем Востоке и в Закавка-
зье издавна представлял значительный интерес для отечественной науки, культуры и по-литики. Поэтому он постоянно отмечался и изучался в России (записки А.С. Пушкина от 1829 г., труды гр. И.О. (Я.Ю.) Потоцкого, О.Л. Вильчевского, П.М. Мелиоранского, М.Б. Руденко, С.А. Галлямова и др.). Отметим и зарубежных авторов (М.М. Баязиди, Ян. Экман и мн. др.), а в Астрахани — молодого ираниста и тюрколога А.С. Сальникова.
Соавторы сообщения фиксируют ныне и встречную тенденцию — возникновение и презентацию особой «идеологии курдского движения», в т.ч. и в российских публикаци-ях: самúми курдами и через привлечённых авторов (в т.ч. С.А. Галлямов из Башкортоста-на). Заметно также резкое усложнение «курдского фактора» в связи с событиями в Тур-ции, Ираке и Сирии.
Рассматриваемый нами «этнолингвокультурный» аспект политической жизни состоит в особой роли курдского языка и ментальности, религий курдов с их древнейшими тради-ции, в самых современных процессах и явлениях.
Главное, что нужно подчеркнуть: курдам пришлось столетиями вести борьбу за свою этноидентичность, национальные права и свободу выбирать себе судьбу. Их основная территория проживания, наряду Приднестровской Молдавской Республикой, Косовом, Азанией-Джубой на территории Сомали, Западной Сахарой входит в разряд «непризнан-ных государств».
В течение многих веков исторический Курдистан был ареной противостояния и столкновений между Османской и Персидской империями. Некоторое время курдам да-же удавалось сохранять автономию, но в 1638 г. был подписан договор, по которому их страна впервые стала разделённой.
С тех пор и вплоть до сер. XIX в. (зарождение идеологии движения) курдов — отлич-ных воинов — лишь использовали в региональном противоборстве. Наличие курдского населения не отрицалось, но и не подчёркивалось.
По итогам Первой мировой войны на осколках огромной Османской империи возник-ли новые государства. Согласно Севрскому договору, предусматривалось и государство «Курдистан». Около 70 курдов предоставляли свой народ в первом парламенте региона, называя его «парламентом Курдистана». Но окончательно это решение не состоялось.
Вновь установившая свои границы Турция поначалу определяла свою территорию по-чти как федерацию — «национальное объединение, включающее области, населенные ту-рецким и курдским большинством». Однако, после подписания Лозанского договора, по-литика Анкары быстро и круто изменилась. Структуры нового государства были полно-стью подчинены интересам лишь турок. О существовании курдов словно вдруг забыли. А вскоре под запрет попали курдский язык, культура и первые школы, СМИ — даже сами понятия «курд» и «Курдистан».
Кемалисты начали наступление на другие этносы с поликультурной и мозаичной Ана-толии, стремясь к ассимиляции других языков и культур в турецкой среде, путём создания «единообразной нации».
Попиралась ст. 39 Лозанского договора о праве граждан Турции имел право на родной язык во всех сферах жизни была нарушена. А все разговоры о притеснении курдов строго пресекались и жестоко наказывались.
Фактически государственная машина начала войну против собственного народа. Дви-жение протеста стало ответной реакцией. За годы борьбы они понесли многотысячные
35
жертвы. Начиная с 1979 г., Турция ввела на территорию Курдистана регулярную армию, объявив военное положение.
Многие курды вынуждены были провести жизнь в изгнании (в США, Германии, Скандинавии, СССР и странах СНГ в Закавказье). Ожидалось масштабное международное воздействие на правящие круги стран, где проживают курды Но, к сожалению, ни Лига Наций, ни ее преемница ООН не сделали ничего значительного для прекращения трагедии народа, оставаясь при этом просто наблюдателями.
Актуальная на сегодняшний день курдская проблема влияет не только на политиче-скую ситуацию в странах Ближнего и Среднего Востока, но и на международные отноше-ния, на политику крупных держав в регионе.
Сложнее всего курдская проблема проявляется в Турции. Курды и ныне составляют весомую часть населения в Восточной Анатолии, Но удивительный парадокс: согласно законодательству страны, курды не признаются … национальным меньшинством (как, например, снискавшие себе этот статус греки, армяне или евреи), а потому страдают от ущемления своих прав и притеснений в наибóльшей степени.
Конфликт турецких властей с Рабочей партией Курдистана (осн. оплот движеия), ко-торая более четверти века добивается автономии для курдов на юго-востоке Турции, унёс более 45 тыс. жизней. Притом власти добились, что РПК была признана «террористиче-ской организацией» ООН и Евросоюзом. Последние три-четыре года принесли, вроде бы, обнадёживающие прогнозы. Для прекращения вооружённого противостояния, по инициа-тиве премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана, продолжаются встречи с создателем РПК Абдуллой Оджаланом, отбывающим пожизненное заключение. Он сохраняет весьма большой авторитет среди членов своей партии и неоднократно выражал недовольство, усилившимися в последнее время акциями своих сторонников.
И немаловажно, что правительство Р.Т. Эрдогана в Турции начало реализовывать про-грамму предоставления курдам культурных прав и свобод, в том числе на образования на родном языке. Несколько лет действует на турецком телевидении курдоязычный канал. Это подлинных прорыв, поскольку ранее невозможно было даже разговаривать на курд-ском языке в общественных местах.
Отметим, что этот процесс считают крайне важным в Евросоюзе, куда Анкара стре-мится вступить в качестве полноправного члена.
Подобные события имеют место и в других частях Курдистана. Курды, проживающие в границах Ирака (в Южном Курдистане), также боролись с притеснением. Здесь, в ре-зультате восстаний и после режима Саддама Хусейна, курдам были предоставлены неко-торые культурные права, открыты школы, университеты, радиостанции и т.п. Таким обра-зом, в этой части курдская культура хорошо сохранилась. В районах, именуемых ныне «северный Ирак», ООН декларировал создание «Зоны безопасности».
В этом Южном Курдистане курды избрали парламент и создали собственное прави-тельство. Но проблема иракских курдов сегодня далеко не решена. Страна находится под действием эмбарго со стороны ООН.
Иран проводит политику притеснения курдов подобно турецким властям. После Вто-рой мировой войны, оккупации страны советскими войсками на севере и британскими на юге, у курдов была возможность перевести дыхание и сгруппировать свои силы.
Была образована Демократическая партия Курдистана, а затем провозглашена «Курд-ская республика Махабад». Но вскоре она была уничтожена правительством, притом при поддержке Великобритании и США. Но сопротивление курдов не прекратилось. А Ислам-ская революция 1979 г. в Иране не принесла больших перемен в положении курдов. Недо-вольство последних, пусть и в более скрытых формах, время от времени проявляется и поныне.
В интересах бóльшей ясности изложения, соавторы решили предложить общий этно-лингвистический о б з о р курдского этноса и его традиций. Курды (самоназвание KURDÎ), являются одним из древнейших народов Ближнего и Среднего Востока. Имеют
36
они свой язык (с неск. диалектами), в составе индоевропейской семьи, — яркий и богатый, устоявший в веках.
Входит он в группу иранских языков (вместе с персидским, прикаспийскими, белуд-жи, дари-таджикским и пушту-афганским), составляя переход между «западной» и «во-сточной» подгруппами. Веками соприкасаясь с арабским и с турецким языками, курдский никак не связан с ними генетически.
Первые известные памятники литературы на курдском языке (в араб. графике) дати-руются X-ым в. н.э. Растёт число произведений курдских писателей и поэтов, немало научных трудов, изданы словари и руководства по лексике и грамматике.
Дисперсность проживания курдов повлияла на наличие нескольких различающихся диалектов, среди которых наиболее распространенным является курманджи (Kurmancî). На нём разговаривают около 90% курдов в Турции, в северных областях Ирана и Ирака, граничащих с Турцией, а также сирийские курды, ок. 60% всего этноса.
На диалекте сорани (Soranî) общаются ок. 25% курдов в центре и на юге Иранского и Иракского Курдистана. Зазаки (Zazakî) — третий диалект, который используют в неко-торых районах Турецкого Курдистана (в т.ч. курдоязычные немусульмане и сектанты в исламе). В юго-восточных частях Курдистана в ходу диалект горани (Goranî) и ещё не-которые другие.
Роль религий ныне значима, но не столь важна для национальной самоидентифика-ции. Лидеры курдского движения гордятся, что «представители всех религий — среди них». Большинство курдов — мусульмане-сунниты (75% всех), но строгая ортодоксия (тем более, фундаментализм) малопопулярны. Напротив, традиционно были влиятельны дервишские («суфийские», типа мюридских) ордена накшбенди и кадири, теперь — го-раздо меньше.
Шииты-курды живут в Прикаспии и окрестностях Керманшаха. Из шиизма вышли секты ахл-и хакк или али-илахи в Турции и сосед. странах (здесь и на границе они — «алеви»), составляя от 20 до 30% «курдофонного» населения (т.е. 3-5 млн. чел.). Пропове-дуя культ «праведника-мессии», некоторые сблизились даже … с христианством. прожи-вают в основном в Курды — заза (по диалекту) – это, в основном, и есть ахл-и хакк-алеви.
Особую этноконфессиональную группу образуют и езиды (не менее 200 тыс. чел.), с ярким синкретическим вероучением, вобравшим в себя, кроме иудаизма, христианства и ислама, ряд совсем древних восточных культов. Так вышло, что у части езидов было принято скрывать свою принадлежность по вере. Езиды тоже проживают дисперсно, главным образом, в Турции, Сирии, Ираке и в Закавказье (а родственные им по вере зоро-астрийцы ещё встречаются в восточных регионах Ирана).
Культура курдского народа своими корнями уходит глубоко в прошлое. Отличитель-ной особенностью курдов является любовь к свободе и независимости. Символ «азади (azadî)» — «свободы» (ср. статьи А.С. Сальникова по теме) является доминирующим в устном народном творчестве, которое преобладает в Курдистане в течение всей курд-ской истории.
Любовь курдов к свободе проявлена даже, как считают, в мужской одежде — свобод-ного покроя и практичной, хотя и неброской по цвету. Женский наряд ещё более консер-вативен и строг, хотя и весьма изящен. Отметим, что и в исламских регионах (т.е. с VII в. и до сих пор) курдянка никогда не закрывала своего лица.
Важными чертами общекурдской культуры являются уважение к старшим и госте-приимство, бытовое радушие — как к сородичам, так и к чужакам. Похвальная в фольк-лоре женская воинственность народов (сюжет «амазонок» у всех иранцев) не столь рас-пространена на практике. Но наш век «вернул» отчасти древнюю традицию.
Так, среди участников вооруженных формирований Курдистана немало и взрослых женщин, и молодых девушек, в т.ч. (если опираться на телерепортажи) — уроженок За-кавказья, знающих русский язык. Заметим, что часто девушки, вступая в ряды бойцов, следуют своим старшим родственникам — женщинам и мужчинам. Действуют притом и
37
по убеждениям, но и согласно пословице Keçkê bêbav çiyayê bêav. — тур. Babasız kız susuz dağ gibidir, т.е. «Девушка без отца, что гора без воды». Или же Dê û dotê şerkırın, bêaqıla bawer kırın. — тур. Ana kız kavga ettiler, akılsızlar inandı. Смысл по-русски: «Услышали, будто бы дочь с матерью поссорились … , Но, те, кто поверили, в дураках (bêaqı, akılsız) остались». Теперь чаще случаются и политические разногласия внутри се-мьи — но традиционный обычай осуждает такое.
Курды, укрепляя свою общность и идентичность, весьма трепетно относятся к всевоз-можным торжествам и праздникам. Главным из которых является «Новруз» (Newroz) — любимый праздник нового года. По сути он — общеиранско-зороастрийский (если не бо-лее древний) и отмечается в день весеннего равноденствия 21 марта. На общих собраниях сказители рассказывают известную многом иранцам историю о кузнеце Кава, который освободил их предков от власти тирана Дахака — ассирийского правителя древности, ас-социировавшегося со злым драконом. В городах и селениях радуются, веселятся, разжи-гают костры и танцуют вокруг них.
Главным праздником для езидов считается «Айда Эзди / Eîda Êzîd». В этот день езиды должны, в первую очередь, посетить те дома, где (в течение года ранее) имелись усопшие, и обязательно принести туда подарки (подробнее — у талантливой молодой учёной, носи-тельнице древней традиции Х.Р. Омарахли-Усоян из СПбГУ). В числе главных требова-ний праздника — примирение поссорившихся и прощение друг друга. Накрываются бога-тые столы, и во всех семьях звучат тосты за мир в мире. Перед праздником трёхдневный пост, во время которого питаться (по примеру соседей-мусульман) можно только лишь перед восходом солнца и после его заката.
Таким образом, очевидны богатство культуры и традиций курдского народа, его гор-дый и непримиримый дух. И согласно научно-художественной версии С.А. Галлямова (из Башкортостана), он тесно связан с многими этносами России. Растёт, кстати, курдское и езидское население в г. Астрахани и области (сейчас 120–130 чел. — 2010 г., Всеросс. пе-репись).
Итак, отметим, что курдская проблема представлена в международной и внутригосу-дарственных ситуациях весьма остро и сложно; она лишь отчасти приблизилась к разре-шению. Требуется её изучение и постоянный мониторинг во всех заинтересованных стра-нах и регионах.
В дальнейшем, для развития Астраханского Востоковедения, предложим вернуться к опыту нашего коллеги, прежнего преп. кафедры восточных языков, тюрколога и ираниста А.С. Сальникова. Более того, неплохо будет начать изучение в университете г. Астрахани курдского языка и одного-двух его диалектов. Это может быть факультативный или даже основной курс, к примеру, на персидской и турецкой специальностях. Здесь он, как уверены соавторы, окажется вполне уместен, интересен, полезен студентам и выпускникам — как в близкой, так и в отдалённой перспективе. Именно в данных целях и был представлен со-авторами данный научно-обзорный и информационно-практический материал.
Список литературы
1. Васильева Е.И. Юго-Восточный Курдистан в XVII–нач. XIX в. М.: ГРВЛ Наука. 1991. 2. Рашад Сабри Рашид (Рашад Миран). Этноконфессиональная ситуация в современ-
ном Курдистане. СПб: Наука. 2003. 3. Сальников А.С. Идея патриотизма в курдском языковом сознании. автореф. дис. ...
к. филол. н. Волгоград: Гос. пед. ун-т, 2010.
38
И.В. ТОРОПИЦЫН
МЕРЫ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОБЕГОВ АСТРАХАНСКИХ ЮРТОВСКИХ ТАТАР ЗА ГРАНИЦУ В XVIII ВЕКЕ*
Бегство населения от социального и экономического гнета было широко распростра-
ненным явлением внутриполитической жизни России в XVIII в. – в запустение приходили не только целые деревни, но и волости [14, с. 19–20; 22, с. 78–79]. Как правило, из цен-тральных губерний России население бежало на окраины, а с окраин – за границу. Сенат в 1745 г. с тревогой констатировал, что «при ревизии в Астрахани явилось много простых людей, которые говорят, что не знают своих помещиков, не знают, где родились, таких людей по указам о ревизии велено выслать оттуда в Петербург на поселение, но они по привычке жить около Астрахани от этой высылки бегут в Персию и бусурманятся, также на реку Куму и на бухарскую сторону за Яик и там питаются звериным промыслом, в от-чаянии живут зверски» [19, с. 335].
Юртовские татары, проживавшие в окрестностях Астрахани, бежали в поисках луч-шей доли преимущественно на Кубань (так в XVIII в. называлась территория, занимаемая кочевьями кубанских татар). Особенно участились их побеги с середины второго десяти-летия XVIII в. Как указывал в 1740-х гг. астраханский губернатор В.Н. Татищев, юртов-ских татар «с 1715 [года] более убыло, нежели осталось». Причины этого явления губер-натор связывал с ухудшением их экономического положения и ростом государственных обязанностей. В.Н. Татищев констатировал, что юртовцы с трудом выполняли возложен-ную на них государством подводную повинность. При этом они не имели возможности обеспечивать себя за счет земельных наделов, находившихся во власти мурз и табунных голов, «отчего, одолжав, большее число за границы бежало и ныне бегут» [21, с. 318].
Реакция российских властей на побеги астраханских юртовских татар была предсказу-емой. Каждый побег юртовцев воспринимался местными и центральным властями, как происшествие чрезвычайного рода. Первым делом власти стремились установить количе-ство бежавших и организовать их преследование с целью возвращения.
Как правило, из Астрахани сразу же в погоню за беглецами направлялись специаль-ные отряды. Исключение составил грандиозный побег 1715 г., проходивший на фоне вторжения в российские владения 30-титысячного кубанского войска [24, с. 72–78]. В то время в Нижнем Поволжье у российских властей не было сил, чтобы противостоять этому нашествию, поэтому юртовцы с Эль-мурзой Тинбаевым беспрепятственно ушли из Рос-сии. Также, по всей видимости, не встретили препятствия со стороны астраханских вла-стей и мурзы Чинмурзины, откочевавшие в 1725 г. от Астрахани к джетисанцам [16, с. 29]. По крайней мере, сведений, которые бы характеризовали активные действия местных вла-стей, направленные к возвращению данных мурз с их людьми на места кочевок к Астра-хани, выявить не удалось.
В других случаях, когда уход за границу предпринимался не столь крупными группа-ми, местные власти действовали решительно. Для поиска беглецов ими, как правило, при-влекались наряду с казаками и драгунами, калмыки и сами юртовцы. Помимо чисто прак-тических соображений (юртовцы, как и калмыки ориентировались в степи лучше драгун и казаков, знали пути, которыми могли воспользоваться беглецы), это был один из способов проверить «верность» российскому престолу астраханских мурз и табунных голов.
Нурадыл-мурза Урусов вспоминал в 1760 г., что Канмамет-мурза (Ханмамет) Урусов (родной брат его деда Ак-мурзы Урусова) рисковал собственной жизнью при выполнении поручения о возвращении беглых татар к Астрахани. «Во время побега на Кубань ис под Астрахани ис подданства Ея императорского величества природных русских татар нема-
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований «Астраханские юртовские татары в орбите внутренней и внешней политики России в XVII–XVIII вв.», проект № 14-01-00054а.
39
лого числа семей, — писал Нурадыл-мурза Урусов в челобитной, — оной Ханмамет мурза посылан был за ними в погонь по Кубанской степи ради догнания и удержания их от по-бегу, коих он по верноподданнической своей Ея императорского величества должности, нагнав, елико мог воздерживал и некоторых возвратил, причем по сопротивлению их та-тар оной Ханмамет мурза от них ранен в двенадцети местах, от коих ран едва излечитца мог» [10, л. 37–37об.].
Впрочем, привлеченные к погоне юртовские татары не всегда оправдывали доверие властей. В 1726 г., например, астраханский губернатор И.А. фон Менгден в донесении в Коллегию иностранных дел отметил, что юртовцы, посланные от него в погоню за бег-лецами, «совокупясь с прежними беглыми татары идут к Кубани» [16, с. 28].
Тем не менее, в 1715 г. в погоню за людьми юртовского Эбаги-мурзы Тинбаева был послан отряд драгун астраханского гарнизона под командой поручика Суровцова. Догнав беглецов на Кубанской стороне, драгуны вступил с ними в бой. Задержать Эбагу-мурзу не удалось, но две его жены, два сына и дочь, а также улусные люди (92 человека, среди ко-торых были и улусные люди хана Аюки) были захвачены и привезены в Астрахань [18, с. 220–221]. За другой группой юртовских татар, бежавших в 1715 г. на 24 телегах спустя пару недель после ухода из Нижнего Поволжья кубанских татар Бахты-Гирея, был послан астраханский дворянин В.Г. Сербин с одиннадцатью человеками калмыцкого владельца Сангачая Дарджапа. Преследователям удалось настигнуть беглых астраханских татар и возвратить обратно [17, с. 115].
В феврале 1736 г. во время очередного побега юртовцев калмыками был пойман Аб-лай-мурза Тинбаев «с товарыщи» и приведен в Астраханскую контору татарских и кал-мыцких дел [6, л. 1]. В июле 1741 г. проживавшие в Астраханской губернии туркмены поймали в калмыцких улусах одного кубанского татарина и двух юртовцев Бузая и Сар-сенбая из табуна Касбулата Ишеева, которые осенью 1740 г. бежали вместе с семьями на Кубань «за имеющимися на них астраханских жителей долгами», но власти заподозрили их в том, что они явились с целью подговорить к побегу других юртовцев [1, л. 28–28 об.]. В апреле 1744 г. калмыками были пойманы и приведены в Астраханскую контору татар-ских и калмыцких дел сестра Кудайната-мурзы Урусова Уразбике со служительницей, ко-торые в конце марта 1744 г. сбежали из юртов, расположенных на Царевой протоке в дельте Волги вблизи Астрахани, на Кубань к беглому мужу Уразбике Смаилу-мурзе Тинбаеву [8, л. 178].
Впрочем, факты свидетельствуют, что в ходе преследования не всегда удавалось за-держать беглецов. В 1726 г., например, в погоню за улусными людьми Кудайната-мурзы Урусова и Салтамамбета-мурзы Тинбаева был отправлен отряд донских казаков под ко-мандой атамана О. Поздеева, который по возвращении доложил, что они преследовали беглецов до реки Кумы, но не смогли догнать. Посланный от него в разведку хорунжий П. Бакланов вместе с юртовским мурзой Аллавом Тинбаевым выследили беглецов, кото-рые, объединившись, двигались на Кубань [16, с. 28].
После побега в августе 1743 г. небольшой группы юртовских татар в погоню за ними был направлен отряд из Астраханской конторы татарских и калмыцких дел, который об-наружил на противоположной стороне р. Царевки «шлях, по-видимому, как четырех арб», по которому преследователи «гнали сутки», но вынуждены были возвратиться «за уста-лью лошадей». По их наблюдению, след беглецов вел сначала в направлении Кубани, но потом повернул на кизлярскую дорогу, поэтому Астраханская губернская канцелярия направила к коменданту в Кизляр указ, чтобы он организовал поимку беглых юртовцев своими силами [2, л. 22–22 об.].
Помимо практических шагов по поимке беглецов российские власти могли прибег-нуть и к дипломатическим мерам воздействия на Османскую империю, в вассальной зави-симости от которой находились и Крымское ханство и Кубанская орда. Так, после побега в 1725 г. улусных людей Кудайната-мурзы Урусова и Салтамамбета-мурзы Тинбаева ре-зиденту России в Турции И.И. Неплюеву указом Верховного Тайного совета было пред-
40
писано требовать у турецких министров, «дабы оных беглецов яко российских подданных на Кубань и никуды в ту область принимать не велели и жить недопускали, а ежели оные приняты тоб отдали их по прежнему в сторону российскую» [16, с. 28–30].
Мероприятия российских властей по пресечению побегов за границу астраханских юртовских татар, равно как и других народов России, не ограничивались лишь преследо-ванием беглецов и дипломатическими демаршами. В Астраханской губернии велась рабо-та и по предупреждению побегов.
К традиционным средствам контроля со стороны астраханских властей над поведени-ем юртовцев относилось взятие у их мурз аманатов. Эта практика была широко распро-странена еще в XVII в. В 1705 г., например, в Астрахани на аманатном дворе находилось девять мурз, в 1707 г. — «двое мурз и их детей Тинбаева родства по четыре, Урусова по одному человеку». В период управления в Астрахани обер-коменданта М.И. Чирикова на местном аманатном дворе содержались «с переменою» по три представителя от юртов-ских мурз [20, с. 251; 18, с. 213]. Практика взятия аманатов сохранялась в Астрахани и в 1730–1740-х гг. В этот период они содержались вначале «на квартирах» в Астрахани, но в связи с увеличением числа аманатов за счет салтанаульцев (малых ногайцев) всех их раз-местили на казенном Птичьем дворе [23, с. 66, 74].
Документы 1720–1730-х гг. свидетельствуют, что юртовским татарам не позволяли самовольно покидать свои табуны. Если они хотели посетить по торговым делам калмыц-кие или джетисанские улусы, выехать для торговли на Макарьевскую ярмарку, для выку-па родных к казакам на Дон или «для взятья долговых денег» в Терскую крепость, то они обязаны были получить на это персональное разрешение в Астраханской губернской кан-целярии. Так, в мае 1723 г. двух юртовцев по решению губернских властей высекли плетьми за то, что они убежали из своего улуса к джетисанцам, якобы из-за высоких нало-гов, «а челобитной от них на то не было» [4, л. 71, 98, 100, 104об., 116, 117, 119 об., 204об.].
В 1733 г. в Астраханской губернии действовала специальная Комиссия следствия та-тарских дел под руководством Василия Конищева. Из переписки ее руководства с Астра-ханской губернской канцелярией известно, что она допрашивала большое количество юр-товских мурз, табунных голов и рядовых татар. Без разрешения указанной Комиссии ни-кто из юртовцев не имел права покинуть территорию своего проживания по каким-либо делам, даже если они касались сферы торговли в калмыцких улусах, не говоря уже о по-ездке за пределы Астраханской губернии [5, л. 4–5об.]. По всей видимости, создание дан-ной комиссии было вызвано очередным побегом юртовцев за границу. Нам удалось уста-новить, что в 1733 г. на Кубань бежал из-под Астрахани Смаил-мурза Тинбаев, оставив свою жену Уразбике в юртах на Царевой протоке в дельте Волги [8, л. 178].
Достаточно было одного подозрения в отношении юртовцев или представителей дру-гих народов, чтобы местные власти принимали самые строгие меры. Так, ложные обвине-ния армянского купца в шпионстве привели к аресту на Дону астраханского Юсупа-мурзы Такшаинова, прибывшего из Астрахани в казачьи городки «для взятья у прикащика своего денег», для освобождения которого его родному брату Баторше Такшаинову пришлось обращаться в Военную коллегию [3, с. 206–207].
Важную роль в этой работе играла деятельность Астраханской конторы татарских и калмыцких дел, руководство которой организовывало взаимодействие губернских властей с местным татарским и калмыцким населением, а также жителями восточных слобод Аст-рахани. Данная контора доводила до сведения местного населения приказы астраханских властей, привлекала юртовцев к выполнению различных государственных обязанностей, проводила судебные разбирательства между инородцами и т.д. В ее же обязанности вхо-дило проведение дознания о причинах побегов тюркского населения за границу.
Татарская, как ее еще называли, контора не ограничивалась сбором объяснительных от мурз, как было в случае с побегом улусных людей Кудайната-мурзы Урусова и Салта-мамбета-мурзы Тинбаева в 1726 г. Материалы расследования побега улусных людей Аб-
41
лая-мурзы Тинбаева в 1736 г. показывают, что власти пытались установить истинные при-чины бегства российских подданных за границу.
Первоначально руководство данной Конторы не предъявляло конкретных обвинений Аблаю-мурзе Тинбаеву, но подозревало, что он мог быть в этом замешен, так как «он з беглыми жили в одном улусе». Его допрос показывает, что российские власти были за-интересованы выяснить, когда юртовцы стали готовиться к побегу, кто был среди участ-ников заговора и как далеко он простирался, сколько осталось юртовцев в улусе, из кото-рого был совершен побег. Однако только этими задачами следствие не ограничивалось. Допросы других юртовцев свидетельствуют, что власти стремились понять, кто мог спро-воцировать побег юртовцев из данного улуса на Кубань, кто из астраханских мурз и та-бунных голов мог знать о готовящемся побеге и был ли кто из них «в согласии» с бегле-цами, не приезжал ли кто к сбежавшим с Кубани или из Крыма «для подговору», были ли с ними «в совете» калмыки или «содержащиеся здесь в Астрахани под караулом азовцы» и, вообще, от чего сбежали юртовцы.
Контора татарских и калмыцких дел допросила по этому делу более десяти человек. Все привлеченные к допросу оказались не из числа улусных людей Аблая-мурзы Тинбае-ва. Один из них был емеком Кудайната-мурзы Урусова, три человека сказали, что они из табуна табунного головы Мамбета Тонаева, трое других – из табуна табунного головы Би-якая Булатаева (Биюкая Балатаева), а еще трое оказались людьми «бухаренина» Седыка Ходжи. Большинство из них накануне и в момент побега находилось в улусе Аблая-мурзы Тинбаева, а некоторые проживали по соседству.
Постепенно картина побега и его причины стали проясняться. Улусные люди Аблая-мурзы Тинбаева тщательно готовились к нему. Разговоры об этом шли на протяжении большей части зимы 1735–1736 гг. Идеей побега было охвачено все население улуса. Ясашный татарин Дженакай Келмаметев из табуна Мамета Тонаева сказал, что его мать Толгатая говорила ему, что «советуют к побегу… Отеш ага с братьями» и некоторые дру-гие, а человек «бухаренина» Седыка Ходжи Бангаза Жумандыков заявил, что «о согласии к побегу оных слышал от баб и от малых ребят» [6, л. 5, 6].
Было ли предъявлено по итогам расследования какое-то конкретное обвинение Аб-лаю-мурзе Тинбаеву — неизвестно, но из переписки Астраханской губернской канцеля-рии с табунными головами, относящейся к середине XVIII в., следует, что Аблай-мурза Тинбаев умер к началу весны 1736 г. [9, л. 25об.].
Местные губернские власти в обязательном порядке информировали центральные ор-ганы страны о фактах побега тюркских подданных за границу и результатах расследова-ния. В ответ поступали указания разобраться в причинах и принять меры к недопущению побегов. Так, Коллегия иностранных дел с тревогой отмечала в указе губернатору В.Н. Татищеву от 4 ноября 1743 г.: «на пред сего для житья к Астрахани и из других мест татары прихаживали, а ныне от Астрахани и старинные бегут». В этой связи губернским властям было поручено выяснить, «нет ли оным от кого каких обид и утеснений или в чем другом излишних тягостей, и буде что таковое явится, то не возможно ли в чем облегчить, дабы тем и склонным тамошнего командира с ними поступками не токмо старых при Аст-рахани удержать, но и вновь к приходу из других мест приохотить» [7, л. 283–283об.].
Аналогичные предписания Коллегия иностранных дел давала астраханским губерна-торам 13 октября 1746 г., 26 октября 1754 г., 24 января 1756 г., что свидетельствует о принципиальной позиции внешнеполитического ведомства, требовавшего, чтобы «татар при здешнем пограничном месте живущих ни до каких неспокойств не доводить» [13, л. 53 об.–54]. Опасения российских властей были связаны с тем, что астраханские юр-товские татары, как «однозаконцы» с жителями соседних мусульманских государств, мог-ли воспользоваться внешнеполитическими обстоятельствами и уйти из России или спро-воцировать внутренние беспорядки, как это уже было в XVII–нач. XVIII вв. Как подчер-кивал по этому поводу астраханский губернатор В. Неронов, постоянная опасность напа-дения кубанских татар на приграничные российские области вынуждала местные власти
42
«в предосторожность высочайшего интереса» секретно присматривать за проживавшими в Астраханской губернии народами Востока, особенно татарами, «дабы от них не было какого подлогу к бунту», и при приближении неприятеля они не могли «в противную сто-рону отойти» [13, л. 57].
Документы, сохранившиеся за период деятельности в Астрахани губернатора В.Н. Та-тищева (1741–1745 гг.), позволяют проанализировать практические меры, предпринимае-мые местными властями по недопущению побегов российских подданных за границу. Так, после того, как в августе 1743 г. юртовские Яксат-мурза Урусов, Джан-мурза Тинбаев и табунный голова Каспулат Ишеев сообщили в Контору татарских и калмыцких дел, что из-под Астрахани «в ночи бежали в лотках с Царева протока» три их улусных человека «с женами, с детьми и с служители», за ними не только была отправлена погоня, но и был разработан комплекс мер, которые должны были послужить основой для дальнейшего контроля над юртовцами. «Хотя вышепоказанные мурзы и табунной голова о побеге их объявили, — отмечал В.Н. Татищев в донесении Коллегии иностранных дел от 21 августа 1743 г., — но упустя, как уже они бежали, к тому ж, когда оне татара з женами, з детьми с служители и с пожитками к побегу приуготовлялись, от улусных людей, а паче от тех, которые в свойстве с ними жили, скрытно быть никак не можно, но чаятельно, что оне или мурзы и табунной голова ведали или какие знаки к тому видели». Во избежание повтор-ных побегов губернатор распорядился объявить всем мурзам и табунным головам «под лишением живота», чтобы они усилили наблюдение за своими людьми и «чрез десятников о состоянии их каждой день ведали». При этом он поручил Татарской конторе передать им, что если произойдут новые побеги, то «взыскано будет на них самих… без всякого послабления, как указы повелевают» [2, л. 22–22об.].
К числу других шагов, реализованных Астраханской губернской канцелярией по не-допущению побегов юртовских татар, относились превентивные меры по выявлению и изоляции из губернии лиц, провоцирующих своими действиями местное население к побегу. Так, после того, как в Астраханскую губернскую канцелярию поступило донесе-ние от табунного головы Мурзая Булатаева, что юртовский мурза Касай Урусов намерен совершить побег на Кубань вместе с кундровцами (имеются в виду большие ногайцы, ко-чевавшие во главе с мурзами Темирбулатовыми со второй половины 1730-х гг. в пределах Астраханской губернии). В.Н. Татищев приказал проверить эту информацию и если выяс-нится, что Касай-мурза Урусов «со старинных мест перешел к Волге, то немедленно на прежние места, где он исстари кочевал, перевесть и чтоб ис тех мест самовольно без указу не переходил». Губернские власти указали Конторе татарских и калмыцких дел, что ей надлежит за всеми мурзами, табунными головами и татарами «по прежним о том указам прилежно смотреть, дабы из них никто вышеписанную противность учинить не мог». Для этого рекомендовалось «о намерениях их чрез всякие удобовозможные способы секретно разведывать тайно» [2, л. 22–22 об.].
По всей видимости, подозрения в отношении Касая-мурзы Урусова оказались не бес-почвенными. На этот счет астраханским властям поступали предупреждения не только от местных татар. Информацию о том, что этот астраханский служилый мурза намерен бе-жать вместе с кундровцами из России на Кубань подтвердил посланный в Кабарду асессор Ф. Черкесов. Астраханская губернская канцелярия решила изолировать подозрительного мурзу от остальных юртовцев. В сентябре 1744 г. Касай-мурза Урусов вместе с двумя же-нами и детьми (сыновьями Нурадылом и Мансуром и двумя дочерями), а также четырьмя служителями (всего 11 человек) «за его дерзновение», вместе с салтанаульцами и кунд-ровцами был выслан из Астраханской губернии на поселение в Казань «по подозрению его в побеге на Кубань с кундровскими татарами» [10, л. 42об., 56об.; 11, л. 2об.; 12, л. 96].
Вместе с семьей и служителями Касая-мурзы Урусова из Астрахани в Казанскую гу-бернию были высланы в 1744 г. еще четверо юртовцев (Арык Ильбасов с женой и другие) и казанский татарин Сапар Оескулов, которые, как указывалось в ведомости Астрахан-ской конторы татарских и калмыцких дел, «по согласии с протчими бежали на Кубань,
43
точию на пути переловлены, а протчие их товарищи, в том числе и Жумагельды, ушли» [12, л. 84 об. – 85, 135].
Мурза Касай Урусов вместе с ближайшими родственниками и прислугой пробыл в ссылке в Казани несколько лет. В октябре 1750 г. в Коллегию иностранных дел поступи-ло прошение полковника кизлярских нерегулярный войск Арасламбека Шейдякова, в ко-тором говорилось, что астраханские мурзы и табунные головы готовы поручиться за Ка-сая-мурзу Урусова и его ближних, что те не сбегут на границу. Коллегия не возражала против такого решения вопроса, но поручила Астраханской губернской канцелярии взять со всех астраханских мурз и табунных голов письменные «поруки», что и было сделано. В том же году Касай-мурза Урусов получил разрешение Коллегии иностранных дел вер-нуться в Астраханскую губернию, где был передан на поруки вместе с женой и детьми астраханским мурзам и табунным головам [10, л. 56 об. – 57 об.; 11, л. 2 об.].
Следует отметить, что астраханские власти достаточно часто прибегали к поручитель-ству, как к форме организации контроля над неблагонадежными юртовскими татарами и другими народами. В феврале 1715 г., например, астраханский обер-комендант М.И. Чириков распорядился освободить из-под караула кубанских татар и отослать к кня-зю Михаилу Заманову, ведавшему юртовских татар «судом и расправою», «на знатные поруки до указа» [18, с. 227–228]. В 1726 г. из-под ареста в Астрахани был освобожден татарин Тогус (Тогашай) Тюбеев, который проходил главным свидетелем по делу о пре-дупреждении во время Персидского похода 1722–1723 гг. калмыцким ханом Аюкой ку-мыкских владельцев о грозившей им опасности со стороны российских войск. По реше-нию астраханских властей Тогус Тюбеев был передан на поруки юртовским мурзам Сун-чалею Тимбаеву и его сыну Байдусу вместе с табунным головой Мамбетом Танаевым [15, с. 99–101]. После поимки сестры Кудайната-мурзы Урусова Уразбике, бежавшей в марте 1744 г. на Кубань к мужу Смаилу-мурзе Тинбаеву Астраханская губернская кан-целярия постановила не наказывать ее в виду ходатайства за нее наместника Калмыцкого ханства Дондука Даши, но сообщить о ее побеге в Коллегию иностранных дел. «А между тем, — говорилось в постановлении астраханских властей, – оную женку отдать кроме родственников ее посторонним табунным головам четырем человеком на поруки с рос-пискою и велеть им за ней иметь смотрение, дабы оная таким же потаенным образом не могла уйти» [8, л. 178].
Данная форма контроля, по всей видимости, была достаточно эффективной. Мурзы и табунные головы, взявшие кого-нибудь на поруки, несли за него персональную ответ-ственность перед властями до самой своей (или его) смерти или до соответствующего ука-за. Не случайно астраханские мурзы и табунные головы забеспокоились в 1763 г. по пово-ду исчезновения Нурадыла-мурзы Урусова. Дело в том, что этот мурза был сослан со сво-им отцом Касаем-мурзой Урусовым в 1744 г. в Казань, а впоследствии взят наряду с дру-гими своими ближайшими родственниками, отбывавшими казанскую ссылку, на поруки местной юртовской знатью. В челобитной, поданной астраханскими мурзами и табунны-ми головами, было высказано сомнение, что Нурадыл-мурза Урусов мог спланировать эту ситуацию, «выждав смерть поручителей, не вознамерился ли и сам учинить тоже, как и отец его якобы измену учинить» [11, л. 2об., 21об.]. Данный пример показывает, насколько ответственно подходила юртовская знать к обеспечению поручительства.
Таким образом, можно видеть, что российские власти использовали широкий набор средств для пресечения и предупреждения побегов за границу тюркского населения Аст-раханской губернии. Помимо организации преследования беглецов силами Астраханского гарнизона, к поимке бежавших привлекались местные кочевые народы: калмыки, зависи-мые от них туркмены, а также юртовские татары. К работе по возвращению беглых рос-сийских подданных центральные власти подключали дипломатические представительства России в Османской империи. С целью недопущения побегов в Астраханской губернии проводилась профилактическая работа, направленная на выявление лиц, склонных к бег-ству. Власти не останавливались перед высылкой неблагонадежных мурз и татар из Аст-
44
раханской губернии в другие области России. В качестве формы контроля астраханскими властями широко применялось взятие заложников-аманатов и поручительство, которым они обязывали местных тюркских феодалов брать на себя ответственность за поведение подозрительных лиц из их среды.
Список литературы
1. Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. 77. Оп. 1. 1742 г. Д. 10.
2. АВПРИ. Ф. 115. Оп. 1. 1743 г. Д. 7. 3. Акты, относящиеся к истории Войска Донского, собранные А.А. Лишиным. Т. II.
Ч. I. Новочеркасск, 1894. 4. Государственный архив Астраханкой области (далее – ГААО). Ф. 394. Оп. 1. Д. 53. 5. ГААО. Ф. 394. Оп. 1. Д. 421а. 6. ГААО. Ф. 394. Оп. 1. Д. 565. 7. ГААО. Ф. 394. Оп. 1. Д. 871. 8. ГААО. Ф. 394. Оп. 1. Д. 1005. 9. ГААО. Ф. 394. Оп. 1. Д. 1907. 10. ГААО. Ф. 394. Оп. 1. Д. 1999. 11. ГААО. Ф. 394. Оп. 1. Д. 2419. 12. ГААО. Ф. 394. Оп. 1 доп. Д. 42. 13. ГААО. Ф. 394. Оп. 1. доп. Д. 164. 14. Мавродин В.В. Рождение новой России. Л., 1988. 15. Пальмов Н.Н. Этюды по истории приволжских калмыков. Ч. III и IV.
Ограничительные мероприятия правительства в отношении к калмыкам. Астрахань, 1929. 16. Сборник императорского Русского исторического общества. Т. 63. СПб., 1888. 17. Сборник императорского Русского исторического общества. Т. 69. СПб., 1889. 18. Сборник императорского Русского исторического общества. Т. 101. СПб., 1898. 19. Соловьев С.М. Сочинения. История России с древнейших времен. М.: Мысль,
1993. Кн. XI. Т. 22. 20. Социальные движения в городах Нижнего Поволжья в начале XVIII века. Сб. док./
Подгот. Н.Б. Голикова. М., 2004. 21. Татищев В.Н. Записки. Письма 1717–1750 гг. М.: Наука, 1990. (Сер. «Научное
наследство». Т. 14). 22. Торопицын И.В. В.Н. Татищев и социально-экономическое развитие России
первой половины XVIII в. Астрахань: Изд-во Астраханского гос. пед. ун-та, 2001. 23. Торопицын И.В. Институт аманатства во внутренней и внешней политике России в
XVII–XVIII вв. // Кавказский сборник. М., 2007. Т. 4. 24. Торопицын И.В. Набеги кубанских татар на Россию в 1715 г. // Козацька спадщи-
на. Альманах Iнституту суспiльних дослiджень. Вип. 4. Днiпропетровськ, 2008.
45
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
З.А. КАЗИМАГОМЕДОВА
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС КАК ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ РЕГИОНА
Термин «продовольственная безопасность» вошёл в обиход в России недавно, в то
время как тема «международной продовольственной безопасности» находится в обсужде-нии у мирового сообщества ещё с 70-х годов. Продовольственная безопасность является составным понятием, содержащим как минимум два смысла [2, с. 312]. Первый связан только экономическим процессом продовольственного обеспечения. Второй вызван серь-ёзностью продовольственного обеспечения для поддержания национальной безопасности в её внутреннем и внешнем проявлениях. Надежность продовольственной безопасности страны обуславливается целым рядом показателей, наиболее важными из которых явля-ются следующие: уровень сельскохозяйственного производства страны; степень само-обеспеченности продовольствием; наличие переходящих запасов; уровень потребления критически важных продуктов и степень доступности продовольствия для наиболее бед-ной части населения и размер этой группы [5, с. 643–645]. По всем этим показателям по-ложение России достаточно серьезно.
Уровень развития АПК во многом даёт значение степени экономической и продоволь-ственной безопасности государства, так как специфичность его роли определяется произ-водством продуктов питания как основы жизнедеятельности людей и воспроизводства ра-бочей силы, производством сырья для многих видов непроизводственных потребитель-ских товаров и продукции производственного применения.
Агропромышленный комплекс — значительная составляющая часть народного хозяй-ства и социально-значимый сектор экономики [2, с. 318–312]. На долю сельского хозяй-ства и перерабатывающей промышленности приходится шестая часть внутреннего вало-вого продукта [1, с. 254–256]. Главная задача агропромышленного комплекса состоит в максимальном удовлетворении потребностей людей в продовольственных товарах и то-варах народного потребления.
Деятельность АПК России в последние годы осуществляется в весьма сложных усло-виях. Наблюдается ухудшение материально-технической базы, продолжается снижение доли сельскохозяйственного производства в ВВП страны, падает и доля сельского хозяй-ства в структуре продукции АПК.
Развитие агропромышленного производства в Астраханской области в настоящее время нестабильно и противоречиво [3, с. 408–412]. Проблема обеспечения продовольственной безопасности региона является на данный момент одной из самых актуальных проблем.
В декабре 2012 года подписано Соглашение между Министерством сельского хозяй-ства РФ и Правительством Астраханской области о реализации мероприятий Государ-ственной программы развития АПК на 2013–2020 годы, в которой определены новые при-оритеты развития отрасли, а это не только рост производственной базы сельхозпродукции (мясо, молоко, зерно, кормовые культуры), но и развитие пищевой и перерабатывающей отраслей, инфраструктуры агропромышленного рынка, мелиорации, фермерского и ко-оперативного движений [6, с. 312–315]. В настоящее время подготовлен и находится на согласовании проект Постановления Губернатора Астраханской области о создании Ко-ординационного совета по реализации Концепции развития АПК Астраханской области до 2020 года [7, с. 738–742]. Сегодня Астраханский регион действует как вполне сложив-шийся комплекс, сочетающий геополитическое расположение, развитую промышленно-
46
экономическую зону, удобные транспортные подходы, нужные интеллектуальные и кад-ровые ресурсы.
Проблемы стабилизации негативных тенденций в отечественном агропромышленном комплексе, развития современного сельскохозяйственного производства и аграрных това-ропроизводителей стоят достаточно остро во всех регионах страны [4, с. 89–90]. Значи-тельные различия природно-климатических и экономических условий отдельных регио-нов России обуславливают необходимость обоснования основных направлений развития АПК для отдельных субъектов Федерации с учётом региональной специфики и общих проблем развития агропромышленного комплекса России [3, с. 408–412].
Вхождение России в ВТО наложило отпечаток на АПК России. Принятый устав ВТО, как это всегда и бывает в международных документах, показал реальное соотношение сил на мировом рынке, и прежде всего увеличение господства на нём самых сильных про-мышленно развитых стран-экспортёров продовольствия, прежде всего США.
Присутствуют и существенные недостатки этой системы : ратификация соглашения о вступлении России во Всемирную торговую организацию включает в себя принятие ряда ограничений по оказываемым сельскохозяйственным товаропроизводителям мерам госу-дарственной поддержки и снижению таможенно-тарифной защиты [7, с. 733–735].
Ещё одним недостатком системы является то, что в ВТО не учитываются существенные различия между природно-экономическими условиями сельскохозяйственного производ-ства в разных странах, в связи с чем страны находятся в не равных условиях, так в России в расчёте на один гектар пашни государственная поддержка снизилась до 35 долларов, в США она составляет 340 долларов на гектар, в ЕС — 1 053 долларов на гектар.
Развитие АПК непременно должно иметь положительную динамику и приводить к положительному результату, в противном случае, наблюдается либо деградация, явля-ющаяся противоположным развитию явлением, либо застойные процессы, в том числе и в экономике региона, отождествляющие отсутствие положительных или отрицательных изменений.
Список литературы
1. Амандурдыев Х.Д. Совершенствование механизма управления АПК. Саратов, 2011.
2. Анфиногентова А.А. АПК Поволжья: опыт, проблемы. Саратов, 2000. 3. Арсенов В.В. Инновационное развитие агропромышленного комплекса. М., 2012. 4. Бандурин Р. Об эквивалентности межотраслевого обмена // Экономист. 2007. №4.
С. 87–112. 5. Гладкий Н.Ю. Экономическая география России. М., 2000. 6. Гумеров Р.И. Инвестиционный кризис в АПК: причины, последствия, пути преодо-
ления. М, 2000. 7. Жихаревич Б.С. АПК крупного города. СПб., 2000.
47
В.В. КОРОЛЕВА
УСТАНОВЛЕНИЕ «КРИМИНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ» В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ
Основной Закон нашей страны утверждает свободу и справедливость, человеческое
достоинство и благополучие, равенство и полноту избирательных прав граждан, единство многонационального народа России не только как общепризнанные ценности, но и как юридические понятия. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-данина - важнейшая обязанность государства. Сравнительный анализ конституционного закрепления правового статуса человека и гражданина, показывает, что именно в Консти-туции Российской Федерации, он является одним из наиболее демократичных в современ-ном мире. Правовая демократия требует надёжно защитить её от злоупотреблений и кри-минализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на дове-рии общества. Исходя из этого, запрет занимать выборные публичные должности для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, преследует конституционно значи-мые цели. Тем не менее, соответствующие нормы должны основываться на конституци-онных принципах и учитывать основные нормы и положения международного права.
Не малую роль в упрочнении основных положений Конституции играет деятельность Конституционного суда РФ. Определяя сущность Конституционного Суда РФ, В.Д. Зорь-кин, председатель этого Суда, подчеркивал, что это национальный судебный орган, осу-ществляющий защиту прав и свобод человека и гражданина посредством конституцион-ного судопроизводства согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ [2, С. 3].
Для определения правовой природы и назначения Конституционного Суда РФ несо-мненное значение имеет выяснение целей его деятельности. Согласно статье 3 ФКЗ РФ «О Конституционном Суде РФ» к числу таковых отнесены:
– защита основ конституционного строя; – защита основных прав человека и гражданина; – обеспечение верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории
Российской Федерации. Для достижения указанных целей Конституционному Суду РФ предоставлены урегули-
рованные законом полномочия, в том числе и на анализ, складывающийся системы приме-нения уже действующих законов. На необходимость изучения судебной практики как пра-вового явления указывал еще классик российской цивилистики И.А. Покровский, который отмечал: «Закон, даже самый обширный, даже представляющий весьма полную кодифика-цию, неизбежно имеет пробелы, так как, несмотря на все свое старание, он не может охва-тить бесконечного разнообразия житейских отношений. Закон, даже самый совершенный, неизбежно отстает от жизни: раз изданный, он остается неподвижен, меж тем как жизнь идет непрерывно вперед, творя новые потребности и новые отношения: Закон и суд не две враждующие силы, а два одинаково необходимых фактора юрисдикции» [5, С. 92].
Как мы знаем Конституция РФ провозглашает, что граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме; не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда [1].
С 1 июля 2012 г. вступили в силу изменения в Федеральном законе «Об основных га-рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-дерации», Уголовном кодексе Российской Федерации, в соответствии с которыми запре-щается баллотироваться на выборах любого уровня гражданам, когда-либо приговорен-ным судом к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
48
Первый же опыт применения выше названного закона показал его несовершенство и одновременно актуальность. Граждане Г.Б. Егоров, А.Л. Казаков, В.Ю. Синьков, А.В. Ку-приянов, И.Ю. Кравцов и А.С. Латыпов выдвинули свои кандидатуры на выборах различ-ного уровня в единый день голосования 14 октября 2012 г., однако им было отказано в ре-гистрации со ссылкой на установленный законом запрет. По мнению заявителей, оспари-ваемые нормы фактически пожизненно лишают их пассивного избирательного права. Они полагают, что вопреки конституционному принципу дважды наказаны за совершение од-ного преступления. Кроме того заявители считают оспариваемую норму несоразмерной и неоправданной, поскольку она не учитывает, являлся ли назначенный судом срок лише-ния свободы реальным или условным, была ли судимость кандидата снята или погашена, а также другие обстоятельства. Исходя из этого, они обратились в Конституционный Суд РФ просят признать данные законоположения не соответствующими ст. 2, ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 19, ч.ч. 2,3 ст. 32, ч. 1 ст. 50, ч. 1 ст. 54 ч.ч. 2,3 ст. 55 Конституции РФ.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что действующее федеральное законодательство ограничивает пассивное избирательное право осужденных бессрочно и необратимо. Тем самым, по сути, они навсегда лишаются своего конституционного права. Столь суровая мера не может быть оправдана одним лишь наличием у гражданина суди-мости. Бессрочное ограничение избирательного права, возможно, лишь для осужденных на пожизненный срок. В иных случаях оно не соответствует Конституции РФ.
Оспариваемые нормы также не делают различий между реальным и условным наказа-нием, не учитывают срок лишения свободы, назначенный судом, характер и степень об-щественной опасности преступления. Тем самым, они не обеспечивают должной индиви-дуализации и дифференциации ограничений, что также не соответствует Конституции.
Конституционный Суд указал федеральному законодателю на то, что сроки ограниче-ния пассивного избирательного права осужденного должны соотноситься со сроками су-димости в рамках Уголовного кодекса. В исключительных случаях за отдельные преступ-ления (вследствие повышенной степени их общественной опасности) могут быть установ-лены более продолжительные сроки ограничения в разумных пределах.
Конституционный Суд постановил, что федеральный законодатель «обязан устано-вить процессуальные гарантии, обеспечивающие восстановление пассивного избиратель-ного права ранее судимых граждан при либерализации уголовного законодательства. В противном случае такие граждане оказываются в неравном положении с теми, у кото-рых судимость еще не погашена или не снята». Имеется в виду, что по Уголовному кодек-су человеку, с которого судимость по прошествии положенного количества лет снята, то есть считается погашенной, невозможно добиться ее отмены. Это может сделать лишь тот бывший осужденный, по которому процедура снятия судимости еще не проведена. А, между тем, вследствие уже многих волн либерализации УК РФ множество преступле-ний таковыми сейчас и вовсе не считаются. Возьмем, для примера валютные спекуляции, за которые людей сажали еще даже в 1990–1991 гг.
Надлежащие изменения в законодательство должны быть внесены незамедлительно (формулировка КС РФ), чтобы обеспечить проведение выборов, которые будут назначены после вступления в силу настоящего Постановления Конституционного Суда. Подобная постановка вопроса в практике КС РФ вообще является крайне редкой. Председатель КС Валерий Зорькин посчитал необходимым лично пояснить такое предписание суда: «Важ-но только одно: чтобы постановление Конституционного суда было выполнено. И мы написали «незамедлительно», имея в виду, что законодатель не должен год или сколько-то ждать, потому что у нас выборы в стране происходят. И, тем более, есть День выборов, могут быть и другие какие-то выборы. Во всяком случае, когда выборы происходят, нуж-но осуществлять их с учетом нашего постановления» [4].
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет дан-ные о том, допустимо ли, по мнению россиян, допускать к участию в выборах лиц с непо-
49
гашенной судимостью и что думают сограждан о возможности баллотироваться в депута-ты ранее судимых граждан.
По мнению большинства россиян, допускать судимых кандидатов к участию в вы-борах не следует (71%). Это мнение, в первую очередь, характерно для сторонников «Справедливой России» (80%) и пожилых респондентов (78%).
Каждый пятый имеет вполне лояльную позицию в этом вопросе, считая, что подоб-ные лица имеют право быть допущенными к выборам (20%) — это, как правило, привер-женцы ЛДПР (36%) и респонденты моложе 35 лет (23–25%).
55% россиян считают, что у нас в стране достаточно людей с незапятнанной репу-тацией, а потому ранее судимых граждан в Госдуме быть не должно. Такой позиции придерживаются, как правило, сторонники «Справедливой России» (72%) и пожилые со-граждане (64%).
Треть опрошенных склонны думать, что в данном вопросе все зависит от совер-шенного конкретным человеком преступления (32%) — в основном так рассуждают приверженцы непарламентских партий (45%).
В меньшинстве те, кто не видит ничего зазорного в том, чтобы ранее судимый человек был депутатом Госдумы (8%). Это, прежде всего, сторонники ЛДПР и непар-ламентских партий (14 и 16% соответственно).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 8–9 октября 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Ста-тистическая погрешность не превышает 3,4% [3].
В настоящее время в Государственную Думу РФ внесено несколько законопроектов по данной проблема. В них прослеживается разный подход к решению вопроса о защите пассивного избирательного права граждан. Но автор считает необходимым поднять во-прос о защите права избирателей избирать честных и достойных кандидатов на должности в различные уровни власти. Если в настоящее время ВЦКу для установления отдельных фактов биографии некоторых кандидатов есть право официально обращаться в право-охранительные органы с соответствующими запросами, то у простого гражданина нет та-ких административных рычагов для установления истинной биографии того или иного кандидата. Другими словами, решение вопроса законности применения «криминального фильтра» на выборах всех уровней — задача не только наших законодателей и судов, но в первую очередь это задача граждан занимающих активную гражданскую позицию.
Список литературы
1. Конституция РФ. п.п. 2,3 Ст. 32 // Сборник законодательства РФ от 26 января 2009 г. №4. Ст. 445.
2. Зорькина В.Д. Конституционный Суд России в европейском правом поле // Журнал российского права. 2005. №3.
3. Кандидаты с «темным прошлым»: допускать ли их к участию в выборах? [Элек-тронный ресурс] // Пресс-выпуск №1872. 27.10.2011 г. URL: http://wciom.ru/in-dex.php?id=459&uid=112062 (дата обращения: 14.11.2013)
4. Козлова Н. Конституционный суд считает, что избирательный закон надо попра-вить [Электронный ресурс] // Российская газета. 11.10.2013 г. URL: http://www.rg.ru/2013/-10/10/zorkin-site.html (дата обращения: 14.11.2013).
5. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003.
50
А.В. ЛОСКУТОВА
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Частная система здравоохранения является неотъемлемой частью здравоохранения
Российской Федерации, потенциал которой в должной мере не востребован государством. Мировой опыт свидетельствует, что частная медицина в большинстве стран мира способ-на эффективно выполнять задачи по охране здоровья граждан. Именно частная медицина, обладающая ресурсами и опытом, является для государства эффективным ресурсосбере-гающим инструментом.
Необходимо активно развивать участие частных медицинских учреждений в системе обязательного медицинского страхования. Так, в амбулаторном звене необходимо при-влекать малый и средний бизнес в систему оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Это возможно только при росте тарифа на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.
В целях повышения качества оказания медицинской помощи застрахованным гражда-нам необходимо обеспечить создание конкурентной среды между медицинскими органи-зациями. Выполнение конкурентных условий предполагает деятельность в системе обяза-тельного медицинского страхования медицинских организаций всех форм собственности.
Государственно-частное партнерство определяет взаимоотношения государства и частного предпринимательства: от относительно простых договоров, по которым част-ная компания принимает на себя определенные риски, инвестирование, до комплексных, технически сложных проектов, включающих строительство и модернизацию объектов не-движимости в здравоохранении, оснащение их оборудованием с последующей эксплуата-цией [3]. Это позволяет привлечь медицинские организации иной формы собственности для участия в территориальной программе государственных гарантий.
Таким образом, государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения может способствовать достижению целей, поставленных перед здравоохранением: снижение смертности от управляемых причин, повышение рождаемости, улучшение качества меди-цинской помощи, увеличение продолжительности жизни.
Основными целями и задачами подпрограммы являются: развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения путем создания условий для развития государственно-частного партнерства и формирование конкурентной среды в здравоохра-нении.
В Астраханской области привлечение частных инвестиций в систему здравоохранения даст положительную динамику по улучшению уровня жизни населения, повысить каче-ство оказания медицинских услуг, рождаемость, увеличить продолжительность жизни населения.
Количество медицинских организаций, включенных в реестр медицинских организа-ций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС на территории Астраханской области в 2013 году, составляет 70 медицинских организаций, в том числе 24 медицинские органи-зации иной формы собственности [1]. Но величина тарифа на оказание медицинской услу-ги в системе обязательного медицинского страхования не в полной мере покрывает фак-тические затраты, что снижает заинтересованность учреждений здравоохранения иной формы собственности в участии в программе государственных гарантий.
Из Государственной программы Астраханской области «Развития здравоохранения» на 2013–2020 год известна следующая информация как об уже реализованных проектах государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения на сегодняшний день, так и о запланированных инвестиционных проектах:
В целях повышения доступности гемодиализа населению области, страдающим хро-нической почечной недостаточностью в 2010 году Правительством Астраханской области
51
был реализован инвестиционный проект совместно с немецкой компанией Fresenius Medical Care — «Строительство диализного центра, оснащенный всем медицинским и технологическим оборудованием». Сопутствующие расходы осуществлены за счет соб-ственных средств компании «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH».
Астраханский филиал ООО «Фрезениус Нефрокеа» (Центр диализа) введён в эксплуа-тацию в мае 2010 года и в рамках государственно-частного партнерства обеспечивает об-служивание пациентов с хронической почечной недостаточностью. В центре имеется со-временное оборудование: 27 аппаратов «Искусственная почка», компьютерная система контроля качества лечения. В настоящее время гемодиализ осуществляется в 4 смены, по-лучают лечение 163 пациента [2].
Также в феврале 2012 года открыт филиал диализного центра в Астраханской области в ЗАТО г. Знаменск. В центре имеется современное оборудование: 6 аппаратов «Искус-ственная почка», компьютерная система контроля качества лечения [2]. В настоящее вре-мя гемодиализ осуществляется в 2 смены, получают лечение 10 пациентов.
В Астраханской области развитие государственно-частного партнерства идет и по другим направлениям. Так, с 2013 года начал реализовываться инвестиционный проект «Создание высокотехнологичного диагностического травматологического-реабилита-ционного центра ООО «Локохелп» [2].
В настоящее время в Астраханской области травматологическая реабилитация оказы-вается в отделениях восстановительной медицины в государственных лечебных учрежде-ниях и в частных медицинских центрах, которые удовлетворяют потребность в восстано-вительном лечении примерно только на 15%, причем в большинстве из них есть возмож-ность осуществить лишь одну или несколько составляющих сложного процесса реабили-тации [4]. Как правило, в таких учреждениях имеется возможность проведения только фи-зиотерапевтических процедур и/или лечебной физкультуры. Аппаратная и роботизиро-ванная реабилитация, а также методики с применением различного оборудования, осу-ществляется единичными ЛПУ, причем оборудование, используемое для этих целей тех-нически изношено и морально устарело.
Реализация данного инвестиционного проекта позволит расширить методики и стан-дарты оказания специализированной и реабилитационной помощи населению Астрахан-ской области. Данный центр оснащен уникальными аппаратами для разработки конечно-стей, лечения межпозвонковых грыж, вправления отделов позвоночника, реабилитации суставов после переломов, оборудованием для ультразвуковой терапии, которое исполь-зуется в ведущих травматологических центрах России и мира. В центре также имеется собственная служба «Скорой медицинской помощи».
На базе центра планируется проходить курсы повышения квалификации врачей по не-обходимым направлениям, а также внедрение и реализация проекта «Диагностика с по-мощью современного магнитно-резонансного томографа».
На базе государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Областной врачебно-физкультурный диспансер» открыт филиал ООО «Локохелп» центр восстанови-тельного лечения, реабилитации, диагностики спортсменов. Данный проект имеет высо-кую социальную значимость. Спортивный травматизм, по разным источникам, составляет 2–5% от общего травматизма. Первоочередной задачей спортивной реабилитации являет-ся профилактика и лечение травм и заболеваний спортсменов в процессе их специфиче-ской деятельности. Также в 2013 году планируется создание «ЭКО-центра», «Неврологи-ческого центра» [4].
Современное здравоохранение в Астраханской области нуждается в частных инвести-циях и проектах, развитие государственно-частного партнерства в здравоохранении явля-ется достаточно актуальной проблемой. Для повышения доступности и качества оказания медицинских услуг должна сформироваться конкурентная среда среди частных организа-ций здравоохранения. При успешной реализации запланированных проектов возможно привлечение в дальнейшем частных медицинских организаций к реализации территори-
52
альной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-ской помощи в Астраханской области.
Таким образом, государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения может способствовать достижению целей, поставленных перед здравоохранением: снижение смертности от управляемых причин, повышение рождаемости, улучшение качества меди-цинской помощи, увеличение продолжительности жизни.
Список литературы
1. Закон Астраханской области о Государственно-частном партнерстве в Астрахан-ской области № 46/2010-ОЗ от 01.09.2010 г. // Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области. №39. 09.09.2010.
2. Паспорта инвестиционных проектов. Разработка Министерства здравоохранения Астраханской области. ГБУ АО «Управление по материально-техническому обслужива-нию медицинских организаций».
3. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство в здравоохранении [Элек-тронный ресурс]. 2010. URL: http://ppp-lawrus.ru/ (дата обращения: 02.04.2014).
4. «Программа развития здравоохранения Астраханской области» на 2013–2020 гг. [Электронный ресурс]. 2012. URL: minzdravao.ru (дата обращения: 25.02.2014).
53
А.А. ПЕРЕПЕЧЕНОВ
ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
С 1 августа 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-сам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» [1].
Новые нормы закона направлены на защиту авторских прав на фильмы от незаконного копирования в Интернете. Закон предусматривает обязательное удаление или ограничение доступа к нелегально размещенному контенту.
Незаконное скачивание фильмов из сети Интернет уничтожает возможность возврата вложенных в создание фильмов средств. Стоит согласиться с мнением председателя Сове-та Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) по проблемам правовой охраны интеллектуальной собственности в сети Интернет Павлом Александровичем Катковым о том, что: «Интернет-пиратство — это банальное воровство, только вместо собственности физической предметом воровства выступает собственность нематериальная. Между тем нематериальные активы — основа несырьевой экономики, экономики будущего» [2].
Российские музыканты ежегодно теряют от действий интернет-пиратов около 70 млн. долларов. В целом доходы пиратов от нелегального распространения музыки в Сети оце-ниваются в 100–150 млн. долларов [3].
Вот так выглядят результаты голосования «Нарушаете ли вы Авторские Права?» про-веденного порталом Copyright.ru весной 2013 года [2].
Стоит отметить, что антипиратский закон направлен только на защиту авторских прав на фильмы от незаконного копирования в Интернете. Не отражены в данном законе такие объекты интеллектуальной собственности как: электронные книги, авторские фотографии, музыка.
Необходимо проанализировать процедуру обязательного удаления или ограничения доступа к нелегально размещенному контенту.
1. Правообладатель для обеспечения защиты исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях подает заявление в Московский городской суд.
При подаче заявления о предварительном обеспечении защиты исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуника-ционных сетях, в том числе в сети «Интернет», заявитель предоставляет в суд документы, подтверждающие факт использования, объектов исключительных прав и права заявителя на данные объекты.
2. Московский городской суд выносит определение о предварительном обеспечении защиты исключительных прав. В определении устанавливается срок, не превышающий пятнадцати дней со дня вынесения определения, для подачи искового заявления по требо-ванию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению имущественных интере-сов заявителя.
3. Заявителю направляется исполнительный лист по определению.
«Да» — 41% (110 чел.) «Не знаю» — 36% (96 чел.) «Нет, ни в коем случае» — 24% (64 чел.) В голосовании участвовало 273 человека
54
4. Правообладатель (заявитель) вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой инфор-мации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, далее Роскомнадзор, с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распро-страняющим фильмы или информацию на основании исполнительного листа.
5. Роскомнадзор на основании исполнительного листа в течение трех рабочих дней: – определяет провайдера хостинга; – направляет провайдеру хостинга в электронном виде уведомление на русском и ан-
глийском языках о нарушении исключительных прав на фильмы, в том числе кинофиль-мы, телефильмы, с указанием наименования произведения, его автора, правообладателя, доменного имени и сетевого адреса, позволяющих идентифицировать сайт в сети «Интер-нет», на котором размещена информация, содержащая фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, или информация, необходимая для их получения с использованием инфор-мационно-телекоммуникационных сетей без разрешения правообладателя, а также указа-телей страниц сайта в сети «Интернет», позволяющих идентифицировать такую информа-цию, а также с требованием принять меры по удалению такой информации.
6. Провайдер хостинга в течение одного рабочего дня с момента получения уведомле-ния обязан проинформировать об этом владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить незаконно размещенную информацию и (или) принять меры по ограничению доступа к ней.
7. Владелец информационного ресурса обязан удалить незаконно размещенную ин-формацию в течение одного рабочего дня с момента получения от провайдера хостинга уведомления.
8. В случае непринятия провайдером хостинга или владельцем мер по удалению неза-конно размещенной информации и (или) ограничению доступа к ней, Роскомнадзор направляет по системе взаимодействия операторам связи сведения об информационном ресурсе (URL, IP) для принятия мер по ограничению доступа к данному информационно-му ресурсу.
9. Оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к информацион-но-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение суток с момента получения по си-стеме взаимодействия сведений об информационном ресурсе, обязан ограничить доступ к такому информационному ресурсу, в том числе сайту в сети «Интернет», или странице сайта, содержащем фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, или информацию, не-обходимую для их получения.
10. Вышеперечисленные предварительные обеспечительные меры действуют только 15 дней, в течение которых правообладатель должен подать о защите интеллектуальных прав.
Однако в гражданском законодательстве устанавливается ограниченный перечень усло-вий освобождения информационного посредника от ответственности (ст. 1253.1 ГК РФ).
При этом в Гражданский кодекс вводится норма о возможности предъявления к ин-формационному посреднику требований о защите исключительных прав, в том числе тре-бования об удаления информации или ограничения доступа к ней, даже если посредник не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав.
Принимаемые меры — это в первую очередь стимул для создания цивилизованного отношения к правам владельца интеллектуальной собственности.
Необходимо отметить и отрицательные моменты Федерального закона от 02.07.2013 №187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-рации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуника-ционных сетях».
1. Во-первых, необходимо обратить внимание на то, что данный закон не отражает во-просы защиты таких объектов авторских прав как: книги, музыка, фотографии… Литера-турные произведения не упоминаются как объекты интеллектуальной собственности, что может нанести непоправимый удар по отечественной литературе и книгоизданию. От
55
книжного пиратства в Сети страдают российские авторы и книгоиздатели. Соответствен-но, если ситуация не изменится, то авторы просто перестанут публиковать свои труды, так как за свой труд они не получат ни копейки.
2. Наделение Московского городского суда исключительными правами по рассмотре-нию дел о нарушениях интеллектуальной собственности приведет к чрезмерной нагрузке. Необходимо наделить данными полномочиями Суд по интеллектуальным правам.
3. Механизм блокирования Интернет-ресурсов по сетевому адресу (IP-блокировка) допускает попадания под блокировку добропорядочных сайтов, так как они расположены на том же IP-адресе, что и ресурс с тем или иным запрещенным контентом.
Однако, Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, утвердил рекомендации по применению технических решений при блокировке сайтов с запрещенной информацией. Операторам связи предложено использовать технологию блокирования отдельных стра-ниц с нарушениями (блокирование доступа к URL-адресу), а не целых сайтов [5].
4. Широкие возможности для злоупотреблений и недобросовестной конкурентной борьбы, когда любой злоумышленник может оставить комментарий со ссылкой на объект авторских или смежных прав на любом произвольном ресурсе с целью заблокировать ре-сурс вследствие обращения правообладателя за принятием обеспечительных мер, то есть его блокировке.
Вот одни из самых главных пробелов данного закона. На мой взгляд, необходимо создать легальный источник, на котором размещались бы
фильмы. С него любой гражданин смог бы скачать фильм максимум за 1–2 доллар. Стоит обратиться к зарубежному опыту. Например, в Норвегии за последние годы
в национальном Интернет-пространстве в очень больших количествах появились легаль-ные сервисы. Без всяких законотворческих инициатив они стали предлагать пользовате-лям за вполне умеренные деньги оригинальные версии аудио- и видео-произведений в от-личном качестве и, зачастую, с дополнительными бонусами. Публика приобретает файлы у официальных поставщиков, гарантирующих качество и безопасность [4].
Нашему законодателю есть над, чем подумать. А вот создание легальных Интернет-ресурсов, на мой взгляд, заслуживает внимание.
Список литературы
1. Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» // Собрание законодательства РФ, 08.07.2013. №27. ст. 3479.
2. Интернет-пиратству бой! [Электронный ресурс] // Российская правовая газета «эж-юрист». URL: http://www.gazeta-yurist.ru/article.php?i=1935 (дата обращения: 23.07.2013).
3. Потери отечественных музыкантов из-за пиратов оценили в 70 млн. долларов [Электронный ресурс] // ЮГРАPRO-информационное агентство. URL: http://www.ugra-pro.ru/2013/04/01/poteri-otechestvennyx-muzykantov-iz-za-piratov-ocenili-v-70-mln-dollarov/ (дата обращения: 23.07.2013).
4. Норвежский метод борьбы с интернет-пиратством [Электронный ресурс] // Сopyright.ru. URL: http://www.copyright.ru/ru/news/main/2013/7/18/piratstvo_internet_zakon/ (дата обращения: 18.07.2013).
5. Утверждены Рекомендации по ограничению операторами связи доступа к сайтам в сети Интернет с запрещенной информацией [Электронный ресурс] // Официальный сайт РОСКОМНАДЗОР. URL: http://www.rsoc.ru/news/rsoc/news21096.htm (дата обращения: 26.07.2013).
56
Е.А. СЕНЧУКОВА
ИМИДЖ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: СПЕЦИФИКА И МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Одним из важнейших условий эффективного функционирования и развития системы
государственного и муниципального управления является формирование позитивного имиджа органов власти. Имидж демонстрирует степень доверия населения к власти и вы-ступает критерием оценки социумом эффективности управленческой деятельности и про-водимых административных реформ. Существующий имидж помогает определить уро-вень соответствия действий органов власти ожиданиям и требованиям, как отдельных со-циальных групп, так и всего общества. На федеральном и региональном уровнях вопросам формированию имиджа уделяется достаточно пристальное внимание, однако на муници-пальном уровне проявляется противоположная закономерность. Чем больше дистанция между носителем образа и носителями массового сознания, тем больше времени, усилий и финансовых средств тратится на создание его позитивного образа и воздействие на си-стему восприятия людей. И наоборот: чем короче дистанция, тем меньше уделяется вни-мания созданию и коррекции имиджа.
Представители муниципальной власти редко задумываются над необходимостью при-лагать дополнительные усилия и средства; оживление наблюдается лишь в период изби-рательных кампаний, но исследования носят частный характер и чаще ограничиваются выявлением электоральных предпочтений относительно кандидатов, претендующих на посты. Та же закономерность прослеживается и в участии граждан в осуществлении мест-ного самоуправления оно имеет, как правило, ситуативный, несистемный характер. В ос-новном преследуются утилитарные цели: решение отдельной взятой острой проблемы, чаще всего касающейся социальной сферы. Системного, созидательного участия, как та-кового, нет. Мало поступает гражданских инициатив по вопросам долгосрочного страте-гического развития муниципальных образований. Наблюдается слабая электоральная ак-тивность: явка на муниципальных выборах обеспечивается в значительной степени только за счёт их проведения совместно с федеральными. Слаба и заинтересованность в управ-ленческо-административных делах. Большинство граждан никогда не читало уставы сво-их городов или районов.
Исследовательская группа «Циркон» представила результаты исследования, прове-денного по заказу Института экономики города на тему: «Граждане оценивают местное самоуправление» [4, с. 73–82]. Значительная часть исследования посвящена изучению опыта самоорганизации граждан, поскольку совершенно очевидно, что перспективы раз-вития местного самоуправления в стране во многом будут определяться не только соот-ветствующей институциональной инфраструктурой (система распределения функций, полномочий, ресурсов и т.п.), но и готовностью самих граждан к самоорганизации и доб-ровольному объединению для решения своих проблем. Результаты исследования показа-ли, что пока реальная система органов местного самоуправления видится значительной части населения скорее в образе официальной и отчужденной власти на низовом уровне, нежели в форме народовластия, созданного по инициативе граждан. Согласно данным опросов, касающихся общественного мнения по проблемам местного самоуправления, в представлениях многих россиян местного самоуправления как формы самоорганизации граждан на уровне локальных сообществ практически не существует.
Иными словами, несмотря на то, что выражение «местное самоуправление» знакомо большинству жителей городов, в которых проводились опросы, четкое понимание его сущности и принципов пока отсутствует. Представление населения о местном самоуправ-лении как форме самоорганизации граждан несколько превалирует в общественном со-знании, но является далеко не всеобщим: для большинства респондентов грань между государственным и негосударственным управлением не осознается.
57
Для многих россиян является очевидным несоответствие между объёмом и сложностью стоящих перед местным сообществом задач и теми полномочиями и ресурсами, которые имеются в распоряжении местной власти. Граждан в первую очередь беспокоят снижение уровня жизни (низкий уровень зарплат, пенсий, рост цен, инфляция), безработица, низкое качество публичных услуг, распространённость социальных пороков и негативных явлений в обществе (коррупция, преступность, алкоголизм, наркомания), неблагоприятная экологи-ческая обстановка, проблемы в транспортной и жилищно-коммунальной сферах. Несмотря на общий положительный коэффициент открытости органов местного самоуправления для взаимодействия с гражданским обществом, в ряде муниципалитетов не созданы соответ-ствующие условия для активного участия граждан в общественно-политической жизни на местном уровне, а также в осуществлении местного самоуправления.
Все это является следствием недостаточно отлаженной технологии коммуникацион-ной работы. Информация о деятельности органа местного самоуправления должна регу-лярно достигать своей целевой аудитории с помощью основных каналов и средств комму-никации. Для их эффективного отбора необходимо использовать данные о предпочти-тельных для населения способах коммуникации, полученные в результате социологиче-ских исследований. В итоге составляется перечень коммуникативных каналов и средств, с помощью которых будет происходить информирование населения о деятельности органа власти.
Существует ряд моментов, которые препятствуют активному участию населения в решении вопросов местного значения. Это недостаток знаний, некомпетентность, неве-рие в возможность оказывать влияние на принимаемые решения, недоверие к органам местного самоуправления, а порой просто безразличие к общим делам. Для того, что бы исправить ситуацию необходимо регулярно информировать общественность о тех или иных действиях органов местного самоуправления. При этом не следует дожидаться ка-ких-либо «итоговых» событий и назидать объемным материалом, который «сразу обо всем расскажет». При воздействии на общественное мнение важно не только содержание, но и частота выхода информации. В этом смысле лучше регулярные, пусть и небольшие репортажи новостного характера о различных позитивных результатах деятельности орга-на местного самоуправления, чем один материал за большой период времени. В совре-менных условиях важно, чтобы деятельность органов всех уровней публичной власти по выработке и реализации государственной и муниципальной политики носила максималь-но открытый характер. Эта деятельность должна осуществляться при активном участии общественных объединений, с учетом интересов (потребностей) граждан РФ и под обще-ственным контролем. Только в этом случае российское государство может считаться де-мократическим, суверенным и конкурентоспособным.
Исходя из этого, нужно формировать политику органов власти по привлечению граж-дан к участию в осуществлении местного самоуправления по следующим направлениям: стимулирование глав муниципальных образований к развитию общественной активности через введение соответствующих показателей оценки эффективности деятельности город-ских округов и муниципальных районов; внедрение программ массового практического обучения основам местного самоуправления активистов, лидеров общественных органи-заций и движений; организацию информационно-просветительской кампании, направлен-ной на формирование у населения самоорганизации и потребности в участии в обще-ственно-политической деятельности муниципальных образований; обеспечение широкого информирования граждан через СМИ о задачах местного самоуправления, его развитии, позитивном значении для повышения качества и должного уровня жизни населения на местах.
В муниципальном управлении, которое уже успело укорениться на территории Астра-ханской области, установление связей между органами местного самоуправления и обще-ственностью способствует созданию внешней и внутренней среды, благоприятной для эффективной деятельности муниципальных органов власти, служит проводником обрат-
58
ной связи во властно-управленческих отношениях. Органы местного самоуправления Астраханской области как субъекты управления определяют, разрабатывают и обеспечи-вают реализацию политики местного жизнеобеспечения и развития, население же подчи-няется решению властей, встраивается в систему определенных отношений и даже влияет на нее. Следует отметить, что органы местного самоуправления Астраханской области во всех своих начинания идут в ногу со временем.
На территории Астраханской области функционирует Ассоциация муниципальных образований, которая на сегодняшний день объединяет уже 176 муниципальных образо-ваний, в т.ч. 2 городских округа: г. Астрахань, «ЗАТО г. Знаменск», 11 муниципальных районов и все 163 поселенческие муниципальные образования. Ассоциация муниципаль-ных образований дала старт довольно любопытному образовательному проекту [1]. Этот проект — своеобразный «ликбез» для тех, кого интересует, что же на самом деле пред-ставляет из себя местное самоуправление. Проще говоря, сотрудниками Ассоциации была создана азбука, в которой рассказано об основных вопросах, которыми живет современная муниципальная власть. Повествование ведется на легком доступном простому обывателю языке, с достаточной долей юмора, что, между прочим, прекрасно «работает» на имидж самой Ассоциации.
Астраханские управленцы находятся в постоянном поиске новых форм взаимодей-ствия населения с муниципалитетами. К примеру, в 2013 году на Дне самоуправления гу-бернатор Астраханской области А.А. Жилкин рекомендовал возродить советы старейшин. И такой Совет был создан на территории Камызякского р-на. Задача была поставлена чет-ко: максимально вовлечь жителей сельской местности в систему местного самоуправле-ния. В селах района стали выбирать старост, которых в свою очередь, рекомендовали в общественный Совет. Механизму дали старт ,сельчане почувствовали, что староста может решать их насущные вопросы. Вопросы очень простые: отремонтировать колонку, сделать уличное освещение и так далее. Поэтому власти разработали проект областного закона под-держки сельских старост, по которому им будет предоставляться финансовая поддержка. В состав Совета входят авторитетные, уважаемые жители Камызякского района, долгие годы, посвятившие становлению и развитию своей малой Родины: ветераны войны и труда, про-славленные рабочие, бывшие руководители колхозов, сельхозпредприятий.
Еще одна действенная форма взаимодействия населения с местной властью — обще-ственные организации. В настоящее время в Астраханской области официально зареги-стрированы 24 правозащитные общественные организации, созданные в целях представи-тельства и защиты политических и социально-трудовых прав и интересов населения. Представитель этой общественной организации принимает непосредственное участие в законотворческой деятельности городской власти с правом совещательного голоса.
Двадцать одной организацией представлен городской молодежный координационный совет при мэре города Астрахани. Совет является консультативно-совещательным и коор-динирующим органом, обеспечивающим всестороннее и оперативное взаимодействие мо-лодежных общественных организаций и объединений с органами местного самоуправле-ния по важнейшим правовым, политическим, социально-экономическим, национальным и культурным вопросам в целях реализации прав и законных интересов молодых граждан.
Все более активные позиции на местном уровне занимают профсоюзы и другие профес-сиональные общественные объединения. В системе общественных объединений астрахан-ской области нашлось место и 27 религиозным организациям. Русская православная цер-ковь и Астраханское региональное управление мусульман тесно взаимодействуют с орга-нами местной власти в решении вопросов, связанных с национальной политикой, культур-но-бытовыми и образовательными проблемами нашего многонационального региона.
За годы реформ в Астраханской области создано более 80 общественных организаций, союзов и ассоциаций различных уровней, которые позволяют не только учитывать инте-ресы населения, формулировать их претензии, но и лоббировать их решение через органы власти различных уровней. Таким образом, местные общественные объединения разных
59
уровней можно назвать фундаментом становления местного самоуправления. Активная гражданская позиция жителей, их энтузиазм способствуют улучшению ситуации в муни-ципальных образованиях.
Важнейшим аспектом в процессе взаимодействие населения с муниципальной вла-стью в Астраханском регионе является информационная политика. Осуществляется она посредством влияния средств массовой информации на социокультурные и политические устои населения, на его мировоззренческие представления, сложившиеся культурные сте-реотипы. На сегодняшний день в Астраханской области официально зарегистрированы 13 газет, которые издаются на территории муниципалитетов. Однако периодичность их выхода в свет и небольшой тираж затрудняют контакты руководства муниципалитетов с гражданами.
К примеру, газета «Лиманский вестник», издающаяся администрацией Лиманского р-на, выходит лишь один раз в неделю, тиражом 2 000 экземпляров. Большие расстояния между селами и плохие дороги мешают органам местного самоуправления осуществлять должное взаимодействие с населением, вовремя доносить до сельчан необходимую ин-формацию, «держать руку на пульсе» общественного мнения.
Более тесные связи, безусловно влияющие на формирования имиджа органов местно-го самоуправления, наблюдаются между газетой «Маяк дельты» и Камызякским муници-палитетом. Несмотря на то, что учредителем издания является орган местного самоуправ-ления г. Камызяк, «Маяк Дельты» остро реагирует на все, что связано с деятельностью местной власти. Оперативно реагирует на нововведения, пристально следит за реализаци-ей приоритетных направлений. Эта газета отличается остротой и критичностью публика-ций, которые встречаются практически в каждом номере. Тираж «Маяка Дельты» — 5 000 экземпляров, количество подписчиков выросло по сравнению с прошлым 2013 го-дом на 5,8% процента. Газета «Орбита» (ЗАТО Знаменск) стала практически семейным вестником. В материалах газеты местная власть критике не подвергается. Такая солидар-ность вызвана скорее территориальной зависимостью, ведь ЗАТО Знаменск небольшой обособленный район.
Бесспорно, что в развитом механизме прямой связи власти с народом должны быть заинтересованы сами граждане, чтобы быть в курсе дел, происходящих на своей террито-рии, ведь, в конечном счете, все это прямо или косвенно касается каждого гражданина лично. Если население проинформировано, то оно адекватно воспринимает политику ад-министрации муниципальных образований, все ее управленческие решения и способы их реализации. Постоянный диалог, конструктивное сотрудничество между органами власти и жителями муниципальных образований астраханской области, их объединениями уже становятся повседневной реальностью. Разумеется, это сотрудничество, — прежде всего, предполагает совместный поиск взаимоприемлемых решений, взаимные уступки, но не исключает конфронтации сторон.
Список литературы
1. Закон Астраханской области от 02.06.2010 N 27/2010-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Астраханской области по взаимодействию с Ассоциацией (Сове-том) муниципальных образований Астраханской области» (принят Государственной Ду-мой Астраханской области 27.05.2010).
2. Архипова Л.И., Рафикова Р.С. Имидж муниципальных органов власти как инстру-мент манипулирования // Материалы межвуз. науч.-практич. конф. студ. и аспирантов, посв. 40-летию г. Нижнекамска. Казань, 2009.
3. Васильцева А.В. Имидж: определение центрального понятия имиджелогии // Соци-ально-гуманитарные знания. 2012. №4. С. 311−317.
4. Исследовательская группа «Циркон». Граждане оценивают местное самоуправле-ние // Городское управление. 2013. №10. С. 73–82.
60
5. Дюк А. Технологии работы с общественным мнением на уровне МСУ // Городское управление. 2013. №8. С. 85–89.
6. Журавков М.В. Имиджевый аспект местного самоуправления [Электронный ре-сурс]. URL: www.intellect/forum_pub/vestnik_4.asp (дата обращения: 23.06.2014).
7. Леонтьев Г. От информирования населения — к взаимодействию власти, бизнеса и граждан // Муниципальная власть. 2012. №4.
8. Мингалеев Р.Н. Конструирование имиджа региона российскими СМИ: (на примере Респ. Татарстан): автореф. дис. ... к. социол. н. Казань: Казан. гос. технол. ун-т, 2012.
9. Пейдж Б. Связи с общественностью: мифы и проблемы. Чем больше жители знают о работе власти, тем лучше к ней относятся // Муниципальная власть. 2012. №2.
10. Стародубровская И.В. Муниципальное управление: Учебное пособие. 2-е изд. М.: АНХ, 2010.
61
К.С. СМАГИНА
РАЗВИТИЕ «ОТКРЫТОГО (ЭЛЕКТРОННОГО) ПРАВИТЕЛЬСТВА» НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
«Открытое (электронное) правительство» — это не новая властная структура, а систе-
ма механизмов и принципов, обеспечивающих эффективное взаимодействие власти и гражданского общества. Результатом такого взаимодействия станет не только повышение качества принимаемых решений и качества работы государственного аппарата в целом, а значит повышение качества жизни граждан, но и формирование новой для России куль-туры взаимодействия, поиска компромиссов и взаимовыгодных решений.
Научно-теоретической основой работы является концепция «governance». В соответствии с данной теорией управление должно основываться на децентрализации структур и исполняемых функций, усилении гражданского контроля над деятельностью бюрократии и одновременном увеличении свободы чиновников.
Government 2.0 — это прозрачное, подотчетное и открытое правительство, которое сотрудничает с гражданами, строит свою политику на их активном участии с помощью последних информационных и коммуникационных технологий. Это специально созданные площадки коммуникации между обществом и властью, включая выход чиновников в специальные сети для образования общества, где госструктуры контактируют с гражданами [2, с. 39].
В рамках запуска системы «Открытое правительство» в 2012 г. предполагается решение следующих ключевых задач: создать Экспертный Совет при Председателе Правительства РФ, Государственную комиссию по развитию системы «Открытое правительство», включающую представителей общества, Общественные Советы нового формата при федеральных и региональных органах исполнительной власти, создать технологическую и административную платформу «Открытого правительства».
Руководители Рабочей группы совместно с экспертами определили четыре приоритетных направления, являющихся локомотивами для запуска системы «Открытое правительство»:
− Борьба с коррупцией. − Развитие конкуренции и предпринимательства. − Развитие кадрового потенциала и человеческого капитала, в т.ч. для
совершенствования системы государственного управления. − Механизмы работы системы «Открытое правительство». Для создания системы Открытого правительства на региональном уровне должны
быть созданы определенные предпосылки. Во-первых, это активное использование региональной властью информационных технологий, позволяющих в режиме реального времени взаимодействовать с населением. Во-вторых, это наличие инструментов (технологий, позволяющих обеспечить открытость органов местной власти. В-третьих, необходимо иметь развитые институты общественного контроля, позволяющие народным представителям контролировать управленческие решения на региональном уровне.
Важным шагом на пути к развитию электронных технологий, стал проект «Губерноторы 2.0». Он позволяет отследить количество губернаторов, у которых есть и появляются блоги.
Система электронного правительства Астраханской области обеспечивает открытость и прозрачность органов государственной власти через автоматизированную систему финансово-экономических показателей «Открытый бюджет» [1]. Любой гражданин может зайти на портал электронного правительства Астраханской области и получить доступ к информации об исполнении регионального бюджета в сети Интернет в режиме реального времени.
62
Также система электронного правительства астраханской области позволяет оказывать различные электронные государственные услуги населению и бизнесу, снижая административные барьеры.
Итак, идея открытого правительства весьма актуальна на региональном уровне, и уже в данный момент пилотные проекты программы «открытый регион» действуют в 17 субъектах РФ.
Анализ институтов взаимодействия власти и общества в астраханском регионе выявил следующие механизмы необходимые для формирования системы «Открытый регион»: 1. Взаимодействие Губернатора Астраханской области с гражданами через социальные сети. 2. Функционирование региональной системы Электронного правительства. 3. Деятельность Общественной палаты, представленной главными социальными силами региона, активно участвующей в гражданском контроле органов власти. 4. Наличие Молодежного правительства, занимающего активную социальную позицию.
Указанные механизмы обратной связи были интегрированы в единую институциональную матрицу открытого правительства с учетом проблем развития региона. Были предложены коммуникативные механизмы, реализация которых позволит придать деятельности органов государственной и муниципальной власти публичный характер.
Список литературы
1. Открытый бюджет [Электронный ресурс]. URL: http: //egov.astrobl.ru 2. Пономарев С. Государство в сети: новые институты коммуникации // Власть. 2012.
№11. С. 38–41.
63
А.И. СМОТРОВА
ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Укрепления региональной безопасности в Южном федеральном округе, в том числе
и в Астраханской области, входящей в данный округ, определяется важностью осуществ-ления политики стабильного социального развития, выражаемой в ликвидации социаль-ных и региональных несоответствий, снижении этнической и этнонациональной обостренности, возрождении внутрихозяйственных связей и предотвращении крайне сложных, чрезвычайных ситуаций.
Региональный фактор в современных условиях приобретает все большую актуаль-ность и значимость. Наблюдается чётко выраженная тенденция к превращению региона-лизма в общемировую тенденцию, в контексте которой регионы начинают играть все бо-лее важную роль в жизни общества в целом.
В центре системы региональной безопасности, стоят жизненно важные интересы лич-ности, общества и региона. Нередко можно слышать критические замечания, что при таком подходе к безопасности, мы вынуждены защищать нечто непонятное, неконкретное, аб-страктное, камуфлированное категорией интересов. В качестве объекта защиты предлагает-ся ставить не интересы, а непосредственно человека, территорию, общество, регион и т.д.
Региональная безопасность — это состояние, при котором в регионе защищены реги-ональные интересы в широком их понимании, включающем политические, социальные, экономические, военные, экологические аспекты, риски, связанные с внешнеэкономиче-ской деятельностью, распространением оружия массового поражения, а также предотвра-щения угрозы духовным и интеллектуальным ценностям населения региона. Региональная безопасность тесно связана с национальными интересами всей страны, в том числе и за пределами ее территории. В каждом конкретном случае для ее обеспечения требуются особые методы деятельности, применение соответствующих специальных органов, сил и средства государства [1, с. 25].
Как самостоятельное направление управление региональной безопасностью стало складываться более прогрессивно лишь в 90-х годах и включает в себя четыре основных подхода к проблеме управления региональной безопасностью: политико-правовой (леги-тимистский), техноцентристский, коммуникативный, дерево рисков.
Легитимизм в управлении региональной безопасностью имеет положительное значе-ние, выражающееся в том, что подчеркивает первостепенность правовых норм управления регионами, рассматривает политико-правовую интеграцию как важнейшее условие наци-ональной безопасности [2, с. 305].
Техноцентристский подход основывается на эффективности управленческих техноло-гий и рассматривает регион комплексно, высок уровень авторитаризма, администрирова-ния, хотя решение текущих политических и экономических задач может представляться эффективным.
Коммуникативный подход к управлению региональной безопасностью, связан с реа-лизацией законов и принципов социального управления, сочетанием эффективности управления и приоритетности социальных целей.
Четвёртый подход, основанный на формировании дерева рисков и вычисления на нем интегральной оценки риска, является новым и привлекающим к себе особое внимание.
Если рассматривать региональную безопасность одним из главных путей развития стабильности в Астраханской области, то следует заметить, что Прикаспийский макроре-гион сегодня имеет ключевое значение для Российской Федерации в контексте обеспече-ния национальной безопасности и реализации национальных интересов. Сегодня Астра-
64
ханская область — важный форпост России, который играет значимую роль в Прикаспий-ском регионе. Восстанавливаются исторически обусловленные отношения с северными провинциями Ирана, укрепляются и развиваются связи со странами ближнего зарубежья и европейскими государствами [4, с. 60–61].
Геополитическое положение Астраханской области, как пограничного и «транзитно-го» региона, определяет высокую актуальность, изучения здесь этнических миграционных процессов из соседних государств: Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджики-стана, Грузии, Армении, Азербайджана, Ирана. А соседство многих этнических групп де-лает актуальным мониторинг сферы межэтнических отношений для сохранения и под-держания стабильности социально-политической обстановки. Астраханской области не-редко дают такие определения, как «наиболее многонациональный», «предельно полиэт-нический» [3, с. 54–55].
Избрав в качестве приоритета гарантии прав личности вне зависимости от этнической принадлежности при удовлетворении специфических интересов; сохранение самобытно-сти этнических культур, их уникальной ценности и неповторимости; развитие родных языков и свободу выбора языка; поддержку этнокультурных средств массовой информа-ции и издание печатной продукции на родных языках; поддержание стабильности с учё-том интересов всех граждан, органы исполнительной власти Астраханской области взаи-модействуют с национально-культурными обществами и религиозными объединениями. Именно благодаря проведению данных работ, в Астраханской области сохраняется меж-этническая стабильность.
Обеспечение функционирования системы обеспечения региональной безопасности осуществляется с помощью Федеральной службы безопасности и Министерства внутрен-них дел по Астраханской области.
Федеральная служба безопасности представляет собой федеральный орган исполни-тельной власти Российской Федерации, осуществляющий в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации. Министерство внут-ренних дел является органом исполнительной власти, государственное учреждение, в большинстве стран, как правило, выполняющее административно-распорядительные функции в сфере обеспечения общественной безопасности, охраны правопорядка, борьбы с преступностью. В отдельных странах на органы МВД возложены функции обеспечения национальной безопасности и вопросов иммиграции, охраны мест лишения свободы, раз-решительные функции в сфере оборота оружия, наркотических средств, печатей и штам-пов, другого, а также вопросов цензуры в средствах массовой информации.
Формирование и реализация системы обеспечения региональной безопасности, явля-ется одной из потребностей общества, которая представляет собой состояние защищенно-сти в области обеспечения безопасности личности, общества, региона от внешних и внут-ренних угроз политического, экономического, социального, военного, техногенного, ин-формационного и иного характера с учётом имеющихся ресурсов и возможностей.
Список литературы
1. Бондарев А.А. Моделирование и управление регионом как социальной системой: социологический анализ: дис. … д-ра соц. н. Пятигорск, 2004.
2. Воронцов С.А. Правоохранительные органы Российской Федерации. Ростов-н/Д, 2001.
3. Королева Ю.М. Российский федерализм как фактор формирования системы нацио-нальной безопасности страны // Власть, 2010. №3.
4. Лагуткин О.Ю. Оценка рисков в сфере межэтнических отношений: теоретические основы и опыт практической реализации модели межэтнической напряженности на реги-ональном уровне. Астрахань, 2010.
65
А.Н. СУЛИМИН
СОЦИОСИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССАМ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Вступив в начале 1990-х годов на путь либеральной демократии, Россия оказалась
в состоянии социальной, политической, культурной неопределенности, где демократиче-ские преобразования (переход от социализма к капитализму) развивается по сложному бифуркационному сценарию. По словам М.С. Ельчанинова «нестабильное общество про-являет нелинейные эффекты» [1, с. 7]. В связи с этим возникает необходимость, обратится к синергетике, как научному направлению в эволюции различных сложных систем, в том числе и социальных, которая изучает нелинейные принципы развития. Ключевые понятия теории синергетики - нелинейность, точка бифуркации, аттрактор, диссипативные процес-сы в последние два десятилетия завоевали и социально-политические науки.
Традиционный подход в понимании развития общества гласит, что развитие должно иметь цель, развитие происходит линейно (например, концепция модернизации — от тра-диционного закрытого общества к демократическому открытому) путем прохождения от этапа к новому этапу. Нелинейность описываемая синергетическим подходом говорит о том, что развитие некой структуры происходит нелинейно, процесс перехода от A к С, может происходить без участия промежуточного элемента B.
Точка бифуркации — это момент неустойчивости, когда система выбирает дальней-ший путь эволюции, точка, в которой происходит катастрофа (термином «катастрофа» в теории самоорганизации называют качественные скачкообразные изменения, возникаю-щие при плавном изменении внешних условий). Вблизи этой точки возрастает роль незна-чительных случайных возмущений — флуктуаций (временных отклонений от состояния равновесия), за счет чего может произойти переход системы от области притяжения одно-го аттрактора к другому (произойдет катастрофа) [5, c. 87]. Аттрактор — это заложенный потенциал в развитии элементов структуры, дающий возможность перейти на новую сту-пень, это имманентный козырь в развитии системы. Это параметр внутренней организа-ции. Если система не выберет нужный аттрактор развития (в социальной системе — идео-логический или иной программный проект), то система может рухнуть безвозвратно. При этом синергетика принципиально исходит из того, что состояния хаоса не является чем-то изначально вредным и разрушительным, т.к. в это время система выбирает различные ва-рианты самоорганизации и останавливается на оптимальном.
Несмотря на появление в 1990-х гг. в российской политической системе плюралисти-ческой формы демократического либерализма, и открытости общества к внешним новаци-ям, хаос не стал конструктивно-созидающем механизмом самоорганизации постсоветско-го общества. По всем показателям Российская Федерация откатилась в своем развитии назад, получив лишь благодаря политической лояльности западных держав место в G-8. В связи с этим необходимо определить реальную роль синергетических процессов в демо-кратизации современной России с точки зрения передовых подходов социальной синерге-тики, выделить основные заблуждения западной науки в применении синергетического подхода в демократической модернизации, а так же показать роль внешней среды россий-ского общества, которую надо учитывать при проведении глобальных реформ.
Социокультурные основания политического и экономического развития бесспорно связаны с особенностями внешней среды развития российского общества. Эту взаимо-связь помогает определить синергетический подход. В рамках данного подхода социум рассматривается как открытая самоорганизующаяся система, интегрирующая социальные структуры, процессы, акторов и взаимодействующая с окружающей средой. В отличие от замкнутых стационарных систем общество является открытой самоорганизующейся си-стемой. Если стационарные системы разрушаются от взаимодействия с окружающей сре-дой, то социум как открытая социетальная система, напротив, может сохраняться и разви-
66
ваться только в процессе такого взаимодействия. Объективным условием существования социума является то, что он извлекает из окружающей среды вещество, энергию, инфор-мацию, которые нужны ему для нормального функционирования и продуктивного исто-рического развития.
Одними их факторами внешней среды продолжат оставаться природно-климатические условия, которые, как и сотни лет назад значительно тормозят развитие нашего общества.
Россия — наиболее северное государство мира с самым холодным климатом. Вечная мерзлота в России занимает 53% территории (9 млн кв. км), более 95% территории и 83% населения страны расположены к северу от 50-й параллели. Средняя температура января в Москве минус 10–11°С, на 5–8°С ниже, чем в Хельсинки и Стокгольме; в Нью-Йорке средняя январская температура около нуля. На обогрев 1 кв. м в России затрачивается 300–600 кВт . ч электроэнергии, в Германии — 200, а в странах Скандинавии и того меньше. Из-за огромной территории и чрезвычайно холодного климата Россия потребляет лишь около 40% действительно необходимой энергии. Отрицательное воздействие при-родно-географических и климатических условий проявлялось (и проявляется до сих пор) в том, что Россия должна тратить огромные энергетические ресурсы на защиту населения от холодного климата, вместо того чтобы использовать эти ресурсы для производства ма-териальных и духовных благ [3, c. 27].
Низкая плотность населения не стимулирует экономическое развитие, так как основ-ные усилия людей направлены на элементарное физическое выживание на основе экстен-сивного хозяйства, что отнюдь не способствует специализации производства, разделению общественного труда, развитию торговли и рынка. Кроме того, обширность территории увеличивает расходы страны на содержание обороны, управления, благоустройства жиз-ненного пространства, общественного правопорядка, быта и т.д. Необходимость преодо-левать огромные расстояния выдвигает серьезные проблемы перед транспортом, которые усугубляются суровыми климатическими условиями. Большая территория отрицательно влияет на развитие просвещения, так как масса людей, живя в редких поселениях, удален-ных друг от друга на значительные расстояния, ограничивается локальным культурным опытом, что в значительной степени мешает интеллектуальному и инновационному раз-витию периферии.
В связи с этим можно выделить различные темпы развития регионов: 1. Постиндустриальные: Москва, ближнее Подмосковье, в некоторой степени Санкт-
Петербург. 2. Индустриальные: Норильск, Урал и т.д. 3. Доиндустриальные: Тува, Горный Алтай, Чечня, Калмыкия. Демократические перемены 1990-х годов отразились и отражаются на взаимодействии
российского общества с инокультурной средой. Российский социум был открыт к измене-ниям своей организационной структуры, менталитету, традициям. Это изменение было обусловлено почти полным исчезновением контроля над коммуникациями как внутри со-циокультурной системы, так и ее коммуникациями с внешней средой. Актуализировался ценностный выбор, личность смогла выбирать ценности «по себе», принимать и отвергать ценности, совершать осознанный выбор. Изменилась политическая и экономическая мо-дель общественного развития, рыночные отношения стали неустранимым атрибутом рос-сийской экономики, а демократические институты одним из главных параметров развития государства.
Однако демократические нововведения не смогли качественным образом изменить рос-сийскую цивилизационную и политическую идентичность, скорее наоборот в чем то, акти-визировали основные политические традиции в современной политической жизни России. В политической практике россиян на современном этапе исторического развития остались политический иммобилизм (низкая политическая мобильность) и гражданское неучастие в политическом процессе в западном смысле слова. Это связано главным образом с низкой
67
эффективностью демократических политических институтов призванных защищать интере-сы общества и способствовать политической мобильности [8, с. 70–71].
Патернализм стал главной политической, экономической и социальной ориентацией российского общества после хаоса 1990-х годов эти ориентации носят непосредственно этатистский характер, так как несущей конструкцией мировоззрения, является место и роль государства в экономической и социальной жизни. Процессы формирования граж-данского общества в последние годы значительно замедлились, так как люди хотят боль-ше видеть эффективное государственное регулирование и порядок, чем иметь демократи-ческие права и свободы. Наше общество, расколото. Больше половины граждан полагает, по данным социологов, что они советские люди, треть готова стать второсортными аме-риканцами, а подавляющее большинство позитивно оценивают прошлый советский опыт [1, c. 178].
Теория аттракторов позволяет понять суть управления сложными социальными си-стемами. Воздействие может быть эффективным, изменить тенденции системы, только если оно переводит состояние системы в область притяжения другого аттрактора. Чем ближе система к асимптотической стадии развития, к своему аттрактору, тем сложнее «переключить» ее на другой аттрактор. Пороговость воздействия играет здесь первосте-пенную роль. Прежний аттрактор «не отпускает» систему, и нужно приложить суще-ственные усилия, чтобы преодолеть существующие тенденции, выйти из его области при-тяжения. Длительное, но слишком слабое или неправильное типологически воздействие будет лишь пустой тратой времени и энергии, система вновь вернется на прежний путь. Синергетика исходит из принципа «точечные слабые воздействия, но в нужное время и в нужном месте». Здесь часто проводятся аналогии с восточными методиками точечного массажа или иглоукалывания. В политических процессах отрицательным примером слу-жит «перестройка», когда «гласность и демократия» развалили государство. Очень важно учесть также текущее состояние системы, определить к бассейнам каких аттракторов она прилегает. Одна и та же система при различных начальных условиях может проявлять со-вершенно разные, даже противоположные тенденции развития, стремиться к различным «целям»-аттракторам, и действовать в одном случае по аналогии с другим неэффективно или даже бессмысленно. Поэтому нельзя, например, непосредственно переносить опыт развития западных стран на российскую «среду», слишком различны начальные условия (а возможно, и сами среды).
Первое заблуждение синергетических концепций либерального реформаторства связано с трактовкой проблемы открытости — об особых возможностях открытых систем, которые имеют, прежде всего, демократический характер и преимущества перед более закрытыми авторитарными и тоталитарными политическими системами. Из утверждения, что способ-ностью к развитию обладают только открытые системы, делается вывод о локализации ис-точника развития в окружающей их среде. Поэтому за позицией «фатальной открытости» явно просматривается поиск обоснования определенной идеологии и политики.
Не всякая открытая социетальная система самоорганизуется и выстраивает новые структуры. Если в обществе отсутствуют жизнеспособные структурообразующие факто-ры, то его энергия, вещество и информация рассеиваются во внешнюю среду. В этом слу-чае ресурсы общества используются не на прогрессивное развитие, а преимущественно в интересах прагматичных конкурентов; существенную роль в этом инволюционном про-цессе играет деградирующая элита. Например, денежные ресурсы, аккумулированные фи-нансовой олигархией в период первоначального накопления и приватизации, не включа-ются в процесс российской модернизации, а работают в экономиках зарубежных стран. С точки зрения социальной синергетики отношения России и Запада конструируются как неэквивалентные, точнее, как отношения «жертвы» и «хищника». Вместо поглощения внешних вещества, энергии и информации, необходимых для системных преобразований и качества развития, бесполезно тратятся внутренние ресурсы, усиливая неустойчивость социума.
68
Как отмечает О.Ф. Шабров, на самом деле любой системе свойственен дуализм откры-тости и закрытости. Одним из требований системного подхода как раз и является рассмот-рение объекта во взаимосвязи с внешней средой. Можно рассматривать системы как откры-тые или закрытые, учитывать их взаимодействие со средой или нет. Реальную же сложную развивающуюся систему отличает не сама по себе открытость, а наличие специальных ме-ханизмов самоадаптации и защиты, присущих именно системе, а не окружающей среде. Первые позволяют ей перерабатывать и использовать сигналы, поступающие извне, для собственного самовоспроизводства и развития. Вторые предохраняют систему от проник-новения сигналов, переработать и усвоить которые она не в состоянии [10, c. 24].
Для развития системе нужна открытость. Но для защиты от агрессии среды не в меньшей степени ей требуется и закрытость. Следует говорить, как минимум, о трех не-обходимых факторах развития системы:
1) ее внутреннем механизме адаптации; 2) ее механизме защиты, или границе, ограждающей систему от сигналов, переработка
которых выходит за пределы возможностей механизма адаптации; 3) внешней среде, поставляющей системе необходимые компоненты для поддержания
механизма адаптации и границы в состоянии эффективной работоспособности, но не подвер-гающей систему воздействиям, которые она не в состоянии ни переработать, ни отразить.
Социальная система, которая как следует, незащищена от лишнего потока информа-ции и энергии может потерять былую целостность и разрушится. Согласно теории Е. Кня-зевой, С. Курдюмова распада можно избежать (или приостановить его), если своевремен-но произойдет переключение системы на HS-режим, в котором осуществляется возобнов-ление процессов «по старым следам». Система начинает «закрывать» себя от внешних воздействий, ограничивать свои контакты, гасить флуктуации, но при этом начинает воз-растать энтропия. Такие процессы наблюдаются во многих сложных системах (например, сон у человека и животных, колебания численности биологических популяций). Для неко-торых систем они только отодвигают окончательный распад, продлевая «жизнь» структу-ры в десятки и сотни раз. Для систем с еще более сильной нелинейностью они могут при-вести к возникновению колебательных режимов, тем самым устраняя саму возможность распада [4, c. 60]. В политической жизни колебательный режим может означать, напри-мер, поочередные периоды радикализма и консерватизма, переходы от более левых настроений (и политических лидеров) к более правым. В этом плане показательна россий-ская политическая жизнь в последнее 20-летие, когда политическая система в процессе своей эволюции проявляла колебательные движения от либерально-демократического ре-жима Ельцина и «управляемой» демократии Путина, до либеральной «оттепели» Медве-дева. Также, этим может объясняться, почему стабильные демократии часто имеют двух-партийные системы.
Второе заблуждение концепции демократизации касается проблем необходимости разнообразия. Разнообразие признается здесь одним из главных критериев существования плюралистической сущности демократии. Изменения, произошедшие на территории нашего государства привели к усложнению государственной структуры, увеличению раз-личных политических течений, появлению различных субкультур и т.д. Так в конце 1990-х гг. из зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ только партий обществен-ного уровня насчитывалось 95 и 155 общественно-политических объединений [8, c. 543]. Впоследствии оказалось, что данные политические институты оказались малоэффективны в организации жизни российского общества. Согласно социологическим замерам деятель-ность структур гражданского общества местных парламентов, судов, профсоюзов и поли-тических партий положительно оценивают от 1,7% до 5,1% россиян. Отрицательно — от 22,8% до 31,1%, причем затруднялись с их оценкой выше 40% опрошенных [7]. «Действи-тельно, признав разнообразие самодостаточной ценностью, да еще придав ему статус не только естественнонаучного закона, но и принципа политического процесса трудно объ-яснить необходимость таких ограничителей, как уголовный кодекс, международное право,
69
мораль, правила уличного движения и даже грамматическая норма. Ведь еще Лао-Цзы за-метил, что социальные нормы — «это средства вытягивать ноги уткам и обрубать журав-лям», т.е. механизм унификации» [6, c. 244]. Представляется неправомерным отдавать несомненный приоритет в организации социума «креативным возможностям хаоса» сводя роль государственного управления к одному из малозначительных факторов социальной организации.
Отечественная социальная синергетика для понимания механизма необходимого мно-гообразия выработала закон иерархических компенсаций, или закон Седова. Краткая фор-мулировка закона такова: в сложной иерархически организованной системе рост разнооб-разия на верхнем уровне обеспечивается ограничением разнообразия на предыдущих уровнях, и наоборот, рост разнообразия на нижнем уровне разрушает верхний уровень ор-ганизации (т.е. система как таковая гибнет). Унификация несущих подсистем как условие совокупной диверсификации составляет существо «вторичного упрощения» [Там же, с. 246]. Проблемы, которые здесь возникают, в каком случае демократическое реформи-рование социальных систем будет иметь конструктивные или деструктивные последствия или, каковы оптимальные объем и жесткость ограничений, превышение которых делает социальную систему громоздкой и контрпродуктивной, может решить социальная синер-гетика.
Таким образом, социальная синергетика представляет собой достаточно эвристичным подход к пониманию процессов модернизации. В этом плане его необходимо учитывать при проведении демократических преобразований в современной России. Во-первых, со-циосинергетика обращает свое внимание на особенности внешней среды, которая может замедлять или ускорять общественное развитие. На примере России видно, что суровые природно-климатические условия не способствуют к переходу на инновационный путь развития. Во-вторых, данный подход поднимает проблему защиты и адаптации россий-ского общества к новым политическим и экономическим изменениям. В-третьих, концеп-ция обращает внимание на необходимость учитывать внутренние особенности реформи-руемой системы, отрицательно относится к социальному экспериментированию.
Список литературы
1. Готово ли российское общество к модернизации. Аналитический доклад. М.: Институт социологии РАН. 2010. 179 с.
2. Ельчанинов М.С. Социальная синергетика и катастрофы России в эпоху модерна. Сер. «Синергетика в гуманитарных науках». М.: Ком книга, 2005. 240 с.
3. Ельчанинов М.С. Структурно-синергетическая концепция социодинамики России: автореф. … дисс. д-ра филос. н.: 09.00.11. Самара, 2009. 44 с.
4. Князева Е., Курдюмов С. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. М.: Наука, 1994. 236 с.
5. Курдюмов С.П., Князева Е.Н. У истоков синергетического видения мира // Самооргани-зация и наука: опыт философского осмысления. М.: Ин-т философии РАН, 1994. С. 162–186.
6. Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории (синергетика – психология – прогнозирование). М.: Мир, 2004. 368 с.
7. Опрос ВЦИОМ: Одобрение деятельности общественных институтов. Опрос июля 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://wciom.ru/ratings-social-institutions/ (дата обращения: 23.02.2014).
8. Политические партии России: История и современность. М.: РОССПЭН, 2000. 631 с. 9. Сулимин А.Н. Роль политических традиций в российском политическом процессе:
монография. Челябинск: Изд-во Метеор-Сити, 2013. 124 с. 10. Шабров О.Ф. Эффективность политического управления (системно-кибер-
нетический подход): науч. доклад дис. д-ра полит. н. М., 1998. 48 с.
70
О.А. ЦЫМБАЛОВА
ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Современное российское гражданское общество является не столько антиподом госу-
дарства, сколько составной частью социума. Оно выступает в качестве основы для фор-мирования государственной машины, действующей в условиях существующей граждан-ской культуры, и наличия групп населения, имеющих негосударственные интересы.
Представители каждого социального слоя в соответствии со своими ценностными ориентирами объединяются в различные гражданские институты, которые представляют собой свободные и добровольные объединения граждан [1, с. 105]. Отчетливо прослежи-вается закономерность: вначале рождается гражданская инициатива, затем она обрастает волонтерами, потом обретает организационно-правовую форму некоммерческой органи-зации. Когда такая некоммерческая организация достигает определенного успеха, а ее де-ятельность начинает принимать форму дифференцированной услуги, ее предоставление становится привлекательным для бизнеса или государство берет оказание этой услуги на себя [2, с. 79].
Гражданские инициативы выражают интересы определенных социальных групп и слоев и фиксируют их автономию внутри гражданского общества. Таким образом, лю-бая существующая государственная организация представляет собой продукт компромис-сов, достигнутых за счет взаимодействия различных гражданских институтов.
В современной России наблюдается рост интереса властных структур и бизнеса к со-трудничеству с гражданскими объединениями, реализующими принцип саморегулирова-ния. Характерной особенностью современного этапа развития государства является пере-дача функций в части формулирования «правил игры» самим агентам отраслевого рынка, участникам бизнес-процесса. Историческая трансформация роли государства состоит в том, что вначале гражданское общество наделяет государство полномочиями по регули-рованию взаимоотношений хозяйствующих субъектов. Затем, по мере упрочения граж-данских институтов, государство начинает возвращать часть своих функций гражданско-му обществу на новой основе [3].
В этом процессе просматривается начало отмирания отдельных функций государства. Форсайт-технология появляется там, где усиливается процесс делегирования полномочий государства гражданским институтам, способным осуществлять саморегулирование.
Форсайт, с одной стороны, наиболее эффективно развивается там, где гражданское общество достаточно структурировано и граждане принимают активное участие в дея-тельности различных социальных институтов, проявляя гражданскую культуру и учиты-вая не только свои партикулярные интересы. С другой стороны, формирование форсайта способствует интенсификации и углублению процессов развития гражданского общества, осознанию пределов и возможностей саморегулирования [4]. Технологическая дорожная карта, воспроизводимая на основе форсайта, станет не очередным бюрократическим до-кументом, а ориентиром в деятельности науки, бизнеса, региональной власти, потребите-лей и гражданских институтов.
В ряду инструментов планирования регионального развития форсайт претендует на особое место. И в основе этих претензий лежат те концептуальные и методические осо-бенности, которые характеризуют данную новацию. В первую очередь ее своеобразие свя-зывают с прокламируемым в рамках современной прогностической идеологии, получив-шей обобщающее название форсайт, принципиально новым отношением к будущему, ко-торое, как считается, надо не столько предсказывать, сколько конструировать в наиболее желаемом варианте. И сердцевиной такого конструирования будущего может и должно выступать его систематическое осмысление. При этом речь ведется не о предсказании ближайших последствий многочисленных рутинных процессов и явлений, а о заглядыва-
71
нии вперед на временную перспективу такой отдаленности, в пределах которой под влия-нием возможных коренных инноваций (социальных, экономических, научно-технических) способны произойти существенные изменения сложившейся ситуации, может сформиро-ваться новый облик будущего. Это требование делает принципиально невозможным ис-пользование подробных количественных прогнозов и предполагает переход к качествен-ному прогнозированию по приоритетным направлениям развития.
Другими словами, форсайт ориентирован на переход от краткосрочного прогнозиро-вания, основанного на изменении сложившихся тенденций, к долгосрочному предвиде-нию, опирающемуся на широкий диапазон экспертных мнений и оценок, на сопоставле-ние различных гипотез по поводу возможных прорывных нововведений и их последствий.
Список литературы
1. Кузьминов Я. Перспективы форсайта в России безграничны // Форсайт, 2007. №1. 2. Сизов В.С. О новой экономике и благе России // Новая экономика: монография;
под. ред. проф. Е.Ф. Авдокушина, проф. В.С. Сизова. М., 2009. С. 79. 3. «Форсайт» Журнал национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» [Электронный ресурс]. URL: http://foresight-journal.hse.ru/2014-8-1.html (дата обращения: 12.11.2013).
4. Калюжнова Н.Я. Обсуждение регионального аспекта Технологического Форсайта на Четвертом Байкальском Экономическом Форуме [Электронный ресурс] // Энциклопе-дия знаний, 2006. URL: http://www.pandia.ru/815936/ (дата обращения: 12.11.2013).
72
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ И ФИНАНСЫ
Т.Б. ВАЙЧУЛИС
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены вопросы реализации стратегии развития банковского сектора
России до 2015 года. Государственная политика по отношению к банковскому сектору направлена на укрупнение и централизацию капитала, что является одной из угроз пре-кращения деятельности региональных банков, ухода с рынка малых банков, снижению возможностей по формированию в банковском секторе конкурентной среды.
Совершенствование банковской деятельности и определение основных направлений развития банков являются одними из ключевых проблем современного экономического развития общества. В последнее время вопросы банковского дела, связанные с величиной и структурой собственного капитала, а также определением его достаточности привлека-ют особое внимание мировой общественности и науки.
От размера собственного капитала банка, его структуры во многом зависят финансо-вые результаты деятельности кредитной организации, а также возможности увеличе-ния вложений в экономику страны и расширения спектра услуг, оказываемых субъектам экономики.
Мировой финансовый кризис 2008 года показал, что в условиях нестабильной россий-ской экономики, размер коммерческого банка или величина его активов не является без-условной гарантией его надежности и устойчивости. Для нормального функционирова-ния банковской системы кредитные организации должны обладать значительно большим объемом собственных средств или капиталом.
Собственные средства банка представляют особую форму банковских ресурсов. Срав-нительно с предприятиями других сфер деятельности собственный капитал коммерческо-го банка занимает незначительный удельный вес в совокупном капитале (приблизительно 8–10%), тогда как у промышленных предприятий этот показатель составляет 40–60 %. В коммерческих банках собственный капитал имеет другое назначение, чем в других сфе-рах предпринимательства. Если в последних это - обеспечение платежеспособности и вы-полнение большинства оперативных функций предприятий и организаций, то собствен-ный капитал коммерческого банка служит прежде всего для страхования интересов вкладчиков и в меньшей мере — для финансового обеспечения своей оперативной дея-тельности [4, с. 24].
Собственные средства обеспечивают банку экономическую самостоятельность и ста-бильность функционирования, они являются тем резервом ресурсов, которые позволяют поддерживать платежеспособность банка даже при утрате им части своих активов [1, с. 91].
В «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года» Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации констатируют необходимость проведения мероприятий по повышению устойчивости бан-ковского сектора и обеспечению динамичного роста совокупных показателей его функци-онирования, увеличению эффективности трансформации банковским сектором временно свободных средств в кредиты и инвестиции и повышению роли банковского сектора в процессе модернизации российской экономики.
Решение поставленных задач требует устранения диспропорций развития регионов России, усугубляющихся неравномерностью обеспечения банковскими услугами, недо-статочной развитостью финансово-кредитного механизма, формирования в банковском секторе конкурентной среды, представленной полным спектром кредитно-финансовых
73
институтов – от крупных банков с государственным участием до малых региональных банков. Государственная политика по отношению к банковскому сектору направлена на укрупнение и централизацию капитала, что является одной из угроз прекращения дея-тельности региональных банков.
Анализ деятельности российских кредитных организаций показывает, что банки, вне зависимости от размера и специализации, пытаются увеличить собственный капитал все-возможными способами. Это, прежде всего, обусловлено требования Банка России к ми-нимальной величине собственных средств и величине нормативов, связанных с достаточ-ностью капитала банка. Центральный Банк РФ принял решение об увеличении минималь-ного собственного капитала кредитных организаций с 1 января 2010 г. до 90 млн. руб., с 1 января 2012 г. до 180 млн. руб., а с 1 января 2015 г. собственный капитал коммерческо-го банка должен быть не менее 300 млн. руб.
Количество банков в России за последние годы постоянно сокращается. В последнее десятилетие произошло усиление процессов реструктуризации банковской системы, кото-рые проявляются в основном в следующих формах: концентрация собственных капиталов и активов, открытие филиалов столичных банков в регионах, отзыв лицензий и ликвида-ция кредитных организаций. Это, в свою очередь, приводит к укреплению позиций круп-ных банков и ликвидации значительной части региональных банков. Самым массовым поводом для отзыва лицензий послужило невыполнение требований по величине соб-ственных средств.
За год, предшествовавший установленному рубежу в 90 млн руб., банки с меньшим размером капитала составляли 90 единиц — 8% общего количества действовавших на тот момент кредитных организаций, которые имели уровень достаточности капитала Н1 — 35%, (в целом по банковскому сектору — 17%). В течение 2009 года ряд банков увеличил капитал, 15 ушли с этого рынка. В 2011 году у 187 банков (18%) собственный капитал не соответствовал уровню в 180 млн. руб. при уровне достаточности капитала около 34% (в целом по банковскому сектору — 18%). На 01.01.2012 г. практически все они увеличи-ли капитал. Четыре кредитные организации перешли в статус небанковских кредитных организаций. Основным источником повышения уровня капитализации банков стали суб-ординированные кредиты. В 2012 году их объем составил более 1 трлн. руб., а капитал банковской системы вырос на 21%.
По состоянию на 01.01.2013 г. в России действует 896 кредитных организаций, из них только у 622 (69% от общего количества банков) собственный капитал превышает 300 млн. руб. При сохранении текущей рентабельности капитала большинство малых бан-ков не смогут преодолеть новую планку по капиталу к 2015 году.
Повышение требований к размеру собственного капитала может привести к уходу с рынка малых банков, а также снижению возможностей по формированию в банковском секторе конкурентной среды.
Региональные банки обладают большим опытом работы в соответствующей сфере банковского обслуживания, хорошо знают местную клиентуру, ее реальные потребности и возможности, обладают большим доверием клиентов. Ликвидация небольших региональ-ных банков приведет к сокращению количества клиентов из числа юридических лиц — небольших местных фирм, предпринимателей, а, возможно, и части крупных по местным масштабам предприятий реального сектора.
Необходимо отметить, что банки с капиталом свыше 1 млрд. руб., формируют почти 96% совокупного капитала банковского сектора. При этом самый низкий уровень доста-точности капитала (12%) отмечен у банков, занимающих лидирующие места по величине активов, тогда как у 274 банков с капиталом до 300 млн. руб. показатель достаточности капитала составляет около 27%.
В целом значение показателя достаточности капитала с 01.01.2011 г. снизилось с 18 до 14%. Поэтому повышение минимального размера собственных средств в условиях сокра-щающегося показателя достаточности капитала не является первоочередной задачей.
74
Проблема определения достаточности капитала банка на протяжении длительного времени является предметом научных исследований и споров между банками и регули-рующими органами. Банки предпочитают обходиться минимумом капитала, чтобы под-нять показатели прибыльности и роста активов; банковские контролеры требуют большо-го капитала для снижения риска банкротства. Одновременно высказывается мнение, что банкротства вызваны плохим управлением и хорошо управляемые банки могут существо-вать и с низкими нормами капитала.
Термин «достаточность капитала» отражает общую оценку надежности банка, степень его подверженности риску. Трактовка капитала как буфера на пути несения убытков обу-славливает обратную зависимость между величиной капитала и подверженностью банка риску. Отсюда вытекает основной принцип достаточности: размер собственного капитала должен соответствовать размеру активов с учетом степени их риска. Вместе с тем ком-мерческие банки всегда учитывают, что чрезмерная «капитализация» банка, выпуск из-лишнего количества акций по сравнению с оптимальной потребностью в собственных средствах — тоже не благо и отрицательно влияет на результаты деятельности банка.
Таким образом, основным принципом модернизации банковской системы должно быть не административное приведение капитала банков к определенным количественным критериям, а повышение их финансовой устойчивости. Сохранение всех жизнеспособных, много лет подтверждающих свою финансовую состоятельность банков, занимающих определенный рыночный сегмент (продуктовый и/или географический), обеспечит конку-ренцию на финансовом рынке, повысит доступность и качество предоставляемых банков-ских услуг, будет способствовать повышению эффективности экономики.
Список литературы
1. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. 2-е изд. М.: Изд-во Юрайт, 2012.
2. Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс]. 2013. №127. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1305 (дата обращения: 12.11.2013).
3. О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г. Правительство Российской Федерации №1472п-П13.
4. Хмарук В.А. Механизмы оценки стоимости и управления собственным капиталом коммерческого банка: дис…к. экон. н. Самара, 2012.
75
В.А. ВАСИЛЬЕВА
СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Вопрос о развитии сельскохозяйственной отрасли в России привлекает всё большее
внимание, поскольку входит в число наиболее острых и требующих безотлагательного решения. Подписание министром экономического развития Э. Набиуллиной протокола о присоединении России к Всемирной торговой организации (ВТО) в декабре 2011г. мно-гими специалистами отрасли воспринимается крайне неоднозначно, особенно это акту-ально для сельских территорий страны. Основной причиной вступления России в ВТО по-служила меняющаяся структура российского экспорта, кроме того, освоение правил ВТО открывает новые возможности для перехода к иной государственной стратегии, предпола-гающей развитие агропромышленного комплекса.
Задолго до присоединения России к ВТО давались различные оценки последствий этого шага. Политики высказывались преимущественно оптимистично, говоря о конку-рентном развитии российской экономики. Практики предупреждали об имеющихся угро-зах и прогнозировали масштабы потерь [1].
Обобщая имеющиеся точки зрения на проблемы, связанные с адаптацией сельского хозяйства России к условиям вступления в ВТО, приведем мнение специалистов ГНУ «ВНИИЭСХ», которые в числе наиболее значимых, выделяют следующие:
В-первых, недостаточность собственных и привлечённых финансовых ресурсов не позволяет в необходимых темпах модернизировать сельскохозяйственное производство и сельхозмашиностроение. Это негативно сказывается на их конкурентоспособности.
Во-вторых, уровень доходности большей части сельскохозяйственных товаропроизво-дителей остается по-прежнему крайне низким. Реализация производимой ими продукции не обеспечивает расширенное воспроизводство, что в конечном итоге препятствует до-стижению целей, определённых Доктриной продовольственной безопасности РФ.
В-третьих, сохраняется неоправданное отставание уровня оплаты труда занятых в сельском хозяйстве от её среднего уровня по экономике страны [1].
Экономические институты Россельхозакадемии оценили возможные потери отече-ственного агропромышленного комплекса в 2013–2020гг. от принятия условий вступления России в ВТО, в среднем они составят по 125 млрд. руб. ежегодно. Таким образом, после принятия правил ВТО отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по сельскохозяй-ственному сырью и продовольствию будет увеличиваться [2]. Это скажется на занятости сельского населения: может быть потеряно, как минимум 200 тыс. рабочих мест. Кроме того, снижение таможенных пошлин и сборов, сокращение налоговых поступлений от сельского хозяйства приведут к снижению доходной части федерального бюджета.
Существующие угрозы обуславливают необходимость выработки инструментов, ори-ентированных на защиту сельскохозяйственной отрасли и обеспечение конкурентного развития экономики России. Большинство хозяйствующих субъектов сельскохозяйствен-ной отрасли не выдерживает конкуренции с иностранными товарами, которые зачастую оказываются более дешевыми и качественными.
Возможно, причиной слабой позиции отечественных сельхозпроизводителей в вопро-се конкурентоспособности является отсутствие четкого представления о том, какие меры необходимо предпринять для увеличения конкурентных преимуществ. Для достижения этой цели требуется не только разработка государственных программ, но и принятие со-ответствующих стратегических решений [2].
Распространение сельскохозяйственной деятельности на новые сферы, расширение ассортимента производимой продукции, видов предоставляемых услуг, расширение гео-графических сфер деятельности представляют собой ничто иное, как диверсификацию. Проникновение сельскохозяйственных предприятий в сферы, которые не касаются прямо
76
производственной деятельности, но дают возможность глубокой переработки сельхозпро-дукции, должны превратить их в сложные многоотраслевые комплексы или конгломера-ты, способные противостоять зарубежным представителям сельского хозяйства.
Можно предположить, что диверсифицированный рост не только положительно ска-жется на развитии и оптимальном использовании внутренних ресурсов предприятий, в том числе и за счет эффекта синергизма, но и существенно сократит их зависимость от какого-либо одного продукта или рынка.
Стратегия диверсификации, основанная на эффекте разнообразия, является перспек-тивным подходом к развитию сельского хозяйства. Вместе с тем она должна носить инди-видуальный характер для каждого предприятия в отдельности и являться результатом тщательного анализа, как внутренних возможностей, так и потребностей рынка. Одновре-менно, нельзя допустить сокращения внутренней поддержки сельского хозяйства ниже существующего уровня в долгосрочной перспективе (не менее 10 лет).
В качестве такого содействия можно назвать целевую программу по поддержке начи-нающих фермеров, которая действует в Астраханской области [3]. В соответствии с дан-ной программой из бюджета выделяются Гранты в целях создания и развития на террито-рии сельских поселений и межселенных территориях крестьянских (фермерских) хо-зяйств, включая приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, а также другие мероприятия по их обустройству и созданию инфраструктуры.
Представляется, что такой вид поддержки является наиболее перспективным, так как не только поможет привлечь и закрепить молодежь в сельской местности, но и заложит осно-вы глубокой переработки сельхозпродукции в рамках развивающейся диверсификации.
Список литературы
1. Вступление России в ВТО: новые вызовы для сельского хозяйства [Электронный ресурс] // Российское предпринимательство. 2010. №12. Вып. 1 (173). URL: http://www.creativeconomy.ru/articles/11204/ (дата обращения: 05.06.2014).
2. О рисках и угрозах обеспечения конкурентоспособности продукции сельского хо-зяйства в условиях присоединения России к ВТО [Электронный ресурс] // Официальный сайт ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хо-зяйства. URL: http://www.vniiesh.ru/news/9651.html (дата обращения: 05.06.2014).
3. Официальный сайт министерства сельского хозяйства Астраханской области [Электронный ресурс]. URL: http://astragro.ru (дата обращения: 05.06.2014).
77
С.В. ЗАЙЦЕВ
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНА
Инвестиционный процесс играет решающую роль в экономике любой страны, в ее
стабильном развитии, как в текущий, так и в перспективный период. Интерес к проблеме инвестиционной привлекательности российской экономики определяется актуальной по-требностью в совершенствовании инвестиционного климата для привлечения инвестиций [7]. Сложность государственного регулирования инвестиционных процессов определяется тем, что управление инвестициями является значимым средством структурного преобра-зования политического, экономического и социального потенциала России, проведения эффективной действенной социальной политики. Необходимо теоретическое обоснование условий реализации стратегии регионального развития и концепции, что позволит повы-сить эффективность.
Проблемы инвестиционного потенциала регионов изучали такие ученые как В.Д. Ан-дриянов [1], В.Ю. Катасонов [10], М.А. Марголин , А.Я. Быстряков [12], И.В. Гришина [8], В.Н. Мякшин [15] и др.
Возрастание значимости инвестиционного процесса привело к необходимости более глубокого исследования и анализа основных направлений совершенствования инвестици-онной политики в России.
Для исследования инвестиционного потенциала Астраханской области были постав-лены и последовательно решены следующие задачи:
– проанализировать основные направления государственной инвестиционной политики; – определить основные методы государственного регулирования инвестиционных
процессов; – выделить направления инвестиционной деятельности в Астраханской области; – изучить условия инвестиционной деятельности в регионе; – внести предложения по совершенствованию инвестиционной деятельности; – сделать прогноз основных направлений инвестиционной деятельности в регионе. Астраханская область – один из наиболее динамично развивающихся регионов РФ.
Выгодное географическое местоположение, высокий уровень экономического развития определили геополитическую значимость региона. Расположение на перекрестке транс-портных путей, развитие промышленности, технический потенциал обеспечивают ей до-минирующее положение среди прикаспийских субъектов Российской Федерации.
Экономика Астраханского края является одной из самых результативных в Южном федеральном округе. С 2002 по 2011 годы индекс промышленного производства вырос на 21,1%, валовой региональный продукт области на 45,2%, платные услуги населению — на 35,4%,. сельского хозяйства — на 66,6%, оборот розничной торговли — в 2,55 раза, грузооборот транспортных предприятий (на коммерческой основе) — на 29%. Индекс промышленного производства составил — 105,1%, темпы роста экономики (по показате-лю ВРП) в 2008 году 107,4%, валовая продукция сельского хозяйства — 114,7%1.
Динамика валового регионального продукта представлена на рис. 1.
1 Материалы сайта «Анализ инвестиционной политики в России». URL: www.park.ru (дата обращения:
01.02.2014).
78
147062,4
100359,2
70127,656710,9
32274,3
28115,7
159092,5
85112,1
50659,840994,9
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Рис. 1. Динамика валового регионального продукта с 2001 по 2010 гг. (млн. руб.)
Из представленных данных видно, что за последние десять лет в регионе проводится политика увеличения валового регионального продукта (общего и на душу населения).
Велика также доля в структуре экономики строительства, рынка труда, сектора рыночных услуг и бюджетного сектора. Стремительное развитие этих отраслей в последние годы опреде-ляется ростом объемов внутреннего спроса. Традиционно для региона важными отраслями яв-лялись предоставление туристско-рекреационных услуг, рыбная промышленность, хотя их до-ля, как в ВРП, так и в структуре занятости пока относительно невелика.
Инвестиционную привлекательность Астраханского региона определяет комплекс геополитических и природных ресурсов.
Астраханская область расположена на пересечении международных транспортных ко-ридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток», что вызывает интенсивное развитие астраханско-го транспортного узла. Транспортная составляющая области имеет разветвленную сеть коммуникаций: автодорог — более 3,4 тыс. км, водных путей — до 1,4 тыс. км, железных дорог — свыше 590 км и 184 км Волго-Каспийского судоходного канала. Особым пре-имуществом региона является возможность интермодальной организации грузоперевозок, позволяющей сочетать достоинства всех видов транспорта.
Уровень занятости населения по области составляет 56,2%, что выше аналогичного показателя по Южному федеральному округу (54,5%), но ниже показателя в целом по России (59,9%). Численность трудовых ресурсов области — 462,9 тыс. человек, что на 1% выше показателя 2010 года. В Астраханской области производится ввод новых рабочих мест. Наибольшее число создано в сельском хозяйстве, промышленности, в материально-техническом снабжении и сбыте. В текущий период голод в кадрах испытывают предпри-ятия государственной формы собственности (68,6%). Проводятся так же различные яр-марки, программы по трудоустройству молодежи. Поэтому наблюдается положительная динамика роста числа занятого населения.
Геоэкономическое положение Астрахани обусловило значительное увеличение инве-стиционных поступлений в регион. В последние годы Астраханская область была одним из лидеров Юга России по объему инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения. Динамика инвестиций в экономику Астраханской области за последнее деся-тилетие отражена рис. 2.
79
Приведенные данные на рис. 2, показывают нам, что объем инвестиций на 2011 г. со-ставил 65 225 млрд. руб., что на 22% выше, чем в 2010 году. Значительное увеличение ин-вестиций в основной капитал обусловлено увеличением капитальных вложений крупными заказчиками: ОАО «Нефтяная компания «Лукойл», ООО «ГазпромдобычаАстрахань», ЗАО, «Каспийский трубопроводный консорциум – Р».
49970
29383
19745
17986
12438
10786
65226
21642
13301
15616
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Рис. 2. Динамика общего объема инвестиций с 2002 по 2011 гг. (млрд. рублей)
Среди районов области наибольшая доля накопленных иностранных инвестиций прихо-дилась на г. Астрахань (72,7%), Наримановский район (14,8%) и Енотаевский район (6,8%).
На первом месте в соответствии со стратегией социально-экономического развития Аст-раханской области до 2020 года, по приоритетам развития лежит повышение качества жизни, на следующем месте формирование туристического кластера и развитие судостроения1.
Распределение общего объема инвестиций по секторам экономики в 2011 году пред-ставлено в таблице 1 и на рис.3.
1 Отчетный доклад Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина на заседании Думы Астраханской
области 26 апреля 2012 г. URL: http://www.jilkin.ru/news/report (дата обращения: 12.04.2014).
80
Таблица 1 Распределение общего объема инвестиций по секторам экономики
Астраханской области в 2011 году (в млрд. руб.)
Первичный сектор Вторичный сектор
Добыча полезных
ископаемых
Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
Обрабатывающие производства Строительство
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
19297 189 480 155 1524 Третичный сектор
Гост
иниц
ы и
рес
тора
ны
Ремо
нт а
втот
ранс
порт
ных
сред
ств,
бы
товы
х из
дели
й,
опто
вая
и ро
знич
ная
торг
овля
; пр
едме
тов
личн
ого
поль
зова
ния
Свя
зь и
тра
нспо
рт
Аре
нда
и пр
едос
тавл
ение
усл
уг, о
пера
ции
с
недв
ижим
ым
имущ
еств
ом
Обя
зате
льно
е со
циал
ьное
обе
спеч
ение
, го
суда
рств
енно
е уп
равл
ение
и
обес
пече
ние
воен
ной
безо
пасн
ости
;
Пре
дост
авле
ние
соци
альн
ых
услу
г и
здра
воох
ране
ние
Обр
азов
ание
570 2039 16614 5634 1121 2019 560
Таким образом, инвестиции в 2011 году распределились следующим образом (см. рис. 3): – строительство — 6%; – образование — 1%; – здравоохранение — 4%; – добыча полезных ископаемых — 35%; – связь и транспорт — 30%; – предоставление услуг, операции с недвижимостью, аренда — 10%; – розничная и торговля оптовая — 4%; – обрабатывающие производства — 1%1.
1Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года. Утверждена по-
становлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П. URL: http://www.jilkin.ru/strategiya/ (дата обращения: 23.11.2013)
81
0%
35%
1%
3%
3%
4%
1%
30%
10%
2%
1%
4%6%
Рис. 3. Распределение общего объема инвестиций по секторам экономики
Астраханской области в 2011 году
Для интегральной оценки ИПР проведем анализ основных социально-экономических показателей Астраханской области за 2010–2011 гг. Результаты интегральной оценки ин-вестиционной привлекательности Астраханской области приведены в табл. 2.
Таблица 2 Результаты интегральной оценки инвестиционной привлекательности
Астраханской области в 2010-2011 гг.
Наименования показателей и их условные обозначения
Интегральный показатель 2010 год 2011 год
РФ Астрахан-ская область РФ Астрахан-
ская область 1 2 3 4 5
А. Показатели инвестиционного потенциала региона 1. Показатели производственно-финансового потенциала региона Объём промышленного производства – (П1) 1,000 0,395 1,000 0,398 Темпы изменения объёма промышленного производства – (П2) 1,000 1,016 1,000 0,970
Уровень развития малого предприниматель-ства – (П3) 1,000 0,709 1,000 0,730
Доля убыточных предприятий – (П4) 1,000 0,860 1,000 0,840 Суммарный объём внутренних инвестицион-ных ресурсов предприятий – (П5) 1,000 0,310 1,000 0,260
Объём розничного товарооборота – (П6) 1,000 0,786 1,000 0,781
82
Экспорт продукции в дальнее и ближнее за-рубежье – (П7) 1,000 0,168 1,000 0,204
2. Показатели социального потенциала региона Обеспеченность населения жильём – (П8) 1,000 0,950 1,000 0,951 Обеспеченность населения легковыми авто-мобилями – (П9) 1,000 0,989 1,000 0,950
Обеспеченность населения домашними теле-фонами и аппаратами сети общего пользова-ния – (П10)
1,000 0,918 1,000 0,914
Обеспеченность населения автомобильными дорогами с твёрдым покрытием – (П11) 1,000 2,000 1,000 2,080
Объем платных услуг для населения – (П12) 1,000 0,505 1,000 0,510 Уровень жизни населения региона – (П13) 1,000 0,658 1,000 0,644 3. Природно-географический потенциал Наличие природных запасов нефти и газа (углеводородных ресурсов) – (П14) 1,000 0,010 1,000 0,010
Наличие природных запасов минерально-сырьевых ресурсов (кроме углеводородных) – (П15)
1,000 0,002 1,000 0,002
Географическое положение региона по отно-шению к внешнеторговым выходам России – (П16)
1,000 0,290 1,000 0,290
Б. Показатели, определяющие региональный уровень социально – политической и эколо-гической безопасности для инвесторов (уро-вень инвестиционных некоммерческих рис-ков в регионе)
Доля малоимущего населения – (П17) 1,000 0,306 1,000 0,242 Уровень преступности – (П18) 1,000 0,736 1,000 0,888 Уровень безработицы – (П19) 1,000 0,593 1,000 0,816 Уровень экологической загрязнённости и дис-комфортности климата в регионе – (П20) 1,000 1,834 1,000 1,833
Отношение населения региона к процессам формирования рыночной экономики – (П21) 1,000 0,882 1,000 0,882
Уровень политической стабильности в реги-оне – (П22) 1,000 1,000 1,000 1,000
В таблице 2 показатели сравнения по РФ приняты за единицу. Учитывая, что средне-
российский показатель принимает максимальное значение, в данном случае 22 (сумма всех 22 показателей). По Астраханской области в 2010 году сумма всех показателей со-ставила 15,917. Соответственно, интегральный показатель инвестиционного потенциала в 2010 г. Астраханской области составил 0,724. В 2011 г. показатель соответственно со-ставил 0,736. То есть, общий потенциал Астраханской области в 2011 г. по сравнению с 2010 г. вырос на 1,6%.
Расчет итогового показателя инвестиционной привлекательности региона производит-ся по формуле:
ИП = Хи * 1/ИР где: ИП — интегральный показатель инвестиционной привлекательности региона; Хи — интегральный показатель инвестиционного потенциала; ИР — средневзвешенный индекс инвестиционного риска региона1.
1 Ройзман И., Бондарева Т. Динамика инвестиционной привлекательности и инвестиционной конкурентоспо-
собности российских регионов в среднесрочной перспективе // Инвестиции в России, 2008. №9. с. 63.
83
Динамика инвестиционной привлекательности Астраханской области по годам приве-дена в таблице 2 и на рис. 4.
7,247
6,654
6,472
7,359
6,781
6,896
7,366
7,6937,864
7,059
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Рис. 4. Динамика инвестиционной привлекательности Астраханской области в 2002–2011 гг. (в млрд. руб.)
Таким образом, проанализировав общую характеристику инвестиционных возможно-стей Астраханской области, можно прийти к следующему выводу: Астраханский регион обладает хорошим инвестиционным потенциалом, который необходимо развивать. Как уже было отмечено выше, инвестиции — это основная стимулирующая сила экономиче-ского роста региона. Они оказывают прямое влияние на рост в соответствующих видах производств и рост BPП.
Используя методический подход, к оценке инвестиционной активности предложенный И.В. Гришиной [8] и другими, можно заметить, что Астраханская область имеет душевой индикатор инвестиционной активности Д = 0,827, темповый индикатор инвестиционной активности Т = 1,012, объемный индикатор инвестиционной активности А=0,678, инте-гральный уровень инвестиционной активности ИА=0,876, средний уровень инвестицион-ной активности и находиться на 12 месте из 17, что говорит о том, что Астраханский ре-гион обладает хорошим инвестиционным потенциалом.
Сводная динамика ВРП, объема инвестиций и объема выпускаемой продукции по от-раслям приведены на рис. 5 и 6.
84
32037
62539
159092,5
147062,4
70127,6
85112,1 100359,2
56117
32325
40255
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2007 2008 2009 2010 2011
ВРП, млн. руб. Иностранные инвестиции, тыс. долл.Линейный (Иностранные инвестиции, тыс. долл.) Линейный (ВРП, млн. руб.)
Рис. 5. Динамика объемов иностранных инвестиций и ВРП за 2007–2011 гг. (с линиями тренда)
13255,1
15007,8
2341,9
4963,3
2897,9
408,1 443,2 415,3
3615,2
2446,7
4795,1
2549,11922,92769
3104,5
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2007 2008 2009 2010 2011
Объём продукции химического и нефтехимического производств, млн. руб.Объём продукции машиностроения и металлообработки, млн. руб.Объём деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного производств, млн. руб.Объём продукции текстильного и швейного, млн. руб.Объём производства пищевой продукции, млн. руб.
Рис. 6. Динамика выпуска продукции обрабатывающих производств Астраханской области за 2007–2011 гг.
Нетрудно заметить, что как в ВРП, так и во всех видах экономической деятельности
наблюдается возрастающий характер линейной функциональной зависимости, т.е. увеличе-ние иностранных инвестиций приводит к росту валового регионального продукта и объемов производства. Рассчитанные коэффициенты корреляции представлены в таблице 3.
85
Таблица 3 Результаты расчетов связи между объемами иностранных инвестиций
и объемом продукции обрабатывающих производств Астраханской области
Показатель Коэффициент корреляции Уравнение регрессии
ВРП, млн. руб. 0,494 y=0,5422x+38991,26 Объём продукции химического и нефте-химического производств, млн. руб. 0,245 y=0,1318x +128,39
Объём продукции машиностроения и ме-таллообработки, млн. руб. 0,442 y=0,0394x+1875,02
Объём деревообрабатывающего и целлю-лозно-бумажного производств, млн. руб. 0,250 y=0,0027x+1063,79
Объём продукции текстильного и швей-ного производства, млн. руб. 0,235 y=0,0016x+135,7
Объём производства пищевой продукции, млн. руб. 0,832 y=0,0442x+673,51
Из данных, таблицы видно, что увеличение иностранных инвестиций на 1 тыс. долл. (в среднем по рассматриваемым годам 29,10 тыс. руб.) приводит в среднем к увеличению ВРП на 0,494 млн. руб. (или 494 тыс. руб.). Можно видеть, что увеличение иностранных инвестиций дает десятикратное увеличение ВРП.
Наиболее сильна связь между иностранными инвестициями и производством пищевой продукции (коэффициент корреляции 0,832) и продукцией машиностроения и металлооб-работки (коэффициент корреляции 0,442). Так увеличение иностранных инвестиций на 1 тыс. долл. приведет в среднем к объёму реализации продукции пищевой промышленно-сти на 44,2 тыс. руб., при условии, что все иностранные инвестиции будут направляться в пищевую промышленность.
Таким образом, результаты расчета доказывают, что при увеличении иностранных ин-вестиций наибольший прирост объема производства (а соответственно, и рост ВРП) будет в производстве пищевой продукции, в связи с чем это направление промышленности мо-жет быть названо приоритетным в Астраханской области для целей поощрения в ней ино-странных инвестиций.
В результате реализации стратегии планируется качественный рост ряда экономиче-ских показателей, в том числе в транспортном секторе, в судостроении; в области добычи и транспортировки газа, который становится одним из определяющих для экономики об-ласти; в традиционном для региона агропромышленного комплекса и др.
Индексы приоритетных секторов экономики Астраханской области в 2010–2015 гг. приведены в таблице 4.
Таблица 4 Индексы приоритетных секторов экономики до 2015 года (в %)
2010 2011 2015 Рыбохозяйственный комплекс 159 296 478 Туристский сектор 241 450 832 Аграрный сектор 150 168 193 Газовый сектор 199 266 355 Судостроение и сервис нефтегазового сектора
328 397 489
Объемы транспортных перевозок 230 335 477
Опираясь на данные таблицы 4, можно сделать вывод о том, что приоритетным направлением экономики до 2015 г. будет являться туризм, по сравнению с 2010 г. вложе-ния данный сектор вырастут в 3 раза, что позволит превратить регион в туристический
86
центр. Второе место в рейтинге приоритетных направлений занимает судостроение и сер-вис нефтегазового сектора. Что касается объёмов транспортных перевозок, то и в этой сфере ожидается значительный рост. Астраханский воднотранспортный узел (АВТУ) яв-ляется основным пунктом для обслуживания и перевалки масштабных транзитных грузо-потоков. АВТУ включает в себя порты Астрахань, Оля и Бузан-порт. В Астраханской об-ласти всего на территории этих портов работают 20 стивидорных компаний, из них 2 – специализируются на перевалке наливных грузов и 18 сухих грузов. Модернизируются железнодорожные станции Аксарайская-1 и Аксарайская-2, через которые к тому же идет постоянно растущий поток грузов на Казахстан. Но будучи весьма перспективным в силу особенностей географического положения для развития транспорта (пассажирский транс-порт – 1,9% ВРП, грузовой – 12,1%), Астраханский регион так и не стал территорией раз-мещения крупного транспортного узла. Более того, конкуренция в сфере перевозок по направлению «Север-Юг» постоянно возрастает. Растет объем морских перевозок тради-ционными путями (через Суэц) и по новому транспортному коридору TRACECA, под-держиваемому ЕС. В целом рост объемов транспортных перевозок в области до сих пор является неустойчивым.
Агропромышленный комплекс занимает последнее место в приоритетных секторах. Вложения в сельское хозяйство не сравнятся ни с судостроением, ни с рыбохозяйствен-ным комплексом.
При создании инвестиционной привлекательности Астраханской области нужно исхо-дить из необходимости: уничтожение слабых сторон и потенциальных угроз для потенци-ального инвестора; активизации и усиление деятельности органов исполнительной власти региона и действующих на его территории предприятий и организаций; максимального использования данным потенциальным инвестором положительного потенциала и ре-сурсных возможностей области.
Организационный механизм управления приоритетными направлениями должен быть реализован по следующим направлениям:
– составление координационных планов ежегодных обособленных действий с други-ми заинтересованными структурами администрации области, организациями — исполни-телями программы;
– создание системы мониторинга реализации программы и обеспечение ее функцио-нирования;
– разработка и реализация научного, методического, информационно-технического и организационного обеспечения реализации программы;
– содействие разработке и реализации мероприятий по выполнению проектов про-граммы на уровне муниципальных образований края;
– разработка и реализация необходимых нормативно-правовых документов об обеспе-чении выполнения программы, а также формирование перечня первоочередных работ и координационных планов;
– ежегодное уточнение, корректировка с учетом выделяемых на реализацию програм-мы финансовых средств, целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизмов реализации программы и состава исполнителей.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: – системный подход составляет основу совершенствования региональной инвестици-
онной политики в Астраханской области, что приводит к решению данной проблемы, со-гласно которой необходимо осуществить комплекс мероприятий, включающих в себя улучшение инвестиционного климата территории, создание более благоприятного имиджа и формирование элементов инвестиционного рынка, совершенствование законодательно-го обеспечения региональных инвестиционных процессов.
– предусматривается интенсивное формирование региональных кластеров в 2013–2015 гг. на базе стратегий развития региона: туристической индустрии, агропромышлен-ного комплекса (в тесной кооперации и специализации с другими регионами Юга России);
87
транспортного комплекса «Север — Юг». При этом структурообразующим фактором формирование среды города Астрахани является создание торгово-транспортного центра.
В соответствии с ключевыми оценками инвестиционной привлекательности предло-жен ряд мероприятий инвестиционной программы, представленной в таблице 5.
Таблица 5 Приоритетные направления развития Астраханской области
Приоритетное направление
Основная проблема
Тип действия РФ Регион Бизнес
Формирование на Каспии россий-ского центра культурного, эко-номического и политического влияния.
Страны Каспия об-гоняют Астрахан-скую обл. по темпам роста в 2 и более раз; дефицит внятных культурных, эконо-мических и полити-ческих российских инициатив на Каспии.
Астрахань — центр российских инициатив на Кас-пии и в Централь-ной Азии; проектное инве-стирование (собы-тийное — 450 лет городу).
Проектное инве-стирование; поддержка новых секторов экономики (научно-инноваци-онный, информаци-онный, образова-тельный, досуг и развлечения, ме-дицинские услуги).
Участие в частно-государственном партнерстве транс-национальных и средних компаний.
Стимулирование роста добычи газа и нефти в Волго-Каспийском бас-сейне.
Ограничение досту-па к существующим инфраструктурам; дефицит инфра-структур.
Обеспечение пра-вовой доступности инфраструктур; приоритеты разви-тия инфраструктур; правовой режим эксплуатации ин-фраструктур.
Привлечение в об-ласть новых субъ-ектов добычи и транспортировки газа и нефти, строи-тельство новых ин-фраструктур, сер-висных компаний.
Разработка новых месторождений; ввод основных фондов и инфра-структуры ТНК.
Развитие транс-портных инфра-структур.
Неустойчивость гру-зопотока; различия в «правовом поле» стран Каспия; не-адекватность инфра-структур Астрахан-ской обл.
Софинансирова-ние завершения текущих транс-портных проектов.
Завершение теку-щих транспортных проектов.
Инвестиции в транспортные ин-фраструктуры.
Модернизация АПК и формиро-вание агрокластера.
Износ оросительных систем; нет рыночного пози-ционирования; размыт бренд; раздроблено произ-водство; нет вертикальной интеграции и специ-ализации.
Софинансирова-ние модернизации мелиоративных систем (знак для инвесторов); водообеспечение зоны подстепных ильменей и малых протоков; защита рынка.
Развитие торговой системы; реализация кла-стерной политики в с/х, переработке и реализации продук-ции; инвестиционный климат; укрепление бренда.
Инвестиции; развитие ритейла; выход на новые рынки и развитие специализации; модернизация и стандартизация производства.
Модернизация рыбопромышлен-ного комплекса, устойчивая экоси-стема, развитие аквакультуры.
Исчерпаемость при-родных ресурсов; устаревшие техноло-гии и стандарты хо-зяйствования; высокая конкуренция теневого сектора.
Ликвидация тене-вого сектора; инвестиции в вос-производство рыбных ресурсов; реконструкция рыбоводных заво-дов и каналов.
Регулирование при-родопользования; борьба с теневым сектором; согласованная кла-стерная политика по отношению к рыбному и турсек-тору; поддержка инве-стиций в проекты в сфере технологиче-ской аквакультуры.
Инвестиции; технологизация; переход на новые стандарты; выход на новые рынки.
88
Формирование туристического кластера.
Риск исчерпания ресурсов; ограничения внут-реннего рынка; моноспециализация; нет стандартов.
Поддержка ком-плекса гостепри-имства в рамках 450-летия Астра-хани; организация ста-туса курортно-рекреационной зоны.
Реабилитация го-родской среды; ежегодное событие международного масштаба; реализа-ция кластерной по-литики.
Организация собы-тия международно-го масштаба; выход на «внеш-ние» рынки; диверсификация; модернизация ин-фраструктуры.
Развитие агломе-рации Астрахани.
Астрахань – самый крупный российский город на Каспии, но не выполняет функ-цию лидера макро-региона; отсутствует страте-гия городского раз-вития; отсутствуют инве-сторы; 17,2% ветхого и ава-рийного жилья; слабые городские инфраструктуры.
Проектное инве-стирование (собы-тийное – 450 лет городу); Астрахань - центр российских ини-циатив на Каспии и Юге РФ; решение пробле-мы ветхого жилья (в т.ч. в рамках программы «Жи-лище»).
Совершенствование терпланирования; проектное инвести-рование; содействие разви-тию ритейла; создание рынка жилья и земли; поддержка новых секторов экономики (научно-инновационный, информационный, образование, досуг и развлечения, ме-дицинские услуги).
Проектное инве-стирование; создание новых бизнесов в сфере рынков жилья и земли; формирование конкурентного сек-тора в ЖКХ.
Повышение каче-ства государ-ственного управ-ления в регионе и муниципальных образованиях.
Недостаточно высо-кая эффективность механизмов расхо-дования бюджетных средств; вероятность дефи-цитности областного бюджета; несовершенство межбюджетных от-ношений.
Содействие ре-форме региональ-ных и муниципаль-ных финансов.
Внедрение БОР; внедрение управле-ния результатами; стимулирование административной и бюджетной ре-формы в муници-пальных образова-ниях; участие в конкурсе на получение суб-сидий из фонда ре-формирования ре-гиональных финан-сов в 2006 г.
Вовлечение в про-цесс бюджетного планирования; участие представи-телей крупнейших налогоплательщи-ков в экспертизе бюджетных про-грамм.
Развитие судо-строения — ры-нок стран Каспия (нефтегазовый сектор, МТК, промышленное рыболовство).
Несовершенство таможенного и нало-гового законода-тельства, в части, касающейся созда-ния нормативно-правовых условий для развития судо-строительной и су-доремонтной про-мышленности.
Совершенствование законодательства; государственные преференции су-достроительству и судоремонту; упрощенный по-рядок разрешения на ремонт воен-ных кораблей стран СНГ.
Привлечение зака-зов; согласование развития с МТК «Север-Юг», нефтегазовым сек-тором и промыш-ленным рыболов-ством.
Проектное инве-стирование.
По мнению автора, к первостепенным приоритетам на современном этапе социально-экономического развития Астраханской области должны быть отнесены следующие: сти-мулирование роста добычи нефти и газа в Волго-Каспийском бассейне, развитие транс-портных инфраструктур, модернизация АПК и формирование агрокластера, модернизация рыбопромышленного комплекса, устойчивая экосистема, развитие аквакультуры, формиро-вание туристического кластера, развитие агломерации Астрахани, развитие судостроения.
Повсеместное обновление основных фондов на основе внедрения достижений научно-технического прогресса в принципиальном плане не может вызвать каких-либо возраже-ний, но из-за недостаточного ресурсного обеспечения реализация этого направления за-
89
труднена, поэтому нуждается в конкретизации: обновление основных фондов в приори-тетных видах экономической деятельности, соответствующих точкам будущего экономи-ческого роста.
Основные проблемы при реализации приоритетных направлений в Астраханской об-ласти могут быть следующие: риск исчерпания ресурсов, ограничения внутреннего рынка, Астрахань – самый крупный российский город на Каспии, но не выполняет функцию ли-дера макрорегиона, отсутствует стратегия городского развития, отсутствуют инвесторы, 17,2% ветхого и аварийного жилья, слабые городские инфраструктуры, несовершенство таможенного и налогового законодательства, в части, касающейся создания нормативно-правовых условий для развития судостроительной и судоремонтной промышленности.
С учетом исследуемой проблемы — обоснования приоритетов реструктуризации эко-номики Астраханской области — необходимо рассмотреть возможность формирования объективных предпосылок для диверсификации предприятий добывающей промышлен-ности по мере повышения ими собственной конкурентоспособности и эффективности функционирования. Тогда устранение структурных диспропорций будет естественным следствием развития наиболее конкурентоспособных видов экономической деятельности на основе освоения ими новой продукции и товарных рынков.
Выход очевиден: межотраслевой перелив капиталов на основе механизма мультипли-катора с учетом баланса развития взаимосвязанных видов экономической деятельности. Например, создание механизма направления доли инвестиций из топливо-энергетического комплекса, который, безусловно, является инвестиционно-привлекательным, в сферы дея-тельности, создающие продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Концентрация капитала в точках, имеющих наибольший мультипликативный эффект, яв-ляется одной из основных задач разработки инвестиционной программы Астраханской обл.
Как показывает анализ, большая часть сфер деятельности имеет не высокую инвести-ционную привлекательность для инвесторов, особенно для иностранных, в силу невысо-кой рентабельности инвестиций, чем обусловлено противоречие между потребностями в инвестициях и инвестиционным предложением.
Инвестор, как правило, ориентируется на цены и рентабельность основных производ-ственных факторов — труда, земли, капитала, поэтому основные инвестиционные вложе-ния направляются в отрасли, в которых их сочетание наиболее выигрышно, универсальной с этой точки зрения является торговля. Наличие в регионе в настоящее время огромного ко-личества торговых предприятий обусловлено относительной дешевой низкоквалифициро-ванной рабочей силой, низкой (по сравнению с производством) капиталоемкостью.
Невысокая инвестиционная активность производственных предприятий по сравнению с торговыми структурами объясняется, наряду с налогами и выгодными условиями вло-жения средств в сферу торговли, такой важной причиной, как различие в управлении тор-говым и промышленным капиталом.
Одним из направлений повышения эффективности Астраханского региона может быть проектное инвестирование, поддержка новых секторов экономики (научно-иннова-ционный, информационный, образовательный, досуг и развлечения, медицинские услуги), привлечение в область новых субъектов добычи и транспортировки газа и нефти, строи-тельство новых инфраструктур, сервисных компаний, развитие торговой системы, реали-зация кластерной политики в сельском хозяйстве, переработке и реализации продукции, привлечение заказов, согласование развития с МТК «Север-Юг», нефтегазовым сектором и промышленным рыболовством.
Для запуска механизма повышения инвестиционной привлекательности в каждом реги-оне необходимо осуществить определение приоритетов и перспектив экономического разви-тия, основанного на максимальном использовании инвестиционного потенциала в соответ-ствии со спецификой конкурентных преимуществ, выбор направлений реструктуризации экономики с опорой на внутрирегиональные, а также заемные источники инвестиций.
90
При создании условий для функционирования механизма повышения инвестиционной привлекательности бюджетные инвестиции (федеральные, региональные, муниципаль-ные) должны выполнять компенсирующую, стимулирующую и регулирующую роли в реализации разработанной стратегии.
Список литературы
1. Андриянов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. М.: Изд-во Экономика, 1999. 662 с.
2. Агеенко А.А. Методологические подходы к оценке инвестиционной привлекатель-ности отраслей экономики региона и отдельных хозяйствующих субъектов // Вопросы статистики, 2006. №6. с. 48–51.
3. Беленькая О. Рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей российской эко-номики [Электронный ресурс]. URL: http://research.finam.ru/special/viewitem01127 (дата об-ращения: 14.05.2014).
4. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. 4-е изд. доп. М.: Олимп, 2007. 456 с.
5. Вахрин П.И., Нешитова А.С. Инвестирование: учебник для вузов. М.: Дашков и К, 2008. 345 с.
6. Вологдин Е.В. Основные методы и подходы к оценке инвестиционной привлека-тельности региона // Очерки о Новосибирском социальном коммерческом банке «Левобе-режный» (ОАО): сб. науч. трудов. Новосибирск: СИФБД, 2005. с. 112–121.
7. Гвоздарева Л.П. Влияние социальной стабильности на уровень частных инвестиций // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. №42. C. 46–51.
8. Государственное регулирование национальной экономики / Редкол.: Е.В. Самофа-лова (отв. ред.) и др. М.: КНОРУС, 2008. 272 с.
9. Гришина И.В. Новый методический подход к оценке инвестиционной активности в регионах Российской Федерации // Региональная экономика: теория и практика, 2013. №19. C. 2–12.
10. Катасонов В.Ю. Инвестиционный потенциал экономики: механизмы формирования и использования. М.: Анкил, 2005. 328 с.
11. Лахматкина Н.И., Подшиваленко Г.П. Инвестиции: учебное пособие для вузов. М.: Кнорус, 2009. 145 с.
12. Макарова М.В. Секреты инвестиционной деятельности: всё об инвестициях. М.: Олимп-бизнес, 2009. 289 с.
13. Материалы официального сайта Министерства экономического развития. URL: www.economy.astrobl.ru (дата обращения: 14.05.2014).
14. Материалы сайта «Анализ инвестиционной политики в России» [Электронный ре-сурс]. URL: www.park.ru (дата обращения: 14.05.2014).
15. Марголин А.М., Быстряков А.Я. Экономическая оценка инвестиций. М.: 2001, с. 357–358.
16. Монин А.А. Книга начинающего инвестора: куда и как вкладывать личные деньги. Питер. 2008. 125 с.
17. Мякшин В.Н. Методология формирования стратегии повышения инвестиционной привлекательности региона // Региональная экономика: теория и практика, 2013. №28. c. 46–55.
18. Орлова Е.Р. Инвестиции. М.: Омега, 2011. 45 с. 19. Отчетный доклад Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина на заседании
Думы Астраханской области 26 апреля 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.jilkin.ru/news/report (дата обращения: 14.05.2014).
91
А.А. ЛЕБЕДЕВА
ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РЕГИОНАХ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Важнейшим институтом любого государства является бюджетная система. Эффектив-
ное функционирование данного института непосредственно оказывает влияние на уровень общественного благосостояния и качество экономического роста. В связи с этим, в насто-ящее время значительное внимание уделяется вопросам, которые касаются бюджетного устройства и бюджетного процесса. Важнейшую роль при этом играет Федеральное каз-начейство.
Основным предназначением казначейской системы является содействие оптимально-му управлению государственными финансовыми ресурсами.
Еще одним немаловажным предназначением казначейства как государственного ин-ститута является обеспечение точного учета государственных финансов. Оно очень важно для регулирования денежных потоков в стране.
Бюджетный процесс — это регламентированная нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению, рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, а также по контролю за их исполнением.
Соблюдение принципов, которые лежат в основе бюджетного процесса, дает возмож-ность правильно составить, утвердить и исполнить бюджет таким образом, при котором средства государства используются экономно и с максимальной пользой для развития об-щества.
К основным принципам организации бюджетного процесса относятся: а) единство и полнота охвата всех доходов и расходов бюджета; б) реальность планируемых бюджетных доходов; в) гласность и публичность разработки проектов и утверждения бюджетов; г) соблюдение бюджетной классификации; д) периодичность бюджетов; е) отражение в бюджете на очередной финансовый год и плановый период социально-
экономической политики, изложенной в Бюджетном послании Президента РФ. Бюджетный процесс в Российской Федерации строится в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Этот процесс состоит из следующих стадий бюджетной деятельности: Первоначально составляется проект бюджета, затем происходит рассмотре-ние проекта бюджета и утверждение бюджета, после этого исполнение бюджета и завер-шается процесс составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета.
Необходимым условием экономического развития и реализации стратегических прио-ритетов развития страны является взвешенная и ответственная бюджетная политика, а также правила и процедуры, которые позволят обеспечить прозрачность, подотчетность и результативность бюджетных расходов.
В связи с тем, что Правительство РФ проводит бюджетную реформу, главной целью при этом является формулировка четких целей развития страны, региона или муници-пального образования федеральными, региональными и местными органами власти, реа-лизуя при этом закрепленные за ними полномочия. Достигнутые результаты должны быть предоставлены обществу, должна обеспечиваться преемственность и предсказуемость бюджетной политики. Вышеперечисленные органы власти должны повышать прозрач-ность своих бюджетов.
Поскольку отсутствует встроенный в бюджетный процесс механизм среднесрочного планирования, а также результативности бюджетных расходов, возникает необходимость коренного реформирования бюджетного процесса. Отсутствие данного механизма связано с разработкой, среднесрочного финансового плана, причем отдельно для каждого бюд-
92
жетного цикла. Бюджетные средства предоставлялись на основе индексации ассигнований прошлых лет без каких-либо ясных критериев отбора финансируемых программ и меро-приятий. Отсутствовали четкие формулировки целей и результатов деятельности, как рас-порядителей, так и получателей бюджетных средств. Присутствовал формальный харак-тер методов, применяемых в программно-целевом планировании. Были ограничены пол-номочия и ответственность распорядителей получателей бюджетных средств.
Соответствие фактических показателей плановым проверялось посредством внешнего контроля, при этом отсутствовали процедуры обоснованности планирования и результаты использования бюджетных средств. Процедура рассмотрения законодательными органами власти проекта бюджета была довольно громоздка. Присутствовала ориентировка на техни-ческие детали, наносящая ущерб оценке и реализации приоритетов бюджетной политики.
Цель реформирования бюджетного процесса это создание условий для максимально эффективного управления государственными финансами в соответствии с приоритетами государственной политики.
В связи с этим, одной из первоочередных задач является обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы. Потребность в фи-нансовых средствах, как правило, превышает возможные ресурсы. Поэтому необходимо просчитывать и предотвращать возможные риски. Принятие финансово-необеспеченных решений, какими бы полезными они не казались, приводит к негативным последствиям для устойчивости бюджета, для сохранения доверия к проводимой финансовой политике государства. В связи с этим решение о формировании расходных возможностей бюджета с учетом понятных принципов и правил, ограничивающих непомерные бюджетные запро-сы, было своевременным и необходимым. Бюджет страны, состоящий наполовину из нефтегазовых доходов, создает чрезмерные риски невыполнения принятых обязательств, учитывая рецессию, возможность обострения кризисной ситуации в еврозоне.
Таким образом, противопоставление бюджетных правил достижению стратегических целей государственной политики неправомерно. Соответственно без долгосрочной сба-лансированности и устойчивости бюджетной системы невозможно достичь ни одной из стратегических целей государственной политики.
Второй задачей является повышение качества формирования и исполнения бюджетов. В 2012 году была создана база для подготовки программного бюджета. Таким образом, необходимы структурные преобразования, проведение реформ в отрасли, что должно дать больше эффекта, чем простое наращивание государственных расходов.
Оценка работы министерств должна основываться на умении эффективно осуществ-лять управление имеющимся бюджетом, а не на умении обосновывать дополнительные потребности в бюджетных ассигнованиях. Необходимо повысить требования к финансо-во-экономическим обоснованиям предлагаемых решений, начиная от конкретных проек-тов и заканчивая законодательными инициативами. Сегодня стала распространенной практика подачи заявки на дополнительные ресурсы для реализации решений, которые уже были ранее согласованы и утверждены с конкретным объемом ресурсов. При этом ответственность за то, что в течение реализации того или иного проекта стоимость возрас-тает в 2–3 раза и более, никто не несет. Такие ситуации не менее серьезное нарушение бюджетной дисциплины, чем нецелевое использование бюджетных средств.
Третья задача — обеспечение прозрачности и открытости государственных и муници-пальных финансов. В 2012 году по индексу открытости бюджета Россия вошла в десятку лучших стран мира. В настоящее время это самое высокое место России во всех междуна-родных рейтингах. К 2018 г. планируется войти в первую пятерку стран. Для этого в 2013 году и по сей день продолжается формирование информационной системы «Элек-тронный бюджет», это позволит сделать абсолютно прозрачными действия участников бюджетного процесса, а также позволит в будущем многократно увеличить операционную эффективность государственного управления, в том числе за счет специализации функ-ций. В перспективе, возможно, передать функции по централизованному ведению бухгал-
93
терского учета в федеральных органах исполнительной власти и казенных учреждениях Федеральному казначейству. Это один из основных путей повышения эффективности бюджетных расходов. В 2013 году был введен в эксплуатацию единый портал бюджетной системы, на котором будет размещаться систематизированная актуальная информация о формировании исполнения всех бюджетов бюджетной системы — от федерального до местных. Гражданам представится возможность видеть бюджет в доступной и понятной форме.
Основной объем исполнения федерального бюджета на сегодняшний день принадле-жит органам Федерального казначейства.
Управление Федерального казначейства по Астраханской области на стадии исполне-ния бюджета выполняет ряд основных процедур. Управлением открываются и ведутся лицевые счета, со средствами бюджетных учреждений проводятся кассовые операции, а также проводится кассовое обслуживание по исполнению федерального бюджета. В ре-зультате организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам фи-нансирования дефицита федерального бюджета, доводятся бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, а в случае реорганизации участников бюджетного процесса происходит их передача. Управлением проводится санкционирование по оплате денежных обязательств получателей бюджетных средств и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.
Задачи, стоящие перед Управлением Федерального казначейства по Астраханской об-ласти, постоянно усложняются. С каждым годом происходит изменение и детализация за-конодательных и нормативных актов, которыми регламентируется казначейское исполне-ние федерального бюджета РФ, что напрямую касается деятельности УФК по Астрахан-ской области.
В части организации бюджетного процесса следует провести следующие меро-приятия:
1. Повышать качество кассового обслуживания исполнения бюджетов государствен-ных внебюджетных фондов Российской Федерации.
Одной из основных функций, выполняющих Федеральным казначейством, является кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. А это свыше 23 тыс. бюджетов и более 180 тыс. лицевых счетов. Кассовое обслуживание это такое направление деятельности казначейства, в котором всегда есть что улучшить. Например, в 2013 году обеспечивалось предоставление выписок из лицевых счетов клиен-тов до 10.30 часов утра следующего дня. Начиная с июня того же года было обеспечено формирование отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в рамках феде-ральной адресной инвестиционной программы (ФАИП).
Кроме того, совместно с Министерством финансов Российской Федерации была про-ведена большая работа по переходу финансовой системы на классификатор ОКТМО (об-щероссийский классификатор территорий муниципальных образований), взамен применя-емого ОКАТО (общероссийский классификатор объектов административно-территориаль-ного деления).
Необходимо совершенствовать механизм электронного санкционирования расходов. В результате выполнения текущей работы, в основе всего лежит бумажный документ.
На нем есть печать и подпись. А электронный документ — это его копия в формате «pdf». Документы, поступившие от поставщиков — счета, накладные, акты на бумаге или в «pdf» формате, сверяются со сканкопией, а затем вручную заносятся в информационные системы УФК. Всё это является непродуктивной тратой времени, дополнительной нагруз-кой на специалистов. В связи с этим необходимо разработать и утвердить электронные формы документов, позволяющие вносить данные в электронном виде. Документ должен поступать в казначейство в электронном формате и автоматически загружаться в инфор-мационные системы. Для этого потребуется обеспечить юридическую значимость элек-тронного документооборота.
94
В прошлом году были выработаны основные подходы для реализации этого механиз-ма. Разработана универсальная форма документа, разработана схема информационного взаимодействия. Этот механизм был протестирован на примере Федерального казначей-ства как главного распорядителя бюджетных средств.
2. Разрабатывать и внедрять механизм осуществления электронного санкционирова-ния (автосанкционирования) оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств на основании унифицированной электронной формы документа, подтверждающе-го возникновение денежных обязательств.
3. Совершенствовать механизм предоставления из федерального бюджета межбюд-жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
4. Развивать официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).
5. Обеспечить развитие программно-технических средств Государственной автомати-зированной системы «Управление».
6. Создать и развивать единый портал бюджетной системы Российской Федерации (budget.gov.ru), реализовывать представления федерального бюджета, бюджетов субъек-тов РФ в доступной для граждан форме.
7. Разрабатывать нормативно-справочную информацию на основании системы «Электронный бюджет».
В бюджетном послании Президента РФ от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014–2016 годах» поставлены задачи на очередной бюджетный цикл, среди которых особое внимание отводится необходимости повышения прозрачности бюджетов и бюджетного процесса, а именно: введение в эксплуатацию единого портала бюджетной системы; фор-мирование интегрированной информационной системы «Электронный бюджет»; разра-ботка и публикация брошюры «Бюджет для граждан».
Необходимо отметить, что подходы, направленные на повышение прозрачности и до-ступности информации о бюджетах бюджетной системы РФ, постоянно совершенствуют-ся. Последние новации в содержание принципа прозрачности и доступности информации о бюджетах были введены Федеральным законом от 07.05.2013 г. 104-ФЗ в части обеспе-чения доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной се-ти Интернет на Едином портале бюджетной системы РФ (ЕПБС). Создание и ведение данного портала — бюджетное полномочие Федерального казначейства. ЕПБС является составной частью «Электронного бюджета», обеспечивая при этом доступность информа-ции о финансово-хозяйственной деятельности публично-правовых образований и госу-дарственных внебюджетных фондов для граждан. В настоящее время ЕПБС работает в тестовом варианте www.budget.gov.ru.
Публикуемая в открытых источниках информация позволит гражданам составить представление о направлениях расходования бюджетных средств и сделать выводы об эффективности расходов и целевом использовании средств.
Не смотря на то, что продолжающаяся модернизация системы управления обществен-ными финансами Российской Федерации требует значительных затрат, всё же она поло-жительно сказывается не только на организации бюджетного процесса, но и оказывает по-ложительный эффект на общество в целом.
Во-первых, имеет место инновационный эффект, который находит свое отражение в применении новаций в организации деятельности органов Федерального казначейства. Такими новациями выступают: реформирование системы бюджетных платежей (ГИС ГМП); санкционирование расходов, в части исполнения федерального бюджета; автосанк-ционирование, позволяющее экономить время и стоимость обрабатываемых документов.
Во-вторых, в результате проведения мероприятий, улучшающих деятельность УФК по Астраханской области в организации бюджетного процесса в РФ, наблюдается информа-ционный эффект, который образуется в результате внедрения в деятельность современных
95
информационных систем и технологий, повышающих уровень прозрачности бюджетов и бюджетного процесса. Так, например, развитие интегрированной информационной систе-мы «Электронный бюджет», а также внедрение в эксплуатацию единого портала бюджет-ной системы, позволят в доступной форме, своевременно и оперативно информировать население о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах ис-пользования бюджетных средств.
В-третьих, социальный эффект. Поскольку граждане будут иметь представление о направлениях расходования бюджетных средств, позволяющее им делать выводы об эффективности расходов и целевом использовании средств, что во многом определяется как положительный эффект.
В совокупности данные эффекты положительным образом окажут влияние не только на организацию бюджетного процесса в Астраханском регионе, но и на бюджетную си-стему страны в целом.
Список литературы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изм. от 03.02.2014. 2. Бюджетное Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике
в 2014–2016 гг. 3. Федеральное казначейство: официальный сайт казначейства России [Электронный
ресурс]. URL: http://www.roskazna.ru (дата обращения: 18.04.2014).
96
С.Р. МУРАВЬЁВ
ХАРАКТЕР СВЯЗИ ИНФЛЯЦИИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Исследования зависимости между уровнями инфляции и безработицы в последние го-
ды не получили распространения, а в тех работах, где эта связь была рассмотрена, авторы приходят к противоположным выводам, поскольку имеют неодинаковые точки зрения на природу инфляции в России и используют различный набор данных. Между тем, именно понимание характера этой связи позволяет прогнозировать последствия изменений в ме-тодах макроэкономического регулирования.
Поэтому задача данной статьи заключается в анализе и объяснении зависимости меж-ду темпами инфляции и уровнем безработицы для экономики России в 2000-е годы.
Напомним, что в 1958 г. на основе данных, характеризующих рынок труда в Англии на протяжении 1861–1957 гг., А. У. Филлипс вывел эмпирическую кривую, получившую название «кривой Филипса». Первоначально кривая отражала зависимость между темпа-ми роста номинальной заработной платы и уровнем заработной платы, а ее модифициро-ванный вариант, который предложили П. Самульсон и Р. Солоу при анализе данных по США, — между темами роста цен и уровнем безработицы.
Большинство экономистов приняло как факт, что кривая Филипса в краткосрочном и среднесрочном периодах предлагает политикам выбор соотношений между инфляцией и безработицей. Используя инструменты денежно-кредитной и фискальной политики можно воздействовать уровень безработицы за счет изменения темпов инфляции. Однако в долгосрочном периоде при росте издержек на ресурсы и при корректировке ожиданий экономическими агентами удерживать безработицу ниже естественной нормы можно только за счет ускорения инфляции. Естественная норма предполагает ее изменение во времени‚ поскольку она детерминирована институциональными особенностями рынка труда (роль профсоюзов, система переподготовки кадров, инфраструктура, социальные гарантии).
Теоретическое объяснение зависимости предложили М. Фридмен и Э. Фелпс (а вслед за ними и большинство других экономистов): инфляция и безработица зависят от сово-купного спроса, увеличение которого временно снижает безработицу и увеличивает ин-фляцию.
В период роста совокупного спроса именно падение реальной заработной платы в ре-зультате опережающего роста отпускных цен на продукцию по сравнению с ростом номи-нальной заработной платы побуждает предпринимателей увеличивать занятость. В свою очередь, работники принимают рост номинальной заработной платы за повышение реаль-ных доходов. И только потом происходит адаптация к новому темпу роста цен: повышают-ся инфляционные ожидания, и безработица растет. Из этого следует, что выпуск (а значит, и уровень безработицы) меняется, когда фактический уровень цен больше ожидаемого.
В этом аспекте представляется важным вопрос о выборе инструмента измерения ин-фляции. Обычно в зарубежной учебной и методологической литературе не уточняется, о каком индексе цен идет речь при построении кривой Филлипса — индексе потребитель-ских цен (англ. CPI; далее — ИПЦ) или индексе-дефляторе ВВП. В отличие от индекса потребительских цен, в расчет индекса-дефлятора не включаются цены на импортные то-вары, но включаются, помимо цен потребительских товаров и услуг, произведенных на территории страны, также цены на конечные товары и услуги, не предназначенные для потребления домашних хозяйств. Среди этих цен, например, цены производителей про-мышленных товаров (далее ИЦПП).
В зарубежной литературе считается, что ИПЦ несколько лучше подходит для измере-ния стоимости жизни, а индекс-дефлятор даёт более точное представление об общем уровне цен в экономике, но за годовой период или чуть больше они дают похожую карти-
97
ну изменений в уровне цен. Действительно, данные по США и Великобритании за 2002–2011 гг. показывают, что в среднесрочном периоде эти индексы значительно не расходят-ся. Но, например, в России в 2000-е гг. существовала та особенность, что на длительных временных интервалах индекс-дефлятор значительно превышает ИПЦ. Так, в период 2000–2007 гг. уровень цен, измеряемый ИПЦ, вырос в 2,55 раза, а индексом-дефлятором — в 3,97 раза. Кроме того, если принимать в расчет объяснение кривой Филлипса через модель «совокупный спрос — совокупное предложение», то адекватным измерителем яв-ляется индекс-дефлятор. Наконец, с учетом различий в индексах следует помнить, что спрос на труд зависит от реальных издержек предпринимателей на этот фактор производ-ства. Эти реальные издержки определяются условиями роста цен на продукцию фирм. Рост цен на потребительском рынке важен только в связи с необходимостью индексации оплаты труда в период инфляции.
Поэтому для определения реальных издержек на труд и реальной заработной платы в промышленности правильнее использовать индекс цен производителей промышленных товаров (ИЦПП), а в экономике в целом — индекс-дефлятор (на этот факт одним из пер-вых среди российских экономистов указал Р.И. Капелюшников).
Экономика США в период 1961–1969 гг. продемонстрировала почти идеальную отри-цательную зависимость между инфляцией и безработицей: в этот период бума уровень безработицы снижался, а инфляция устойчиво росла. Но в 1970–1990-ее гг. в экономиках промышленных стран обнаружился значительный разброс данных, характеризующих связь инфляции и безработицы (безработица измеряется во всех странах по методике Международной организации труда — МОТ). На больших временных интервалах наблю-далась положительная зависимость между этими макроэкономическими переменными. Крах системы обменных курсов, нестабильность инфляционных ожиданий, резкое повы-шение мировых цен на нефть, сопровождающееся стагфляционными процессами, привели к нарушению закономерностей, которые отражала кривая Филлипса.
Но, например, для США отрицательная зависимость все же проявлялась в статистиче-ских данных, даже если ожидаемая инфляция и естественный уровень безработицы изме-нялись. Так, зависимость имела место в 1982–1983 гг. после попытки ФРС снизить ин-фляцию с помощью жесткой монетарной политики: инфляция была существенно ниже ожидаемой, а циклическая безработица — высокой [1, С. 565].
Это и другие объяснения связи инфляции и безработицы в аспекте особенностей национальной экономики способствуют пониманию того, почему в странах с различными механизмами формирования денежной политики и заработной платы шоки спроса и пред-ложения приводят к различным последствиям для уровня безработицы.
Исследование зависимости «инфляция-безработица» на основе построения диаграмм для США и Великобритании (период 2002–2011 гг.) показывает, что использовании в ка-честве переменной ИПЦ и индекса-дефлятора дает схожие результаты. В 2000-е гг. четкой долгосрочной отрицательной зависимости, подобной кривой Филлипса, в экономиках этих стран не прослеживается. В среднесрочном периоде зависимость Филлипса проявля-лась в США в 2003–2005 гг., когда инфляция ежегодно росла, а уровень безработицы снижался, и в период рецессии 2007–2009 гг., когда дефляция сопровождалась увеличени-ем безработицы. Классические закономерности в 2000-е гг. практически не проявлялась в Великобритании.
Следует учесть, что до начала рецессии в США (2007 г.) в 1990-е и 2000-е гг. в сред-нем каждую неделю ликвидировалось 540 тыс. рабочих мест и создавалось около 580 тыс. новых мест. Правительство активно стимулировало перераспределение рабочей силы в новые, более производительные и более высокооплачиваемые отрасли [2, С. 132]. Такая активная политика занятости поддерживалась ростом совокупного спроса, как и в 1960-е годы.
Кроме того, между режимами денежно-кредитной политики, которой придерживается ФРС США и Банк Англии, существует различие. ФРС в качестве основных монетарных
98
переменных таргетирует денежную массу и процентные ставки, тогда как Банк Англии таргетирует инфляцию. Режим таргетирования инфляции, переход к которому Банк Рос-сии обещает завершить к 2015 г., предполагает широкую информированность экономических субъектов центральным банком о темах изменения цен, что воздействует на инфляцион-ные ожидания хозяйствующих субъектов. Если население доверяет действиям централь-ного банка и правительства, то расширения спроса на рабочую силу, как и предполагает концепция рациональных ожиданий и долгосрочная кривая Филлипса, не происходит.
Конечно, по данным, касающимся только двух стран, сложно делать выводы, но в це-лом можно сказать, что в стране с курсом на таргетирование инфляции (Великобритания) отрицательная связь между инфляцией и безработицей выражена слабо, или не выражена совсем.
Банк России до финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. фактически пресле-довал две мало совместимые цели: во-первых, противодействие укреплению курса рубля в условиях перманентного роста мировых цен на нефть (до августа 2008 г.) для поддержа-ния ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем рынке; во-вторых, необходимость снижения уровня инфляции и инфляционных ожиданий. В эти годы бюджетная политика носила проциклический характер: расходы росли вместе с ростом экономики, что не способствовало сдерживанию инфляции, но позволяло государ-ству восстанавливать утраченные в 1990-е гг. позиции и функции в развитии экономики.
Несмотря на последовательную дезиинфляцию (ежегодное снижение темпов инфля-ции, измеряемой ИПЦ) Банк России пришел к выводу, что политика таргетирования ва-лютного курса себя не оправдала, и на 2007 год обозначил главную задачу — борьбу с инфляцией. Однако последующий спад 2008–2009 гг. заставил временно отступить от курса на инфляционное таргетирование и вернуться к нему в полной мере только в 2011 г. Заметим, что индекс-дефлятор и особенно ИЦПП в 2000–2006 гг. изменялись непоследо-вательно, и в отдельные годы увеличивались.
Не многие специалисты придерживались перед кризисом точки зрения, согласно ко-торой высокий уровень инфляции в России определяется монетарным фактором.
Действительно, сопоставление роста М2 и цен не позволяет говорить об их прямой связи и чисто монетарном характере инфляции: прирост денежной массы в два-четыре раза превышал уровень инфляции. Тем не менее, следует учесть, что было бы неверно в качестве доказательства немонетарного характера роста цен использовать данные о го-довой корреляции индексов цен и индексов роста денежной массы (агрегата М2). В отли-чие от прямых факторов роста цен — тарифов, курса рубли, цен на продовольствие — из-менение денежной массы должно оказывать влияние на цены с некоторым лагом. Это подтверждается расчетами ряда специалистов: связь изменения М2 и инфляции в россий-ской экономике проявлялась в лагом около 12–16 месяцев в 2007–2009 гг. и с лагом в 8 месяцев в 2011–2012 гг. [3, С. 11].
По мнению ряда экономистов, указывающих на немонетарный характер инфляции, главным фактором инфляции издержек в России выступают избыточные издержки есте-ственных монополий, в том числе сверхвысокая заработная плата в этих отраслях. Такой подход не согласуется с общепризнанным мнением представителей ведущих экономиче-ских школ, согласно которому инфляция‚ вызванная ростом издержек производства‚ невоз-можна до тех пор‚ пока она не будет поддержана увеличением массы денег в обращении.
Конечно, инфляция издержек имела место на всем протяжении 2000-х гг., определяя скачки цен в отдельные годы, но при этом она поддерживалась ростом денежной массы, объемами кредитования и уровнем правительственных расходов, то есть факторами роста совокупного спроса. Инфляция спроса и инфляция издержек дополняли, чередовали друг друга в факторах роста цен. Можно согласиться со следующим выводом: в экономике России проявляются все основные виды инфляции. Структурная инфляция и инфляция издержек определяются наличием естественных монополий и административным регули-рованием цен и тарифов. Импортируемая инфляция связана с ростом цен на импортируе-
99
мые товары. Например, в 2011–2012 гг. рост цен на продовольствие наряду с другими факторами способствовал повышению роли немонетарных факторов инфляции с 20% в 2011 г. до 36% в 2012 г. [3, С. 9].
Эти рассуждения о многофакторном инфляционном процессе представляются важны-ми при анализе связи между темпами инфляции и изменением уровня безработицы в рос-сийской экономике.
Среди основных факторов, определяющих спрос на труд в России в 2000-е гг., следует провести анализ изменения затрат организаций на рабочую силу.
Анализ показывает, что инфляция, определенная по дефлятору ВВП, значительно обесценивала номинальную заработную плату, но все равно рост реальной заработной платы в 2,37 раза за 2000–2011 гг. был выше, чем рост производительности труда — в 1,59 раза. Это должно было существенно повысить затраты на рабочую силу и снизить спрос на нее. Но этого не происходило, поскольку при этом следует принимать в расчет изменение удельных издержек на рабочую силу, связанную с социальными выплатами ра-ботодателей и обязательными страховыми выплатами.
Среднемесячные затраты организаций на рабочую силу, хотя и росли в реальном вы-ражении к уровню 2002 г., были ниже роста реальной заработной платы, определенной по дефлятору ВВП, что показывает их соотношение — 0,89 в 2005 г. и 0,87 в 2007 и 2009 го-дах (расчеты автора по данным Росстата). Отношение изменения реальных затрат на ра-бочую силу к изменению производительности труда в эти годы также показывает, что из-менение затрат было меньшим, чем рост производительности, и сравнялось только в кри-зисный 2009 г. Поэтому спрос на рабочую силу, проявляющийся в росте занятости не снижался в докризисный период. И этому во многом способствовали следующие факторы: расширение занятости в сфере услуг и строительстве, рост отпускных цен на продукцию организаций, проявлявшийся в высоком значении ИЦПП и дефлятора ВВП, а также сни-жение ставки страховых взносов в 2005 г. с 36,5% до 26% и высокий объем теневой зара-ботной платы.
Учитывая, что реальные издержки на труд снижались во многом благодаря опережа-ющему росту ИЦПП и дефлятора ВВП по сравнению с ИПЦ, можно предположить, что между приростом цен и уровнем безработицы также должна была существовать тесная отрицательная связь. Но она могла «затеняться» под влиянием неценовых факторов изме-нения спроса на труд:
– повышения тарифов на коммунальные услуги (отрицательный фактор спроса на труд);
– снижением ставок страховых взносов в 2005 г. (положительный фактор спроса на труд) и их повышением в 2010 г. с небольшим сокращением в 2012 г. (отрицательный фактор спроса на труд);
– ростом числа экономически активного населения в условиях спроса на труд (отрица-тельный фактор для сокращения безработицы).
Анализ факторов инфляции и безработицы позволяет интерпретировать характер свя-зи между инфляцией и безработицей в российской экономике. При этом следует заметить, что этой проблеме посвящено немного научных работ. В тех же работах, где эта связь рас-сматривается, ценовая составляющая определяется через индекс потребительских цен. Этот неверный выбор позволил некоторым экономистам на основе анализа данных за 2004–2008 гг. сделать другой вывод: опыт 2004–2008 гг. показывает, что в России правило свое: с возрастанием уровня инфляции увеличивается уровень безработицы, и наоборот.
Действительно, при использовании ИПЦ, связь «инфляция — безработица» на кратко-срочных и среднесрочных временных интервалах (что собственно и является основой корреляции и причинно-следственной связи) в этот период почти не просматривается. По-этому следует построить кривую Филлипса для экономики России, используя в качестве уровня инфляции показатель дефлятора ВВП (рис. 1).
100
2009
2003
2002
2004
2010
2005
20062011
2008
2007
0
5
10
15
20
25
5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
уровень безработицы, %
изм
енен
ие и
ндек
са-д
ефля
тора
, %
Рис. 1. Связь между инфляцией (по дефлятору ВВП) и уровнем безработицы (по методике МОТ) в России в 2002–2011 гг. (Источник: данные Росстата)
Кривая Филлипса на рис. 1 построена так, как она обычно представлена в учебниках
по макроэкономике. Убедительной отрицательной связи за 10-летний период не просле-живается. Но в тоже время следует учитывать выводы концепции долгосрочной кривой Филлипса, согласно которой отрицательная связь между темпами инфляции и уровнем безработицы имеет место в условиях близких к полной занятости только в краткосрочном и среднесрочном периоде. Построим кривую Филлипса для более коротких интервалов времени. На рис. 2 связь «инфляция-безработица» представлена за период 2002–2006 гг.
2006
20052004
2002 2003
8
10
12
14
16
18
20
22
7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4
уровень безработицы, %
деф
лято
р В
ВП
,%
Рис. 2. Связь между инфляцией (по дефлятору ВВП) и уровнем безработицы (по методике МОТ) в России в 2002–2006 гг. (Источник: данные Росстата)
Закономерности кривой Филлипса явно прослеживаются на интервале 2002–2004 гг.
В то же время приблизительно одним и тем же темпам роста цен в 2004 г. и в 2005 г. соот-ветствовал различный уровень безработицы.
С 1 января 2005 г. была снижена ставка единого социального налога с 36,5% до 26%, что значительно снизило реальные издержки на рабочую силу для работодателей. Коме того, снижения безработицы в 2006 г. не произошло не только потому, что индекс-дефлятор ВВП составил 115,2% против 119,3% в 2005 г. В это время и численность эко-номически активного населения выросла на 1,6% (1,2 млн. чел.). Важно учитывать высо-кие инфляционные ожидания экономических агентов.
101
Таким образом, при анализе кривой Филлипса для России следует учитывать по воз-можности максимальное количество факторов, оказывающих влияние на цены и уровень безработицы.
Интерес представляет анализ связи между приростом цен и уровнем безработицы в 2008–2011 гг. Из данных, представленных на рис. 1 видно, что в эти годы зависимость между темпами инфляции и уровнем безработицы была строго отрицательной и отражала период спада (рецессии) и оживления в модели делового цикла для российской экономи-ки. В 2009 г. наблюдалось классическое падение совокупного спроса: в номинальном вы-ражении снизились показатели чистого экспорта и инвестиций; в реальном выражении упали фактические расходы на конечное потребление. При высоком инфляционном фоне в российской экономике, подпитываемом резким снижением курса рубля, дефлятор ВВП вырос только на 2%, а реальный ВВП сократился почти на 8%. И, как уже отмечалось, рынок труда отреагировал сокращением спроса на труд и ростом безработицы.
В 2010–2011 гг. благодаря антикризисным программам продолжились тенденции раз-витии экономики России, которые экономисты назвали «экономикой спроса». Поэтому неудивительно, что в период 2009–2011 гг. связь между инфляцией и безработицей была, как предполагает краткосрочная кривая Филлипса, строго отрицательной. Эту связь, в от-личие от предыдущих лет, не нарушали ни индексирование тарифов на услуги естествен-ных монополий, ни рост экономически активного населения.
В условиях посткризисного стимулирования экономика Россия к середине 2012 г. до-стигла состояния, близкого к полной занятости. И снова российская экономика продемон-стрировала в условиях полной занятости разворот от зависимостей кривой Филлипса к положительной связи между инфляцией и безработицей. При низком росте производи-тельности труда расширение внутреннего спроса оказалось возможным только за счет ро-ста занятых. Ужесточение денежно-кредитной политики привело к тому, что темп приро-ста денежной массы (М2) в 2012 г. составил 11,9%, в 2013 г. — 14,6%, тогда как в 2011 г. агрегат М2 вырос на 19,7%, в 2010 г. — на 31,1%.
В 2012–2013 гг. не только на первый план вышли немонетарные факторы инфляции, но и индекс-дефлятор снизился с 115,9% в 2011 г. до 107,5% в 2012 г. и 105,9% в 2013 г. ИПЦ в период 2011-2013 гг. находился в диапазоне 106,1% — 106,6%. Сохранение ИПЦ на этом уровне стало возможным из-за ряда факторов: роста тарифов на коммунальные услуги и продовольствие, а также на импортные товары из-за обесценения номинального курса рубля (30,37 руб./долл. на конец 2012 г., 32,73 руб./долл. на конец 2013 г.). Поддер-жанию высокого потребительского спроса способствовала индексация пенсий, заработных плат в бюджетном секторе.
В это же время в российской экономике снижался индекс производительности труда: 103,8% в 2011 г., 103,1% в 2012 г. и 101,5% в 2013 г. Тем не менее, реальная заработная плата, дефлированная по ИПЦ, росла темпами, превышающими ее индекс в 2010–2011 гг.: в 2012 г. — 108,4%, в 2013 г. — 105,3%.
Такие изменения на рынке труда не могли не сказаться на связи «инфляция-безработица» (рис. 3), которая мало напоминает классическую кривую Филлипса.
102
20102011
2013
2012
56,5
89,511
12,514
15,5
5 6 7 8
уровень безработицы,%
изм
енен
ие и
ндес
а-де
фля
тора
,%
Рис. 3. Связь между инфляцией (по дефлятору ВВП) и уровнем безработицы (по методике МОТ) в России в 2010–2013 гг. (Источник: данные Росстата)
По оценкам Банка России выпуск во 2 половине 2012 г. находился вблизи потенци-
ального уровня, следовательно естественную норму безработицы (ЕСН) можно принять для России на уровне 5,5% в 2012-1013 гг. По сути, экономика России достигла своего «потолка» к 2013 г. но несмотря на рост издержек на труд в экономике в целом, связанных с повышением ставок страховых взносов и опережающим производительность ростом ре-альной заработной платы, безработица сокращалась, а занятость росла: показатель средне-годовой численности занятых вырос на 0,36%, или на 241 тыс. чел. Как можно объяснить этот факт?
Во-первых, снижение ЕНБ по сравнению с докризисным периодом было вызвано ин-ституциональными особенностями рынка труда: минимальная (850 руб. и максимальная (4900 руб.) величина пособия по сохранялась неизмененной с 2009 года.
Во-вторых, экономически активное население не увеличивалось в 2012–2013 гг. и да-же снизилось до 99,9% и 99,8% к предыдущему году, соответственно.
В-третьих, рост реальной начисленной заработной платы в 2012 г. был обеспечен по-вышением бюджетных расходов на эти цели: в государственном управлении и обеспече-нии военной безопасности темп роста составил 122,4%, в образовании — 114,4%), в здра-воохранении — 112,0% (для сравнения: в обрабатывающей промышленности — 107,1%, строительстве — 104,3%).
В-четвертых, следует принимать в расчет реструктуризацию занятости. Рост заработ-ной платы был обеспечен сокращением среднегодовой численности занятых в сельском хозяйстве — на 116 тыс. чел. (1,8%), в обрабатывающих производствах — на 111 тыс. чел. (1,1%), в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, соцстрахо-вании — на 67 тыс. чел. (1,8%), в образовании — на 92 тыс. чел. (1,6%), в здравоохране-нии — на 31 тыс. (0,7%).
В это же время этот показатель вырос на 67 тыс. чел. (1,6%) в добыче полезных иско-паемых, в строительстве — на 168 тыс. чел. (3,1%), в торговле — на 118 тыс. чел. (1,0%), в финансовой деятельности — на 41 тыс. чел. (3,5%), на транспорте и в связи — на 69 тыс. чел. (1,3%), в сфере операций с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг — на 195 тыс. чел. (3,5%).
Из приведенных данных следует, что прирост занятых в экономике и сокращение уровня безработицы были обеспечены расширением занятости в видах деятельности, в основном не требующих высокой квалификации (строительство, торговля), а также в сфе-ре финансовых услуг.
Эти процессы на рынке труда сформировали зависимости, отраженные на рис. 3. В условиях, близких к полной занятости, снижение инфляции (дезинфляция) оборачи-
вается потерями выпуска. Как считают некоторые экономисты, рестрикционная единая денежно-кредитная политика в настоящее время, по сути, означает «курс на уничтожение остатков высокотехнологичных производств и обрабатывающей промышленности»
103
[4, С. 58]. данная политика снижает инвестиционный потенциал, а также ресурсную базу банковской системы [3, С. 12].
Хотя на деле сложно оценить, каков бы был темп роста экономики при сохранении прежних темпов инфляции, очевидны издержки рестрикционной монетарной политики в России, которые проявляются также в снижении качественных характеристик занятости при отсутствии активной структурной политики.
Сама по себе кривая Филлипса позволяет лишь увидеть особенности связи межу тем-пами инфляции и уровнем безработицы в определенной стране. Но наглядно представлен-ный характер этой связи нацеливает исследователей на всесторонний анализ причин той или иной реакции рынка труда на изменения в макроэкономической политике и служит эмпирическим подтверждением или опровержением концепций, касающихся зависимо-стей между макроэкономическими переменными в национальной экономике.
Список литературы
1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5- е изд. СПб.: Питер, 2010. 768 с.: ил. (Се-рия «Классика MBA»).
2. Клипов В. Актуальные проблемы экономической политики США // Вопросы эко-номики. 2013. №5. С. 129–143.
3. Ершов М.В., Татузов В.Ю., Урьева Е.Д. Инфляция и монетизация экономики // Деньги и кредит. 2013. №4. С. 7–12.
4. Жуковский В. Банк России по-прежнему блокирует модернизацию и развитие наци-ональной экономики // Российский экономический журнал. 2012. №5. С. 48–64.
104
В.Г. НИКИФОРОВА
ИНОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «БАНК ВРЕМЕНИ»: СОЦИАЛЬНО-КОРПОРАТИВНАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В середине 90-х годов российская молодежь оказалась заложницей всех социально-
экономических реформ, проводимых в стране: были разрушены некоторые социальные институты; утрачены культурные ценности; определенный урон был нанесен системе об-разования и воспитания молодежи, снизился уровень жизни и платежеспособности насе-ления. Данные процессы усугубились на сегодняшний день ограниченностью средств гос-ударственного и муниципального бюджетов, затронувшей, в первую очередь, социально незащищенные слои населения, то есть молодежь, пенсионеров и нетрудоспособное насе-ление.
Наряду с этим молодое и «стареющее» поколение в России находится в поиске и фор-мировании новой системы и формы социальной поддержки, используя при этом уже апробированные формы социальной помощи населению в зарубежных странах, ибо суще-ствующие нередко малоэффективны, оказываются несвоевременно, носят безадресный характер. Соответственно, в условиях быстрого старения населения и увеличения уровня безработицы в молодежной среде возникает необходимость в разработке нового механиз-ма финансовых отношений для социально незащищенных слоев населения, который бы позволил, с одной стороны, уйти от обмена рублевым (денежным) эквивалентом, а с дру-гой стороны еще более способствовал возрастанию интеграции молодежи и старшего по-коления между собой, усилению внимания инициативам, идущим «снизу».
В условиях товарно-денежных отношений, привычной формулой обращения служит «товар — деньги — товар». Однако, некоторые виды труда (работ, услуг) не поддаются денежной ( стоимостной) оценке. Например, ведение домашнего хозяйства и создание крепкой семьи и воспитание здоровых детей, помощь старикам и инвалидам, озеленение жилого двора, внедрение демократических инструментов власти и социальной справедли-вости в жизнь, достижения экологической самодостаточности микрорайона и региона проживания в целом.
Такого рода труд должен пользоваться заслуженным уважением: для этого разрабаты-вается система его учёта, контроля и форм вознаграждёния. Соответственно, труд нужда-ется в новом определении и количественной оценке, подчёркивающей его значимость.
В результате, между молодыми и пожилыми людьми начинают складываться новые неформальные отношения, благодаря которым осуществляется значительный объем соци-альных услуг нуждающимся. Особенность неформальных отношений заключается в том, что они содержат в себе такие уникальные характеристики, как адресность, мобильность, активный обмен информацией, готовность людей выполнять работу безвозмездно, жела-ние оказывать посильную помощь, взаимную морально-психологическую поддержку.
Участие совместно с Центром межнационального сотрудничества (г. Москва) в рос-сийско-итальянском гранте по проблемам современного женского лидерства и влияния миграционных тенденций позволило нам познакомиться с опытом работы европейских «Банков времени» (БВ) в городе Милане. Идея нам понравилась. Но особенности нашего российского менталитета и стереотипа психологических(общественных) взаимоотноше-ний в быту или на производстве заставили много потрудиться над воплощением идеи «Банка времени» в реальную социально-корпоративную взаимопомощь для студентов и пожилых людей в городе Астрахани, пока в рамках филиала РАНХиГС.
«Банк времени» (БВ) — социальная структура в рамках филиала академии, основан-ная на взаимоотношениях между членами общества, где за один час предложенной услуги клиенту «банка» оказывается час ответной помощи (услуги).
105
Если в условиях товарно-денежных отношений, привычной формулой обращения служит «товар — деньги — товар», то через БВ формула обращения уже другая «товар (услуга) — время — товар (услуга)». Такое время, которое выполняет функцию своеоб-разных денег, называют «бережливым временем» или «бережливым трудом».
Для расчетов за выполненную услугу (работу) используется время (кредитная едини-ца), как наиболее ликвидное средство платежа. Каждый партнер банка предлагает свои услуги, затрачивая свое время, и зарабатывает при этом условные часы. Количество вы-полненных и полученных услуг-часов отражается в условной «чековой» книжке и в элек-тронной базе данных «Банка времени».
Предпосылками создания банка времени стали, с одной стороны, активно действую-щее в академии студенческое самоуправление, обладающее высоким уровнем самоорга-низации и саморегулирования у его членов и позиционирующее себя как элемент граж-данского общества с опытом волонтерской работы. С другой стороны, контингент сфор-мированной вузом (за 20 лет деятельности) системы подготовки, профессиональной пере-подготовки и повышения квалификации кадров для органов власти, как потенциальная корпоративная структура партнеров «Банка времени».
Последняя особенность предопределила состав участников, назовем их партнерами, банка времени. Таким образом, в число партнеров БВ входят:
− студенческая молодежь, получающая базовое образование по очной форме обучения; − работающая молодежь и взрослое население, получающее высшее образование или
вторую специальность по заочной форме обучения, − руководители и специалисты органов государственной и муниципальной власти,
являющиеся слушателями профессиональной переподготовки или краткосрочных курсов повышения квалификации
− так называемые, бабушки, обучающиеся в воскресной «Академии старшего поко-ления» Аф РАНХиГС;
− представители старшего поколения жителей домов микрорайона (бабушки студен-тов академии и их соседи), территориально расположенного по соседству с Академией.
В работу БВ уже вовлечены преподаватели и технический персонал вуза, а также го-товы к сотрудничеству и участию в банке специалисты из органов власти и финансовых структур, являющиеся лекторами читаемых в вузе спецкурсов. В ближайшем периоде планируется привлечение к работе БВ старшеклассников функционирующей при Акаде-мии областной Менеджерской Школы.
Таким образом, все перечисленные категории обучающихся и работающих в филиале идеально вписываются в корпоративное сотрудничество и взаимопомощь при функцио-нировании БВ.
Пока узкокорпоративный (ведомственно и территориально ограниченный) характер деятельности БВ, в рамках Астраханского филиала РАНХиГС, на первых порах объясня-ется имеющимся риском невыполнения ответных услуг, то есть невозврата кредитов от-дельными участниками БВ. Поэтому на крайний случай, при больших задолженностях клиентов банка, напрямую связанных с ВУЗом через образовательный процесс или отдел кадров и бухгалтерию, можно применить к нерадивым клиентам- должникам администра-тивный ресурс.
В условиях низкой платежеспособности населения, особенно социально незащищен-ных слоев населения, и ограниченных финансовых бюджетных ресурсов БВ является ин-струментом решения сложных проблем жизнедеятельности человека:
− банк помогает человеку быть востребованным( особенно пожилым): людям не все-гда нужны ваши деньги — подарите им ваше время и внимание;
− если у вас есть свободное время, то это способ потратить его с пользой; − если вы помогли другим и вам тоже нужна чья-то помощь, БВ найдет соответству-
ющего партнера: биржа труда часто не может найти применения безработным, в БВ это решается легко.
106
Вы тратите свое время, помогая другим, чем можете: кто-то дает консультацию сту-денту по трудной для него дисциплине, тот чинит кран, а третий ухаживает за больным и т.п. Обмениваясь услугами, партнеры привлекают клиентов с ограниченными физически-ми возможностями или финансовыми средствами к самореализации собственных возмож-ностей при оказании помощи другим: создается микроклимат взаимопомощи, ощущения собственной значимости и востребованности, реализуется скрытый личностный потенци-ал каждого участника-партнера. Все как в банке: вкладываем, тратим, копим на депозите. При этом категорией капитала выступает время. Потратили свое время — можно восполь-зоваться помощью других.
Участники(партнеры) — клиенты банка кладут на расчетный счёт не деньги, а время. На депозите копятся часы, потраченные партнерами при оказании помощи друг другу. Развивается волонтерское движение (особенно, молодежи), когда партнеры банка безвоз-мездно (без ответной услуги) сдают свое личное время в «копилку» услуг для пожилых, нетрудоспособных и социально незащищенных клиентов.
Расширение возможностей участников проекта достигается за счет увеличения числа и номенклатурного перечня предлагаемых и требующихся для выполнения услуг (работ) различных категорий участников БВ.
Для регистрации в «Банке времени» участник (партнер, клиент): − заполняет карту с указанием анкетных данных и перечня услуг возможностей и по-
требностей; − проходит собеседование в Совете учредителей, подтверждая (иногда документаль-
но) компетентность в предлагаемых видах деятельности (право на выполнение опреде-ленного вида работ, оказание услуг);
− получает условную «чековую книжку» с присвоением личного «банковского счета». «Банк Времени» имеет электронную базу данных, в которой вы размещаете предло-
жение своей услуги другим участникам инициативы. Количество выполненных и полу-ченных услуг-часов отражается в условной «чековой» книжке партнера и в электронной базе данных «Банка времени».
Придя в офис (или по телефонной связи) в часы дежурства диспетчеров-волонтеров БВ, можно просмотреть виды услуг и попросить координатора помочь вам. При стабиль-ном и кредитоспособном коллективе партнеров обмен услугами может проводиться напрямую между участниками, но через регистрацию чеков в электронной системе Банка.
Зарабатывая кредитные часы времени после каждой, оказанной вами услуги, вы може-те, в свою очередь, потратить их в будущем для себя, выбирая из имеющегося списка предложений.
Чем больше различий в предлагаемых услугах разных категорий участников БВ, тем ак-тивнее и эффективнее его деятельность ввиду расширения спектра их востребованности.
Таким образом, банком времени достигается: − улучшение жизнедеятельности (решение проблемных ситуаций) на основе способа
обмена часа предложенной услуги партнером банка на час ответной помощи( услуги); − повышение уровня жизни корпоративного сообщества при низкой платежеспособ-
ности населения и ограниченных финансовых ресурсах и способах государственной (му-ниципальной) социальной поддержки населения;
− преодоление отчуждения индивидуума (социально незащищенных и нетрудоспо-собных пожилых) от общества через создание каналов сетевой взаимопомощи;
− корпоративная экономия общественно-необходимого времени(затраченного на вы-полнение работ или оказание услуг) посредством создания взаимных отношений, осно-ванных на принципе обмена «время-услуга»;
− привлечение обучающегося и преподавательского сообщества, родителей и парт-неров академии из местного населения к социальному движению взаимопомощи;
107
− устанавливается социальное доверие и связь между поколениями, достигается гар-мония имеющихся потребностей и невостребованных возможностей личности (особенно старшего поколения);
− повышается уровень корпоративной культуры и солидарности инициативных увле-чённых людей, объединённых единой идеей и работающих на всеобщее благо.
За период с начала работы банка наиболее востребованными услугами были консульта-ции по предметам для студентов, различные виды помощи пожилым бабушкам из «Академии старшего поколения» (походы в магазины за покупками, уборка квартиры), хозяйственно-бытовые и дачные работы, обучение работе на компьютере, игре на гитаре и т.д.
Интересной инициативой стали предложения слушателей, обучающихся на курсах профессиональной переподготовки, предоставить студентам рабочие места для прохожде-ния производственной и преддипломной практик с последующим руководством.
Основополагающие принципы банка времени: − каждый человек обладает ценными качествами и имеет значение; − определенные виды работ (услуг) не имеют точной денежной оценки; − при оказании помощи другому помогут и тебе: помощь действует лучше, если она
взаимная. Основные концепции БВ: 1. Ресурсный потенциал — каждый индивидуум может предложить нечто ценное
для общества. 2. Ре-дефиниция труда, поскольку некоторые виды труда (услуг) не имеют количе-
ственной меры оценки и бесценны. Такому труду следует дать новое определение, под-чёркивающее его деятельностную значимость. Для такого труда должен быть организован его учёт и формы вознаграждения.
3. Взаимовыгодность — идея оказания помощи работает лучше в том случае, если подразумевает взаимный интерес для всех участников. Вопрос: «Чем я могу вам помочь?» заменяется на: «Как мы можем помочь друг другу создать мир, в котором нам вместе жить?».
4. Система социального взаимодействия и связей: мы нужны друг другу, группо-вые сети сильней отдельных индивидуумов.
5. Взаимоуважение: каждый индивидуум важен. Уважение подразумевает свободу слова, вероисповедания и всего того, что представляет для нас ценность.
Социальное значение БВ: − повышается уровень социальной активности участников, в первую очередь, моло-
дежи и пожилых людей; − возрастает ценность социума и взаимопомощи; − развивается волонтерское движение (особенно, молодых людей), когда партнеры
банка безвозмездно сдают свое личное время в «копилку» услуг для пожилых, нетрудо-способных и других социально незащищенных участников (клиентов);
− партнер с ограниченными финансовыми средствами учится помогать сам себе; − снижается иждивенческая позиция молодежи при развитии альтруистического под-
хода к участию в деятельности БВ и общественной жизни; − достигается гармония имеющихся потребностей и невостребованных возможно-
стей личности; − повышается уровень корпоративной культуры и солидарности инициативных,
увлечённых людей, объединённых единой идеей и действующих на всеобщее благо; − не денежная оценка, а учет затраченного времени( на производство услуги), как эк-
вивалента труда, позволяет приравнять ценность выполненной работы(услуги) профессо-ра и дворника, и определить их результат.
108
При этом специфическое развитие демографической и гендерной ситуации в регионе и в целом по стране выделяют особенные черты значения БВ для одиноких женщин и по-жилых людей.
Значение БВ для одиноких женщин и пожилых людей микрорайона: − это важный инструмент в налаживании и создании систем связей и социальной ин-
теграции; − формируется позитивная самооценка( «я могу»); − возможность справиться с чувством отчужденности в современном мегаполисе,
понимание двух важных жизненных моментов: я не одинок(а) и я «нужен(а)»; − это значимая составляющая первой фазы по созданию и развитию нового бизне-
са(для женщин); − экономическая польза, используемая для улучшения уровня и качества жизни. PR-технологии, используемые для развития банка времени: 1. Пресс-конференция в вузе о деятельности БВ за прошедший период. 2. Информация о проекте на сайте. 3. Периодическое заслушивание на заседаниях Совета студенческого самоуправления
о ходе реализации проекта с последующим информированием внутривузовского сообще-ства.
4. Информирование и разъяснительная работа о реализации проекта на курсах и в группах обучающихся, а также организация и проведение силами студентов в празд-ничные дни (День Победы, 8 Марта, Новогодние праздники) концертов, литературных ве-черов, конкурсов бардовской песни в Академии старшего поколения с показом презента-ционного материала и демонстрационных фильмов.
4. Выступление на Ученом Совета Аф РАНХиГС с показом презентационного и ре-кламного материала.
4. Распространение рекламного материала через клиентов и партнеров Банка. 5. Почтовый ящик — востребованные и предлагаемые услуги. 6. Периодически обновляемая настенная информация на доске объявлений в Аф
РАНХиГСе: «МОГУ. СРОЧНО. ТРЕБУЕТСЯ». 7. Обмен опытом с коллегами из Нижнего Новгорода и Волгограда. 8. Форум «в контакте» в группах «Аф РАНХиГС», «Жизнь внутри Академии. Честная
компания», «Молодежная Ассоциация тюркских народов «Джиен» на тему: «Взаимопо-мощь или спасайся, как можешь?»
9. Проведение внутривузовского круглого стола на тему: «Взаимопомощь — фактор развития человечества» (организаторы: студенты политологического клуба»).
10. Проведение внутривузовского конкурса студенческих проектов по дисциплине «Связь с общественностью» на тему: «PR-кампания программы патронажной помощи де-тям и волонтерского агентства».
11. Организация и проведение для местного сообщества концертов — информацион-ных рекламных акций по проекту «БВ-копилка социальных услуг» (1 июня, в день защиты детей и в День молодежи в конце июня) в соседствующем с вузом районном парке для де-тей (в районе Жилгородка) с показом презентационного материала и демонстрационных фильмов.
109
В.В. ПЭК, Т.Н. ПЭК
К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ РЕГУЛЯРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА БАЗЕ КОР-ПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ERP-системы, планирование ресурсов предприятия, корпоративные информационные
системы, опытная эксплуатация, промышленная эксплуатация, регулярный менеджмент, стратегия предприятия.
На всех стадиях развития организации набор критериев, с помощью которых оценива-ется качество и результативность управления предприятием, изменяется. То, что было важным на стадии становления организации, отходит на второй план при переходе к ста-бильному функционированию организации. Естественно, что на первоначальном этапе развития (в первую очередь это актуально для малого и среднего бизнеса) в организации отсутствует четкая структура и отлаженные каналы коммуникации. Большинство функ-ций распределяется стихийно или в связи с требованиями внешних условий между всеми сотрудниками, действия которых базируются скорее на энтузиазме и прошлом опыте, чем на должностном регламенте или инструкциях, коммуникации, как правило, осуществля-ются устно, проведение совещаний носит ситуационный характер, отсутствует система контроля принятых решений.
Такая ситуация не может продолжаться долго, По мере роста организации очень ча-сто, несмотря на все старания руководства, происходит снижение эффективности управ-ления из-за того, что увеличивается число управляемых объектов: сотрудников, продук-тов, усложняется содержание процессов, их взаимосвязь и т.д. Данную проблему можно решить, например, с использованием методов регулярного менеджмента.
Анализ публикаций, касающихся этого современного направления в менеджменте [1, 2], показывает, что в первую очередь подобные проблемы интересуют практиков, т.е. тех, кто наблюдает их ежедневно в деятельности реальных организаций. Несмотря на то, что каждый автор дает свое определение регулярного менеджмента, в одном все они схо-дятся — это «наведение порядка в организации», детально разработанная система управ-ления бизнес-процессами, скоординированность всех сторон ежедневной деятельности предприятия.
Согласно одному из основных положений функционального менеджмента предприя-тию важно иметь не только хорошо разработанную стратегию, но и как минимум, жесткие стандарты, четкую координацию системы как производства, так и реализации продукции. На этой основе базируется четкое разделение ответственности при принятии управленче-ских решений, жесткие стандарты выполнения работ, транспарентная, четко прописанная система материального стимулирования [3].
Несмотря, что перечисленные положения не содержат в себе «инновационных» идей, а их реализация достаточно финансово- и трудозатратна, полученный положительный эф-фект несомненно скажется на дальнейшем развитии компании.
Решение данных проблем возможно, например, за счет применения корпоративных информационных систем (КИС).
Особый интерес с практической точки зрения представляют КИС, позволяющие осуществлять планирование ресурсов предприятия, или так называемые ERP-системы [4]. Подобные системы позволяют осуществить непрерывную балансировку и оптимизацию почти всех видов деятельности любого предприятия, вне зависимости от его масштаба и отраслевой принадлежности и, следовательно, реализовать принципы регулярного менеджмента.
Тем не менее, несмотря на обширную практику их применения, остаются еще не ре-шенные до конца вопросы, связанные с адаптацией, опытной эксплуатацией и вводом ERP-систем в эксплуатацию. Так, в ходе адаптации осуществляется настройка ERP-системы в соответствии с планом проекта внедрения, проводится тестирование отдельных
110
модулей и функций. При этом не всегда происходит использование корпоративных стан-дартов в качестве основы для настроек системы. С другой стороны, в ходе опытной экс-плуатации ERP-систем сохраняется двойной ввод данных (т.е. в старую и новую системы), генерируются только стандартные отчеты. Поэтому, несмотря на неоспоримые достоин-ства ERP-систем, все это приводит к возникновению ряда проблем, с которыми в настоя-щее время сталкиваются пользователи, и, как следствие, слабой эффективности их внед-рения. Проблема эффективности внедрения является основной и свидетельствует о том, что любая наисовременнейшая технология будет работать только при условии ее грамот-ной эксплуатации. На многих современных предприятиях, направивших большие инве-стиции на приобретение и внедрение ERP-систем, их запуск не всегда приводит к ожида-емым результатам. Следует сказать, что по данным зарубежных аналитиков, процент не-удачного внедрения ERP-систем довольно высок.
В качестве возможных причин, приводящих к таким результатам, можно назвать сла-бую подготовленность персонала, приводящую к использованию старых систем ввода, представления и хранения данных, а также слабые возможности по генерации отчетов (особенно, сложных). В большинстве случаев персонал не готов в полной мере использо-вать возможности ERP-систем. Это обусловлено тем, что подготовке кадров уделяется мало внимания или руководство экономит на этом денежные средства. В результате ве-дется одновременно учет данных в «старых» и «новых» базах. Что касается отчетов, то в ERP-системах реализованы возможности получения только статичных (хотя и ком-плексных) отчетов. В результате, даже обычные отчеты часто представляются в различ-ных форматах и отображают информацию по одному и тому же запросу по-разному. Сложные по составу массивы структур данных в ERP-системах заставляют создавать комплексные запросы на генерацию отчетов. Кроме того, отчеты разрабатываются от-дельно для каждого случая, поэтому их приходится готовить заново при любом изменении бизнес-процессов (что отнюдь не способствует повышению производительности труда персонала предприятия). Существующие встроенные генераторы имеют весьма ограни-ченные возможности, что затрудняет подготовку регулярно изменяющихся детальных и подробных документов. Вследствие этого, возникает необходимость во «внешних» ге-нераторах отчетов, не входящих в состав базовой поставки ERP-систем. Это в свою оче-редь требует проведения новых работ при внедрении данных КИС и дополнительного обучения персонала.
Решение данной проблемы возможно за счет применения метода поэтапного (посте-пенного) вхождения технического персонала и специалистов в работу в новых условиях ERP-систем, который основывается на использовании уже существующих баз данных в качестве промежуточных, применении внешних настраиваемых генераторов отчетов, а также создания «временных» пользовательских интерфейсов, позволяющих персоналу адаптироваться к новой КИС. Основу для такого поэтапного метода может составить ис-пользование промежуточной (переходной, «учебной») автоматизированной информаци-онно-справочной системы с настраиваемым интерфейсом пользователя. Стоимость разра-ботки, тиражирования и обучения работы с ней представляется достаточно небольшой, а ожидаемая эффективность от её использования высока. Основой получаемого эффекта станет сокращение затрат и времени на подготовку персонала, а также отсутствие необхо-димости отвлечения его от основной работы (обучение на рабочем месте). Кроме того, настраиваемый интерфейс создаст предпосылки для преодоления психологического барь-ера, связанного с предстоящей работой в достаточно сложных КИС.
Подобный подход, помимо «тонкой» настройки системы специалистами [5], позволит осуществить (при активном участии работающего персонала) плавный переход со старых форм работы на новые во время адаптации, опытной эксплуатации и ввода ERP-систем в промышленную эксплуатацию, а также существенно сократить время и финансовые затраты на переобучение персонала.
111
Применение таких КИС, базирующихся на ERP-системах и использующих принципы регулярного менеджмента, будет способствовать сокращению финансовых и трудовых затрат, а также обеспечит развитие организации в целом.
Список литературы
1. Альтшулер И. Что такое регулярный менеджмент? [Электронный ресурс]. URL: http://altshuler.ru/biblioteka/biznes-stati-i-doklady/chto-takoe-regulyarnyj-menedzhment/ (дата обращения: 27.04.2014).
2. Гулимова А.В. Регулярный менеджмент, или как отладить работу [Электронный ресурс]. URL: http://www.b17.ru/article/regular_management/ (дата обращения: 27.04.2014).
3. Гордеев М., Соболев М. Регулярный менеджмент [Электронный ресурс]. URL: http://www.directorinfo.ru/Article.aspx?id=13358&iid=552 (дата обращения: 27.04.2014).
4. О'Лири Д. ERP системы. Современное планирование и управление ресурсами предприятия. Выбор, внедрение, эксплуатация; пер. с англ. Ю.И. Водяновой. М.: Вершина, 2004. 272 с.
5. Крам Д. Использование Oracle 11i. Специальное издание / Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко, Л.Б. Тавровской, О.В. Шпырко, С.А. Храмова. М.: Изд. дом Вильямс. 2003. 1072 с. ил.
112
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
О.И. ВОРОБЬЕВА, Э.Ш. ИДРИСОВ
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕЖСЕКТОРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
После изменения политика РФ по отношению к некоммерческому сектору актуализиро-
вались исследования в сфере оценки возможностей межсекторного взаимодействия при ре-шении местных проблем. Наверно будет легко определить, что является основополагающи-ми условиями активного партнерства государства, бизнеса и общества. Превалирует эконо-мический фактор, информационная среда, а также возможно культурная составляющая. Да-вайте попробуем оценить в этом ключе наш регион с позиции, прежде всего, анализа воз-можностей межсекторного взаимодействия при решении вопросов местного сообщества. Некоторые аспекты данной темы мы уже затрагивали в ранней публикации [3].
По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-ской области в регионе на данный момент зарегистрировано 1056 организаций, в том чис-ле: 343 — некоммерческие (включая 20 казачьих обществ), 503 общественных объедине-ний (включая 45 политических партий) и 165 религиозных объединений. Интересно вы-явить степень реальной активности зарегистрированных юридических лиц некоммерче-ского сектора. Тесное взаимодействие с ними осуществляют структуры администрации Губернатора и муниципальных образований. По существующим законодательным нормам при многих профильных государственных структурах созданы общественные советы. Эта практика распространилась и на муниципалитеты.
Понятное дело, что у каждого муниципального образования складывается свой уро-вень развития межсекторного социального партнерства. Кроме этого можно отметить и сложившиеся местные особенности и формы взаимодействия. Так, в Володарском и Ка-мызякском районах, созданы районные Общественные палаты. В Красноярском районе можно отдельно оценить роль предприятия ООО «Газпром добыча Астрахань», находя-щегося на его территории, в направлении развития местного сообщества. Довольно об-ширная практика социального партнерства сложилась в областном центре — г. Астраха-ни. Но, в целом есть и общее, что формирует региональный особенности межсекторного партнерства, это мы и постараемся выяснить.
По проведенному исследованию московского эксперта В.Н. Якимца в Астраханской области довольно рано сложились все необходимые институты развития взаимодействия государства, бизнеса и общества. И наш регион в рейтинге занимает высокие позиции — 8 механизмов межсекторного социального партнерства [5, c. 32]. Свой вклад вносит Аст-раханский фонд местного сообщества, который был создан в регионе в 2007 году. Но, как говориться, это все формальные аспекты, прописанные на уровне инструментов, реально по теме развития межсекторного социального можно сказать, только анализируя практи-ку. Здесь, как нам кажется, положение дел будет не совпадать.
Общественные организации инициируют многие интересные проекты в различных сферах жизни регионального сообщества. В тоже время экспертно можно отметить, что уровень профессионализма в организации их деятельности остается относительно низким. Наблюдается тенденция гиперактивности руководства, при менее активном участии чле-нов в деятельности. Слабым звеном остается информационное сопровождение деятельно-сти организаций, в частности наличие собственного сайта, а также фандразинг [3]. Можно отметить такой факт, что при реализации программы поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, государственные органы региона испы-
113
тывают проблему недостаточности поданных заявок в соответствии с нормативными тре-бованиями на субсидирование деятельности НКО.
Наш регион еще не дорос до постоянного функционирования ресурсного центра под-держки деятельности НКО. Прошлая инициатива, реализованная по гранту в начале 2000-х годов, Комитетом солдатских матерей давно забыта. Сейчас данную функцию приходится выполнять самим сотрудникам органов власти, которые на ведомственном уровне куриру-ют программу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
В рамках собственного исследования нами в начале 2014 года был проведен анкетиро-вание представителей местного сообщества по проблемам межсекторного партнерства. Были опрошены жители города Астрахани (100 респондентов), Приволжского района (50 респондентов), Красноярского района (50 респондентов), Камызякского района (50 респондентов) и Володарского района (50 респондентов). Особенностью опроса по районам является то, что в основном он проводился в районных центрах.
Сначала мы задали вопрос: «С какими общественными организациями Вы знакомы, действующими на Вашей территории?», из ответов мы выбрали такие организации, кото-рые попали в тройку по количеству указавших на них, и приводим в таблице:
Астрахань Приволжский район
Красноярский район
Камызякский район
Володарский район
«Боевое брат-ство» — 24 чел.
«Совет ветера-нов» — 14 чел.
«Боевое брат-ство» — 9 чел.
«Жолдастык» — 20 чел.
«Совет ветера-нов» — 7 чел.
«Комитет солдат-ских матерей» —
13 чел.
«Боевое брат-ство» — 7 чел.
«Комитет солдат-ских матерей» —
8 чел.
«Содружество» — 17 чел.
Социальная орга-низация МОВ —
5 чел. «Верный друг»
— 12 чел. «Союз Черно-
быль» — 5 чел. «Совет ветеранов войны и труда»
— 7 чел.
«Общество глу-хих» — 12 чел.
«Общество глу-хих» — 3 чел.
Данные ответы можно просто принять во внимание, так как эту информацию еще нужно коррелировать с другими фактами, например, частотой упоминания в местной прессе или проводить экспертный опрос, но все, же можно сделать общий вывод о том, что возможности для деятельности, а значить и узнаваемость в обществе, выше у тех ор-ганизаций, которые являются ведомственными, то есть их деятельность сопряжена с дея-тельностью профильных органов власти, в частности, из системы социальной защиты. По данным общероссийских опросов также активностью и узнаваемостью отличаются проф-союзы, ветеранские организации и общества инвалидов [4, с. 52].
Наше анкетирование также показало курьезную ситуацию, что по опросу в ранг обще-ственных организаций в районах области попадают, например, комитет по культуре или органы социального обслуживания населения, что лишний раз свидетельствует о низкой информированности населения о деятельности НКО.
Был задан вопрос: «Деятельность, каких общественных организаций привлекает Ваше внимание с целью принятия участия?», по которому выяснилось, что респондентов при-влекает больше всего деятельность детских и молодежных организаций, а также органи-заций культурной направленности. На среднем уровне по привлекательности находятся организации спортивные, этнокультурные и менее всего из опрошенных людей хотели бы принимать участие в организациях экологической направленности. Из числа опрошенных по району и городу в количестве 300 человек членами общественных организаций явля-ются 56 человек. Так получилось, что основная масса — 30 человек, это жители Камызяк-ского района. В деятельности НКО по городу из опрошенных участвует всего 2 человека. Как показало исследование И.В. Мерсияновой, И.В. Корневой: «Выявлена связь между участием граждан в деятельности некоммерческих организаций и их жизненными ценно-стями. В частности, установлено, что не участвуют в деятельности НКО чаще люди, ори-ентированные на материальное благополучие. Те, кто участвую в деятельности НКО, не-
114
сколько чаще не участвующих выбирают в качестве своей главной жизненной ценности будущее детей, а также занятие любимым делом» [4, с. 73].
Региональную специфику Астраханской области межсекторного взаимодействия определяет такая проблема как низкий уровень доверия населения к деятельности обще-ственных организаций. Это вопрос мы обсуждали при реализации образовательной про-граммы на базе Астраханского филиала РАНХиГС с 17 по 28 сентября 2012 года по теме «Вопросы поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-заций» [8]. Как раз один из учебных проектов, который моделировался, а впоследствии с помощью гранта Астраханского фонда местного сообщества, был реализован, имел эту направленность. 31 мая 2013 года в городе Астрахани был проведен Первый благотвори-тельный фестиваль «Мосты добра». Цель мероприятия — ознакомление астраханцев с по-мощью самопрезентации общественных организаций с деятельностью регионального не-коммерческого сектора. Конечно, это была разовая акция, которая не может иметь боль-шого эффекта, но при системном подходе и развитии ресурсного обеспечения она могла бы стать хорошим инструментом взаимопроникновения секторов.
Интересно, что респондентами степень взаимодействия органов власти с НКО по го-роду оценивается гораздо ниже, чем по районам. Среди лидеров с высокой степенью вза-имодействия выделяются, по мнению опрошенных, Приволжский и Красноярский райо-ны. Здесь возможно накладывается социокультурная специфика, отличающая горожан от селян. Как отмечено в исследовании И.В. Мерсияновой, И.Е. Корневой: «чем крупнее населенный пункт, тем чаще жители знают о тех или иных общественных и других не-коммерческих организациях» [4, с. 55], а значит, в целом горожане лучше представляют сложившеюся систему социального партнерства.
В контексте развития местного сообщества интересно рассмотреть вопрос о том, ка-кую роль играет бизнес в делах территорий и в целом как развивается благотворитель-ность на местном уровне. Ответ на вопрос: «Какую бы организацию или предпринимателя Вы отметили в ранге «Благотворитель территории?» показал разных действующих лиц, которые принимают участие в жизни сообщества. Приводим эти данные в нашей таблице по первым из них набравших голоса:
Астрахань Приволжский район
Красноярский район
Камызякский район
Володарский район
«Лукойл» — 22 чел.
Глава МО Р.И. Уталиев — 7 чел.
«Газпром» — 25 чел.
Тур. база «Москов-ская» — 20 чел.
«Шаг на встречу» — 15 чел.
«Газпром» — 16 чел.
Депутат Р.М. Аскаров — 6 чел.
ИП Дусбаева — 13 чел.
ООО «Деликатес» — 19 чел.
«Челюскинец» — 6 чел.
«Шаг на встречу» — 5 чел.
ИП Лозин — 3 чел.
ИП Камнев — 8 чел.
ООО «Надежда-2» — 10 чел
и ООО «Наш ого-род» — 9 чел.
________
Здесь мы можем увидеть обобщено, что в рамках города респондентам трудно выде-лить конкретной лицо, чаще горожане видят деятельность крупных организаций. В сель-ской местности, где информационное поле более узкое, заметна деятельность конкретных лиц. Интересно, также то, что респонденты отмечают в качестве благотворителей пред-ставителей органов власти. При проявленных субъектах благотворительной деятельности на региональном уровне все же можно отметить общероссийскую тенденцию о том, что система пожертвований носит неорганизованный характер [1, с. 43]. При дальнейшем ис-следовании постараемся выяснить, на какие цели больше всего идет запрос о помощи со стороны местного населения.
По данным международных экспертов на 2012 год Россия занимала 127 место в миро-вом рейтинге благотворительности. Причем в можно отметить общую тенденцию падения вовлеченности в благотворительную деятельность во всех странах мира по сравнению с
115
периодом до 2007 года. Данная ситуация отражает состояние роста мирового ВВП, а так-же реакция на количество катастроф и чрезвычайных ситуаций в мире [6, с 14–15].
Еще одна тема, имеющая отношения для нашего анализа, это список проблем, кото-рые волнуют местное сообщество. В таблице мы приведем варианты ответов из полного перечня предложенного нами:
Астрахань Приволжский район
Красноярский район
Камызякский район
Володарский район
забота о людях пенсионного
возраста — 45
воспитание молодежи — 27
воспитание молодежи — 17
борьба с алкоголизмом и наркоманией
— 31
уборка и контроль за чистотой
территории — 32
воспитание молодежи — 43
уборка и контроль за чистотой
территории — 24
культурный досуг населения
— 17
экология и охрана
природы — 27
борьба с алкоголизмом
и наркоманией — 24
бездомные живот-ные — 41
культурный досуг населения — 16
забота о людях пенсионного
возраста — 17
бездомные жи-вотные — 25
воспитание молодежи — 15
экология и охрана природы — 35
борьба с алкоголизмом
и наркоманией — 14
борьба с алко-голизмом и
наркоманией — 16
забота о людях пенсионного
возраста — 12
забота о людях пенсионного
возраста — 13
развитие спорта и здорового образа
жизни — 35
забота о людях пенсионного
возраста — 14
общественный порядок — 16
воспитание молодежи —
12
экология и охрана природы — 11
борьба с алкоголизмом
и наркоманией — 21
развитие спорта и здорового образа
жизни — 12
развитие спорта и здорового
образа жизни — 13
уборка и кон-троль за чисто-той территории
— 12
культурный досуг населения — 11
межнациональные отношения — 15
бездомные животные — 11
уборка и кон-троль за чисто-той территории
— 8
культурный досуг населе-
ния — 10
развитие спорта и здорового образа
жизни — 10
общественный порядок — 7
экология и охрана природы — 7
экология и охрана при-
роды — 8
общественный порядок — 9
бездомные животные — 9
межнациональные отношения — 6
бездомные животные — 6
развитие спор-та и здорового образа жизни
— 1
общественный порядок — 6
общественный порядок — 5 межнациональные
отношения — 2
Из таблицы видно, что конечно это некие обобщенные индикаторы проблем с места, которые в целом можно отнести к любому муниципальному образованию. Но все, же мож-но делать более точные выводы по некоторым показателям. Например, как проблему горо-жане, вместе с приволжанами, отметили вопросы межнациональных отношений. Это оче-видно из-за более полиэтничности города, наличие учреждений профессионального образо-вания, где учится много приезжих, а также влияния города в этой сфере на близлежащий муниципальный район. Довольно высокие позиции по всем муниципальным образованиям занимает проблема воспитания молодежи. Не смотря на то, что это непреходящая тем, ко-торая волнует общества всегда, действительно, сегодня можно отметить эту проблему как одну из первичных, по причине глобальных социокультурных изменений постидустриаль-ной эпохи. Остальные проблемы наверно можно привязывать к местным особенностям, ко-торые отражают состояние межсекторного взаимодействия при их решении.
116
Наше проведенное исследование является начальной попыткой изучать региональные вопросы межсекторного социального партнерства социологическими методами. Конечно, необходим глубинный анализ, что бы делать более определенные выводы. Вместе с тем, необходимо понимать, что гражданская активность в ближайшее время будет расти, как на общероссийском уровне, так и на уровне региона. Не последнюю роль в этом процессе играет информационная составляющая обмена практическим опытом между и внутри сек-торов. По этой причине необходимо выстраивать конструктивный диалог власти и обще-ства, создавать систему более открытых отношений партнерства, без явного доминирова-ния одной из сторон при принятии решений по вопросам насущного значения.
Список литературы
1. Гражданское общество в модернизирующейся России: аналитический доклад Цен-тра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального ис-следовательского университета «Высшая школа экономики» по итогам реализации проек-та «Индекс гражданского общества – CIVICUS» / Л.И. Якобсон, И.В. Мерсиянова, О.Н. Кононыхина и др. М, 2011.
2. Справится ли государство в одиночку? О роли НКО в решении социальных про-блем: аналитический доклад Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» / под ред. Л.И. Якобсона, И.В. Мерсияновой. М., 2012.
3. Идрисов Э.Ш., Коровина В.В. Межсекторное социальное партнерство в Астрахан-ской области: региональная специфика и направления развития // Вопросы управления в социально-экономических процессах и информационной среде: материалы Всероссийской научной конференции (Астрахань, 21 мая 2013). Астрахань, 2013. С. 5-8.
4. Мерсиянова И.В., Корнева И.Е. Вовлеченность населения в неформальные практики гражданского общества и деятельность НКО: региональное измерение. Сер. «Мониторинг гражданского общества». Вып. VI. М., 2011.
5. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство в России: теория, правовая ос-нова, механизмы, технологии М., 2012.
6. Forbes Women: ежеквартальное приложение лето 2013 г. 7. Сайт Астраханской торгово-промышленной палаты [Электронный ресурс]. URL:
http://www.astcci.ru/article.php?mode=view&site_id=60&own_menu_id=52164 (дата обраще-ния: 12.05.2014).
8. Блог Э. Идрисова http://idrisel.livejournal.com/2012/10/02/ [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 12.05.2014).
117
Н.Б.-Г. ГОРЯШКИЕВА
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ Проблематика гражданского общества стала сегодня одной из самых модных и об-
суждаемых тем в политической науке. Несомненно, что развитие демократии и формиро-вание институтов гражданского общества находятся в непосредственной связи и станов-ление гражданской активности напрямую способствует процессу демократизации. С дру-гой стороны было бы неправильно отождествлять два этих явления. Это было бы значи-тельным упрощением. Становление гражданского общества не вызывает автоматически развития устойчивых демократических принципов в жизни общества.
Анализ политических преобразований в России показывает, что процесс формирова-ния структур этого общества слишком замедлен, что можно объяснить чрезвычайной сложностью трансформации прежних, советских моделей организации общества. В то же, время имеют большое значение и такие факторы. Как особенности общественного созна-ния и система ценностей.
Как известно, одним из ключевых понятий в рамках концепции «гражданского обще-ства» является понятие «социального капитала». Под ним понимают основополагающую социально-психологического парадигму, которая организует граждан и придает опреде-ленное направление их социальной активности. В России понимание демократии благода-ря особенностям ее исторического развития весьма специфические черты. Россияне, обо-значая наиболее существенных признаки общественной системы, позволяющей считать ее демократической, главную роль отводят социально-экономическим, а не политическим аспектам жизни. Конечно, подобное понимание демократии не является отличительным свойством одного лишь российского общественного сознания. Один из уроков «третьей волны демократизации» согласно С. Хантингтону состоит в том, что переход к демократии может происходить без соответствующих культурологических предпосылок, т.е. при отсут-ствии ценностной приверженности масс идеям и принципам демократической системы [2]. Именно таким отношением к демократии можно объяснить то, что недовольство властью в России легко переходит в разочарование в самой демократической системе.
Еще одной особенностью российского пути является тот неоспоримый факт, что ос-новными инициаторами и гарантами развития общественных преобразований у нас явля-ются различные элитные группы и представители власти, а не гражданское общество. Ре-шающее влияние здесь имеют государство и бизнес, они, по сути, определяют и формы и пути развития гражданского общества в России. Ясно, однако, что в подобной ситуации перспективы преобразований зависят от множества случайностей. Властные структуры в таком случае не только оказывается главным двигателем реформирования общества, но и получают все возможности определять характер осуществляемых перемен в своих инте-ресах. Таким образом, модернизация и демократизация российского общества обретают черты авторитарности.
Неразвитость в современной России демократически ориентированных структур гражданского общества нередко представляется как отсутствие в стране гражданского общества как такового, что не совсем верно. Некоторое несоответствие многих из уже возникших и продолжающих формироваться структур этого общества критериям демо-кратической системы является нашей качественной особенностью. Цели и средства, пре-следуемые и реализуемые такими структурами, часто противоречат демократическим принципам. А. Хлопин рассматривает формирование гражданского общества как «процесс структуризации современного российского социума, регулируемого набором правовых норм, общепринятых ценностных ориентаций и неформальных правил [3]. В сознании масс социалистическая и националистическая идеология активно конкурирует сегодня с либерально-демократической. Многие из возникающих в России самодеятельных орга-
118
низаций руководствуются ценностными установками, предлагаемыми именно этими дви-жениями.
Консолидирующей силой в формировании многих из таких неформальных организа-ций становится не противодействие граждан бесконтрольности государственной власти, а противопоставление одной части граждан другой по этническим и классовым призна-кам. В результате не только не усиливаются тенденции к консолидации общества, но, напротив, усиливается его разобщенность, усугубляется взаимное недоверие, получают постоянную подпитку конфронтационные настроения. Общественное согласие и компро-мисс интересов не ставятся целью самодеятельной активности таких групп граждан.
Личность является основополагающим элементом построения гражданского общества. Наличие свободного и независимого индивида представляет собой, как известно, необхо-димую предпосылку развития демократии. Ответственность как качество личности явля-ется основным в процессе развития гражданского общества. Это качество включает осо-знание необходимости действовать в соответствии с установленными и общепринятыми требованиями, нормами и правилами. Гражданское общество состоит из различных форм союзов свободных людей, которые решают различные задачи, затрагивающие их интере-сы. Тут люди объединяются сознательно, в отличие от союзов, созданных или находящих-ся под контролем государства, которые в первую очередь выражают государственные ин-тересы, а не личные. Поэтому для формирования гражданского общества требуется нали-чие свободного индивида, активно выступающего за реализацию своих интересов. Огра-ничением в деятельности данного индивида, прежде всего, являются нормы морали и пра-ва, принятые в данном обществе.
Гражданское общество, как известно, формируется одновременно в частной сфере, где индивид развивается как личность, и в публичной, где формируются его гражданские ка-чества. Залогом успешного формирования гражданского общества, следовательно, служит способность личности к адаптации к новым социальным реалиям. Но это лишь необходи-мое, но не достаточное условие. Освобождение личности от авторитарных запретов дале-ко не всегда приводит ее к приверженности демократическим ценностям. Анархическое понимание свободы, свойственное российскому сознанию приводит к усилению хаоса в обществе и углублению конфронтационных тенденций.
В последнее время в России мы наблюдаем настоящий бум гражданских движений. В стране существуют и продуктивно действуют тысячи гражданских объединений и сою-зов, молодежных, экологических, культурных и иных. Естественно, что только малая часть из них стремится к отстаиванию реальных интересов людей. Еще Гегель высказал мысль о том, что гражданское общество рождается только в результате соединения «част-ного» с «публичным» [1, с. 24], что предполагает реализацию общественных интересов. По большей части такие организации ставят себе сиюминутные задачи, по привлечению финансирования различных фондов, либо обслуживают интересы узких групп людей из сферы бизнеса, успешно встраиваясь в государственную иерархию, будучи призванными, быть альтернативой власти. Тем самым облегчается контроль над такими союзами со сто-роны государства.
Процесс становления гражданского общества в России не привел, к сожалению, к ожидаемым результатам. В реальности гражданское общество приобрело такие черты как, ориентированность на отстаивание эгоистических интересов узких групп, воинству-ющий национализм, беззастенчивый лоббизм.
Еще одним существенным препятствием для формирования полноценного граждан-ского общества в России является существующий произвол в правовой сфере. Повседнев-ная жизнь, которая должна регулироваться ясными, понятными гражданам нормами, находится в противоречии с односторонней зависимостью от социальных институтов, ко-торые пользуются правом произвольной интерпретации гражданских прав. С этим проти-воречием сталкиваются и большинство граждан, и члены общественных организаций. Со-здается впечатление, что законодательство само порождает возможности для администра-
119
тивного произвола. Французский политолог М. Мендрас пишет об этом феномене так: «Расплывчатое и поддающееся приспособлению незамедлительно избавляет от хлопот больше, чем подчинение ясным и твердым правилам, регулирующим цели и обязанности каждого»[Цит. по 3, с. 140].
Неопределенность и расплывчатость толкований норм права дает власти возможность направлять деятельность граждан по своему усмотрению. Отсюда отсутствие ясного и за-щищенного пространства частной жизни индивида и почва для различного рода злоупо-треблений, как то сокрытие доходов, уход от ответственности и т.д.
Отсутствие определенных гарантий со стороны государства не дает возможности раз-витию полноценных, политически значимых институтов гражданского общества.
Таким образом, развитие правового государства является необходимым условием раз-вития гражданского общества. Эти два явления являются взаимообусловленными. То есть правовое государство подразумевает не только традиционное разделение ветвей власти, но и разделение сферы публичной политики на гражданское общество, и собственно госу-дарственную сферу. Для этого достаточно обеспечить выполнение в полном объеме дей-ствующей Конституции.
Еще одним специфически российским свойством является различие уровней развития гражданских отношений в различных регионах нашей страны, что не может не затруднять развитие гражданского процесса на политическом пространстве современной России. В данных условиях особенно актуальным становится сохранение курса на развитие право-вого государства, институтов гражданского общества и социально ориентированную ры-ночную экономику.
Список литературы
1. Гегель. Сочинения. М., 1935. Т. 8. С. 24. 2. Хантингтон С. Третья волна: Демократизация в конце XX века. М., 2003. 3. Хлопин А. Гражданское общество в России: идеология, утопия, реальность // Pro et
contra, 2002. № 1.
120
Р.А. ДАВЫДОВА
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕСУРС РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: НАСТРОЕНИЯ И ИНТЕРЕСЫ НАСЕЛЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛАХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) Состояние современного общества характеризуется ростом гражданской активности,
консолидацией граждан для решения жизненно важных проблем. В нашей стране множат-ся и антисоциальные группировки и силы, способные дестабилизировать обстановку, вы-звать в обществе рознь, страх и хаос. Террористические акты, массовые выступления мо-лодежи под ксенофобскими лозунгами — эти и многие другие события проверяют на прочность наше общество, его способность к развитию, его гражданскую зрелость.
Общественное мнение является составной частью политических отношений. Изучение специфики общественного мнения в политической сфере, его характеристик и технологий, системных и несистемных механизмов формирования приобретает большую значимость в теоретическом и практическом плане. Это связано не только с развитием средств массо-вой коммуникации, возникновением новых каналов передачи информации, увеличения объема информационного потока, но и обретением современным российским обществом интегрирующей идеи и осуществления стратегии социально-ориентированных реформ.
Зачастую активность гражданского общества имеет выраженный региональный и ло-кальный характер, концентрируется вокруг конкретных проблем той или иной области, го-рода, села. Региональные события свидетельствуют, что в нашей стране сформировался значительный слой социально активных, ответственных граждан, которые объединяются в разнообразные сообщества и социальные сети, чтобы отстаивать свои интересы и ценно-сти, выражать общественное мнение и оказывать влияние на решение различных проблем.
В стране изменились и ожидания гражданского общества. Заметно вырос запрос на из-менения в социальной, политической и экономической областях. Проведенное ВЦИОМ и Общественной палатой исследование «Социальный потенциал модернизации» показало, что в активных группах населения число тех, кто считает модернизацию главным приори-тетом, уже сравнялось со сторонниками стабильности.
Так, в Российской Федерации гражданское общество можно определить как естественно складывающееся состояние человеческого сообщества, самостоятельно формирующееся и развивающееся. Для гражданского общества характерно наличие множества институтов, обладающих относительной независимостью, которым присущи чувство гражданской от-ветственности, цивилизованное поведение и активная гражданская позиция.
Статистические и социологические результаты последних лет позволяют утверждать, что организации гражданского общества в России сегодня наиболее активно проявляют себя в следующих областях политической жизни: защита гражданских, политических прав и свобод (25%), участие в политических выборах всех уровней (22%) и отстаивание прав и интересов отдельных социальных групп - пенсионеров, военнослужащих, молодежи (18%) и т.д. [2, с. 8]. Таким образом, можно констатировать, что активность граждан в нашей стране довольно высока.
Современное зрелое гражданское общество — общество свободной самоорганизации. Профессиональные, культурные и иные сообщества, из которых оно состоит, открыты для тех, кто осознанно стремится к объединению на основе общих интересов. Институты гражданского общества позволяют гражданам совместно вырабатывать цели и достигать их, соединяя собственные усилия, вступая в диалог с другими общественными структура-ми, бизнесом и носителями власти, отстаивая свои интересы в публичном пространстве.
Сегодня роль институтов гражданского общества восстанавливаются и расширяются, в том числе и института местного самоуправления. Об этом свидетельствует активизация «третьего сектора», некоммерческих организаций, ставящих перед собой цель — решение тех или иных общественных проблем. Становление местного самоуправления непосред-
121
ственно зависит от включения в процессы организации жизни в родном селе, городе, рай-оне большинства проживающих на этой территории граждан. Именно создание партнер-ских отношений между органами муниципальной власти и жителями есть один из основ-ных вопросов переустройства современного общества. Но эта работа должна вестись пла-номерно и комплексно.
Важное значение приобретает и практическая реализация новых форм взаимодействия некоммерческих организаций (НКО) и органов местного самоуправления, таких как обще-ственная экспертиза законодательства, публичные слушания, членство в консультативных и общественных советах при органах власти, а также выявление возможностей повыше-ния их эффективности. Сотрудничество власти и общества приобретает системность и по-нимание (толерантность). Общественные организации при этом являются весомым факто-ром, влияющим на социально-экономическую и политическую ситуацию в регионах.
В Астраханской области сложились конструктивные отношения с некоммерческим сектором. В регионе действуют около 1000 региональных, областных и местных неком-мерческих организаций. Они объединяют значительную часть наших сограждан, имеют влияние на различные слои общества. Каждый руководитель общественной организации представляет мнение огромного количества людей. Применение разнообразных форм и методов взаимодействия в данном направлении определяет степень сохранения полити-ческой стабильности, способствует формированию доверия общественных институтов ор-ганам государственной власти.
В целях наращивания потенциала общественных объединений и обеспечения макси-мально эффективного использования возможностей социально ориентированных неком-мерческих организаций Правительством Астраханской области разработана и активно ре-ализуется комплексная долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка со-циально ориентированных некоммерческих организаций Астраханской области на 2012–2016 гг.». В соответствии с данной программой организациям предусмотрены все виды помощи, в том числе, на конкурсной основе, и финансовая поддержка.
Особую роль определяет взаимодействие и партнерский диалог с региональными от-делениями политических партий. Внесение изменений в Федеральный закон «О полити-ческих партиях» (№95–ФЗ от 11.07.2011 г.) упростило процедуру создания и регистрации политических партий в Российской Федерации. Главное направление их деятельности, безусловно, — это работа с людьми, решение актуальных проблем граждан. Индикатором доверия населения к партиям становятся выборы. Так, в текущем году в регионе должен состояться большой избирательный цикл. Выборы пройдут в подавляющем большинстве муниципалитетов Астраханской области. Будут выбираться главы районов, главы муни-ципальных образований и муниципальные депутаты. В этом году состоятся и выборы Гу-бернатора Астраханской области. Это предполагает активизацию многих политических процессов, общественных организаций, политических партий и их лидеров.
Важным направлением укрепления институтов гражданского общества в регионах, в частности и в Астраханском, является эффективно выстроенный диалог с профсоюзами. Об этом свидетельствует прежде всего деятельность Трехсторонней комиссии, на заседа-ниях которой рассматриваются наиболее проблемные вопросы социально-трудовых от-ношений. Проводится законодательная работа. Так, за период 2010–2011 годов согласова-ны более 40 нормативно-правовых актов в сфере труда. В каждом муниципальном образо-вании области работают территориальные Трехсторонние комиссии, заключены террито-риальные соглашения. В общей сложности сегодня в области действуют около 30 согла-шений между властью различного уровня, профсоюзами, работодателями, устанавливаю-щие общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории со-ответствующего муниципального образования, отрасли. Представители профсоюзов вхо-дят в состав комиссии по адаптации неформального рынка труда и борьбе с нарушениями трудовых прав работников при Правительстве Астраханской области, при администраци-ях муниципальных образований, а также в областную межведомственную комиссию по
122
охране труда при министерстве социального развития и труда Астраханской области. Кроме того, профсоюзы участвуют в выработке решений по сглаживанию напряжения на рынке труда, представляют права трудовых коллективов в конфликтных ситуациях.
Активный диалог с профсоюзными лидерами, участие в комиссиях по защите интере-сов трудящихся, взаимодействие, постоянные контакты с органами исполнительной вла-сти — все это определяет особую конфигурацию профсоюзов в политическом простран-стве региона.
С целью обеспечения гласности и открытости работы органов власти в июне прошло-го года в Астраханской области создана экспертная группа по рассмотрению обществен-ных инициатив. В состав экспертной группы включены представители регионального правительства, Думы Астраханской области, общественной палаты, органов муниципаль-ных образований, а также государственных учреждений, бизнес-сообщества и обществен-ных объединений. В состав вошли и представители управления по внутренней политике.
Интересен опыт использования такой формы проявления инициативы граждан, как территориальное общественное самоуправление (ТОС), получающее все большее распро-странение в муниципальных районах. Ведь основное направление деятельности таких ор-ганов — решение социально значимых для населения вопросов. В области создана специ-альная общественная организация «Некоммерческое партнёрство содействия в решении проблем в сфере жилищного и территориального общественного самоуправления». Орга-низация занимается оказанием методической помощи, активистам руководства ТОСов, ТСЖ, домов с непосредственным управлением. Проводятся встречи с представителями территориальных сообществ. Разработан сайт партнерства, в перспективе он должен стать площадкой для обмена информацией представителей территориального общественного самоуправления. Проводятся методические семинары для жителей многоквартирных до-мов. ТСЖ сегодня относится к форме непосредственного управления многоквартирным домом. Они несут определенную социальную функцию, являются первичной ячейкой гражданского общества. Через участие в собственности и управлении зарождается отно-шение к среде обитания и проживания.
Одним из эффективных каналов проявления гражданской инициативы является Обще-ственная палата Астраханской области. Подобные структуры — Общественные советы созданы во всех муниципальных образованиях. В 2013 году впервые в регионе принят за-кон Астраханской области «Об общественной палате Астраханской области» (№ 57/2013-ОЗ от 24.10.2013 г.). Основными формами работы выступают собрания, сходы граждан, конференции, круглые столы, встречи, телемосты. Эти мероприятия стали настоящей диа-логовой площадкой, где власть и общество учатся слушать и слышать друг друга, прини-мать взвешенные конструктивные решения
Особое место в деятельности Общественной палаты занимает работа с обращениями граждан. В прошлом году с заявлениями, жалобами обратились 265 человек. Члены пала-ты приняли на местах 185 граждан.
Тематика рассматриваемых вопросов также складывается из предложений граждан, анализа членами Общественной палаты ситуации в различных социальных, экономиче-ских и общественных сферах, поэтому в центре внимания всегда наиболее острые соци-альные проблемы. Это вопросы ценообразования, качества предоставление государствен-ных услуг, хода газификации районов области, проблемы укрепления здоровья астрахан-цев и повышения уровня образования и воспитания подрастающего поколения. В 2013 го-ду с широким участием общественности обсуждались проекты законов Астраханской об-ласти об исполнении бюджета за 2012 год и о проекте регионального бюджета на 2014 г.
Президиум Общественной палаты рассмотрел в прошлом году такие важные вопросы, как контроль за наведением должного порядка в системе платы за жилищно-коммуналь-ные услуги для населения, организация летнего отдыха детей, обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жильем и др. Палата также инициировала
123
общественные слушания по Посланию Президента РФ Федеральному Собранию, итогам модернизации регионального здравоохранения.
Расширяя сферы общественного контроля над деятельностью государственных и му-ниципальных органов представительной и исполнительной власти, а также возможности для участия граждан в управлении государством, члены Общественной палаты входят в состав консультативных, экспертных советов, общественных органов и наблюдательных комиссий, через которые защищают интересы горожан.
Территория юга России отличается сложной структурой, включающей ярко выражен-ный этнический, конфессиональный, лингвистический и этнохозяйственный компоненты. [1, с. 25]. Данный регион характеризуется противоречивой историей межкультурного вза-имодействия, миграционной активностью. Данные особенности актуализируют задачи по-литики, направленной на формирование единого культурного пространства. В рамках ста-билизации политической ситуации в стране важно уходить от принципа оперативного ре-агирования на локальные конфликты и формировать долгосрочную политику межэтниче-ской толерантности. Долгосрочная политика государства по сохранению исторически сложившегося культурного многообразия России требует чуткого реагирования управ-ленческих структур на изменения в сфере общественного сознания, интегрированным по-казателем которого выступает социальная идентичность. Она же предполагает одновре-менное сосуществование гражданского, этнокультурного (включая конфессиональный элемент) и регионального компонентов, которые могут не только конкурировать, но и взаимно дополнять друг друга. Поддержание такой сложности конструкции требует по-стоянного мониторинга ценностных ориентаций во всех этих измерениях и соотношениях этих ценностей в общественном сознании.
Астраханский регион остается примером мирного проживания различных национально-стей и народностей. Губернатор, администрация Губернатора, другие органы власти, осо-знавая свою роль и ответственность, ведут многолетнюю непрерывную работу с этниче-скими, религиозными объединениями и диаспорами. Но власть может эффективно управ-лять межнациональными процессами только в тесном взаимодействии с общественностью. Примером может служить действующий при Губернаторе Этноконфессиональный совет. Здесь обсуждаются ключевые вопросы политики в этой сфере, определяются основные подходы их решения. Специальные рабочие группы, межэтнические советы и иные совеща-тельные органы с этой целью созданы во всех муниципальных образованиях.
Еще одним важным стратегическим направлением является работа с молодежью. Во всех муниципальных образованиях действуют молодежные дискуссионные площадки. Их цель — работа с активной частью молодежи в плане ее подготовки к участию в обще-ственной жизни, а также помощь в реализации молодежных проектов различной направ-ленности.
Право на информацию становится одним из важнейших прав человека и гражданина, важнейшим условием обеспечения всех остальных гражданских прав. Одним из механиз-мов, способствующих повышению информированности населения о социальных гаранти-ях и государственных услугах, является широкое внедрение и использование информаци-онно-коммуникационных технологий (ИКТ). Развитие Интернет-ресурсов органов испол-нительной власти области также способствует налаживанию диалога населения и предста-вителей власти.
Становление гражданского общества в России — это формирование нового типа госу-дарственности, с приоритетом права, верховенства закона, с реальной ответственностью власти перед народом, с преодолением конфронтации между обществом и властью и вы-ходом на реальное социальное партнерство. Очень важно объединить все возможности, чтобы провести политику обновления. Только через конструктивный диалог, создание ат-мосферы уважения к мнению может быть создана многофакторная структура ответствен-ности и доверия между властью и обществом. Суть же реального взаимодействия состоит в том, чтобы выясняя, открывая, обозначая общие интересы сторон, добиться их взаимо-
124
понимания и доверия, наладить партнерские отношения, установить сотрудничество. Движущей силой такого взаимодействия становится согласование интересов, стимулом — общая выгода, общий выигрыш.
Список литературы
1. Денисова Г.С., Клименко Л.В. Особенности региональной идентичности населения юга России // СОЦИС. 2013. № 7. С. 25–34.
2. Доклад по актуальным проблемам участия гражданского общества в обеспечении национальной безопасности российской федерации // Общественная палата. 2012. С. 8–16.
3. Золотухин А.В. Общественное мнение как социально-психологический феномен // Молодой ученый. 2013. №4. С. 483–490.
4. Круглый стол «Что такое стабильное общество?» // Вестник аналитики. № 1(43) С. 95–122.
5. Шпигель Б.И. Гражданское общество субъектов Российской Федерации. Сборник материалов // Издание Совета Федерации. 2012. С. 8–23.
125
Р.Я. КИШИБАЕВ, Н.В. РАЗГОННИКОВА
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖИ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА)
В настоящее время развитие современных политических и общественных отношений
определяют значение молодежи для формирования в России социального государства и гражданского общества. Социальная активность и ответственность молодых людей в обществе, в первую очередь, определена наличием у них собственного мнения по отно-шению к различным событиям, происходящих в нашей стране, тяготением участвовать в социально-экономических и политических процессах, которые должны олицетворяться в общественно-полезной и социально-важной деятельности молодежи в частности, в об-щественных организациях. Социальной активности как ресурса развития территории по-священы работы Н.В. Глухих, М.А. Захарова, И.В. Фирсакова, С.В. Кочнева, А.С. Отрад-нова, Т.Е. Катаева, Ю.А. Гилёвой, О.А. Коряковцевой, Д.А. Сердалиевой и т.д. Актуаль-ные социальные проблемы молодежи, вопросы ее образования, социального развития, способов ее решения изучались С.Ф. Антоновой, Е.С. Кашиной, К.Н. Беликовым, Н.М. Смоляковой, А.Н. Соколовой и др.
В настоящее время формирование гражданской позиции молодых людей играет очень большую роль в условиях трансформации общественно-политических отношений в обще-стве. Молодежь зачастую является инициатором и участником, происходящих в России преобразованиях и формирования гражданского общества. Эффективное использование ресурса инновационной активности молодых людей будет способствовать развитию тер-ритории конкретного муниципального образования, но это возможно только при наличии адекватной системы государственно-общественной практики социализации молодого по-коления [1, с. 331].
В то время же одной из проблем, которая наиболее актуальна в социуме, является проблема вовлеченности молодых граждан к участию в социально-политической жизни страны, так как молодежь занимает довольно высокий удельный вес в демографической структуре страны и от ее действий во многом зависит развитие системы общественных отношений. По данным Всероссийской переписи населения, которая проходила в 2010 го-ду в России на данный момент проживает свыше 36 млн. человек в возрасте от 14 до 35 лет, что в свою очередь составляет 26% всего населения России [2, с. 45]. По данным, полученным Госкомстат в статистическом сборнике «Молодежь России», молодые граж-дане в возрасте от 14–30 лет занимаются общественной жизни 5% своего личного свобод-ного времени. Поэтому необходимо обратить внимание на степень вовлеченности моло-дых граждан к участию в решении социально-значимых проблем общества, поддерживать их стремление к сотрудничеству с органами государственной и муниципальной власти, поощрять их деятельность в государственных федеральных и региональных проектах и форумах, участие молодых людей в социально-политических отношений общества бу-дет способствовать развитию потенциала инновационной активности молодежи России, так и для местного сообщества. В то же время необходимость налаживания сотрудниче-ства органов местного самоуправления с молодежью, молодежными общественными объ-единениями и другими организациями, средствами массовой информации в интересах решения молодежных проблем огромна. Одновременно с этим существует проблема от-сутствия комплексных программ, которые организованно и последовательно привлекали бы наиболее подготовленных молодых людей в жизнь района, города. Так же одной из проблем, с которой сталкиваются органы МСУ при взаимодействии с молодежью являет-ся абсентеизм, пассивность молодых людей. Ведь зачастую молодежь предполагает, что они не имеют существенных рычагов воздействия на органы муниципальной власти и по-
126
этому не стремятся взаимодействовать с местной властью [3, с. 330]. В связи с этим, при взаимодействии органов МСУ и молодежи надо уделить вниманию о возможностях и преимуществах взаимодействия друг с другом.
Значение, в настоящее время, принимает вопрос о степени эффективности взаимодей-ствия органов местной власти с молодежными общественными организациями и объеди-нениями, заинтересованности молодых граждан в участии деятельности органов местного самоуправления. В марте — апреле 2014 года был проведен социологический опрос для определения активности и технологий привлечения молодежи органами местного само-управления Приволжского района Астраханской области при решении вопросов на мест-ном уровне. Выборка социологического исследования составила 100 человек. Возраст опрошенных находится в пределах от 16 лет до 35 лет. Всего в опросе приняло участие 52 женщины (52%) и 48 мужчин (48%).
Основной целью исследования является сбор и анализ информации об эффективности взаимодействия органов власти и молодежных общественных объединений, стремление молодежи участвовать в общественной жизни местного сообщества, прогноз развития си-туации и выработка практических рекомендаций по улучшению взаимодействия.
В настоящее время молодые люди довольно слабо осведомлены, что же из себя пред-ставляет «молодежная общественная организация», так и о деятельности молодежных ор-ганизаций в своем субъекте, так и по России в целом. На сегодняшний день в Приволж-ском районе Астраханской области 62% опрошенных не знакомы ни с какими молодеж-ными общественными организациями, действующими на территории района или Астра-ханской области, только 38% назвали молодежные общественные организации среди ко-торых: «Гамма» — 8%, «Прометей» — 7%, «Совет молодых специалистов» — 5%, «РСМ» — 2%, Молодежный центр ногайской культуры «Эдиге» — 2%, «Молодежный автоклуб Приволжский» — 1%, «Студенческий строй отряд» — 1%, «Содружество активной моло-дежи (САМ) — 3%», «Жолдастык» — 1%, «Молодежь России», «Узбекистон» — 1%, «Дуслык — 1%». Хочется отметить что, молодые люди не всегда имеют представление, что же собой представляет молодежная общественная организация, некоторые респонден-ты причислили к ним Дома культуры, движение «Стопхам», волонтеров. Это еще раз по-казывает, что молодежь слабо осведомлена о деятельности молодежных организаций, во многом это связано с эффективностью работы самих организаций и отсутствием инфор-мации о деятельности молодежных организаций. Очевидно, что при довольно низкой ин-формированности молодых людей о деятельности молодежных организаций было бы странно ожидать сформированного отношения к их деятельности. Этот тезис подтвержда-ется при анализе мнений молодежи о том, насколько эффективны молодежные организа-ции, действующие на территории Приволжского района Астраханской области, так 22% опрошенных считают деятельность молодежных общественных организаций низкой; 54% средней; 5% высокой; 18% затрудняются ответить. Эффективной работе молодежных ор-ганизаций мешает то, что молодежь не имеют актуальной информации о деятельности объ-единений. Хочется отметить, что согласно социологическому опросу 36% опрошенных яв-ляются членами молодежной организации или стремятся в нее вступить, 64% опрошенных данная перспектива не интересует. На вопрос «Как влияют молодежные организации на по-ведение молодежи?» (не более 3-х сфер) были получены следующие результаты: 54% опрошенных считают, что молодежные организации помогают занять свободное время; 2% респондента считают, что молодежные организации сковывают инициативу; 45% помогают развивать способности; 39 % ориентируют на полезную обществу деятельность; 39% рас-ширяют круг знакомств, способствуют налаживанию связей; 29% помогают адаптироваться к жизни; 7% способствуют росту по карьерной лестнице. Важно отметить, что только 39% считают, что молодежные организации ориентируют на полезную обществу деятельность, в том числе и решению социально-значимых проблем на местном уровне, остальные ре-спонденты рассматривают молодежные организации как необходимый элемент социализа-
127
ции молодых людей, видят в ней ее рационалистическую составляющую, за которой — ши-рокие возможности самореализации и социальной мобильности.
Среди различных видов социального участия в общественной жизни для молодежи наиболее привлекательна, должна быть именно волонтерская деятельность. Во многом это связано с тем, что для представителей молодого поколения важна высокая эмоциональная отдача, которая обеспечивается участием в различных акциях и мероприятиях (например, поездки в социальные учреждения, помощь детям, инвалидам, сбор и передача вещей и продуктов нуждающимся). В связи с этим интересно узнать с какими волонтерскими организациями, действующими в области знакомы респонденты, согласно результатам опроса 64% опрошенных не знакомы ни с какими волонтерскими организациями, только 36% дали положительный результат, среди которых: «Верный друг» — 8%, «Тимуровское движение» — 6%, «Наше дело» — 5%, «Астрапоиск» — 5%, «Милосердие» — 1%, «Чи-стый берег» — 1%, «Мы добровольцы» — 1%, «Новый шаг» — 1%. Так же хочется заме-тить, что не все опрашиваемые имеют представление о волонтерских организациях, мно-гие из них выделяют направление деятельности данных организаций, в частности донор-ство, помощь пенсионерам, помощь детям. Опрос показал, что стать волонтером стремит-ся куда больше людей, чем стать членом молодежной организации. Волонтерами изъяви-ли желание стать 50% опрошенных, 25% не хотят участвовать в волонтерских организа-циях, 25% опрошенных затрудняются ответить на данный вопрос. Это во многом объяс-няется популяризацией волонтерской деятельности в СМИ, в органах государственной власти, специальными программами, направленными на активизацию волонтерского дви-жения (Доброволец, Спорт–2018 и т.д.), возможностью участвовать в международных ме-роприятиях (Сочи–2014, Универсиада в Казани и т.д.).
Волонтерская деятельность включает в себя довольно широкий спектр направлений и на вопрос, «В каком направлении в волонтерской деятельности Вы хотели бы принять участие?» были получены следующие данные: 16% — готовы взаимодействовать с соци-ально-незащищенными группами населения; 18% респондентов — готовы работать в больницах; 25% - считают нужным профилактику здорового образа жизни, просвети-тельскую работу, направленная на профилактику различных заболеваний, наркомании; 10% — деятельность, предполагающая восстановление и сохранение особо важных исто-рических и природных памятников; 15% — оказание помощи больным животным, работа в приютах для животных; 24% — донорство; 9% — краеведческая деятельность; 8% — защита окружающей среды (экологические акции, десанты, субботники и т.д.).
Результаты опроса показывают, что большинство опрошенных заинтересованы при-нять в донорстве (24%), взаимодействию с социально-незащищенными группами населе-ния (25%), профилактика здорового образа жизни (25%). Во многом это связано с активи-зацией и популяризацией данных видов деятельности в самих волонтерских организациях, органах государственной и муниципальной власти, среди самой молодежи, СМИ и т.д. Решение наиболее актуальных социальных проблем в местном сообщества зависит от со-трудничества молодежи с органами местной власти, данные социологического опроса по-казывают, что 19% респондентов считают ее низкой; 52% респондента считают ее сред-ней; 8% респондентов высокой. Можно заметить, что степень взаимодействия органов МСУ и молодежи, по мнению респондентов в районе средняя, но так же многие люди за-трудняются ответить на данный вопрос, на мой взгляд, это связано с плохим освещением совместных мероприятий в СМИ.
Важным моментом в реализации совместных идей важным является различные формы сотрудничества молодежи с органами местной власти:
– 14% респондентов готовы принимать участие в обсуждении принимаемых законов, программ, планов работы; 20% респондентов готовы участвовать в организации различ-ных акций и мероприятий; 27% респондентов готовы принимать участие в мероприятиях и акциях, проводимых для молодежи;
128
– 22% респондента не определились; 9% респондентов считают, «что это не мое де-ло», 8% респондентов – «не считаю, что от меня что-то зависит».
Молодежь заинтересована в участии и организации различных акций и мероприятий, как и для молодежи, так и других групп населения; довольно большое количество респон-дентов (22%) не определились, готовы ли сотрудничать они с органами МСУ, в связи с этим, на мой взгляд, следует показать им перспективы сотрудничества. Степень взаимо-действия молодых людей с органами местной власти зачастую зависит от мотивирующих факторов: 33% респондента видят мотивацию в получении знаний и опыта;
28% респондентов — культурный досуг; 36% респондентов видят стимул в получении дополнительного заработка; 3% не ответили на данный вопрос.
На основе полученных результатов видно, что треть отпрошенных заинтересовано в получении дополнительных знаний, опыта и навыков, которые возможно им пригодятся в дальнейшей жизни или в профессии; больше трети опрошенных заинтересованы в материаль-ных благах, на мой взгляд, им можно предоставить работу в органах муниципальной власти.
Основными проблемами Приволжского района Астраханской области, где, необходи-ма наибольшая концентрация усилий власти, и где в первую очередь нужна поддержка со стороны молодежи: большинство респондентов (62%) считают, что это уборка и контроль за чистотой территории; 40% респондентов — развитие спорта и здорового образа жизни; 35% респондентов — культурный досуг населения;
Заинтересованность молодежи в участии деятельности органов МСУ зависит от каче-ства и направления самого мероприятия 73% заинтересованы в спортивных мероприяти-ях; 43% — культурные мероприятия; 15% — духовные мероприятия.
Заметно, что большинство респондентов заинтересованы в участии спортивных и культурных мероприятиях, это, безусловно связано с активностью молодежи проявлять себя именно в такой деятельности.
Таким образом, по результатам опроса можно сделать вывод, что молодежь заинтере-сована к участию в разовых формах активности, носящих характер акций. В то же время к регулярному участию, к проявлениям социальной активности в виде работы, а не меро-приятий, молодежь стремятся реже.
Основными проблемами Приволжского района Астраханской области, где необходи-ма наибольшая поддержка со стороны молодежи является уборка и контроль за чистотой территории и в связи с этим администрации МО «Приволжский район» необходимо ре-шить данную проблему путем различных экологических акций и мероприятий.
Анализ социологических данных показывает, что не все молодые люди так же готовы сотрудничеству с органами местной власти, молодежными и волонтерскими организация-ми, во много это связано с отсутствием информации. Эту проблему можно решить путем освещения в СМИ положительного опыта взаимодействия, обогащать его, стремится к со-трудничеству как со стороны органов МСУ и структур гражданского общества, так и со стороны молодежи. Молодежным общественным организациям также необходимо расши-рить «поле» своей деятельности, а не ограничиваться только городом, так же органам местного самоуправления Приволжского района Астраханской области необходимо чаще контактировать с данными организациями и проводить совместные мероприятия с целью активизации молодежных инициатив на местном уровне.
Список литературы 1. Глухих Н.В. Виды социальной активности студенческой молодежи // Вестник КГУ
им. Н.А. Некрасова, 2013. №1. С. 15–20. 2. Коряковцева О.А., Климов О.А. Государственная молодежная политика в совре-
менной России: развитие гражданской активности и молодежи // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013. №2. С. 45–57.
3. Носкова О.С. Технология вовлечения молодежи в структуру молодежного само-управления в реализации государственной молодежной политики (на примере Чеховского муниципального района Московской области) // Молодой ученый. 2013. №8. С. 329–336.
129
Ю.Г. МИРОНОВА
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Общественные экологические организации и движения являются структурным компо-
нентом современного гражданского общества в России. Они имеют ярко выраженную ин-ституциональную структуру В социологической теории выдвигаются различные позиции и взгляды на них.
Можно сказать, что чаще всего общественные экологические организации и движения понимаются как совокупность разных типов поведения главных действующих сил в обществе, основанных на конфликте, связанных с присвоением, регулированием тех или иных ценностей, ресурсов, причем такие типы поведения выходят за рамки норм, инсти-туционализированных в общественных ролях, и представляют собой попытку изменить структуру отношений в обществе. Между тем общественные экологические организации и движения не направлены на захват государственного аппарата, а борются лишь за уста-новление коллективного контроля над общественно-экономическим развитием [2, с. 112]. При всей их политической и мировоззренческой разнородности они развиваются в демо-кратическом русле, о чем свидетельствуют и широкая социальная база, и проявления в ходе движений гражданских инициатив, их развертывание в «поле» подлинно массовых потребностей и интересов, им как правило, присуща гуманистическая ориентация, про-диктованная тревогой за условия и качества жизни нынешнего и будущих поколений.
В настоящее время необходим концептуальный социологический анализ экологиче-ских организаций и движений как социального института, его структуры, противоречий и тенденций, на основании которых можно было бы дать прогноз дальнейшего развития экологического движения, так как они на ряду, с другими общественными организациями способствуют развитию гражданского общества России.
Специфика общественных экологических организаций и движений, первоначально сложившегося в индустриально развитых странах Запада, состоит в том, что оно возникло как реакция на углубление кризисных процессов в окружающей среде (загрязнение био-сферы, нарушение экологического равновесия, уменьшение способностей самовосстанов-ления экосистем и т.д.) и нацелено — при всем многообразии решаемых задач — на со-хранение природных основ жизнеобеспечения общества.
Плодотворной для нас является исследования в этой области О.Н. Яницкого, который указывает, что «общественные движения и другие солидарные действия можно разделить на две большие типологические группы. Ту, которая борется за приумножение благ и их справедливое распределение (типичный пример — рабочее движение), и ту, которая бо-рется за выживание, за уменьшение рисков, за сохранение природной среды своего обита-ния. Исторически и логически появление экологического движения как нового коллектив-ного актора связано именно с этим, вторым видом общественного производства, так как имело своей главной целью защиту человека и природы от производимых обществом рис-ков» [5, с. 134]. В экологическом движении своеобразно преломляются общие черты со-временных социальных движений. Они связаны с осознанием общественностью, все более широкими слоями населения перерастания экологических проблем из локальных и регио-нальных в глобальные, то есть с пониманием планетарного масштаба экологической опас-ности. В ходе развития общественного экологического движения вырабатываются и рас-пространяются новые альтернативные социоприродные ценности — от философско-мировоззренческих до производственных и потребительских. В самом общем виде это от-каз от установки на покорение природы, признание необходимости во всех сферах жизни и деятельности считаться с ее возможностями и ограничениями.
Равноправный характер экодвижения выражается в обосновании демократизации как необходимого условия экологизации различных сторон общественной жизни и стремле-
130
нии на практике вовлекать представителей различных социально-демографических и про-фессиональных групп в природоохранную, ресурсосберегающую деятельность.
Исходя из вышесказанного, общественные экологические организации и движения можно рассматривать как тип социальной организации и социальных действий людей, принимающих участие в рамках общественных социальных институтов в деятельности, направленной на оздоровление сложившейся экологической ситуации, гармонизацию от-ношений между обществом и природой.
Общественные экологические движения и организации имеют ярко выраженный ин-ституциональный характер. Если рассматривать их как систему, обладающую определен-ной целостностью и взаимосвязью составляющих ее элементов, то амплитуда возможных колебаний, «волнений» всей системы под воздействием внешних факторов «социального поля» будет весьма ограниченной. Это говорит о том, что экологические организации и движение является относительно самостоятельным видом общественной практики, об-ладая своей организацией и структурой, они развиваются и функционирует по своим за-конам и внутренней логике.
В конце 80-х — начале 90-х годов в России активно функционировало не менее 700 общественных объединений по охране природы и природопользованию (с учетом коллективных членов и территориальных отделений). Однако в противовес своим зару-бежным аналогам российское «зеленое движение» пока не стало значимой общественно политической силой [5, с. 48].
Яницкий О.Н. выделяет четыре периода развития экологическое движение в России. За исключением первого этапа — этапа зарождения — остальные формирование, развитие и интеграция, стержневые звенья экологического движения утверждались практически одновременно. Некоторые этапы, безусловно, накладывались друг на друга, но в конечном итоге все экологические структуры в силу ряда обстоятельств одновременно подошли к этапу интеграции, к созданию единого экологического движения. На примере обще-ственного экологического движения можно рассмотреть истоки, ход и тенденции развития институциональных экологических структур, оценить «конкретно-проблемное» и «гуман-но-идейное» течения общественно экологического движения, установить их динамику на разных этапах становления [5, с. 176].
В период разрушения старых социальных отношений и создания демократического общества, проблемы экологии отошли на второй план по сравнению с экономическими и политическими вопросами. Для удержания власти, сохранения своего авторитета и попу-лярности среди населения в условиях тяжелого экономического кризиса, спада производ-ства, многие политические лидеры, вновь избранные депутаты отказались от прежних по-пулистских экологических лозунгов, это привело к снижению активности экологического движения. В настоящее время еще более обнаружились слабые стороны экологических организаций и движений разрозненность усилий, отсутствие массовости, профессиона-лизма, конъюнктурность ряда политизированных экологических структур, слабая матери-альная база, частые реорганизации государственной системы охраны природы.
С середины 1992 года начался новый этап в развитии экологических организаций и движений. Он характеризуется более активным переходом от традиционных, форм приро-доохранной работы, к экологическим инициативам, отличающимся новизной, самодея-тельным характером, выходом за рамки деятельности, которая фактически ограничива-лась адаптацией к экологической политике государства, и развитием альтернативного направления в экологическом движении формированием в России инвайронментального движения, направленного на защиту и природной, и социальной среды обитания, стрем-лением к формальному и юридическому объединению экологических действий и струк-тур. Следует отметить, что целенаправленному включению «зеленой идеи» в социальную политику государства и общества должны способствовать объективные факторы. Прежде всего, важно решить проблемы общенационального характера, начиная от стабилизации
131
и подъема экономики, нормализации уровня жизни до создания экономических, правовых, организационных предпосылок для развертывания экологического движения.
Как показывает опыт деятельности общественных экологических организаций и дви-жений в России за последнее десятилетие, практически все они в своем развитии прохо-дили ряд стадии, к числу которых можно отнести:
Первую стадию инициативной группы, на данной стадии в связи с возникновением со-циально-экологической напряженности возникают стихийные экологические инициативные группы, ставящие своими целями, как правило, разрешение конкретно сформулированной (реальной или имеющейся, по их мнению) экологической проблемы; представительство ин-тересов населения перед органами власти; инициирование кампаний в СМИ [1, с. 3].
Вторую стадию локального диффузного экологического движения, на этой стадии влияние инициативной группы на население переживает качественный скачок и становит-ся достаточным для проведения митингов, пикетирования органов власти, производствен-ных объектов и т.п., массового сбора подписей под различными петициями или обраще-ниями, на этой стадии вокруг инициативной группы складывается актив.
Реализовавшее конкретные цели и не распавшееся после их утраты вследствие меж-личностных противоречий движение может перейти на следующую стадию развития: ло-кально-регионального движения.
Третья стадия экологического движение характеризуется расширением «пространства целей» до общего улучшения экологической обстановки на региональном уровне, стабили-зацией актива, приобретением достаточно устойчивой организационной структуры, уста-новлением постоянных контактов с органами власти, выпуском собственных информаци-онных материалов, активным содействием экологическому образованию населения и т.п.
По методам и формам деятельности Российские общественные экологические органи-зации и движения можно разделить на несколько основных групп:
Первая — природоохранные инициативы занимаются охраной живой (дикой) приро-ды, главным образом, организации охраняемых природных территорий и последующим контролем за соблюдением их режима. К подобным инициативам относятся Дружины по охране природы и экологические клубы, объединившиеся в Движения, Центр охраны ди-кой природы Социально-экологического Союза, Общество содействия национальным паркам другие.
Вторая — образовательные инициативы предпринимают главным образом проекты экологического образования детей, как в рамках государственной школы, так и внешколь-ные. Проведение экологически творческих конкурсов и выставок, детских экспедиций, раз-работка методики экологического образования проведение семинаров для преподавателей — это далеко не весь перечень. Гораздо реже можно встретить проекты, рассчитанные на взрослое население или на дальнейшее экологическое образование. Одним из самых мощ-ных центров экологического образования в России является Обнинский негосударственный экологический колледж. Крупные центры экологического образования созданы в Нижнем Новгороде, Ярославле, Чебоксарах, Костроме и других городах. Большинство подобных инициатив объединились в ассоциацию «Экологическое образование». Программу даль-нейшего социально-экологического образования активистов зеленого движения осуществ-ляет Институт Социальной и Глобальной Экологии (Нижний Новгород) [2, с. 94].
Третья — юридические и правовые инициативы пытаются реализовать многочислен-ные законы и постановления охраны окружающей среды и здоровья населения. Некото-рые экологические организации занимаются также законодательной инициативой на фе-деральном и местном уровне. Наиболее заметными из подобных организаций являются Петербургский правовой центр Юристы за московский «Экоюрис».
Четвертая — движения и группы протеста занимаются проведением прямых акций (ми-тинги, пикеты, блокады — цель прекратить деятельность или строительство экологически опасных объектов, разрушение природы, природно-культурных объектов, реализацию не-продуманных или несущих угрозу окружающей среде решений властей. (Это широкий
132
спектр объединений местного населения, как нашумевшие в Москве комитеты самоуправ-ления, группы и иные формы гражданских инициатив — «Битца», «Тушино», «Братеево» и другие, объединившиеся в Московскую Экологическую Федерацию. Кроме того, активно к формам протеста прибегают радикальные экологические группы и движения).
Пятая — пропагандистские и информационные инициативы занимаются в основном из-дательской деятельностью книг, сборников, аналитических докладов, справочников перио-дических изданий экологической направленности, а также иными формами распростране-ния информации. (В России участниками экологического движения выпускается более по-лусотни экологических газет, журналов - от дорогих иллюстрированных изданий, как «Эко-норд» или «ЭКОС», до почти самиздатовских и малотиражных «Парквей». Свои издания имеют многие крупные экологические организации: Социально-Экологическая Ассоциация «Экологическое образование», «Гринпис», движение «Хранители Радуги» и др.).
Шестая — теоретические и глобалистские организации занимаются проведением се-минаров, конференций и других мероприятий, на которых вырабатываются; теоретиче-ские основы экологического движения по социальным, политическим, экономическим во-просам, разрабатываются различные концепции предотвращения глобальной экологиче-ской катастрофы и т.п. Ежегодный международный форум «Интернеделя» проводится в Новосибирске. К подобного рода организациям можно отнести и различные группы, за-нимающиеся выработкой экологической философии, устраивающие дискуссии на эту те-му среди остального экологического движения.
Седьмая — политические организации, прежде всего экологические и «зеленые». Од-нако в настоящее время ни одна из существующих в России партий не имеет серьезного политического веса. (Как и многие другие восточноевропейские страны, Россия имеет не одну экологическую партию или организацию, кроме пытавшихся принять участие в по-следних федеральных выборах.)
Восьмая — научно-практические организации занимаются разработкой и внедрением щадящих технологий или оборудования для экологической деятельности (мониторинга, например, организации, проводят вневедомственные, общественные экологические экс-пертизы, занимаются обработкой всевозможных статистических данных биологической и экологической тематики и др.
По масштабам деятельности и территориальной распространенности своего влияния, российские экологические движения и организации можно условно разделить на следую-щие группы:
1. Локальные группы — действующие на территории своего населенного пункта или района.
2. Региональные группы и объединения — действующие в рамках региона, опреде-ленного либо административно-территориальным делением (область, край, республика), либо географическими факторами (например, горная система).
3. Межрегиональные объединения — действующие в различных и необязательно со-седних регионах, объединенных общими проблемами (например, Союз «За химическую безопасность»).
4. Общероссийские объединения — действующие на всей территории России. 5. Бывшие общесоюзные объединения — их следует, наверное, относить к междуна-
родным, однако они имеют ряд специфических отличий от последних, что будет сохра-нятся, еще длительное время.
6. Международные объединения — как правило, имеют национальные отделения в России, которые действуют автономно.
Главная цель на сегодняшний день практически всех экологических движений — улучшение сложившейся экологической ситуации. Участники экологических движений обычно принадлежат к разным социальным слоям и в этих движениях нет партийной ор-ганизованности и дисциплины. Однако социальное ядро составляют те, кто принадлежит к среднему классу: это люди, имеющие высшее образование, относительную экономиче-
133
скую самостоятельность, работающие, как правило, в сфере интеллектуальных и гумани-тарных услуг (в школах, социальных службах, здравоохранении, системе информирова-ния, проектных институтах, в консалтинге, маркетинге, сюда также относятся домохозяй-ки, студенты, пенсионеры, безработные и т.д.). Исходя из организации новых обществен-ных движений и тех задач, которые они выдвигают, а некоторые из них и решают, можно считать, что экологические движения — «неформальные, самоорганизованные, автоном-ные и независимые от легитимных центров общественной силы, общественные группы, имеющие целью устранение причин и последствий экологического кризиса».
Главный раскол экологического движения произошел, скорее всего, не по оси «госу-дарственные экологические структуры — общественные и самодеятельные организации. Он возник в результате определенного ценностного компромисса экологического движе-ния с антропоцентристской моделью индустриального развития общества, опирающейся на экстенсивное использование природных ресурсов. Кризис российского экологического движения, его низкий уровень институализации обусловлен в первую очередь расколом его ценностной системы, недооценкой новой экологической парадигмы постиндустриаль-ного информационного общества.
В 2000-е годы появились новые факторы осложняющие деятельность экологических движений и организаций: преобладание в общественном сознании, в том числе среди участников экологического движения, убеждения в преимуществах регионально-национального пути решения экологических проблем; неподготовленность, а зачастую и нежелание значительной части нового социального слоя общества (предпринимателей) применять рациональные приемы природопользования; ухудшение экологической ситуа-ции в связи с межнациональными конфликтами и войнами, с необходимостью использо-вания больших площадей для уничтожения химического и атомного оружия и захороне-ния ядерных отходов и т.д.
На этом фоне обострились внутренние противоречия общественного экологического движения. Основное из них — противоречие между стремлением к совершенствованию экологической политики, механизма рационального природопользования и низким уровнем экологической культуры, отсутствием достаточного опыта социально-экологической прак-тики у многих общественных экологических движений и организаций. Пока экологическо-му движению не удастся преодолеть идеологический раскол, трудно ожидать его устойчи-вого и сбалансированного развития. Кроме того, в связи с преобразованиями социально-политической, экономической, экологической ситуаций в России изменялись направления и методы деятельности ведущих звеньев экологического движения, ускорялось или замедля-лось проявление основных тенденций его становления, функционирования и развития.
По нашему мнению, «зеленому» движению в целом свойствен ряд особенностей, объ-ективно препятствующих приобретению им заметного влияния на социальную и экологи-ческую ситуацию как в стране, так и в регионах. В первую очередь к ним относятся «кад-ровый голод» — большинство активистов экологических движений не имеют опыта каж-додневной организационной работы, отсутствие опыта реализации значительных про-грамм позитивной направленности, то есть в ситуациях, когда общественное мнение под-готовлено к «материализации» своего «врага» в предконфликтной обстановке, отсутствие в общественном сознании волонтерских традиций общественных движений; заведомая ограниченность материальных и финансовых ресурсов и т.д. Всеми выше перечисленны-ми характеристиками общественных экологических организаций и движений обладают Астраханские общественные экологические организации и движения [4, с. 213].
Как показало социологическое исследование проведенное автором общественные ор-ганизации и объединения, Астраханского региона неравнозначны по уровню участия в общественно политическом процессе. Они имеют различные уровни компетентности, ма-териальные и финансовые возможности, располагают различными объемами и источни-ками информации. Некоторые организации имеют массовый характер, среди них такие, как «Зеленый Мир» и Общество охраны природы. Другие, несмотря на общественный
134
статус, более профессиональны. К таким можно отнести Общественный совет по эколо-гии. Ряд других общественных организаций занимают промежуточное положение. Они объединяют достаточно высокопрофессиональных членов, в тоже время круг рассматри-ваемых проблем так широк, что без привлечения широких масс общественности решить их невозможно. Среди таких организаций Русское географическое общество. Некоторые из этих организаций уже имеют многолетние традиции и опыт работы, другие только начинают свою общественную деятельность. Как следует из обзора, уставная деятель-ность всех перечисленных общественных организаций не противоречат друг другу, а если быть точнее то скорее они дополняют друг друга. Конкретный вклад каждой обществен-ной организации, занимающейся проблемами окружающей среды Астраханской области, определить не представляется возможным. В условиях жесткого дефицита финансирова-ния общественные организации и осуществляют многочисленные экспедиции, исследова-ния. Результаты обобщаются и публикуются в научных изданиях СМИ. Создаются видео-фильмы об уникальной природе, растительном и животном мире Астраханского региона и его экологических проблемах, предлагаются пути, их решения.
В результате опроса были получены следующие результаты. На вопрос: «Какое влия-ние на Ваш взгляд могут оказать общественные экологические организации и движения на экологическую ситуацию в регионе?», 34% респондентов назвали вариант большое, 38% респондентов назвали вариант некоторое. В общем можно отметить, общественность полагает, что общественные экологические организации и движения, оказывают влияния на экологическую ситуацию в регионе, что в совокупности составило 72% опрошенных. Однако о существовании местных общественных экологических организаций и движений знают 9% опрошенных, а 64% не знают об их существовании и правильно назвать хотя бы одну из них не смог ни один респондент. По данным опроса можно сделать вывод, о том что общественные экологические организации и движения в Астрахани носят элитарный характер и в основном в своих рядах объединяют профессионалов занимающихся вопро-сами экологии, а широкие слои общественности пока слабо вовлечены в их ряды. Однако 54% респондентов считают, что их деятельность необходима. При этом на вопрос о воз-можности личного участия в различных экологических акциях большинство респондентов ответили, нет 31% опрошенных либо скорее нет, чем да 26% опрошенных и только 16% опрошенных согласились принять участие в экологических акциях организованных обще-ственными экологическими организациями и движениями. Из различных видов экологи-ческой деятельности наиболее популярными оказались участие в экологических митингах и акциях протеста их выбрали 28% опрошенных, безвозмездную работу по улучшению экологической ситуации в регионе назвали 21% опрошенных, участвовать в обществен-ном контроле, над деятельностью экологически опасных производств выразили желание 19% опрошенных. Как видно из исследования респонденты выбирают наиболее традици-онные пути экологической активности, сама экологическая активность населения Астра-ханского региона пока не высока, однако процент респондентов которые склоняются в сторону активных действий достаточно высок и составил 27% именно на эту группу граждан и должна быть направлена агитационная работа общественных экологических организаций и движений, ибо это их потенциальные союзники которых необходимо при-влечь в свои ряды, для повышения эффективности своей деятельности. Одним из основ-ных каналов привлечения общественности в свои ряды ведется в усиление работы в обла-сти экологического образования и воспитания населения Астраханского региона, в ходе опроса 53% респондентов согласились с тем, что активизация экологическое образование и воспитание необходима для всех категорий граждан региона [3, с. 85].
Завершая рассмотрение вопросов, связанных с анализом российских общественных экологических организаций и движений, следует констатировать, что им пока не удалось стать неотъемлемой частью отечественной социально-политической жизни и гражданско-го общества в отличие от «зеленого движения» во многих западных странах.
135
Существенным фактором управления процессами развития экодвижения является уча-стие членов общественных экологических движений и организаций в разработке регио-нальных программ охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, в составлении планов-прогнозов развития экологической ситуации в стране и на отдельных ее территориях, в формировании программы деятельности экологических струк-тур и в организации их выполнения, координации усилий социальных институтов участву-ющих в процессе взаимодействия общества и окружающей природной среды, всех звеньев экодвижения по созданию системы экологического образования и воспитания населения с учетом последствий влияния человека на окружающую среду и контроля за соблюдением природоохранного законодательства. Следовательно, необходим допуск общественности, экологов, специалистов к оперативной информации о состоянии сложившейся экологиче-ской ситуации, к прогностической информации о возможных последствиях ее ухудшения и путях выхода из экологического кризиса, к сведениям о мерах, предпринимаемых властны-ми и иными структурами по оздоровлению экологической ситуации.
Каждое значимое выступление общественности в защиту природы предполагает под-готовительный этап: выработку претензий и требований, программы выхода из кризиса (необязательно всеобъемлющей, но содержащей комплекс конкретных мер), разработку механизма влияния на формирование общественного мнения и многое другое из широко-го набора организационных подходов и средств деятельности.
Таким образом, цель общественных экологических организаций и движений заключает-ся в обеспечение конституционного права граждан на благоприятную окружающую при-родную среду и охрану здоровья населения. Для достижения этого необходимо: совершен-ствование правовой и законодательной базы, международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окружающей среды, развитие системы экологического обра-зования, воспитания и формирования экологической культуры, закрепление всех форм уча-стия общественных в общественно политическом процессе организаций и граждан.
Масштаб задач в данной сфере деятельности общества велик, с одной стороны, это рост профессионального и общекультурного уровня населения с другой, большие резервы видятся автору в повышения социальной активности всего населения. До сих пор усилия общественности в основном направлены на ликвидацию негативных экологических явле-ний, то есть, ориентированы на решение текущих проблем. Однако жизнь показала, что исправление подобных нарушений стоит гораздо дороже и занимает гораздо больше вре-мени, нежели их предупреждение. Поэтому природоохранная деятельность населения должна разворачиваться как можно раньше. Повышения социальной активности мы ви-дим в планировании участия общественности, общественных экологических организаций и движений в природоохранной деятельности. Однако оно нуждается в научно обосно-ванной программе, органически связанной с планами комплексного социально-экономи-ческого развития региона. Так же необходима большая дифференциация и гибкость при работе с различными социально-профессиональными и возрастными группами населения.
Список литературы
1. «Зеленые» в Касимове победили власть // НГ-регионы. 2009. №2 (46). Приложение к «Независимой газете». С. 3–4.
2. Материалы Всероссийского форума Общественных экологических движений и организаций. М, 1999.
3. Миронова Ю.Г. Экологическая ситуация в регионе: социальные факторы и механизмы формирования: монография. Астрахань: Изд. дом Астраханский ун-т, 2009.
4. Федоров А.В., Кульбида В.Е. Российские общественные организации по природо-пользованию и охране окружающей среды: справочник. М., 2008.
5. Яницкий О.Н. Транснациональные экологические солидарности в России // Куда ведет Россия? Социальная трансформация постсоветского пространства. М., 2003.
136
В.Х. ШАКИРОВА
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ Добровольческая деятельность в современной России — важное социальное явление,
которое делает лучше качество жизни людей и, при благоприятных условиях, создавае-мых вместе с обществом и государством , способно быть значимым источником для соци-ального и экономического развития страны.
Добровольчество базируется на бесплатном, не оплачивающем труде. Поэтому моти-вами добровольчества выступает никак не материальное поощрение, а социальные и ду-ховные потребности людей. Кроме того, добровольческая деятельность связана с кон-кретным уровнем ответственности за собственный труд, поэтому, главное и принципи-альное различие добровольчества от благотворительности — это нематериальные отно-шения, а осуществление добровольного труда, которое никак не может регулироваться такими же нормативно-правовыми актами, что и отношение в сфере благотворительной деятельности.
В последние годы наблюдается подъем числа граждан и организаций , которые при-нимают участие в добровольческой деятельности, а также расширяются масштабы волон-терских программ и проектов. Основная цель политики государства в сфере содействия к развитию добровольческой деятельности — активизация потенциала добровольчества как ресурса развития общества, которое способствует формированию и распространению инновационной практики социальной деятельности, которая позволяет привлечь в соци-альную сферу трудовые ресурсы добровольцев.
Формирование законодательства в области добровольчества началось в середине 90-х годов XX столетия, когда в 1995 году, когда был разработан и принят Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», в котором впервые законодательно было определено понятие «добровольцы».
Добровольцы — физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения, работ, оказания услуг (добровольческой деятельно-сти) [2].
Около десяти лет в данный Федеральный закон не вносились изменения. На сего-дняшний момент вопросы развития и распространения добровольчества стали одним из главных направлений по созданию правовых, экономических и организационных условий, гарантий и стимулов для участия граждан в волонтерской деятельности.
12 ноября 2009 года в ежегодном послании Президента Российской Федерации Феде-ральному собранию Дмитрий Медведев отметил: «Задачей государства считаю создание условий для развития гражданского общества. Люди, неравнодушные к тому, что проис-ходит вокруг, должны иметь все возможности для реализации своих благородных устрем-лений... Мы продолжим поддержку некоммерческих благотворительных организаций, ко-торые помогают в решении сложных социальных проблем. Поправки в законодательство будут направлены на упрощение работы тем некоммерческим организациям, которые ве-дут благотворительную деятельность и помогают социально незащищенным гражданам. Рост гражданского самосознания, развитие институтов гражданского общества возможно только в развитой политической системе.
В России развивается законодательство, механизмы общественной и государственной поддержки добровольческой деятельности. Это происходит благодаря активности граж-данских институтов и их совместной деятельностью с органами власти. На местном и ре-гиональном уровне, стимулируется создание и развитие инфраструктуры поддержки доб-ровольческих инициатив граждан. Этому же процессу содействуют и масштабные между-народные мероприятия, в которых принимает участие Россия (Универсиада — 2013 в г. Казани, ХХII Олимпийские зимние игры и ХI Паралимпийские зимние игры — 2014 в г. Сочи, Чемпионат мира по футболу в 2018 г.). Концепция долгосрочного соци-
137
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года рассмат-ривает содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и органи-заций, а также распространению добровольческой деятельности. В соответствии с Кон-цепцией с 2009 года реализуется Концепция содействия развитию благотворительной дея-тельности и добровольчества в Российской Федерации.
Основными задачами содействия развитию добровольческой деятельности, связанны-ми с реализацией конституционного принципа поощрения добровольческой деятельности, являются:
1. Обеспечение роста поддержки в обществе и расширения участия граждан в добро-вольческой деятельности, а также повышение доверия граждан к добровольческим орга-низациям.
2. Обеспечение роста числа добровольческих организаций, в том числе частных и корпоративных фондов, обеспечивающих устойчивость добровольческой деятельности.
3. Содействие повышению эффективности и профессионализма деятельности добро-вольческих организаций.
4. Развитие инфраструктуры информационно-консультационной и образовательной поддержки добровольческой деятельности.
5. Формирование условий для эффективного использования потенциала добровольче-ской деятельности на этапах планирования и реализации социальных программ государ-ства и бизнеса в деятельности государственных и муниципальных учреждений и неком-мерческих организаций [1, с. 22–25].
На сегодняшний момент в Совете Федерации разработан проект Федерального Закона «О добровольчестве (волонтерстве)». Но до сих пор этот законопроект не был принят, т.к. получил огромное количество отрицательной критики. Есть примеры, когда еще не при-нятый законопроект уже приносит вред некоммерческим организациям. Например, в од-ном регионе 2 детских дома отказались принимать волонтеров, посещающих детей около 5 лет, объяснив, отсутствием письменного разрешения от областных чиновников. Важным мне показалось две идеи. Первая — госрегулирование необходимо в отношении тех орга-низаций, что, так или иначе, выполняют государственный заказ, то есть действуют на гос-ударственные деньги. Вторая — предложенная Союзом волонтерских организаций и дви-жений вместо идеи о «госоператоре волонтеров», состоит в создании своего рода Центр организации взаимодействия, у которого не будет функций и полномочий прямого управ-ления волонтерами (регулирования их деятельности), но с которым будет взаимодейство-вать государство.
Создание спроса и предложения на волонтерские услуги на территории, где они функ-ционируют, добровольческие центры создали новые нетрадиционные рынки труда, кото-рые выгодны для государства и общества. Осознавая свою главную задачу — с участием людей в участие в решении социальных проблем, добровольческие центры предоставляют широкий спектр важных социальных функций. Они способствуют государству в реализа-ции государственной социальной и молодежной политики. Через вовлечение молодежи в социальную практики способствовать социализации и самореализации. Содействуют личностному росту и развитию творческого потенциала молодого человека и общества в целом. Через общественный диалог и совместные усилия способствуют укреплению до-верия и сотрудничества между государством и обществом. Обеспечивают большую соци-альную добровольческую активность населения, что способствует развитию гражданского общества. Через укрепление сотрудничества с международным добровольческим сообще-ством, содействуют привлечению в Россию самых современных и инновационных техно-логий; способствуют построению позитивного имиджа России в мире. Стратегия сетевого развития и работа добровольческих центров в единой сети посредством информационно-коммуникационных сетей, каналов связи, информации позволяет обеспечивать суще-ственный прирост социального капитала.
138
Добровольческие организации для определения сферы и объема работ осуществ-
ляют взаимодействие: – с властными структурами: органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления; – с некоммерческими организациями: досуговые и культурные центры, спортивные
организации, библиотеки, образовательные учреждения (школы, ссузы, вузы), благотво-рительные фонды, информационные, аналитические и исследовательские центры. От-дельно отметим взаимодействие с организациями благополучателями: учреждения здраво-охранения, другие социальные учреждения, образовательные учреждения и др.;
– с коммерческими организациями: банки, финансовые учреждения, производствен-ные предприятия, торговые организации, частные предприниматели и др. В то же время, недопустимо, чтобы добровольцы привлекались к деятельности коммерческой организа-ции, направленной на извлечение прибыли. Речь идет о ситуации, когда коммерческая ор-ганизация осуществляет социальный проект.
Волонтерский центр, независимо от того, в какой части страны работает — не являет-ся специализированной организацией, которая действует на определенной территории, предоставляя полный спектр услуг в области управления ресурсами на общественных началах, чтобы создать наиболее благоприятные условия для добровольчества, людей всех возрастов и более эффективной деятельности организаций, использующих добровольцев1.
Международная практика показывает, что система поддержки развития добровольче-ства является одним из ключевых инструментов для развития гражданского общества, важнейшим ресурсом для работы некоммерческого сектора, способствует росту социаль-ной сплоченности и укрепления доверия между обществом и властью, развитию подрас-тающего поколения, вносит значительный вклад в укрепление духовного и нравственного потенциала общества.
Исследование экономической эффективности добровольчества показывает, что в стра-нах, где добровольческая деятельность поддерживается государством и обществом, вклад добровольцев в социальное и экономическое развитие составляет около 8% от среднего
1 Бондренкова Г.П. Развитие механизмов системной поддержки добровольчества. опыт регионов и му-
ниципалитетов // Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества в регионах и муниципалитетах: практика межсекторного взаимодействия – 2011: практич. пособие; под ред. А.Е. Шадрина, зам. директора Деп. стратег. упр. (программ) и бюджетирования Минэкономразвития России. М.: Агентство социальной информации, 2011. С. 193–194.
139
показателя национального ВВП, а в некоторых странах этот показатель может достигать и 14% от ВВП.
В Астраханской области добровольческая деятельность является важной социальной и гражданской движущей силы. С точки зрения гражданского участия добровольцы и члены их семей, как правило, более активны в общественной жизни, чем те, кто ими не добровольцы чаще, чем люди, не занимающиеся волонтерской деятельностью, вовлекают-ся в другие формы гражданского участия, такие как решение вопросов, путем консульта-ций с общественностью или через взаимодействие с выборными представителями. Такое участие может действовать как катализатор социальных процессов общественного разви-тия, что со временем существенно влияет на благополучие общества.
Приоритетное направление заключается в содействии развитию добровольчества пу-тем создания структурно-функциональной модели добровольчества деятельности, форми-рование единой информационной базы данных общественных организаций и волонтер-ских акций, ведь только организованное добровольчество может обеспечить расширение масштабов добровольчества и повышению его эффективности.
Реализация задач продвижения добровольчества включает активизацию механизмов самоорганизации участников волонтёрства, саморегулирование добровольческих обще-ственных организаций на принципах партнерства между органами государственной вла-сти, органами местного самоуправления и институтов гражданского общества.
Список литературы
1. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и доброволь-чества в РФ, одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 1054-р // СОТИС, 2009. №9.
2. Федеральный закон 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (в ред. 05.05.2014) // Российская газета, №159. 17.08.1995.
140
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ, ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.А. БОГДЮК
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него
информационных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельно-сти, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя гло-бальное информационное пространство. Создание и развитие информационного общества предполагает широкое применение информационных коммуникационных технологий в образовании.
В Федеральной целевой программе «Развитие единой образовательной информацион-ной среды» отмечается, что в условиях динамично меняющего мира, глобальной зависи-мости и конкурентности, необходимости широкого использования и постоянного развития и усложнения технологий, фундаментальное значение имеет информатизация сферы обра-зования. Информатизация образовательной среды и формирование информационной ком-петенции обучающихся рассматриваются в рамках государственной образовательной по-литики в качестве стратегических задач современной модели образования, ориентирован-ной на развитие инновационной экономики России.
Следовательно, информатизация должна стать важнейшим условием эффективного функционирования и развития общеобразовательного учреждения, так как именно школа призвана создать условия для формирования личности, обладающей качествами, которые позволят ей занять свою активную позицию в современном информационном обществе.
В настоящее время в России идет становление новой системы общего образования, ориентированной на вхождение в мировое информационно-образовательное простран-ство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической тео-рии и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным тех-ническим возможностям и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информа-ционное общество. Информационные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей качество образования в соответствии с требованиями совре-менного общества.
Активное внедрение компьютерных технологий во все сферы деятельности, создание новых коммуникаций и информационной среды стали не только началом преобразования традиционной системы образования, но и первым шагом к формированию информацион-ного общества.
Широкое применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обра-зовании определяется рядом факторов.
Во-первых, внедрение ИКТ в образование ускоряет передачу знаний и накопленного технологического опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одно-го человека другому.
Во-вторых, современные ИКТ позволяют человеку быстрее и успешнее адаптировать-ся к происходящим социальным изменениям и окружающей среде, повышая качество обучения и образования. Это дает возможность человеку получать необходимые знания, как сегодня, так и в будущем постиндустриальном обществе.
В-третьих, активное и эффективное внедрение новых технологий в образование явля-ется важным фактором создания системы образования, которая отвечала бы требованиям
141
информационного общества и процессу реформирования традиционной системы образо-вания в свете требований современного индустриального общества.
В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом термина «компьютерные технологии», потому что все информационные технологии так или иначе связаны с применением компьютера. Термин «информационные технологии» намного шире и включает в себя «компьютерные технологии». Информационные техно-логии, основанные на использовании компьютерных и сетевых средств, образуют термин «современные информационно-коммуникационные технологии». Под средствами совре-менных информационных и коммуникационных технологий понимаются программные, программно-аппаратные и технические средства, а также устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, современных средств и систем транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и воз-можность доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей (в том числе гло-бальных).
Многие педагоги всё чаще включают современные информационные технологии в свою методическую систему, принимая во внимание их огромное влияние на процесс образования. Однако информатизация школьного образования не может произойти мгно-венно, согласно реформе, она является постепенным и непрерывным процессом.
В настоящее время можно выделить следующие основные направления внедрения средств информационных технологий в школьное образование:
1. Использование компьютерной техники в качестве средства обучения, повышающе-го его эффективность и качество, совершенствуя при этом процесс преподавания. Обеспе-чивается реализация возможностей программно-методического обеспечения современных технических средств в целях моделирования учебных ситуаций, сообщения знаний, осу-ществления контроля за результатами обучения; использование объектно-ориентирован-ных программных средств (например, электронных таблиц, системы подготовки текстов, баз данных); реализация возможностей систем искусственного интеллекта в процессе применения обучающих интеллектуальных систем.
2. Использование компьютерных технологий в качестве инструментов oбучения, по-знания себя и действительности.
3. Рассмотрение компьютера и других современных средств информационных техно-логий в качестве объектов изучения (например, в рамках освоения курса информатики).
4. Использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процес-сов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики.
5. Использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого.
6. Использование средств современных информационных технологий для организа-ции интеллектуального досуга.
7. Организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы.
8. Интенсификация и совершенствование управления учебным заведением и учебным процессом на основе использования системы современных информационных технологий.
Для организации обучения в системе общего образования всё чаще используются но-вые системы обучения, основанные на современных информационных технологиях, такие как: электронное и дистанционное обучение.
Министерство образования РФ видит следующие пути вхождения системы общего образования в мировую информационно-образовательную среду:
− совершенствование базовой подготовки обучающихся образовательных учрежде-ний по информатике и современным информационным технологиям;
142
− переподготовка педагогического состава в области современных информационных технологий;
− информатизация процесса обучения и воспитания; − оснащение системы общего образования техническими средствами информатизации; − создание современной информационной образовательной среды и интеграция в нее
учреждений системы общего образования; − создание единой системы дистанционного образования на базе современных ин-
формационных технологий; − участие образовательных учреждений в международных программах, направлен-
ных на внедрение современных информационных технологий в образование. Процесс внедрения информационных технологий в систему образования длительный,
сложный и требующий больших затрат. Именно по этой причине, при разработке проек-тов в данной области большое значение придаётся оценки их эффективности и полноцен-ному технико-экономическому обоснованию.
Создание и накопление различных средств информационных коммуникационных тех-нологий для образовательных учреждений порождает целый ряд проблем педагогического характера. Прежде всего, отсутствие какой-либо системы в разработке и накоплении, а так же в практическом использовании разрозненных информационных ресурсов педагогиче-ского назначения. Как правило, подобные средства никак не связаны между собой и не-оправданно дублируют одну и ту же информацию. Средства информатизации, используе-мые в рамках одного образовательного учреждения, требуют принципиально различных методических и технологических подходов, накладывают существенные требования на знания и умения школьников, что отрицательно отражается на эффективности учебного процесса.
Еще одной проблемой, связанной с хаотичностью разработки и использования инфор-мационных коммуникационных технологий и ресурсов в образовательном учреждении, является практическая невозможность универсальной подготовки педагогических кадров, способных комплексно использовать преимущества средств информационных технологий в учебной, внеучебной и организационно-педагогической деятельности. Необходимо объ-единение в одну унифицированную систему информационных ресурсов и технологий, ис-пользуемые во всех сферах деятельности образовательного учреждения системы общего образования. Подобная система должна быть дополнена общими однотипными методоло-гическими требованиями и рекомендациями.
Попытки формирования информационной образовательной среды предпринимаются во многих образовательных учреждениях, однако, как правило, они сводятся к решению технических проблем взаимоувязывания отдельных средств и технологий информатиза-ции. До сих пор не решены вопросы унификации содержания и методов, характеризую-щих использование средств ИКТ.
На роль подобной системы может претендовать информационная образовательная среда образовательного учреждения, определяемая во многих публикациях как совокуп-ность компьютерных средств и способов их функционирования, используемых для реали-зации обучающей деятельности.
Построение информационной образовательной среды учреждения и её использование в учебном процессе, воспитании обучающихся достигнет положительного результата, ко-гда сформируется должная готовность педагогов к использованию средств ИКТ данной среды. Необходимо психологически подготовить педагогические кадры и администрацию к деятельности с использованием среды, провести обучение педагогов и учащихся по опе-рированию с информационными ресурсами среды, подобрать специалистов, обеспечива-ющих функционирование отдельных компонент, организовать обмен опытом по разработ-ке и эксплуатации среды в условиях системы общего образования.
Организация работы локальной сети образовательного учреждения и использование ресурсов Интернет позволяет научить учащихся работать с большими объёмами инфор-
143
мации, повышает качество получаемых ими знаний и работу педагогов. Помимо этого, она делает удобным документооборот внутри образовательного учреждения, расширяет возможности контроля за качеством знаний и умений обучающихся, повышает их интерес к изучению предметов и созданию ресурсов информационной образовательной среды.
Создание информационной образовательной среды в конкретном образовательном учреждении представляет собой сложный путь становления и развития процессов инфор-матизации всех видов деятельности учреждения системы общего среднего образования.
Целесообразно рассматривать возможные перспективы интеграции информационных сред образовательных учреждений в единое информационное образовательное простран-ство системы общего среднего образования, формируемое в общегосударственном мас-штабе. Необходимо объединить информационные ресурсы и технологии, используемые во всех сферах деятельности учреждений и составляющих основу информационных образо-вательных сред, в один унифицированный комплекс. Подобный комплекс должен быть распространён на всю систему общего среднего образования и дополнен общими одно-типными методологическими требованиями и рекомендациями.
Совершенно очевидно, что этот процесс положительно отразится на темпах ком-плексной информатизации государственной системы образования.
В государственном масштабе информационное образовательное пространство систе-мы общего образования России в целом объединяет в себе информационные образова-тельные пространства всех областей и регионов страны, базирующихся на современных компьютерных средствах телекоммуникационного обмена, таких как глобальная сеть Ин-тернет.
Вопрос о роли информационных технологий в совершенствовании и модернизации сложившейся образовательной системы является актуальным на протяжении последних двух десятилетий.
Применение информационных и коммуникационных технологий в системе организа-ции общего образования сводится к двум основным направлениям.
Первое состоит в использовании возможностей этих технологий для увеличения до-ступности образования, что осуществляется путём включения в систему общего образова-ния тех лиц, для которых другой способ может быть вообще недоступен.
Второе направление предполагает использование информационных технологий для изменения того, чему учить и как учить, то есть содержания и способов обучения в рамках традиционной очной формы.
Переход к реальной информатизации общего образования возможен на основе единой образовательной информационной среды, формируемой всеми участниками информаци-онного процесса.
Основной задачей всех проектов, основанных на широком использовании возможно-стей информационных и телекоммуникационных технологий, является обеспечение полу-чения доступного и качественного общего образования.
Список литературы
1. Акимова М.А., Лавриненко О.Я., Егорова Н.Г., Перова И.И., Томилина Н.В., Буд-никова Г.А. Программа опытно-экспериментальной работы «Создание единой информа-ционно-образовательной среды ОУ как условие повышения эффективности и качества об-разовательного процесса». Астрахань, 2009. 45 с.
2. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Информатизация образования. Фундаментальные основы. М., 2005. 231 с.
3. Яковлев А.И. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс] // Официальный сайт: Журнал Информационное общество. URL: http://emag/iis.ru/arc/infosoc/einag/nsf/BPA/ (дата обращения: 23.05.2014).
144
О.А. ЗОБНИНА
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПРЕДМЕТУ ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» Направление подготовки «Менеджмент» выявляет основную установку на подготовку
профессионала, готового к управленческой работе в сфере экономики, конкурентного на рынке труда и способного к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию и творческому развитию, что абсолютно соответствует потребностям современного обще-ства в различных сферах его функционирования. С увеличением роли грамотного управ-ления для решения экономических задач увеличивается и роль иностранного языка в про-цессе профессионального общения между людьми разных стран и культур. Наряду с узко-профессиональными навыками и умениями, овладением теорией менеджмента, необходи-мо формировать у студента общекультурный кругозор, а обучение иностранному языку, несомненно, должно этому способствовать. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у студента с учетом профессиональной направленности — приоритетная за-дача преподавателя иностранного языка.
Обучение иностранному языку в высшей школе направлено на формирование обще-культурных компетенций, под общекультурными компетенциями при этом понимают «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии», «Владение иностранным языком на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность», «Способность логиче-ски верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь» [1]. При конкре-тизации аспектов формируемых общекультурных компетенций с учетом специфики направления подготовки в вузе, на наш взгляд, на этапе более углубленного изучения ино-странного языка лингвокультурологическому аспекту формирования общекультурных компетенций должно уделяться особое внимание.
Это можно объяснить тем, что понятие «общекультурная компетенция» в приложении к изучению иностранного языка подразумевает целый ряд компетенций, объединенный одним обобщающим термином. Основной, несомненно, выступает языковая компетенция. Данный термин широко используется в лингвистике и, в наиболее широком смысле, под-разумевает «всю совокупность представлений о степени владения носителем языка языко-выми средствами» [2]. Но сама по себе достаточная для восприятия и воспроизведения высказывания языковая компетенция без компетенций профессиональных явно недоста-точна в ситуации профессионального общения с использованием иностранного языка.
Повышение уровня обучение иностранному языку, совершенствование данного про-цесса способно стимулировать личностный рост будущего специалиста, его адаптивные качества. Его способность интегрироваться в иноязычное общество и решать вопросы, связанные с профессиональной деятельностью, значительно усиливаются только при по-нимании специфики иной деловой культуры. Именно поэтому в таком актуальном направлении как сравнительный менеджмент — дисциплине, изучающей сходства и раз-личия менеджерских практик в разных странах, делается вывод о необходимости учета специфики национальной деловой культуры [3]. Понимание этого создает необходимую мотивацию к изучению иностранного языка.
Сопоставлению культур посвящено большое количество работ зарубежных и отече-ственных авторов. Прикладной аспект изучения особенностей иной культурной среды, приобретения фоновых знаний важен для моделирования ситуации общения на иностран-ном языке, в которой будущий менеджер должен уметь воспользоваться всеми приобре-тенными за время обучения в вузе общекультурными компетенциями.
145
Формирование общекультурных компетенций должно происходить с учетом психоло-гических, когнитивных, социокультурных факторов, каждый из которых в равной степени важен для оптимизации навыков общения на иностранном языке.
К психологическим факторам можно отнести психологические затруднения, мешаю-щие адекватному восприятию и передаче информации при необходимости реализации коммуникативной задачи на иностранном языке, а также мотивацию студента к общению на нем. Обучение иностранному языку способно решить психологическую задачу устра-нения «языкового барьера»: «Чтобы активно пользоваться языком как средством общения, необходимо знать как можно глубже мир изучаемого языка, т.е. его социокультурные ас-пекты, а для этого нужно преодолеть барьер культурный. Следовательно, необходимо, чтобы содержание курсов иностранных языков включало элементы культуры изучаемого языка» [4, С. 86]. Психологический фактор нельзя рассматривать изолированно, посколь-ку уверенность в общении на иностранном языке закономерно вырабатывается при глубо-ком знании языкового материала, например, владение определенной грамматической структурой и способность наполнять ее разнообразной лексикой, а, следовательно, нали-чие навыка решения сходных коммуникативных задач. Психологический и коммуника-тивный аспекты пересекаются, и это не единственный пример их пересечения. Стимули-рование самостоятельной активности студента через постановку задач, для решения кото-рых он испытывает необходимость строить и осуществлять высказывание, тоже пример взаимодействия когнитивного и психологического факторов процесса коммуникации. Также мотивация к овладению социокультурным знанием является залогом успешного овладения общекультурными компетенциями. Студенту-менеджеру необходимо через изучение английского языка приобретать представление о модели ведения дел в стране изучаемого языка, способность ориентироваться в культурных деловых нюансах.
Традиционно знакомство со странами изучаемого языка, их культурой и обычаями происходит через чтение текстов страноведческого характера, различные упражнения, направленные одновременно на введение, закрепление либо контроль усвоения лексиче-ского и грамматического материала, основной же целью является приобщение обучающе-гося к картине мира носителей языка. Таким образом, тематическое членение материала на разделы должно отразить те материальные и духовные ценности культуры изучаемого языка, которые для нее наиболее характерны либо на данный момент актуальны. С точки зрения лингвокультурологии в процессе обучения происходит приобщение к фоновым знаниям (background knowledge), которые, в наиболее обобщенном определении данного понятия, представляют собой «Знания, характерные для говорящих на данном языке, обеспечивающие речевое общение, в процессе которого эти знания проявляются в виде смысловых ассоциаций и коннотаций, соблюдения норм речевого поведения носителей языка» [5].
Объем фоновых знаний определяют как «фреймовую пресуппозицию» [6, C. 8], на формирование которой может быть сознательно ориентировано обучение иностранному языку в вузе. Фреймовую пресуппозицию рассматривают «как невербальный компонент коммуникации, как сумму условий, предпосылаемых собственно речевому высказыванию и являющихся национально-специфическим индикатором интракультурного общения» [7, C. 312].
Формирование определенного пласта фоновых знаний у студента происходит и через приобщение к истории и реалиям иноязычной культуры через изучение языковых явлений — норм языка и отклонений от них, речевых стратегий, и непосредственно через рассмот-рение стран изучаемого языка через призму их истории и современного социального уклада. Формирование фоновых знаний в сфере профессиональной деятельности на заня-тии по иностранному языку подразумевает синтез профессиональных дисциплин и изуча-емого языка.
Студенту-менеджеру в процессе изучения иностранного языка следует ознакомиться с источниками, в которых рассказывается об особенностях деловой культуры изучаемого на
146
данном этапе государства. В программу подготовки менеджеров обычно включены спец-курсы по кросс-культурным коммуникациям, сравнительному менеджменту либо особен-ностям деловой коммуникации. В процессе их прохождения социокультурные компетен-ции формируются, и дается возможность получить представление о ментальности пред-ставителей той или иной культуры. Все вышеперечисленные курсы предполагают сопо-ставление и сравнение культурных особенностей, но нельзя не согласиться, что «Кросс-культурный подход также предполагает сравнения, но они нацелены преимущественно на идентификацию социокультурного контекста в управленческой практике» [8, C. 85].
Более активное акцентирование кросс-культурных особенностей бизнеса при обуче-нии иностранному языку способно оживить формальное знание о системах управления, перевести его в плоскость моделирования, проигрывания в ситуациях общения. Примене-ние этих знаний при обучении иностранному языку — процесс творческий. Для того, что-бы аудиторное время расходовалось оптимально, задания, предваряющие непосредствен-но моделирование, следует выносить в раздел самостоятельной работы, а момент кон-троля отразить в фонде оценочных средств, осуществляя его через ответы на контрольные вопросы, либо краткие сообщения по теме. Например, в процессе работы над разговорной темой «What is a manager?», можно предложить студентам ознакомиться с адаптирован-ными до среднего уровня сложности аутентичными текстами, в которых дается характе-ристика деловой британской культуры или, если уровень студента позволяет, осуществляя дифференцированный подход, предоставить ему перечень источников неадаптированных текстов. Приоритетной функцией контроля на данном этапе знакомства с иноязычной средой является развивающая, под которой мы понимаем «развитие личности обучающе-гося, его познавательных способностей». (Педагогика высшей школы [9]. Заключитель-ным его этапом на момент окончания проработки темы должно стать умение общаться (устно и письменно) в контексте именно британской традиции деловой коммуникации.
Таким образом, границы владения «деловым английским» перемещаются в лингво-культурологическую плоскость. Студент знакомится с необходимым набором достовер-ных стереотипов о деловой коммуникации в Великобритании: предпочтение дипломатич-ности прямому выражению мнений и идей, использование юмора для сглаживания «ост-рых углов» в ситуациях общения, скромность в самооценке, использование «формул веж-ливости» и т.д. Далее, следуя тематическому членению программы, происходит переход к следующей теме, где можно использовать уже приобретенные навыки общения на ино-странном языке для сопоставительного анализа, обсуждения, обобщения сходств и разли-чий деловой коммуникации в разных странах.
Поскольку английский язык в наши дни стабильно сохраняет статус языка междуна-родного общения, рассмотрение лингвокультурологических аспектов менеджмента на за-нятии по иностранному языку не должно ограничиваться лишь изучением особенностей деловой коммуникации англоговорящих стран. Современный бизнес международного уровня в наши дни — весь «англоговорящий», по этой причине английский язык стано-вится особенно актуальным для направления подготовки «Менеджмент». Уровень владе-ния иностранным языком во многом определяет границы карьерного роста выпускника вуза. Включение английского языка в специализированные аспекты профессионально-ориентированной деятельности должно носить целенаправленный характер.
Лингвокультурологический аспект формирования общекультурных компетенций по предмету иностранный язык можно усилить через интеграцию английского языка в спец-курсы, имеющие отношение к кросс-культурным коммуникациям, например, проведение лекций и семинаров на английском языке, организацию круглых столов по профессиональ-ной тематике с носителями языка. При этом в формировании общекультурных компетенций по предмету «Иностранный язык» у студентов направления подготовки «Менеджмент» должен присутствовать творческий подход и правильно сформированная база лингвокуль-турологических знаний как общей, так и узкоспециальной направленности.
147
Список литературы 1. Федеральный государственный образовательный стандарт направления подготовки
080200 «Менеджмент» [Электронный ресурс]. URL: http://www.edu.ru/db-mon/-mo/Data/d_10/prm544-1.pdf (дата обращения: 13.04.2014)
2. Языковая компетенция // Энциклопедия эпистемологии и философии науки [Элек-тронный ресурс]. URL: http://epistemology_of_science.academic.ru/978/языковая_ компе-тенция (дата обращения: 13.04.14).
3. Пивоваров С.Э. Сравнительный менеджмент. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008. 480 с. 4. Макаев Х.Ф. Устранение языкового барьера как условие формирования языковой
компетенции будущего специалиста. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. Т. 81. №11,СПб.: Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 2011. C. 83–87.
5. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) [Электронный ресурс]. URL: http://methodological_terms.academic.ru/2240/ФОНО-ВЫЕ_ЗНАНИЯ) (дата обращения 15.03.2014).
6. Фурманова В.П. Межкультурная коммуникация и лингвокультуроведение в теории и практике обучения иностранным языкам. Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 1993. 122 с.
7. Халеева И.И. Некоторые проблемы обучения межкультурной коммуникации на ос-нове когнитивного подхода // Психолингвистика и межкультурные взаимоотношения: Те-зисы докл. 10 Всесоюз. симпозиума по психолингв. и теории коммуникации. М.: АН СССР, Ин-т. языкознания, 1991. С. 310–312.
8. Штыхно Д.А. Международный и кросс-культурный подходы в сравнительном ме-неджменте: опыт и проблемы образовательного процесса. // Известия Российского эконо-мического университета им. Г.В. Плеханова. №3(3). М.: Российский экономический ун-т им. Г.В. Плеханова, 2011. С. 83–91.
9. Егоров В.В., Скибицкий Э.Г., Храпченков В.Г Педагогика высшей школы. URL: http://txtb.ru/82/46.html (дата обращения 13.04.2014).
148
Э.Ш. ИДРИСОВ
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОСТАНОВКЕ ЭТНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Этнокультурные процессы в молодежной среде обладают своей спецификой. На это
накладывают отпечаток, как возрастные особенности, так и современные процессы социо-культурных изменений, которым молодые люди подвержены быстрее всего. Анализируя сложившиеся отношения в межэтнической сфере Астраханской области, можно обозна-чить основные тенденции, причем часто разнонаправленные, которые себя проявляют в молодежной среде:
– запрос на этноконфессиональное признание (проявляется в форме выраженного эмоционального переживания о судьбе своей этнической общности или конфессии);
– первостепенный интерес к обрядовой стороне культуры, нежели догматике (прояв-ляется в том, что молодежь стремиться быть, прежде всего, участником социального дей-ства, нежели понимать смысловое значение и в целом религиозную систему);
– подвижность этноконфессиональных ценностей и ориентиров (от гиперактивности до гиперпассивности в рамках этнокультурной традиции, а также явления прозелетизма в отношении традиционной конфессии);
– этнический нигилизм (как в форме этноцентризма, то есть неприятия других куль-тур, так и в форме космополитизма, то есть отказа от восприятия собственных этнокуль-турных ценностей);
– виртуализация этнического сознания (роль современных информационных техноло-гий, прежде всего Интернета).
Более подробную характеристику тенденций в молодежной этнокультурной среде мы планируем сделать в следующей публикации, а сейчас хотелось бы сделать акцент на по-следней из них представленной нами. Никто не отрицает, что современная цифровая ре-волюция глобально меняет нашу жизнь. Можно проследить ее влияние и на такую сферу как этноконфессиональная.
Здесь можно опереться на мнение ученых, которые говорят о том, что электронные технологии усиливают воздействие информации на сознание человека, в тоже время фор-мируют зависимость от них. Одним из последствий влияния IT на жизнь людей, о котором говориться все больше, является феномен так называемого «клипового мышления» [2]. Для нашей темы в этом отношении важна проблема степени воздействия информации с помощью IT на психику человека. Отгородиться от влияния невозможно, но важно, ка-кой направленности транслируется этноконфессиональные знания.
Как только начала развиваться система Интернета в России, она активная стала ис-пользоваться в этнокультурной сфере. На первом этапе развитие происходило за счет мо-дерации сайтов с этнокультурной информацией, затем наступила эпоха социальных сетей. Не будет просчетом назвать, что «этнокультуному всплеску» современности мы обязаны развитием данной сферы. Интернет стал инструментом этнической мобилизации, разви-тию этой системы отводится внимание как одно из направлений деятельности в этнокуль-турных движениях. Интересно, что современные IT все больше становятся средствами эт-нообразования, в частности, в овладении навыками родного языка.
В этой связи для работы с молодежью в этнокультурной сфере необходимо большое внимание уделять, как органам власти и общественности, современным информационным технологиям, как средству трансляции знаний согласно сложившимся традициям.
Далее для раскрытия нашей темы интересно рассмотреть вопрос о функционировании лидерства в молодежной среде на примере Астраханской области. Современная практика показывает, что молодые лидеры опираются на авторитет и опыт руководителей област-ных национальных обществ. При этом можно отметить такой факт, что сложилось, как формальное лидерство, так и неформальное лидерство с мобилизацией этничности.
149
В нашем случае формальным, мы считаем такую разновидность лидеров, которых вы-брали на собрании областных организаций как кураторов по работе с молодежью от лица этнообъединения, а к неформальному лидерству, мы относим молодых лидеров представ-ляющих студенческие землячества астраханских вузов и ссузов из соседних регионов РФ и стран СНГ, без официального утверждения у областного этнообъединения.
Общая тенденция, проявляемая в молодежном этнокультурном лидерстве, как можно отметить по нашему наблюдению, это отсутствие стабильности в стремлении выражать этнокультурные ценности. Она проявляется в частности, в том, что когда молодые люди меняют свой социальный статус, например, начинают работать, или вступают в брак, они чаще уходят от лидерских позиций или вообще полностью закрываются от этнокультур-ной работы. Есть и другие примеры — когда руководители национальных обществ сами выращивают себе смену, иногда делая ставку на свое родственное окружение.
Главным моментом современного этнокультурного лидерства является процесс его «десакрализации», т.е. уменьшении харизматичности (в смысле «особости») за счет этно-культурной специфики. Это способствует несколько причин, в частности, все больший отрыв в личном владении этнокультурной информации, в направлении потери навыков владения родным языком и знания традиции, а также на это влияет изменения самой сре-ды этнокультурных сообществ и другие факторы. Как компенсация этих процессов, воз-можно усиление в ближайшем будущем конфессионального компонента мобилизации эт-ничности. Изменился и сам подход к организации работы, он стал более менеджерский, иногда совмещенный с предпринимательскими начинаниями.
Не последнюю роль в поддержке авторитета молодых лидеров имеют различного рода советы при органах власти, это, прежде всего, молодежная группа при этноконфессио-нальном совете Губернатора Астраханской области, совет при агентстве по делам моло-дежи и молодежный координационный совет при мэрии города Астрахани.
На региональном уровне в Астраханской области сложились оригинальные практики этнокультурных мероприятий молодежи или для молодежи:
– совместное проведение национальных и религиозных праздников (самый яркий пример «Навруз-байрам»);
– молодежные вечера и национальные дискотеки в ночных клубах (наиболее частые казахские и татарские дискотеки, вечера ногайской и калмыцкой культур и др.);
– экскурсии по историческим и этнокультурным памятникам народов Астраханского края; – конкурсы этнокультурной компетентности для девушек («Мисс-Навруз», «Татар-
кызы», «Мисс-Кунак», «Красота-Этно» и др.); – спортивные мероприятия с этнокультурным компонентом (Кубок «Дружбы наро-
дов» по футболу, Всеногайский турнир «Степные богатыри» и др.); – преподавание родных языков (практика казахского, армянского, татарского НКО
и др. этнообъединений); – Интернет-продвижение этнокультурной деятельности (через сайт общества, но чаще
через группу в социальных сетях, из которых лидирует «Вконтакте»). Среди современных тенденций последнего времени можно отметить устойчивое
стремление организовывать межнациональные мероприятия, или с приглашением гостей из других национальных обществ на свои национальные события. Этнокультурные объ-единения стремятся не только работать в своей национальной среде, но и показывать свою деятельность для других сообществ.
Большую работу в направлении этнокультурной компетентности проводит Астрахан-ский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С 1998 г. действует проект клуб национальных культур «Кунак», с 2000 г. — создание и развитие Центра этнополитического изучения народов Астраханского края (современное обозначение — лаборатория этнополитических исследований), с 2007 года — создание Ассоциации тюркской молодежи «Джиен» («Единение») [1].
150
Аккумулируя прошлый опыт и приспосабливая свою деятельность к современным эт-нокультурным трендам в молодежной среде, мы решили апробировать на практике соб-ственный принцип в этнокультурной работе, который обозначили как «этномикс». «Этно-микс» — это руководство для этнокультурной деятельности, предполагающее активное постижение этнических культур, посредством погружения в среду с помощью игровых технологий и современных информационных средств. Впервые это обозначение прозву-чало 6 декабря 2011 года, когда мы инициировали проведение молодежного фестиваля («интер-этник-шоу») этнокультурных объединений по формуле — каждое объединение представляет не свою культуру, а культуру народа, который им достался по жеребьевке. Так, получилось, что армяне представляли татарскую культуру, евреи ногайскую, калмы-ки узбекскую и так далее. Предложенная форма вызвала интерес и получила положитель-ные отклики, как у самих участников, так и у гостей вечера [3].
Современной формой организации нашей экспериментальной работы с опорой на сформулированный подход является учреждение Молодежного центра этнокультурных коммуникаций «Этномикс». Цели деятельности центра: 1) развитие игровых технологий в этнокультурной деятельности; 2) организация методической помощи в этнокультурной работе с молодежью; 3) информационная поддержка этнокультурных проектов. В руко-водство объединения на данный момент входят студенты специальности ГМУ Аф РАН-ХиГС: Ж. Тулиева, И. Котеньков, К. Морозов, Д. Холгаева, А. Манкаева, М. Арутюнян, Н. Юрьева, К. Ахмедова и др. Всяческая помощь им оказывается со стороны старшекурс-ников будущих выпускников Р. Кишибаева, В. Шакировой и О. Воробьевой.
Новый состав проекта «Этномикс» впервые был презентован на Слете молодых акти-вистов национальных обществ Астраханской области 22–23 апреля 2014 года. Члены Цен-тра провели масштабное авторское мероприятие — «Этнический тимбилдинг». Суть иг-ровой технологии заключалось в том, что бы за несколько минут погрузить членов команд в культурную специфику той или иной этнической общности. Были организованы стан-ции: русская (в форме викторины), казачья (фаланкировка нагайкой и шашкой) татарская (кулинарный мастер-класс), казахская (мастер-класс по домбре), ногайская (спортивная забава «табан тирес»), калмыцкая (игра в альчики), северокавказская (участие в свадеб-ном обряде «кража жениха»); узбекская (мастер-класс по национальному танцу), азербай-джанская (мастер-класс по традиционному певческому жанру «мейхана»), армянская (ма-стер-класс по национальному письму). Команда за каждый этап получала букву от слова «астраханцы», которое на нулевом километре менялось на пазл слогана: «Мы разные, но мы вместе»!
В течение мая 2014 года члены Центра «Этномикс» прошли обучение в стартап-школе «LIFTерная», где разрабатывали свой проект по онлайн обучению родным языкам. Данный вид деятельности хорошо ложится в современные тренды развития образования, в том числе с использованием информационных технологий. Была произведена оценка размера рынка за-просов на данную услуга, а также отработаны каналы продвижения образовательного про-дукта. По итогам конкурса проект Центра «Этномикса» занял второй место [5].
На данном этапе одним, из главных направлений, деятельности Центра является раз-витие информационного направление по созданию собственного сайта и продвижению медиа-проекта. Кроме этого, Центр «Этномикс» стал партнером администрации «При-волжского района» по созданию и продвижению муниципального туристического марш-рута «В глубину веков» [4].
Обобщая этнокультурную проблематику в молодежной среде, необходимо отметить, что мы находимся на пороге больших изменений. Действие современных тенденций пока сопряжено с условиями социокультурной среды связанной с прошлым периодом. И мож-но сказать, что на данный этап является переходным. Возможно, в силу действия многих тенденций, этнокультурная сфера будет приобретать новые формы трансляции, в частно-сти, будут развиваться новые формы фиксации этнической традиции. Более обосновано и определенно об этом можно будет говорить при проведении системного исследования.
151
Список литературы 1. Викторин В.М., Идрисов Э.Ш. Роль этнокультурной подготовки будущих управ-
ленцев в условиях полиэтничного региона (на примере деятельности Астраханского фи-лиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы) // Модерни-зация науки и образования. Возможности. Проблемы. Перспективы: материалы I Всерос-сийской научной конференции. 21 декабря. 2013 г. Челябинск: Изд-во Метеор-Сити. Че-лябинск, 2013. C. 213-217.
2. Семеновских Т.В. «Клиповое мышление» – феномен современности [Электронный ресурс]. URL: http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/ (дата обращения: 23.05.2014).
3. Блог Э. Идрисова [Электронный ресурс]. URL: http://idrisel.livejournal.com-/2011/12/07/ ; Блог В. Яковлева [Электронный ресурс]. URL: http://vlad-yakovlev.live-journal.com/45003.html (дата обращения: 23.05.2014).
4. Блог Э. Идрисова [Электронный ресурс]. URL: http://idrisel.livejournal.com/-115947.html (дата обращения: 23.05.2014).
5. Сайт канала «Астрахань 24» [Электронный ресурс]. URL: http://www.astrakhan-24.ru/news/editorials/dorogu_molodym_predprinimateljam (дата обращения: 23.05.2014).
152
А.И. КОРНИКОВА, С.В. СОЛОВЬЁВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
Современная ситуация на рынке труда характеризуется тем, что у студентов и вы-
пускников вузов заранее формируются определенные ожидания и представления об их будущей профессиональной деятельности. Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru. Согласно проведённому опросу портала, проведённым среди 1000 представителей предприятий и организаций из всех округов РФ, стало понятно, что вопросу адаптации новых сотрудников уделяет пристальное внимание практически каж-дая вторая российская организация (50%). Наиболее популярным способом знакомства нового сотрудника с коллективом и должностными обязанностями является наставниче-ство — этот метод применяют 36% организаций, (26%) проводит ознакомительные экс-курсии. Адаптация — это процесс приспособления работника к условиям внутренней и внешней среды. Термин «адаптация» применяется в различных областях науки, так в пси-хологии и социологии выделяют социальную и производственную адаптацию. Эти два вида адаптации пересекаются друг с другом, но каждая из них имеет и самостоятельные сферы: социальная деятельность не замыкается на производстве, а производственная — включает биологические, социальные и аспекты.
Основной проблемой молодых специалистов, как указывают работодатели — является отсутствие опыта и представления о выполняемой работе. Большинства проблем можно было бы избежать, как считают работодатели, если бы во время обучения будущие выпуск-ники имели возможность стажироваться в тех организациях, в которые после окончания ву-за существует возможность трудоустроиться. Одним из выходов в решении проблем может выступать: совершенствование деятельности вуза по организации программ стажировок и практик с целью получения студентами практических навыков и умений. Знакомить сту-дентов с особенностями и содержанием будущей профессии, информировать о перспекти-вах карьерного роста в данной профессиональности отрасли, корректировать самооценку выпускников через возможность получить оценки своих качеств от работодателя и в срав-нении с выпускниками других вузов, организовать взаимодействие между работодателями и представителями вузов с целью обеспечения решения данной проблемы [1].
Одним из важных факторов повышения результативности деятельности нового со-трудника и ускорения процесса профессиональной адаптации выступает наличие профес-сионального наставника, который может быстро и без труда ввести нового сотрудника в курс дела и значительно сократит период его адаптации. Можно выделить следующие проблемы профессиональной адаптации государственных гражданских служащих: рас-хождение ожиданий и реальной работы, которую приходится выполнять, слабая подго-товка в вузе к условиям работы, недостаток практики во время обучения, низкая степень удовлетворенности государственных служащих различными аспектами своей трудовой деятельности, недостаточная информированность сотрудников о тех или иных сферах де-ятельности, приводящая к снижению эффективности работы в целом, отсутствие специа-листа, четко закрепленного за каждым новым сотрудником.
Для совершенствования системы профессиональной адаптации государственных гражданских служащих можно рекомендовать следующие действия: проведение и усо-вершенствование программ практик с целью получения практических навыков для реаль-ной работы, для решения этой проблемы необходимо объединение усилий производ-ственников и учебных заведений по корректировке программ производственной практики с целью создания оптимальных условий для получения конкретных практических знаний, с привлечением студентов к решению реальных производственных заданий, создать гиб-кую и адекватную систему материального и морального стимулирования сотрудников; проводить анонимное анкетирование или опрос о степени удовлетворённости трудовой
153
деятельности и по результатам разрабатывать различные решения для устранения степени неудовлетворённости государственных служащих различными аспектами трудовой дея-тельности, сделать обязательным совместное выполнение служебных обязанностей опыт-ных работников и молодого специалиста [2, С. 6].
Для решения проблем профессиональной адаптации молодых специалистов в сфере государственной гражданской службы предлагаем применить «Книгу сотрудника», кото-рая используется в различных компаниях. Корпоративная брошюра «Книга сотрудника» может издаваться в различных видах: электронный и печатный. Книга может включать в себя следующие разделы: приветствие руководителя (ФИО работников), описание органи-зационной структуры, основные положения кадровой политики – миссия, ценности, кор-поративные стандарты, правила внутреннего трудового распорядка (рабочий день, пере-рывы на обед, оформление больничных отпусков), социальные программы, корпоратив-ные мероприятия, сведения о корпоративной символике и т.п. [3, C. 41]. Цель книги со-трудника – сориентировать новичка в большом объеме информации, которую ему необхо-димо узнать об организации. В случае если предоставление Книги сотрудника каждому новичку по каким-либо причинам затратно. Решить эту задачу можно с помощью вруче-ние новичкам Памятки новому сотруднику и размещение всех информационных материа-лов. Таким образом, можно сделать вывод, что критерием того, чтобы период адаптации прошел успешно является комфортное ощущение себя членом коллектива, чувство соб-ственной полезности, профессиональная гордость за отличные результаты собственной работы, заслуженный авторитет в коллективе, полная удовлетворенность и уверенность в своих силах.
Список литературы
1. Камкова О.В. Проблема адаптации молодого специалиста в различных сферах профессиональной деятельности // Вестник Герценовского университета. 2011. №65.
2. Шиликов А.Ю. Конфликтное взаимодействие в процессе профессиональной адап-тации государственных гражданских служащих. С. 6.
3. Лачугина Ю.Н. Методические указания к проведению занятий по дисциплине «Управление персоналом». Ульяновск: УлГТУ, 2009. С. 41.
154
В.Г. НИКИФОРОВА
СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Сравнение общих тенденций, принципов и положений в развитии мировых и россий-ской образовательных систем показывает на их сходство и позитивную направленность. Так, признанный мировым образовательным сообществом тренд в реализации высшего профессионального образования(ВПО) объединяет в себе:
− академическую мобильность учащихся и образовательных программ; − ориентацию на свободу и нужды развития личности; − индивидуализацию и либерализацию учебного процесса; − поддержку высокого статуса и профессионального уровня преподавателей; − справедливое использование средств бюджета для обеспечения равных для всех
граждан условий доступа к высшему образованию; − признание необходимости и реализация привлечения средств граждан и работода-
телей для совместного с государством финансирования высшего образования. В то же время специфика географического положения, исторического развития, демогра-
фической ситуации и ресурсного обеспечения различных субъектов РФ диктует свои особенно-сти в проявлении современных тенденций в развитии региональной высшей школы.
На примере одного из регионов Федерального округа РФ был проведен статистиче-ский анализ и оценка развития высшего профессионального образования на основе дан-ных официальной статистики и экспертных оценок, полученных в ходе трехлетнего сбора, обработки и обобщения данных о развитии самостоятельных вузов и филиалов иногород-них государственных и негосударственных вузов, функционирующих в анализируемом субъекте Федерации. При этом использованы 3 основных метода статистического иссле-дования, при наглядном изображении обобщающих показателей с помощью статистиче-ских таблиц и графиков, а также специфические приемы и методы статистики: относи-тельные и средние величины, характеристики динамических рядов, наблюдение основно-го массива специальностей и направлений подготовки кадров и т.п.
Результаты статистического анализа информации о состоянии высшего профессио-нального образования (ВПО) в области за 1990–2012 годы демонстрируют нам следую-щую картину динамики контингента студентов региональной высшей школы (данные на начало учебного года).
Рис. 1. Сравнительная динамика численности обучающихся в вузах России, ФО и субъекта РФ за 1990-2012 гг.
155
За 1990–2012 гг. в анализируемом регионе отчетливо проявляется тенденция сниже-ния доли численности студентов государственных вузов (включая филиалы) в подготовке специалистов и бакалавров с высшим образованием, начиная с 1995 г. до 2009–2010 уч. г.
При этом тренд в развитии государственного ВПО в России, федеральном округе (ФО) и анализируемой области примерно одинаков: до 2009–2010 учебного года увеличивалась доля численности студентов, обучающихся в негосударственных вузах (в регионе 1 него-сударственный самостоятельный вуз, признанный в 2013 г. неэффективным) и филиалах негосударственных иногородних самостоятельных вузов (6 учебных заведений), пред-ставленных в основном заочной формой обучения (исключением явился 2008–2009 учеб-ный год вследствие резкого сокращения общего числа обучающихся студентов).
Но, начиная с 2009–2010 учебного года, в связи с введением правил зачисления абиту-риентов в вузы по результатам ЕГЭ и ухудшением демографической ситуации в России, в региональной высшей школе происходит возврат абитуриентов в государственные вузы и филиалы государственных иногородних самостоятельных вузов (филиалов ИГСВ). В ито-ге, динамика численности студентов за последние 3 года демонстрирует некоторое воз-растание (в 2009–2011 уч. годы) и в дальнейшем вновь постепенное снижение государ-ственной составляющей контингента студентов при сокращении общей численности обу-чающихся в области.
Исходя из этого, для сравнительной характеристики движения контингента ВПО в 1990–2009 и за 3 последних учебных года (2009–2012 годы) будем считать данные на начало 2009–2010 учебного года отправной точкой (базисным годом) для детального анализа и оценки из-менений в тренде показателей развития высшей школы исследуемого субъекта РФ.
Рис. 2. Основные показатели ВПО региона (на начало2009-2010уч. г.)
Характерной чертой развития ВПО исследуемой области к началу 2009-2010 уч. года было доминирующее положение в общем числе вузов государственных учебных заведе-ний высшей школы, как в абсолютном их количестве (16 вузов), так и в относительном выражении (69,6%). Столь же показательны доля численности обучающихся студентов (87,6%), принятых в текущем году (81%), а также удельный вес выпуска студентов (86,8%) в государственных вузах и филиалах. Аналогичная ситуация прослеживается в распределении студентов вузов и филиалов иногородних вузов в регионе по формам обучения.
Ввиду незначительной доли контингента экстерната и вечерней формы обучения, де-тально проанализируем распределение студентов только по очной и заочной формам обу-чения. Как следует из рис. 3, студенты дневной формы обучения в 94% случаев выбирают государственные вузы. Но более 10% из них обучаются в филиалах ИГСВ, отдавая пред-почтение филиалам столичных вузов и городов Казани, Саратова, Рязани и др. Иное в со-ставе студентов заочной формы обучения: почти 18% всех студентов обучаются в негосу-дарственных филиалах иногородних самостоятельных вузов.
156
Рис. 3. Распределение всего контингента студентов вузов и филиалов субъекта РФ
по формам обучения(на начало 2009-2010 учебного года).
Эта особенность объяснялась не только множеством функционирующих в области филиалов с сокращением традиционной продолжительности обучения для заочной формы обучения до 4,5–5 лет, но и упрощенной формой вступительных испытаний (тестирования вуза) для выпускников соответствующего профиля из учебных заведений среднего специ-ального образования (СПО). Они нередко зачислялись в вузы независимо от уровня их способностей, знаний и прилежания: даже при среднем балле 3,0 в приложении к диплому о профобразовании.
К тому же, для современного работодателя диплом о высшем образовании становится обязательным, превращаясь в формальный атрибут высшей школы. При этом ввиду частой не посещаемости аудиторных занятий в сессию (по причине производственной за-нятости) и слабой успеваемости формируется система высшего образования с понижен-ными требованиями, неподкрепленная потребностями рынка труда в его качестве, что та-ит опасность профанации заочной формы обучения:
− подмены образовательного процесса псевдоперезачетами и переаттестациями в угоду сокращению полной продолжительности (6 лет или для бакалавров 5 лет) для за-очной формы обучения;
− возрастания числа всякого рода финансовых излишеств, как при перезачетах и пе-реэкзаменовках, так и дальнейшем обучении при недостаточном уровне способностей бывших выпускников СПО и НПО, чтобы осилить образовательные программы более вы-сокого порядка (высшей школы).
Интересна структура распределения студентов по формам обучения в зависимости от типов учреждений ВПО (на начало базисного года: по всем вузам и филиалам региона по-ловина контингента — это студенты заочной формы обучения, и близко к ней — очной формы обучения (47,5%) при очень низкой доле вечерней формы обучения. В самостоя-тельных государственных вузах региона противоположная структура — 45,1% и 53,8%.
157
Рис. 4. Распределение численности студентов вузов и иногородних филиалов вузов
по формам обучения на начало 2009–2010 гг.
И в государственных и в негосударственных филиалах области, соответственно, более половины и почти три пятых общей численности — студенты-заочники, и только чуть бо-лее 1/3 и 1/5 части, соответственно, представлена очная форма обучения.
В отличие от общего контингента студентов, распределение принятых студентов по различным формам обучения для государственных и негосударственных самостоятельных вузов и филиалов резко отличается (См. рис. 5) .
Рис. 5. Структурная группировка студентов, принятых в вузы и филиалы региона, по формам обучения
Прием на очную форму обучения на 95,9% был сосредоточен в государственных ву-зах, из них более 11% составляли студенты филиалов ИГСВ. И обратное соотношение для числа принятых студентов на заочную форму обучения: доля государственных вузов сни-жается до 68% (из них государственные филиалы более 30%) и возрастает до 32% удель-ный вес студентов, поступивших в негосударственные филиалы.
Распределение числа принятых студентов по формам обучения в государственных са-мостоятельных вузах и в филиалах ИГСВ противоположно: в вузах более 60% приема студентов приходится на очную форму обучения и почти 40% — на заочную; а в филиа-лах, наоборот: более 60% — студенты заочной формы и только 30% — студенты дневного факультета. В негосударственных филиалах всего 10% студентов выбирают очную форму обучения и почти 87% учатся на заочном отделении вузов.
50
2,1
47,5
0,4
45,1
1,1
53,8
55,1
8,9
35,8
0,2
74
0,422,2
3,4
экстернат
очная
очно-заочная
заочная
Государ-ственные самостоя-тельные
Государ-ственные филиалы
Негосудар-ственные учеб-ные заведения
Числен-ность
студентов всех вузов
158
Численность студентов вузов и филиалов
51,8%
1,8%
45,8%
0,6%
очная экстернат заочная очно-заочная
Государственные самостоятельные учебные заведения
38,6%0,9%
60,5%
очная экстернат заочная очно-заочная
Государственные филиалы самостоятельных учебных заведений
1%
7%
62,9%
30,1%
очная экстернат заочная очно-заочная
Негосударственные вузы и филиалы самостоятельных учебных заведений
10% 3,1%
86,9%
очная экстернат заочная очно-заочная
Рис. 6. Структура распределения численности принятых студентов вузов области по формам обучения
Для начала 2009–2010 года это легко объяснялось неотработанностью процедуры по-
ступления абитуриентов на очную форму обучения по результатам ЕГЭ для выпускников общеобразовательных учреждений прошлых лет, а также наличием 17 филиалов (из них 11 иногородних госвузов) в регионе, половина из которых работает с контингентом толь-ко заочной формы обучения и более низкой стоимостью оплаты за обучение.
При этом показателен прием на очное отделение студентов негосударственных фили-алов в расчете на 1 вуз: в среднем 19,5 человек в год. Как показывает практика, в этих фи-лиалах осуществляется набор студентов на обучение по 3–5 направлениям подготовки с численностью студентов в группах маленьких филиалов по 7–9 человек по каждому профилю.
Сомнительно, что при средней сумме оплаты за обучение 1 студента в филиалах него-сударственных вузов (заочное обучение) в сумме 29–35 тыс. руб. в год вуз способен осу-ществлять образование каждого студента по индивидуальному плану. Очевидно, что при малочисленном контингенте и большом объеме аудиторных занятий у студентов очной формы обучения, в угоду экономии финансовых средств, администрации вузов приходит-ся поступаться выполнением полного объема учебной нагрузки по каждой дисциплине или курсу. Либо, нарушая учебный план, объединять в образовательном процессе (на лек-циях и т.п.) студентов разных курсов, специальностей и даже форм обучения. Это, соот-ветственно, не сказывается позитивно на качестве подготовки выпускников вузов.
Динамика выпуска студентов ВПО по вузам всей страны и ФО все 20 лет сохраняла тенденцию стабильного роста числа выпускников при ежегодном увеличении выпуска специалистов филиалами негосударственных самостоятельных учреждений высшей шко-лы. В то время как в анализируемой области доля выпуска студентов негосударственных филиалов своего пика (16,4%) достигла в 2006 году, и в дальнейшем пошла на спад. Что отчасти связано с закрытием некоторых негосударственных филиалов иногородних вузов, ранее размещенных на территории региона.
При значительном общем числе выпускников государственных и негосударственных вузов и филиалов региона наблюдается совсем малая численность студентов, оканчиваю-щих филиалы как государственных, так и негосударственных вузов в расчете на 1 высшее учебное заведение: в среднем от 23 до 50 человек по очной и заочной формам обучения и 2 человека — по очно-заочной форме(что свидетельствует о невостребованности в реги-оне и постепенном «отмирании» данной формы подготовки кадров).
Таким образом, до 2010 года структурная динамика обучающихся в высшей школе ис-следуемой области в целом свидетельствовала о возрастании стремления молодежи к при-обретению высшего образования в своем регионе, как по очной, так и заочной формам подготовки.
159
Но с 2009–2010 учебного года наблюдается резкое снижение численности обучаю-щихся студентов по всем вузам страны, включая ЮФО (для исследуемой области это ха-рактерно с 2010–2011 учебного года ввиду миграционного притока абитуриентов из госу-дарств — бывших республик ближнего зарубежья. Эта тенденция коррелирует с демогра-фическими процессами, обусловливающими уменьшение численности выпускников СО-ОУ, НПО и СПО (См. рис. 7).
Параллельно, повсеместно начался переход вузов страны на двухуровневую систему и упрощение процедуры вступительных испытаний (приема документов по результатам ЕГЭ) и отток выпускников школ в государственные вузы столицы и крупных городов Рос-сии, что повышает интерес абитуриентов к поступлению в государственные вузы, имеющие места для обучения студентов по бюджетному (федеральному) финансированию (необосно-ванно завышая конкурс при поступлении абитуриентов), в отличие от филиалов, функцио-нирующих за счет доходов от предоставления платных образовательных услуг.
И в заключение для сравнительного анализа предлагается таблица количественных показателей динамики региональной высшей школы за 3 последних года.
Следует заметить, что в ввиду ограниченности имеющихся или отсутствия официаль-ных статистических данных (а также признания неэффективными и постепенного закры-тия нескольких филиалов иногородних вузов) статистическая информация приводится в детальном разрезе только по государственным (5 самостоятельным) вузам и филиалам.
Рис. 7. Динамика показателей движения контингента учащихся СООУ и студентов СПО и ВПО региона (на начало учебного года)
Тренд в движении контингента студентов регионального ВПО за последние годы неутешителен ввиду стабильного сокращения количественных показателей по всем фор-мам обучения и отрицательным прогнозом пополнения численности будущих абитуриен-тов при снижающейся динамике (с 2008 года) числа обучающихся в ССОУ и НПО и сту-дентов СПО. К этому следует добавить «беды», характерные как для абитуриентов и сту-дентов филиалов иногородних вузов, так и самостоятельных государственных вузов и университетов рассматриваемого субъекта РФ:
− фактическое отсутствие вступительных испытаний (при наличии сертификата ЕГЭ) и конкурса при зачислении абитуриентов в вузы с обучением на платной основе;
− резкое снижение теоретического уровня подготовленности по гуманитарным и со-циально-экономическим дисциплинам, утрата инструментальной и гуманитарной культу-ры (знания русского языка, умения грамотно писать и излагать свои мысли, культуры пользования учебником и научной литературой);
− невостребованность образования (знаний), желание получить диплом любыми спо-собами и в том вузе (филиале), где можно это сделать быстрее, проще, а иногда и дешевле;
− отсутствие мотивационных рычагов в образовании при примитивном рынке труда;
160
− формирование нового стереотипа обучения, когда посещаемость аудиторных заня-тий теряет атрибут обязательности и носит рекомендательный характер как по объектив-ной необходимости (при совмещении учебы и зарабатывания средств для оплаты обуче-ния, начиная со 2–3 курса), так и при:
а) всеобщем низком общеобразовательном уровне абитуриентов и их нежелании само-стоятельно осваивать дисциплины учебного плана вне учебной аудитории и интеллекту-ально трудиться;
б) разрешении платных дополнительных образовательных услуг (перезачеты, переэк-заменовки, псевдорепетиторство, повторное восстановление отчисленных студентов);
в) обилии вузов и филиалов в регионе и диктате уровня качества образования посред-ственным студентом (в силу его многочисленности);
г) «технической» концепции российских университетов: соответствующий брэнд, ши-рокий спектр образовательных услуг (при однообразии повторяющихся модных направ-лений подготовки и недостаточном кадровом потенциале для вновь открываемых профи-лей) и мощная материально-техническая база, но низкий уровень теоретических знаний, практических навыков и неадаптированность и низкая эффективность работы в рыночных условиях выпускников.
В создавшихся условиях функционирования региональной высшей школы становится проблематичным сохранение лучших традиций российской высшей школы: фундамен-тальные теоретические знания и практические навыки, обеспечивающие професси-ональную компетентность будущего выпускника.
Соответственно, наметившиеся (до 2009–2010 уч. г.) негативные тенденции в динами-ке развития региональных учреждений высшей школы будут усиливаться в связи с мало-численностью ныне обучающихся студентов и будущих абитуриентов и необходимостью приспосабливаться к условиям работы при ограниченных финансовых ресурсах и матери-ально-технической базы вузов и филиалов и повышенных требований к качеству подго-товки специалистов и бакалавров, диктуемых государственной образовательной полити-кой в соответствии с новым ФЗ «Об образовании» и стандартами ВПО по направлениям подготовки кадров.
Не обнадеживающая демографическая ситуация в плане снижения численности вы-пускников средней общеобразовательной школы и среднего профессионального образо-вания, отсутствие контроля (со стороны регионального органа управления образованием ввиду недостаточного уровня полномочий в их функционале деятельности) филиалов не-государственных вузов на соответствие показателям эффективности деятельности дикту-ют необходимость реализации следующих предложений по повышению качества подго-товки кадров региональной высшей школы:
− активизации процесса создания и функционирования комиссий по общественной аккредитации вузов по направлениям подготовки бакалавров;
− осуществления уже в 2014 году повсеместной проверки негосударственных вузов и филиалов иногородних самостоятельных вузов на соответствие критериям эффективности деятельности;
− согласования учебных планов и программ дисциплин профессионального цикла по направлениям подготовки бакалавров с работодателями ведущих структур и хозяйствую-щих субъектов данного профиля;
− внедрения в практику взаимодействия профессорско-преподавательского состава вузов (и филиалов) и работодателей: проведение конкурсов по курсовым и выпускным работам студентов-старшекурсников; отбор лучших студентов («кадрового резерва») на прохождение стажировки на «рабочих местах» профиля деятельности), начиная с 1 се-местра 4 курса очной формы обучения, с выдачей конкретной темы (задания) на разработ-ку выпускного проекта. И при положительных результатах стажировки трудоустройство выпускника ВПО в данной структуре.
161
СПИСОК АВТОРОВ РАБОТ Богдюк Лариса Анатольевна — зам. директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ г. Астрахани «СОШ №11». Вайчулис Татьяна Брисовна — к. э. н., зав. кафедрой экономики и финансов Астра-
ханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Васильева Валентина Александровна — студентка VI курса специальности «Ме-неджмент организации» Астраханского филиала Российской академии народного хозяй-ства и государственной службы при Президенте РФ.
Викторин Виктор Михайлович — к. и. н., зав. лабораторией этнополитических ис-следований Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Воробьева Ольга Игоревна — студентка V курса специальности «Государственное и муниципальное управление» Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Горяшкиева Нина Бадма-Горяевна — к. ф. н., зав. кафедрой государственного и муниципального управления Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Грибовский Владислав Владимирович — к. и. н., докторант Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины.
Давыдова Радмила Алимбиковна — преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, начальник отдела по работе со структурами гражданского общества и организации социально-политического мониторин-га управления по внутренней политике администрации Губернатора Астраханской обл.
Зайцев Сергей Вячеславович — к. э. н., доцент кафедры экономики и финансов Аст-раханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной служ-бы при Президенте РФ.
Зобнина Ольга Александровна — к. филол. н., доцент кафедры менеджмента и мар-кетинга Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государст-венной службы при Президенте РФ.
Идрисов Эльдар Шамигуллович — к. п. н., зам. директора по науке Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-зиденте РФ.
Казимагомедова Зинфира Абдуллаевна — студентка IV курса специальности «Го-сударственное и муниципальное управление» Астраханского филиала Российской акаде-мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Кишибаев Рафаэль Янибекович — студент V курса специальности «Государствен-ное и муниципальное управление» Астраханского филиала Российской академии народ-ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Корникова Аделя Ильдаровна — ст. преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Королева Вера Владиславовна — к. ю. н., доцент кафедры государственного и муни-ципального управления Астраханского филиала Российской академии народного хозяйст-ва и государственной службы при Президенте РФ.
Кумуков Альберт Мусабиевич — аспирант кафедры зарубежной истории и регионо-ведения, Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета.
162
Лебедева Анна Андреевна — студентка V курса специальности «Финансы и кредит» Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Лоскутова Анна Васильевна — студентка VI курса специальности «Государственное и муниципальное управление» Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Миронова Юлия Германовна — к. с. н., доцент кафедры государственного и муни-ципального управления Астраханского филиала Российской академии народного хозяйст-ва и государственной службы при Президенте РФ.
Муравьёв Сергей Рудольфович — к. э. н, доцент кафедры экономики и финансов Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Никифорова Василя Гумеровна — к. э. н., профессор кафедры экономики и финан-сов, директор Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и госу-дарственной службы при Президенте РФ.
Никольский Андрей Борисович — ст. преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Перепеченов Алексей Алексеевич — к. ю. н., ст. преподаватель кафедры государст-венного и муниципального управления Астраханского филиала Российской академии на-родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Петрова Лилия Николаевна — магистрантка 1-го курса факультета иностранных языков Астраханского государственного университета.
Пэк Виктор Викторович — к. т. н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга Аст-раханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной служ-бы при Президенте РФ.
Пэк Татьяна Николаевна — к. э. н., зав. кафедрой экономики и финансов Астрахан-ского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Разгонникова Наталья Владимировна — к. с. н., доцент кафедры государственного и муниципального управления Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Сенчукова Елена Александровна — студентка V курса специальности «Государ-ственное и муниципальное управление» Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Смагина Кристина Сергеевна — студентка IV курса специальности «Государствен-ное и муниципальное управление» Астраханского филиала Российской академии народ-ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Смотрова Алена Игоревна — студентка IV курса специальности «Государственное и муниципальное управление» Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Соловьёва Софья Владимировна — студентка V курса специальности «Государ-ственное и муниципальное управление» Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Сулимин Александр Николаевич — к. полит. н., доцент кафедры государственное и муниципальное управление Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Торопицын Илья Васильевич — к. и. н., зам. начальника отдела приграничного со-трудничества министерства международных и внешнеэкономических связей Астрахан-ской обл.
163
Цымбалова Ольга Андреевна — студентка IV курса специальности «Государствен-ное и муниципальное управление» Астраханского филиала Российской академии народ-ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Шакирова Венера Хамзяевна — студентка V курса специальности «Государственное и муниципальное управление» Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
164
Научное издание
Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС
Сборник научный статей
Выпуск 5
Ответственный редактор: Э.Ш. Идрисов Техническое оформление и верстка: Издательство Метеор-Сити
Дизайн обложки: А.М. Обжорин
Подписано в печать 30.06.2014. Формат 60×84/16 Усл. печ. л. 9,53. Тираж 100 экз. Заказ № 514
Цена договорная
Издательство Метеор-Сити ИП Обжорин Алексей Михайлович
454091, г. Челябинск, ул. Курчатова, 19, оф. 326 www.meteor-city.com, [email protected]
Отпечатано в типографии ООО «Фотохудожник»
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155/1, 57 Тел.: 8 (351) 237-17-43