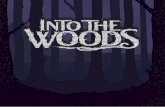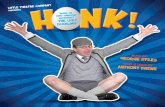Russian Theatre in Israel
Transcript of Russian Theatre in Israel
Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
© Koninklijke Brill NV, Leiden, 2011 DOI 10.1163/221023911X552016
brill.nl/css
1) М. Гнесин, Моя жизнь в ивритском театре (Тель-Авив: Хакибуц Хамеухад, 1946),
с. 56, иврит. (56 ,גנסין. מ׳. דרכי עם נתיאטרון העברי. תל-אביב,הקיבוץ המאוחד, 1946, עי )
Русский театр в Израиле: сто лет вместе
Ольга Левитан Еврейский Университет. Иерусалим
[email protected]; [email protected]
Abstract
The article explores the history of the Russian Theatre in Israel as an inseparable part of
Israeli Theatre life: Russian Jews had a decisive role in the foundation of Israeli theatre and
in the very beginning of Hebrew theatre in Palestine and in Moscow, and for decades the
main Israeli artists introduced themselves as pupils of Vachtangov and Stanislavsky. In addi-
tion, a specific sensitiveness to Russian cultural tradition made a serious impact on Israeli
theatre school and repertoire policy. The article discusses the phenomenon of enduring con-
nections between Israeli and Russian theatres. The discussion is based on original archive
research, and it includes first publication of a variety of data and documents as well as the
analysis of different aspects of the intercultural Israeli-Russian dialogue.
Keywords
Russian Theatre abroad, Israeli Theatre, intercultural dialogue
“Мы одновременно читали сочинения еврейских и русских писате-
лей. Это было делом обычным, общепринятым. Толстой, Горький,
Чехов и Тургенев были ‘нашими’ русскими писателями”. Эти строки
могут быть ключом к пониманию проблематики и странности рус-
ского театра в Израиле. Их автор – актер Менахем Гнесин (1882-1951)
был основоположником Общества любителей ивритской сцены в
Палестине (1906) и одним из основателей театра Габима в Москве
(1917). Станиславского и Вахтангова он по праву считал своими учи-
телями. Свою книгу воспоминаний, опубликованную в 1946, назвал
“Моя жизнь в ивритском театре”. 1 В названии был явный намек –
сопоставление с “Моей жизнью в искусстве”.
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 77
2) Обсуждение этой ситуации можно обнаружить как в специальной юридической
литературе конца девятнадцатого начала двадцатого века, см. И. Оршанский, Русское
законодательство о евреях (СПб.: тип. А. Ландау, 1877); М. Мышь, Руководство к
русским законам о евреях (СПб.: тип. М. Фроловой, 1904), так и в более поздних
публицистических заметках и исторических исследованиях, см. Г. Аронсон, А.
Гольденвейзер, Я. Фрумкин, ред., Книга о русском еврействе (Нью-Йорк: изд. Союз
русских евреев, 1960); Д. Раскин, “‘Еврейский вопрос’ в документах высших государ-
ственных учреждений Российской империи Х1Х-нач. ХХ века”, в Д. Эльяшевич, ред,
История евреев в России. Проблемы источниковедения и историографии (СПб.: изд.
Петербургский еврейский университет, 1993), с. 60-76; О. Будницкий, Русские евреи
между красными и белыми (Москва: РОССПЭН, 2005). 3) С. Дубнов, Книга жизни. Материалы для истории моего времени. Воспоминания и
размышления (Иерусалим-Москва: Гешарим-Мосты культуры, 2004), с. 61-62.
История русского театра в Израиле, в сущности, неотрывна от
истории израильского театра на иврите. Русские евреи находились у
истоков создания израильского ивритского театра, влияли на форми-
рование израильской театральной школы и на определение важней-
ших направлений репертуарной политики израильского театра. Эта
совершенно особая ситуация и особое место “русских” в израиль-
ской театральной культуре связаны были и со специфическими чер-
тами новой израильской культуры, возраст которой исчисляется
столетием, и с феноменом мультикультурного сознания, характер-
ного для значительной части евреев русского происхождения.
Двойная социокультурная идентификация нескольких поколений
российских евреев имела свои исторические причины. С одной сто-
роны, тому способствовала национальная политика российской
империи в конце девятнадцатого и в начале двадцатого века: поощре-
ние культурной ассимиляции евреев, активное внедрение русского
языка в систему еврейского образования, а также жесткие ограничи-
тельные, по сути, расистские законы в отношении тех, кто сопротив-
лялся ассимиляции. 2 С другой стороны, немалую роль здесь сыграли
стремление молодого поколения российских евреев к либерализации,
к разрушению замкнутых устоев еврейской общины, их жажда
вырваться за пределы черты оседлости. Русский язык воспринимался
многими как язык надежды, обещающий перемену участи. “Больше
всего на меня повлияло то, что благодаря знакомству с русским язы-
ком я получил ключ к богатой русской литературе, то есть, в сущно-
сти, к европейской литературе, которая в изобилии преподносилась
публике в русских переводах”, – говорил крупнейший еврейский
историк С. Дубнов. 3 В результате в начале двадцатого века евреи
78 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
4) См. Г. Аронсон, “Евреи в русской литературе, журналистике, критике, обществен-
ной жизни”, в Г. Аронсон, А. Гольденвейзер, Я. Фрумкин, Книга о русском еврействе ,
сн. 2, с. 365-404; Г. Аронсон, “Русско-еврейская печать”, там же, с. 552-81; В. Карасик,
“Русско-еврейская периодика Украины: 1910-е, 1920-е, 1930-е” http://judaica/kiev/ua/
Conference/Conf2003/54/htm Особый интерес представляет опубликованная недавно
антология: M. Shrayer, ed., An Anthology of Jewish-Russian Literature. Two centuries of Dual
Identity in Prose and Poetry (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2007). 5) Первый театральный кружок в Яффо возник еще в 1904. Его редкие спектакли
пользовались успехом у публики, тоскующей по культурной жизни. На основе его
деятельности в 1906 создан был любительский театр. 6) Подробнее о сложной языковой ситуации в еврейском национальном анклаве
Палестины и об особой роли театра в возрождении иврита см. O. Levitan, “Plays in
Hebrew Language in Israeli Schools”, 1889-1904, Bamah Drama Quarterly , nos. 159-160
(2000): 33-47 (Hebrew); O. Levitan, “Theater in the Land of Israel: Between Hebrew and
Yiddish (1904-1914)”, Theatralia. Theater and Jewish Studies , 7 (2005): 139-51.
оказались не только активными участниками российской художе-
ственной жизни, но и создали уникальные в своем роде культурные
феномены еврейской литературы и еврейской прессы на русском
языке. Монументальный труд С. Дубнова “Всемирная история еврей-
ского народа” так же, как и знаменитая пьеса “Гадибук” С. Ан-ского
были написаны на русском языке. 4 Российские евреи, приехавшие в
начале двадцатого века в Палестину с идеей создания театра на
иврите, мыслили и общались друг с другом на русском языке, пола-
гая себя в равной мере людьми русской и еврейской культуры.
Русские евреи – создатели израильской театральной культуры
Общество любителей ивритской сцены
В 1906 году в Яффо, население которого составляло около десяти
тысяч человек, возник первый в Палестине театр, где спектакли игра-
лись на иврите для публики, с трудом понимавшей этот язык. 5
Большая часть еврейского населения Палестины объяснялись между
собой на русском или на идише, почитая иврит как идею националь-
ного возрождения или как язык Священного писания. В этих обстоя-
тельствах первейшей задачей театра было создание репертуара на
иврите и превращение иврита древних книг в живой и разговорный
язык. 6 В основе деятельности первого палестинского театра, возник-
шего, казалось, на голом месте – без репертуара, без зрителей и без
профессиональных актеров и режиссеров, лежали предложенные
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 79
Москов ским Художественным театром принципы нового отношения
к искусству.
Первый ивритский театр был создан молодыми и, в большин-
стве своем, образованными людьми, приехавшими в Палестину из
Восточной Европы вместе с так называемой второй волной репатри-
ации (1904–1914). Они мечтали о современном свободном и светском
еврейском обществе, где театру предназначалась роль важной состав-
ляющей. Культурный опыт этих людей во многом опирался на собы-
тия русской художественной жизни.
Ведущим актером новорожденного театра был Менахем Гнесин,
автор процитированных выше строк о “наших русских писателях”,
главным режиссером – Хаим Харари (1883-1940), 7 чья молодая жена,
не владевшая русским языком, жаловалась на то, что в Яффо все гово-
рят по-русски, и ей непросто найти себе собеседника. В этот период и
Гнесин, и Харари были артистами любителями, для которых театр
стал смыслом жизни. Созданная ими модель любительского театра,
выполняющего существенную функцию в жизни общества, опираю-
щегося на художественный репертуар, предназначенный как для
осмысления национального бытия, так и общечеловеческих проблем,
имела свою культурную параллель в опыте московского Общества
литературы и искусства и Художественного театра.
В Москве: Идеи товарищества как независимого объединения
актеров, организации позволяющей большее внимание уделять
вопросам художественным, а не коммерческим, сформулированы
были В. Немировичем-Данченко в восьмидесятых годах Х1Х века.
Любительский театр Общества искусства и литературы, созданный
Станиславским в 1888, оказался естественным фундаментом для
создания Московского Художественного театра. 8 И Немировичем,
7) Хаим Харари поставил в Обществе любителей ивритской сцены четыре спектакля,
каждый из которых стал значительным культурным событием: “Евреи” Е. Чирикова
(1906), “В темноте” П. Гиршбейна (1907), “Сапожник Абармале” Б. Шапира (1909),
“Война и любовь” Арну (1910), а также принимал участие в постановках пьес
“Старшая сестра” Ш. Аша (1909), “Доктор Штокман” Г. Ибсена (по пьесе “Враг
народа”, 1911), “Вечный жид” Д. Пинского (1910). Начиная с 1911, Харари отдаляется
от театра, уделяя больше времени педагогической деятельности и журналистике.
В 1932 он награжден был Почетной грамотой Габимы, гласившей – “За вклад в строи-
тельство театра: кирпич номер 1 в фундаменте Габимы”. 8) См. О. Радищева, Станиславский и Немирович-Данченко. История театральных
отношений, 1897-1909 (Москва: изд. Артист. Режиссер. Театр, 1997), с. 41-43.
80 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
“Размышляя о реальных возможностях создания в Москве нового театра, некоторые
театральные критики прямо указывали на общество искусства и литературы как на
базу для него и называли имя Станиславского как его руководителя. Станиславский
и сам так полагал”. (там же, стр. 43). 9) Новости дня , 8 апреля 1896. Цит. по И. Соловьева, Художественный театр. Жизнь
и приключения идеи (Москва: изд. Московский художественный театр, 2007), с. 8. 10) “Устав Общества любителей ивритской сцены”, Хаор (1910), иврит (האור, 1910, ו״ג ,( ”תקנון חובבי הבמה העברית“ 11) Е. Харари, Посреди виноградников (Тель-Авив: изд. Двир, 1947), с. 155-63, иврит.
(הררי,י׳. בין הכרמים . תל-אביב, 1947, דביר, עמ׳ 163-155)
и Станиславским театр мыслился как важнейший общественный
институт. В 1896 г. Станиславский публично заявлял, что новаторство
его театральных идей заключается в “сознании великой серьезности
исполняемого дела”. 9
В Палестине: Первый ивритский театр, созданный в Яффо, име-
новался Общество любителей ивритской сцены, своего рода эхо
московского Общества искусства и литературы. Общество любите-
лей ивритской сцены организовано было на демократических прин-
ципах товарищества, во главе которого стоял исполнительный
комитет в составе пяти человек, выбранный общим собранием. Цели
и з адачи деятельности яффского Общества любителей ивритской
сцены сформулированы были в Уставе, где провозглашалась
первостепенная важность художественной проблематики и профес-
сионализма: “Создание основ театрального дела, развитие высокоху-
дожественного ивритского театрального искусства и общественной
потребности в этом искусстве”. 10 Главная идея заключалась в том, что
серьезный любительский театр, действующий и живущий по законам
профессионального театра, есть наилучший путь к оригинальному
ивритскому театральному искусству. В этом смысле показательны
письма Харари, когда, приступая к репетициям “Евреев” Е. Чирикова,
первого спектакля Общества любителей ивритской сцены, он мечта-
тельно писал: “Я хотел бы возглавить труппу ивритских актеров,
быть основателем и строителем ивритского театра, посвятить свою
жизнь искусству. […] Ивритская сцена должна стать общественной
кафедрой, чье дело служить национальным, общественным и обще-
человеческим интересам”. 11
Впрочем, мечты и декларации не всегда соответствовали реаль-
ным возможностям Общества любителей ивритской сцены.
Начинающим актерам ивритского театра негде и не у кого было
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 81
учиться основам театрального искусства, и тогда роль профессио-
нальной школы стали выполнять русские театральные журналы.
Гнесин писал об этом в своих воспоминаниях: “Для того, чтобы при-
близиться к профессии и понимать, что происходит в мире театра,
решено было выписывать театральную литературу и публицистику.
Мы полагали, что знакомство с этой литературой поможет поднять
профессиональный уровень и возможно даже помочь в совершен-
ствовании актерского мастерства. Поскольку большая часть труппы
были выходцами из России, мы подписались на русский театральный
журнал “Рампа и жизнь”. 12 Пристально следя за ходом российской
театральной жизни, Гнесин с неодобрением отзывался о лозунгах
символистского театра, сочувствовал натурализму и бытовому теа-
тру, подмечая немало противоречий и практически нерешенных про-
блем в программных высказываниях Сологуба, Брюсова и Белого. 13
Главной, неоценимой и до сих пор неоцененной заслугой яфф-
ского Общества любителей ивритской сцены было создание драма-
тургического корпуса, репертуарной политики и репертуарной
модели национального театра в земле Израиля. Следует сказать, что
в начале двадцатого века оригинальной драматургии на иврите прак-
тически не существовало, и единственным выходом из положения
был перевод русских, французских, английских и идишских пьес с
языка оригинала на иврит. Выбор тех или иных пьес для перевода и
постановки на ивритской сцене не был произволен. В сезон театр ста-
вил от девяти (1907) до четырнадцати (1910) спектаклей, и его репер-
туарная афиша строилась на основе пяти следующих направлений:
серьезная современная драма, переведенная с идиша, посвященная
актуальной национальной проблематике; историческая и библейская
интеллектуальная драма; комическая драматургия и серьезная совре-
менная зарубежная драма. В этом реестре две первые категории пьес
находились в прямой связи с национальной еврейской культурой,
две последние имели характер универсальный. Комедии предназна-
чались для развлечения публики, серьезная зарубежная драма – для
выстраивания диалогических отношений с другими культурами.
В формировании двух универсальных направлений репертуара
12) Гнесин, Моя жизнь в ивритском сцены , сн. 1, с. 29. 13) Там же, с. 50.
82 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
14) Характеристика репертуара Общества любителей ивритской сцены базируется на
хронологическом исследовании материалов ивритской прессы в Палестине и в Европе
в 1900-1914 гг. Подробнее об этом см. O. Levitan, Russian Drama in the Hebrew and
Israeli Theater: An Encounter with another Culture (Jerusalem: The Hebrew University, 2007),
pp. 37-123 (Hebrew). 15) Бааль-Нефеш, “Сцена в Яффо”, Хацви , 16 (1909), иврит.
.(בעל-נפש. ”מהבמב היפוית“, הצבי, 1909, י״ז) 16) И. Лурие. “Письма из земли Израиля: Ивритская театр в Яффо”, Хаолам,. 3.3 (1910),
иврит. (3.3.1910 , לוריא, י׳. ”מכתבים מארץ-ישראל: הבמה העברית ביפו“, העולם). 17) Азлан, “Последнее выступление в Иерусалиме”, Хацви, 85 (1910), иврит.
.(עזלן, ”הנשף האחרון בבית העם בירושלים“, הצבי, 1910, פ״ה)
очевидно было влияние и даже в некотором смысле неожиданная
роль русской культуры. 14
Среди пьес, лидировавших в разделе комической драматургии,
были комедии Шалом-Алейхема, Мольера, Гоголя и Чехова. Комиче-
ский репертуар в этом раннем периоде ивритского израильского теа-
тра имел немалое значение. Условия повседневной жизни в Палестине
того времени были необычны. Оторванность от европейской цивили-
зации требовала и мужества, и терпения. В этих обстоятельствах
смех имел терапевтический характер и был жизненно необходим.
Пресса писала о том, что комедии должны стать основой репертуара
ивритского театра, поскольку “наиболее важны для нас веселые спек-
такли, способные внести радость в нашу жизнь хоть на какое-то
время”. 15 Деятели ивритской сцены настаивали на том, что коме-
дии должны быть умными и ни в коем случае не грубыми и не
вульгарными. 16
Вместе с тем, представление о том, что смешное не имеет про-
странственных и временных границ, зачастую ошибочно. Несмотря
на то, что потребность в смехе универсальна, в России нередко
смеются над тем, что не покажется смешным ни французу, ни англи-
чанину, и наоборот. Таким образом, в смеховых предпочтениях зрите-
лей и актеров Общества любителей ивритской сцены, можно
обнаружить явление знаковое. В этом свете интересно, что в местном
театральном дискурсе, слышны были упреки в адрес Шалом-Алейхема,
чьи пьесы критиковались за “упрощенность” конфликтов и ситуаций,
“малоинтересную для образованного зрителя”. 17 Гнесин, главный
комический актер Общества любителей ивритской сцены, открыто
не бранил Мольера, но высказывался и даже организовывал компа-
нию против постановки французских комедий, видя в этом погоню
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 83
18) Гнесин, Моя жизнь в ивритском театре, сн. 1, стр. 47. 19) Хахеру т , 29 (1910); Л. (Яков Зербавель), “На ивритской сцене в Иерусалиме”,
Хаахдут , 22 (1910), иврит.
.(החרות, 1910, כ״ט; ל(יעקב זרבבל). ”מהבמה העברית בירושלים“, האחדות, 1910, כ״ב)
за дешевой популярностью. 18 Русские комедии, однако, приняты были
с воодушевлением: тот же Гнесин, блюститель хорошего театраль-
ного вкуса, лично инициировал перевод водевилей Чехова на иврит,
принимал участие в постановке “Свадьбы” (Яффо, 1908) и “Юбилея”
(Яффо, 1908), сыграл одну из своих лучших ролей в “Медведе” (Яффо,
1910). Газеты сообщали, что, похоже, будто Гоголь и Чехов “получили
гражданство в Яффо”, и их пьесы не сходят с подмостков яффской
сцены. 19 Палестинская пресса, впрочем, писала и о том, что “и в Яффо,
и в Иерусалиме многие интеллигентные и образованные люди, вклю-
чая зачинателей идеи возрождения иврита и артистов Общества
ивритской сцены, общаются друг с другом на русском языке”. Все это
позволяет судить об уникальной ситуации, когда при отсутствии
оригинальных пьес на иврите и в силу двойной русско-еврейской
культурной ориентации и публики, и актеров Общества любите-
лей ивритской сцены, комедии Гоголя и Чехова, переведенные на
иврит, выполняли функцию не зарубежного, но своего “местного”
комического репертуара.
Среди пяти серьезных зарубежных пьес, поставленных на сцене
Общества любителей ивритской сцены в Яффо, две принадлежали
перу русских драматургов: “Евреи” Е. Чирикова (1906) и “Жизнь
Человека” Л. Андреева (1910). Пьеса Чирикова написана была под
впечатлением кровавого кишиневского погрома, проникнута духом
либерализма, сочувствием к положению российского еврейства, и ее
появление на ивритской сцене в Яффо не требует дополнитель-
ных объяснений. Выбор философской пьесы Андреева, во многом
экспериментальной и бурно обсуждаемой в русской прессе, постав-
ленной к тому времени и Мейерхольдом (1907), и Станиславским
(1907), свидетельствовал о включенности яффских артистов в рос-
сийский театрально-художественный процесс. Любопытно, что в
Яффо взяли к постановке не “Анатему”, “еврейскую” пьесу Андреева с
несомненным успехом поставленную Немировичем-Данченко (1909),
но “Жизнь человека”, спорную и абстрактную притчу, ставшую одним
из важнейших событий российской театральной жизни.
Можно предположить, что российской театральной афише обя-
заны своим появлением в Яффо и трое других зарубежных авторов,
84 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
чьи пьесы были поставлены в Общества любителей ивритской
сцены. “Враг народа” Г. Ибсена шел в Яффо под названием “Доктор
Штокман” (1908, 1911). Так же назывался и знаменитый спектакль
Художественного театра, где Станиславский в роли Штокмана вос-
принимался как герой русского революционного движения, пред-
ставляющий правду “воспрещенную властями и цензурой”. 20 С.
Пшибышевский, чью пьесу “Во имя счастья” с большим успехом
сыграли в Яффо (1910), был в России одним из самых модных драма-
тургов молодого поколения. Имя Пшибышевского не сходило с газет-
ных страниц, К. Чуковский почтительно писал о его концепции новой
драмы, 21 Мейерхольд ставил его в Театре на Офицерской. 22 “Огни
Ивановой ночи” Г. Зудермана (1914) обсуждались в русском театраль-
ном мире в связи с В. Комиссаржевской, где она сыграла одну из
своих лучших ролей (Марика), выбрав эту пьесу для бенефисного
спектакля в 1901. Отличительной чертой всех пяти зарубежных пьес
Общества любителей ивритской сцены был мотив интеллектуальной
и личностной свободы, необходимой человеку как воздух.
Яффское Общество любителей ивритской сцены просуществовало
вплоть до 1914, когда в связи с началом первой мировой войны, Россия
оказалась во вражеских отношениях с Турцией, и многие актеры,
будучи подданными Российской империи, бежали или были высланы
из Яффо турецкими властями. За восемь лет деятельности чисто
любительская труппа превратилась в театр почти профессиональный
с постоянным составом исполнителей, главные из которых, наподо-
бие Менахема Гнесина, переведены были на зарплату. По примеру и
под влиянием яффского Общества любителей ивритской сцены, ана-
логичные театральные объединения были созданы не только в горо-
дах – в Иерусалиме и в Хайфе, но и в маленьких поселениях – в
Ришон Леционе, в Петах Тикве и др. Таким образом небольшой
еврейский анклав в Палестине, население которого к 1914 г. насчиты-
вало шестьдесят тысяч человек, превратился в центр ивритской теа-
тральной жизни, и здесь был заложен фундамент для дальнейшего
развития израильского театра. Благодаря деятельности яффского
20) К. Станиславский, Моя Жизнь в искусстве (Москва: Искусство, 1954), с. 250. 21) К. Чуковский. “Пшибышевский о символе”, Весы , 11 (1904). 22) К. Рудницкий. “В театре на Офицерской”, в Л. Вендровская, А. Февральский, ред.,
Творческое наследие Мейерхольда (Москва: Всероссийское театральное общество,
1978), с. 161-67.
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 85
Общества любителей ивритской сцены Габима начинала не на пустом
месте. В наследство ей достались и общая концепция репертуара
ивритского театра, и некоторые пьесы, поставленные в Яффо.
Габима: Диалог культур в Москве
В 1912 г. Гнесин покинул Палестину и отправился в Европу за теа-
тральным образованием. Он планировал вернуться обратно. В пути,
на какое-то время задержавшись в Варшаве, Гнесин с разочарованием
смотрел спектакли идишского театра, потом с разочарованием при-
нимал участие в разных любительских начинаниях на иврите. Ему
казалось, что он вернулся в самодеятельность. Наконец в 1916 он
оказался в Москве, и там, объединившись с Н. Цемахом (1887-1939),
человеком незаурядных организаторских способностей и одаренным
актером любителем, занялся созданием нового ивритского театра.
Получив финансовую поддержку деловых еврейских кругов Москвы,
они сняли огромное здание театра Солодовникова в самом центре
Москвы, на фасаде которого поместили вывеску, где крупными бук-
вами на двух языках – на иврите и на русском написано было
“Габима”. 23
На этот раз утопическая идея театра на иврите осуществлялась
в одной из театральных столиц мира, Гнесин приехал туда с бага-
жом ивритского репертуара, он хотел получить уроки актерского
мастерства их первых рук и поразить Москву театром на иврите.
Московская театральная жизнь ошеломила его: “Мы с жадностью
проглатывали все, что писалось о театре, и не пропускали ни одного
спектакля, ни молодых режиссеров, ни метров”. 24 На этом фоне
начавшиеся в Габиме репетиции пьесы– притчи “Вечный жид” Д.
Пинского (из репертуара Общества любителей ивритской сцены) его
раздражали. Режиссировал М. Аренштейн, известный в еврейском
театре драматург, чья пьеса “Вечная песнь” в переводе на иврит
23) Гнесин, Моя жизнь в ивритском театре , сн. 1, с. 59-110. Габиме в Москве предше-
ствовал Передвижной ивритский театр Габима, который был создан Н. Цемахом в
1913 в Бялостоке. Этот театр просуществовал меньше года и прекратил свое суще-
ствование из-за финансовых проблем. Попытки Цемаха уже вместе с Гнесиным воз-
родить Хабиму в Варшаве (1913-1914) не увенчались успехом, поскольку началась
Первая мировая война. 24) Там же, сн. 1, с. 115.
86 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
25) Варшавский спектакль по пьесе Аренштейна (1913) вошел в историю как первая
совместная попытка Гнесина и Цемаха создать ивритский театра в Европе. Хана
Ровина сыграла в этом спектакле главную женскую роль. 26) Там же, сн. 1, с. 116. 27) Хана Ровина, прославленная исполнительница Леи в “Гадибуке”, впоследствии
получила титул “первой леди израильского театра”. Подробнее о творческом пути
Ровиной см. О. Левитан, “Хана Ровина: портрет в пейзажа бытия”, в М. Пархомовский,
сост., Евреи в культуре русского зарубежья (Иерусалим: изд. М. Пархомовский, 1994),
с. 402-13. 28) Гнесин, Моя жизнь в ивритском театре , сн. 1, с. 116. 29) В. Нелидов, Театральная Москва (Москва: изд. Материк, 2002), с. 354.
поставлена была и в Яффо, и в Варшаве. 25 Гнесин достаточно быстро
перестал верить в эту работу: “Каждый день наших обычных и зау-
рядных репетиций приводил к одним и тем же сомнениям и возму-
щенным мыслям: не это искусство увлекает нас, не о таком театре мы
мечтали”. 26 По решению триумвирата Цемах – Гнесин – Ровина (1889-
1980) 27 репетиции были приостановлены, и никому неизвестные
самодеятельные актеры обратились за поддержкой к Станиславскому.
Они были выслушаны, поняты, и, получив статус театра-студии при
Художественном театре, мгновенно оказались включенными в
московскую театральную жизнь. Интересно, что с точки зрения
Гнесина, именно Станиславский был не только патриархом русского
театра, но и тем, кто практически возглавлял и поддерживал все теа-
тральные поиски и эксперименты в Москве. 28
Этот неоднократно описанный сюжет похож на волшебную сказку,
где как по мановению ока сбываются чудеса. В израильской мемуари-
стике история встречи со Станиславским обычно преподносится как
триумф Цемаха: пришел, увидел, победил. В российской – подчерки-
вается некоторая анекдотичность события: “В 1917 году явился к
Станиславскому человек по фамилии Цемах, еврей, и заявил, что
хочет организовать театр на древневрейском языке, а учиться актер-
скому творчеству у него, Станиславского. Ответ был год работать, а
потом показательный спектакль. Работать не со Станиславским, а с
его помощником Вахтанговым. Условия были приняты”. 29
Между тем, успех встречи Цемаха со Станиславским в сентябре
1917 г. был предопределен целым рядом обстоятельств. Тому спо-
собствовала атмосфера общественной жизни: в русской либераль-
ной среде дружественный жест в отношении деятелей еврейской
культуры, унижаемой и гонимой царским режимом, считался
проявлением естественной порядочности. В то же самое время
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 87
30) О встречах и общении Ан-ского со Станиславским см. Р. Эттингер, “Писатель
Ан-ский”, в Роза Николаевна, Эттингер (Иерусалим: ь. Изд-ва, 1980). См. также
S. Wolitz, “Unscribing An-sky’s Dybbuk in Russian and Jewish Letters”, in G. Safran, &
J. Zipperstein, eds., T he Worlds of S. An-sky: A Russian Jewish Intellectual at the Turn of the
Centuary (Stranford, CA: Stanford Univ. Press, 2006), p. 175. 31) Гнесин, Моя жизнь в ивритском театре , сн. 1, с. 121. 32) “Габима”, Еврейская неделя, Петроград, 26.2.1917, с. 40, цит. по В. Иванов,
“‘Вступительный текст’ к С. Ан-ский. Меж двух миров (Дибук). Цензурный вариант”,
в В. Иванов, ред., Мнемозина (Москва: изд. Артист. Режиссер. Театр, 2004), с. 15. 33) На иврите “В начале” – название первой книги Пятикнижия, именуемой в русской
традиции Книга Бытия.
Станиславский был подготовлен к разговору о еврейской культуре
благодаря “Гадибуку” Ан-ского. Эта поэтическая и философская
пьеса о неразделимости мистики и быта, написанная по-русски и
предназначавшаяся для русского театра, предлагала диалог на рав-
ных, где евреи выступали как представители оригинальной культур-
ной традиции. Пьеса попала к Станиславскому еще в 1915. Он
заинтересовался, внес режиссерские правки в текст, лично встре-
чался и беседовал с Ан-ским, переписывался с ним. В конце 1916 при
поддержке Станиславского “Гадибук” был принят к постановке в
Первой Студии МХТ. 30 В феврале 1917 на волне успеха в русской теа-
тральной среде и, вероятно, на радостях от реформ февральской
революции, даровавших российским евреям гражданское равнопра-
вие, узнав о проекте нового театрального начинания на иврите,
Ан-ский передал свою пьесу в Габиму. 31 Тогда же в прессе появились
сообщения о том, что “перевод этой пьесы на еврейский язык взял на
себя Х. Н. Бялик”. 32 Таким образом, “Гадибук” оказался связующим
звеном между Станиславским и Габимой в то время, как самый про-
цесс зарождения ивритского театра в Москве стал частью межкуль-
турного русско-еврейского диалога.
Художественным руководителем Габимы был, как известно,
Е. Вахтангов, спектакли Габимы игрались на иврите, оказываясь
событиями русской театральной жизни. Первый спектакль театра
составлен был из четырех одноактных идишских пьес, переведенных
на иврит. Одна из них “Старшая сестра” Ш. Аша, взята была из репер-
туара яффского Общества любителей ивритской сцены. В. Нелидов,
известный московский театральный деятель, вспоминает, что первый
спектакль Габимы в постановке Вахтангова с символическим назва-
нием “В Начале” (1918) 33 был воспринят театральной Москвой как
триумф системы Станиславского: “Приглашены были люди театра
88 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
34) Нелидов, Театральная Москва, сн. 29, с. 354. 35) О русском периоде Габимы см. В. Иванов, Русские сезоны театра Габима (Москва:
изд. Артист. Режиссер. Театр, 1999). Об организации студийных занятий Габимы в
Москве см. E. Tartakovsky, “The Contribution of the Russian Theatrical Heritage to the
Growth of the Hebrew Theatre: The Russian Roots of the Dramatic Art of Habima”. Ph.D
Thesis. Tel-Aviv University. 2005 (Hebrew). 36) В иерусалимском Музее и архиве израильского театра им. И. Гура Сохранилась
афиша 300 представления “Гадибука”.
и печать. … Большинство приглашенных – ни звука по-еврейски.
[…] Вахтангов хотел изложить нам содержание пьес. Ему говорят: не
надо. Коли работа правильна, мы и так должны понять. И вот после
первой же пьесы мы, не знающие языка, все верно сами передали ее
общее содержание. Со второй и третьей пьесой было то же. Три одно-
актных пьесы люди не покладая рук более года разрабатывали по
системе Станиславского. […] ‘Габима’ – живой пример достижения
системы Станиславского”. 34 “Гадибук” – второй спектакль Вахтангова
в Габиме (1922) оказался одним из главных в его новой театральной
системе, – шедевром фантастического реализма. 35 “Гадибук” на
иврите сыграли в Москве более 300 раз. 36 Публика надо полагать в
массе своей не знала древнееврейского языка. Успех был в первую
очередь художественный. Во время болезни Вахтангова и после его
кончины в постановках спектаклей Габимы принимали участие
режиссеры школы Художественного театра: В. Мчеделов (“Вечный
жид” Д. Пинского, 1919) Б. Вершилов (“Голем” Г. Левика, 1925,
“Потоп” Ю. Бергера, 1925), Б. Сушкевич (“Сон Якова” Р. Хофмана,
1925). Работа над “Сном Якова” началась при непосредственном уча-
стии Станиславского. За восемь лет существования в Москве Габима
выпустила всего лишь шесть спектаклей, занимаясь в основном поис-
ками художественными и оттачиванием мастерства, работая по
модели театра – лаборатории. Его уникальность была в двойной
культурной идентификации. Это был театр, выросший из сочетания
русской театральной традиции с идеями возрождения иврита и с
мыслью о создании новой еврейской культуры.
При этом отъезд Габимы из России в начале 1926 связан был не с
программными заявлениями театра о том, что цель их – обучение теа-
тральному искусству в Москве, а затем отъезд в Палестину и развитие
ивритского театра там. Габима по сути была выжита из Москвы и
уехала после продолжительной борьбы с советскими государствен-
ными структурами, печально известной евсекцией, обвинявшей
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 89
37) См. Иванов, Русские сезоны театра Габима, сн. 35; М. Элькин. “Развал: история
борьбы”, в И. Норман, ред., В начале Габимы (Иерусалим: изд. Библиотека сионизма,
1966), с. 393-99, иврит; Э. Леви, Национальный театр Габима (Тель-Авив: Акад, 1981),
с. 68-74, иврит; Б. Цемах. “Мертвец отказывается от похорон: Габима в Москве в рево-
люционное время”, Бама , 134 (1993), с. 5-7, иврит. :
הספריה ירושלים, הבימה, בראשית (עורך). י. נורמן, בתוך המאבק“ תולדות ”משואות: מ׳. (אלקין,
הבימה. הלאומי התיאטרון ע׳. לוי, ;399-393 עמ׳ ,1966 הציונית, ההסתדרות הנהלת על־יד הציונית
תל־אביב, עקד, 1981, עמ׳ 74-68; צמח, ׳. (1993). ” ’המת מסרב להקבר‘ – ’הבימה‘ במוסקבה בתקופת
המהפכה“, במה 134, עמ׳ 7-5). 38) Подробнее о русской театральной жизни в Берлине см. Н. Вагапова, Русская теа-
тральная эмиграция в центральной Европе и на Балканах (СПб.: Алетейя, 2007). 39) См. Радищева, сн. 8,Станиславский и Немирович-Данченко, с. 164-229, 324-25.
Габиму в буржуазности. Травля театра большевистскими чиновни-
ками подробно описана и на русском, и на иврите. Попытки ведущих
деятелей русского театра – К. Станиславского, А. Таирова, М. Чехова,
С. Волконского выступить в защиту Габимы не увенчались успехом, и
театр был лишен финансирования. 37
Из Москвы Габима уехала не в Тель-Авив, а в Берлин, в то время
центр русской театральной эмиграции. 38 Из Берлина в течение
нескольких лет вплоть до 1928 театр разъезжал с гастролями по евро-
пейским столицам. В целом это отличалось от судьбы целого поколе-
ния русских артистов, оказавшихся в эмиграции. Москва двадцатых
годов действительно была и центром мировой театральной жизни, и
тем местом, откуда бежали те, кто не в состоянии был приспосо-
биться к новым реалиям советской жизни. Мысли об эмиграции
посещали многих, у многих был и практический опыт эмиграции: в
центральной Европе в 1920–1928 гг. с успехом давала спектакли
Пражская группа МХТ, в двадцатые годы и Немирович-Данченко, и
Станиславский надолго уезжали из России, взвешивая возвращаться
ли обратно. 39 Парадоксально, но появление Габимы в Европе, лишь
усилило её принадлежность и к русской театральной традиции, и к
ходу российской истории.
Вместе с тем, Европа встретила Габиму как театр двойного чуда:
гениальной режиссуры Вахтагова и действа на древнем библейском
языке. Двойное гражданство театра оказалось выигрышным билетом.
Спектакли Габимы не постигла участь многих других русских теа-
тров в Европе. Габима не была замкнута на эмигрантскую среду
исключительно. Её спектакли притягивали и европейскую театраль-
ную элиту, и еврейские круги Европы, и образованные круги русской
эмиграции. Великий Макс Рейнхардт, посмотрев “Гадибука” и “Сон
90 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
40) Цит. по M. Kohansky, The Hebrew Theatre. It’s first fifty years (Jerusalem: Israel
Universities press, 1969), p. 79. 41) Е. Адамович. “После Габимы”. Париж, 1937 // Архив Габимы. Гадибук, папка 3//
Архив и музей театрального искусства им. И. Гура. Иерусалим.
Якова” говорил, что спектакли Габимы произвели на него “колоссаль-
ное впечатление”. 40 Георгий Адамович, поэт и признанный метр рус-
ской литературной критики в эмиграции, отрицавший в принципе
достоинства театрального искусства, посмотрев “Гадибука” в Париже,
сравнил его с поэзией Блока: “Я только что написал по поводу чтения
Блока, что в чтении этом был отблеск и свет подлинного искусства –
за невозможностью дать большее. У ‘Габимы’ то удивительно, что
отблеском и следом она не довольствуется, а смело пускается на пои-
ски утраченного простора и находит его. Не преувеличивая, в ‘Дибуке’
есть моменты такого истинного величия, что современный зритель
чувствует себя потрясенным и подавленным, как будто впервые дога-
дываясь, впервые спрашивая себя: так вот что такое театр, так вот,
чем он может быть – и, вероятно, когда-нибудь был”. 41
Диалог культур в Израиле: парадоксы самоидентификации
В 1928 после триумфов в Европе и неудачных гастролей в Америке,
Московский театр Габима прибыл в Тель-Авив. На афишах, в прессе и
на билетах, продававшихся зрителям, так и писали: Московский
театр. Габима не скрывала своей культурной идентификации, связи с
русским театром казались неразрывными. Когда встал вопрос о том,
что театру нужны новые спектакли, решено было пригласить Алексея
Дикого, русского режиссера, не еврея, ученика Станиславского, чело-
века вахтанговского круга. В 1928-1929 он становится режиссером
Габимы и приезжает в Тель-Авив.
Дикий поставил в Габиме два спектакля: “Клад” Шалом Алейхема и
“Корону царя Давида” Кальдерона. Репетиционный период привел
актеров в восторг и воодушевление. Ш. Финкель, впоследствии
один из ведущих актеров израильского театра, а в то время – актер
начинающий, писал в своих воспоминаниях: “С Алексеем Диким
связана одна из самых ярких страниц в истории Габимы и иврит-
ского театра вообще. В моем собственном художественном разви-
тии роль этого режиссера животворна: для меня это были курсы
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 91
42) Ш. Финкель, Сцена и кулисы (Тель-Авив, Ам Овед, 1968), с. 135-40, иврит.
Финкель не был учеником Вахтангова, актерскому мастерству он учился у Гнесина
в Берлине. К Габиме Финкель присоединился позднее уже в Тель-Авиве.
( פינקל ש׳. במה וקלעים. תל-אביב, עם עובד, 1968,עמ׳ 140-135). 43) О спектаклях А. Дикого в Габиме см. A. Kerr, “Habimah: Lessing Theater”,
Berliner Tageblatt .17.12.1929. F. Engel. “Davids Krone. Gastpiel Habima im Lessing
Theater”. Berliner Tageblatt . Dec., 1929 (точная дата нрзб.); J. Appenszlak. “Premjery
Warszawskie”. Nasz Przeglad . 9.3.1930. А. Кабак “Мои слова”, Ктувим . 27.7.1929, иврит.
(קבק, א׳. ”דבר“. כתובים .27.7.1929)
Элишева. “О Короне Давида”, Давар . 9.7.1929, иврит. .(9.7.1929. דבר (אלישבע. ”על כתר דוד”. 44) Подробнее о спектаклях Дикого см. Kohansky, The Hebrew Theater. It’s first fifty years ,
сн. 40, с. 114-19.
профессионального мастерства, источник, из которого я черпаю и по
сей день”. 42 Пресса и палестинская, и мировая высоко оценила арти-
стизм этих спектаклей, однако иронический, гротескный язык
по отношению к трогательным персонажам еврейского местечка и
критический взгляд на моральные проблемы в поведении царя
Давида, привели к тому, что и театр, и режиссер обвинены были
в антисемитизме. 43 Публика в массе своей хотела спектаклей компли-
ментарных. В Палестине экспериментом была сама жизнь, и от теа-
тра, вероятно, ожидали большей теплоты и большей устойчивости.
Спектакли Дикого, следовали, конечно, традициям вахтанговского
“Гадибука”, но их важной составляющей оказалась иная среда и
иные реалии. Израильская публика всерьез обиделась за царя
Давида. “Клад” вызвал бурю общественных эмоций, – и негодования,
и восторгов. Дикий гиперболизировал страшный мир, созданный
Вахтанговым в танце нищих, распространив его на всё драматическое
пространство своего спектакля. Зрители понимали, что на сцене –
местечко, покинутое ими, то место, откуда они вырвались на свободу,
от замкнутости и безнадежности которого бежали в Палестину. Язык
театра, казалось, подтверждал правильность сделанного ими выбора.
Однако у многих простые человеческие чувства восставали против
трагического гротеска, привязанность к детству пересиливала. Они
на самом деле покинули этот мир, и хотели вспоминать его добрыми
словами, не чернить и не превращать в театральную метафору урод-
ства. Вместе с тем, спектакль Дикого положил начало важной для
израильского театра традиции, где при постановке пьес о жизни
еврейского местечка использовался язык авангардного театра. 44
92 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
45) Финкель, Сцена и кулисы , сн. 42, там же.
По словам Финкеля, Дикий планировал остаться в Габиме надолго,
но со временем его требовательность и нелицеприятный разговор
стали обижать многих. Он имел обыкновение язвительно спраши-
вать: “Кто вы? Студенты: – Нет. Актеры? – Тоже нет”. Такой резкости
обласканные европейской славой габимовцы не могли ему простить.
В театре возникла группировка, выступившая против Дикого
с утверждением, что его талант не созидателен, что Дикий больше
разрушает, чем создает. 45 В результате по окончании сезона Дикий
ушел, а Габима, не выдержав реальности провинциальной палестин-
ской жизни, вернулась в Берлин на длинные европейские гастроли,
продолжавшиеся вплоть до 1931 г.
Режиссером-ассистентом Дикого на репетициях Шалом Алейхема
был Цви Бен-Хаим (1898-1957), один из старейших актеров Габимы.
Репетиционный дневник он вел на русском языке. Дневник сохра-
нился. Там – и рабочие записи, и заметки для себя. Бен-Хаим сравни-
вал Шалом Алейхема с Гоголем. Предпочтение отдавал Гоголю:
“Шалом Алейхема сближала с Гоголем – чередовка кусков, не юмори-
стика, а смех сквозь слезы, одинаково смешно и грустно. Гоголь неиз-
меримо выше, а в произведениях Шалом Алейхема плакали. Наш
материал гнилой, неинтересный”. В этом дневнике – мысли о природе
актерского творчества, – возможно, записанные слова Дикого, воз-
можно собственные размышления во время репетиций: “Главное не
слова, а состояние. Играть от литературы нельзя”. Надо думать, что
Бен Хаим не случайно оказался режиссером-ассистентом Дикого. Он
был артистом, склонным к анализу и теоретизированию. В Израиль
он привез с собой и сохранил конспекты московских лекций. Среди
них одна – о гротеске. Судя по тематике, скорее всего – запись слов
Вахтангова. Видно, что текст сначала был написан карандашом, потом
буквы обведены чернилами – понятно, что для пишущего эти строки
были исключительно важны:
“Гротеск – сгущенность всего, что есть в пьесе (концентрация).
Существуют театральные, цирковые, уличные, благородный гротеск.
Гротеск понимает все, он общечеловечен.
Гротеск отличается от шаржа (где преувеличение сгущено, нет вну-
треннего содержания. Гротеск чувствуется – безсмертие.
Гротеск возможен лишь в той обстановке, из которой он
родом (цирковой в цирке) [нрз.] Гротеск не переносит натурализма,
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 93
46) Цви Бен-Хаим. Личный архив 52. 2 // Архив и музей театрального искусства им.
И. Гура. Иерусалим. При публикации сохранена оригинальная орфография, пунктуа-
ция и расположение текста на странице. 47) Халеви присоединился к Габиме в 1918, принимал участие в двух вахтанговских
спектаклях, во время репетиций имел обыкновение сидеть рядом с Вахтанговым.
О своей близости с Вахтанговым Халеви рассказывает в книге воспоминаний.
См. М. Халеви, Моя жизнь на театральных подмостках (Тель-Авив: Масада, 1955),
с. 28-75. .(28-75 הלוי, מ׳. דרכי עלי במות. תל-אביב, 1955, מסדה, עמ׳) 48) Там же. 49) Там же, с. 96-101.
но в нем непременная правда. Гротеск – старик, сделанный из
молодости – закостенелость.
За фигурой – безсмертие.
В гротеске – нет ничего лишнего.
Завод на определенность.
Гномы – гротескные, маленькие, седые, но молодые старички в
1000 [нрзб.] больше лет, вечно веселые быстрые в детских шапочках.
“Униж. и оскр” – старик с собакой – гротеск.
Диккенс – гротеск.
Петрушка – театр. гротеск.
Театр родился из гротеска.
Смерть должна быть гротескна на сцене.
Гротеск – безсмертие индивидуальности (би – ба– бо)”. 46
Между тем, в то время, когда Габима начала свою деятельность в
Тель-Авиве, там уже существовал профессиональный ивритский
театр Охел, созданный в 1926 Моше Халеви (1895-1974), раскольным
актером Габимы и одним из любимцев Вахтангова. 47 В начале 1925
Халеви ушел из Габимы из-за раздоров с Цемахом, который не хотел
подпускать его к режиссуре. 48 Прибыв в Палестину в марте 1925,
Халеви выступил с публичной лекцией “Еврейский театр на иврите в
Москве и московский русский театр”. Он предложил создать рабочий
ивритский театр в Тель-Авиве, в качестве примера приводил, разуме-
ется, российские рабочие театры, подчеркивая значение того уважи-
тельного отношения и практической поддержки, которую получали
эти театры в Москве. Его лекция произвела впечатление, комиссия
по культуре Генеральной федерации израильского рабочего профсо-
юза финансировала идею рабочего театра для рабочих. 49
Халеви по примеру Габимы начал с создания студии, объявил
конкурс, отобрал одаренных молодых людей, приехавших в основ-
ном из России, многие из которых бежали от ужасов и погромов
94 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
50) Там же, с. 107-08. А. Кинерет, “Монолог Мошe Халеви”, Лемирхав , 11.2.1965,
иврит. .(11.2.1965 , כנרת, א׳. ”מונולוג משה הלוי“. למרחב) 51) И. Габай, Личная архивная папка, в Израильский центр документации сцениче-
ских искусств. Тель-Авив. 52) М. Файнберг, Личный архив 13: У//Музей и архив израильского театрального
искусства им. И. Гура. Иерусалим; Бен-Хаим, Личный архив, сн. 45, там же. 53) Ц. Фридлянд, Личный архив 66:11 // Музей и архив израильского театрального
искусства им. И. Гура. Иерусалим. Фридлянд присоединился к Габиме в 1920, с начала
гражданской войны, сохранив, однако, свои социалистические убеж-
дения. Краеугольным камнем учебной программы театра-студии Охел
была система Станиславского. При этом, Халеви с гордостью гово-
рил, что его студийцы знакомились и с другими российскими теа-
тральными учениями, противополагавшими себя Станиславскому. 50
Как и Габима, через год после начала занятий, Охел выпустил свой
первый спектакль. Как и Габима, Охел начал с представления одно-
актной идишской драматургии (“Вечер И. Переца”, 1926). Вторым
спектаклем театра стали “Рыбаки” Г. Хейерманса, пьеса, известная в
русском театре под названием “Гибель Надежды”. Этой пьесой, как
известно, открылась Первая студия МХТ, режиссеры которой были
учителями Габимы. Выбор начального репертуара определял корни
театра, свидетельствуя о двойной еврейско-русской культурной ори-
ентации. Спектакли Халеви, следуя вахтанговской традиции, отлича-
лись сгущенной атмосферой, стилизацией, психологизмом идей,
экспрессионисткой стилистикой мизансцен. Театр просуществовал
более тридцати лет в постоянном соперничестве с Габимой.
Актеры театра Охел так же, как и актеры Габимы, в большинстве
своем говорили на русском языке. В своей повседневной жизни они
не враждовали, и те, и другие сохранили надолго старые “русские”
привычки: “С Ровиной мы обычно пили чай, а с Мескиным – водку” –
вспоминал И. Габай (1905-1994), один из ведущих актеров Охела. 51
В течение многих последующих лет, играя спектакли на иврите,
актеры Габимы и Охела продолжали писать друг другу письма на рус-
ском языке: переписка актеров А. Бараца (1894-1952) и М. Файнберга
в тридцатые и сороковые годы. По-русски продолжали переписы-
ваться с друзьями и коллегами: переписка Ц. Бен-Хаима с Р. Фальком
и А. Грановским в тридцатые годы. 52 По-русски писали родственни-
кам, оставленным в России: переписка режиссера Цви Фридлянда
(1898-1967) с братом и сестрой, восстановленная уже после смерти
Сталина в начале шестидесятых годов. 53 Потом перешли на иврит,
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 95
30х гг. он – центральная фигура в режиссерской группе Габимы. Всего на сцене
Габимы в 1931-1964 гг. он поставил сорок семь спектаклей. 54) М. Чехов, Литературное наследие, т. 1 (Москва: Искусство, 1995), с. 204. 55) J. Copeau, “Le Theatre de Palestine Ohel”, Les Nouvelles Litteraires , 9.6.1934. 56) Бен-Хаим, Личный архив, сн. 45, там же. 57) М. Гнесин. “Е. Б. Вахтангов”, Бама , 14-15 (1937), с. 14-16, иврит; Б. Чемеринский,
“Из воспоминаний о Станиславском”, Бама , 19 (1937), с. 10-14, Бама , 20 (1938), с.
13-18, иврит.
(גנסין, מ׳. (1937). ”י׳ ב׳ וכטנגוב“, במה י״ד-ט״ו, עמ׳ 16-14; צ׳מירינסקי, ב׳. (1938). ”מזיכרונות על
סטניסלבסקי“, במה י״ט, עמ׳ 14-10, במה כ׳, עמ׳ 18-13). 58) Б. К. “Женская тематика в русском театре в постановках Мейерхольда”, Бама ,
4, (1934), с. 54-56, иврит.
.(56-54 עמ׳ ד׳, במה מאירהולד“, של הרוסי בתאטרון האישה על מחזה ”מחזור .(1934) ק. (ב. 59) Г. Менахем,”Судьба поэта (Театр Пушкина)”, Бама , 14-15 (1937), с. 80-81, иврит.
(מנחם ג׳. (1937). ”גורלו של משורר (פושקין והתיאטרון)“, במה י״ד-ט״ו, עמ׳ 81-80).
перемешанный с русскими фразами. Эти письма или дневниковые
записи, где наиболее острые мысли высказывались по-русски, могут
быть предметом психолингвистического исследования.
В Европе, куда и Габима, и Охел регулярно выезжали на гастроли, к
ним относились как к русским театрам из Палестины. Михаил Чехов,
приглашенный габимовцами на постановку “Двенадцатой ночи”
Шекспира (1930) во время второго длительного пребывания театра в
Берлине (1929-1931), вспоминал, как его немецкие коллеги посещали
репетиции Габимы: “Им хотелось посмотреть, что делают ‘diese Russen’
такого, что никак не могут приготовить и одной пьесы, когда они сами
за это время могут шутя приготовить две или даже три. И много весе-
лились они, когда я все снова и снова повторял одну и ту же сцену”. 54
Когда Охел приехал в Париж в 1934, Жак Копо опубликовал рецензию
на спектакли Халеви, говоря, что русские театральные традиции пале-
стинского театра, позволяют парижским зрителям познакомиться с
тем, что они не успели понять в спектаклях Станиславского,
Мейерхольда и Вахтангова. 55
Гастроли и встречи с другими театральными школами, способство-
вали профессиональной самоидентификации израильских актеров.
“Нечего сравнивать, отождествлять фигуру русского актера с профес-
сиональным забавляльшиком европейским парвеню” – писал в своих
записных книжках Бен-Хаим. 56 Размышления, статьи, мемуарные
записки о русском театре заполняли страницы израильской театраль-
ной периодики. Журнал Бама публиковал личные воспоминания
израильских актеров о Вахтангове и о Станиславском, 57 записки
о спектаклях Мейерхольда, 58 статьи о пушкинской драматургии, 59
96 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
60) А. Ремизов, “Ужас и серебряный звон”, Бама , 7 (1935), с. 17-19, иврит. В оригинале
эссе называется “Серебряная песня”.
(רמיזוב, א׳. (1935). ” ’האימה‘ ו’צלילי‘ הכסף“, במה ז׳, עמ׳ 19-17). 61) М. Бронзафт, “Драматургия на сцене Габимы”, Бама, 19 (1938), с. 21-31, иврит.
(ברונזפט, מ׳. (1938). ”הדרמטורגיה ב’הבימה‘ “, במה י״ט, עמ‘ 31-21). 62) О педагогической деятельности Фридлянда см. Ш. Финкель, Искры (Тель-Авив:
Акад, 1985), с. 65-85, иврит.
( פינקל, ש‘. ניצוצות, תל-אביב, עקד, (1985), עמ‘ 85-65).
перевод записок Ремизова о Гоголе, 60 наконец, сопоставительный ана-
лиз репертуара Габимы с репертуаром МХТ. 61 Когда Станиславский
умер, специальный выпуск журнала Бама (1938:19) целиком был
посвящен его творчеству.
В тридцатые годы в продолжении идей Станиславского и
Вахтангова, Фридлянд, неоспоримый лидер габимовской режиссер-
ской группы, сторонник идеи интеллектуального театра, открывает в
Тель-Авиве студию актерского мастерства, на основе которой уже в
1945 открывается Школа актерского искусства при Габиме. Эта школа
вырастила целое поколение звезд израильской сцены. 62
В этом свете удивительно, что в тридцатые годы, когда и Охел, и
Габима с увлечением начинают ставить переводную зарубежную дра-
матургию, русские пьесы почти не появляются на сцене ивритского
театра. За десять лет Охел и Габима поставили всего четыре русских
пьесы: “На дне” М. Горького (1933, Охел), “Ревизор” Н. Гоголя (1935,
Габима), “Лес” А. Островского (1937, Охел), “Вишневый сад” А. Чехова
(1939, Габима). В Охеле спектакли вышли в постановке Халеви, в
Габиме – Цви Фридлянда, оба до конца жизни преклонялись перед
Станиславским, называли себя учениками Вахтангова. Оба как будто
бы избегали встреч с русской драматургией в начале своего режис-
серского пути.
Вероятно эта странная ситуация была связана с несколькими
обстоятельствами. В тридцатые годы и для Габимы, и для Охела важ-
нее всего было стать израильскими театрами. На первом плане были
проблемы актуального для израильской действительности реперту-
ара. В отличие от ряда других русских театров, покинувщих совет-
скую Россию или созданных русскими артистами за пределами
России, они не стремились к сохранению “русскости”. Напротив, в
этот момент ивритский театр будто начинает стесняться своей двой-
ной культурной ориентации, сохраняя верность русской театральной
системе, отстраняется от русской тематики.
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 97
63) А. Фойрштейн, “Этот театральный сезон”, Газит , 7-8 (1939), иврит.
( ’פוירשטיין, א׳. (1939). ”התאטרון בעונה זו“, גזית ח׳-ו). 64) Кинерет, сн. 49. 65) Менахем Шеми (Шмидт) (1897-1951), художник и сценограф, родился в Бобруйске,
основам художественных искусств учился в Одессе (1913) и в Академии Искусств
Бецалель в Иерусалиме (1919). В 1928 создал сценографию к “Короне царя Давида” в
постановке А. Дикого, абстрактный минимализм которой получил высокую оценку
европейской критики.
Ицхак Френкель (1899-1981), родился в Одессе, там же начал учиться живописи
(1916), репатриировался в Израиль в 1919, в 1920-1925 учился в Париже, сблизив-
шись с художниками круга Модильяни. Его сценография к “Путешествию Биньямина
Возможно и другое: некоторое отстранение от русской драматур-
гии определялось тем, что русскоговорящей была большая часть
израильской театральной публики. Эти люди предпочитали видеть
русскую драму на русском языке, а не на иврите. “Для русскоговоря-
щих зрителей спектакли русской драмы в переводе на иврит – недо-
статочно русские, для прочих, они – слишком русские”– писала
ивритская пресса. 63
Обращает, конечно, внимание, что и тот, и другой режиссер: и сто-
ронник элитарного театра – Фридлянд, и идеолог театра рабочего –
Халеви, остановили свой выбор на классике, не на советской
драматургии. Выбор надо полагать был сознательным: оба режис-
сера регулярно читали русскую театральную периодику, Халеви
в Париже в 1937 смотрел спектакли Художественного театра, удив-
ляясь появлению в репертуаре МХТ “чуждой” ему советской
драматургии. 64
Вместе с тем, главный феномен и удивительная странность упомя-
нутых выше четырех спектаклей заключался в том, что все они,
вопреки общим откровенно экспрессионистским художественным
тенденциям ивритского театра, поставлены были в музейной стили-
стике, где с документальной точностью восстанавливались мельчай-
шие детали российского быта и бытия. Сохранившиеся в архивах
фотографии спектаклей, дают представление о визуальном образе
действия, свидетельствуя о ярко выраженном натурализме и в изо-
бражении общей картины мира и в мизансценах. Этот натурализм
противоречил и логике жизни, и логике художественной. Те же режис-
серы, Халеви и Фридлянд, и те же сценографы М. Шеми (“На дне”,
“Ревизор”, “Вишневый сад”) и И. Френкель (“Лес”), известны были
своим пристрастием к минимализму и сценическому гротеску. 65
98 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
Третьего” Менделе Мохер Сфорима в театре Охел (1937, реж. Халеви) создана была в
эстетике экспрессионизма. 66) Об отношении критики и общественного мнения к указанным спектаклям см.
А. Юрис, “‘На дне’ Горького – хвалы театру Охел”, Давар , 16.33.1933, иврит; Л.
Гольдберг, “‘Лес’ на сцене театра Охел”, Давар , 3.12.1937, иврит; Ш. Шмуэли, “Ревизор”,
Хапоаль Хацаир , 29.3.1935, иврит; М. Липщиц, “Вишневый сад”, Хаарец , 24.3.1939,
иврит; И. Габай, Театр Охел: история создания (Тель-Авив: изд. Центра культуры и
образования Хистадруц), с. 36, иврит и др.
-הוצאת המרכז לתרבות ולחינוך הסתדרות, 1983 יוריס, א׳. ” ’בשפל‘ לגורקי – במעלה ל’אהל‘ “, דבר,-16.2.1933; גולדברג, ל׳. ” ’היער‘ ב’אהל‘ “, דבר, 3.12.1937; גבאי, י׳. תאטרון ’אהל‘ סיפור תל-אביב,”גן מ׳. ליפשיץ, ;29.3.1935 הצעיר, הפועל ”רביזור“, ש׳. שמואלי, ;36 עמ׳ המעשה
הדובדבנים“, הארץ, 24.3.1939.
Однако в данном случае преобладала видимо логика эмоций, коллек-
тивная эмоциональная память. Следует предположить, что им при-
ятно было восстанавливать русский быт как часть собственной
биографии, и они отдавались этому занятию со всей скрупулезно-
стью. Публике тоже это нравилось, спектакли пользовались зритель-
ским успехом и доброжелательным вниманием критики. 66
В сороковые годы количество русских пьес, поставленных на изра-
ильской сцене, увеличивается в два раза. На этот раз Габима и Охел
ставят не только классику (“Власть тьмы” Л. Толстого, Охел, 1940;
“На всякого мудреца довольно простоты” А.Островского, Габима,
1941; “Преступление и наказание” Ф. Достоевского, Габима, 1932;
“Женитьба” Н. Гоголя, Габима, 1945 и др.). Под влиянием событий
Второй мировой войны и той роли, которую играла Россия в этой
войне, вырастает интерес к советской драматургии. В Тель-Авиве
ставятся пьесы – “Русские люди” К. Симонова (1943, Габима),
“Нашествие” Л. Леонова (1943, Охел). Обе пьесы появляются на изра-
ильской сцене сразу вслед за премьерами в русском театре, и это пер-
вые военные пьесы, поставленные в Израиле. Очевидно, что тесные
связи с русским театром продолжаются, и снова русская драматургия
выполняет заместительную роль – при отсутствии своей оригиналь-
ной драматургии о войне, ставятся русские пьесы, переведенные на
иврит. В целом те же тенденции к детальному восстановлению рус-
ской действительности характерны были для русской драматургии,
поставленной на сцене Габимы и Охела и в сороковые годы.
Ситуация изменилась лишь с возникновением Камерного театра
(1945), одним из главных лозунгов которого становится освобожде-
ние от русского влияния и русского акцента на израильской сцене.
Театр был создан группой молодых актеров, для которых иврит был
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 99
67) См. Программку спектакля “В Садах” Л. Леонова (по мотивам пьесы
“Половчанские сады”, 1949. 68) См. Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff ”, http://digilander.libero.it.luigi9/13/
htm 69) А. Зусман. “‘Ревизор’ в Камерном театре”, Давар , 27.7.1950, иврит.
( זוסמן, ע׳. ” ’רביזור‘ בתיאטרון הקאמרי“, דבר, 27.7.1950).
родным языком, а главным ориентиром – западноевропейская куль-
тура. Йосеф Мило (1916-1997), главный режиссер Камерного декла-
рировал себя как артист брехтовской школы. Мило не отказывался от
русской драмы, но в его театре к этой драматургии стали обращаться
для решения задач эстетических и смысловых, не для ностальгиче-
ского восстановления картин утраченного детства.
Тем не менее, в отношении Мило к русской драматургии и к рус-
скому театру было нечто выходящее за рамки спокойного интеллек-
туального диалога с другой культурой. Его обращение к той или иной
русской пьесе было частью его спора с Габимой и Охелом, и следова-
тельно частью израильского театрального процесса. Так в поиске
“другой” русской драматургии, он поставил “Половчанские сады”
Леонова (1949), по недоразумению приняв эту просталинскую пьесу
за новый русский авангард. 67 В 1950 в поиске “другого” представи-
теля русской театральной традиции он пригласил Петра Шарова
(1886-1969) на постановку “Ревизора” в Камерный театр. Шаров, с
большим успехом работавший в Европе, признанный одним из веду-
щих мастеров театрального искусства и в Италии, и в Голландии,
учился в молодые годы и у Мейерхольда, и у Станиславского. 68 Мило
хотел получить русскую традицию из первых рук, не через своих
израильских коллег. В Израиле “Ревизор” Шарова, а вернее создан-
ный им актерский ансамбль, произвел фурор, напомнив о забытых
возможностях театра. 69 При этом оказалось, что Шаров ближе театру
Охел, чем Камерному, и две его следующие израильские постановки
уже появились на сцене Охела (“Село Степанчиково” Ф.
Достоевского, 1951; “На всякого мудреца довольно простоты” А.
Островского, 1952).
В 1956 Мило решил включить в репертуар Камерного театра
“Шинель” Н. Гоголя. В качестве постановщика он выбрал Ш. Бунима
(1919-1998), молодого режиссера, пришедшего из любительского теа-
тра, отличавшегося остроумием и живостью театрального мышления.
Буним тоже был “другим” русским. Он родился в Саратове, детские
годы провел в Каунасе, среди его первых театральных впечатлений
100 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
были спектакли М. Чехова в каунасском театре. В 1935 в возрасте
щестнадцати лет он вместе с родителями приехал в Израиль. В начале
пятидесятых Буним отправился в Англию, и, окончив курс режис-
серского мастерства при Олд Вик, был принят в режиссерскую
команду Камерного театра. До конца дней своих Буним с гордостью
говорил, что русский – его родной язык. 70
Камерный театр в стремлении представить постановку “Шинели”
как событие исключительной важности посвятил этому спектаклю
специальный выпуск журнала “Аманут Хабама” (Искусство сцены).
В этом журнале опубликована была литературоведческая статья
Л. Гольдберг о Гоголе, режиссерские заметки Бунима, заметки худож-
ника спектакля А. Навона (1909-1996). Однако главным материа-
лом номера была статья о В. Мейерхольде и о его режиссуре
“Ревизора”. 71 В сущности, Камерный театр заявлял о своих русских
корнях и пристрастиях. Театральный сюрреализм Бунима и Навона
оправдывался опытом Мейерхольда. Декларируя себя как театр
авангардный, Камерный театр опирался на Мейерхольда. Впервые
в израильском театральном дискурсе в качестве высшего художе-
ственного авторитета и основоположника оригинальной традиции
представлено было имя режиссера, противопоставившего себя
Станиславскому.
На протяжении десятков лет русский театр, русская театральная
традиция и русская культура были неотъемлемой составляющей
70) Д. Левин. “Интервью с Бунимым”, 19.11.1974, с. 2-3, в Буним, Личная папка 115 א,
Музей и архив израильского театрального искусства им. И. Гура. Иерусалим, иврит.
הארכיון 155א, אישי תיק בונים: ש׳ בתוך 2-3 עמ׳ ,19.11.1974 בונים“, ש׳ עם ”ראיון ד׳. (לוין, והמוזיאון ע״ש ישראל גור, ירושלים).
71) Л. Гольдберг, “О ‘Шинели’ Гоголя”, Аманут Хабама, 2 (1956), с. 10-13; Ш. Буним, “На
полях режиссерской книги”, там же, с. 14-15; А. Навон. “О сценографии ‘Шинели’”, там
же, с. 16-17; “Мейерхольд режиссирует ‘Ревизора’ Гоголя: записи репетиций”, там же,
с. 20-22.
Лея Гольдберг (1911-1970), писательница, поэт и историк литературы, переводчик
произведений русской классической литературы на иврит, крупнейший авторитет
в израильском литературоведении. Арье Навон, художник сцены, с именем кото-
рого связывают новое мышление в израильской сценографии. В 1975 Навон вошел
в почетный список самых выдающихся деятелей мирового театра первой половины
семидесятых годов. גולדברג, ל׳. (1956). ”על ’האדרת‘ ונ.ו. גוגול“, אמנות הבמה 2, עמ׳ 13-10; בונים, ש׳. (1956). ”בשולי
ספר הבימוי“, שם, עמ׳ 15-14; נבון, א׳. (1956). ” על התפאורה ’לאדרת‘ “, שם, עמ׳ 16-17. ”מאירהולד
מביים את ’רוויזור‘ לגוגול. רשימות לחזרות“, שם, 1956, עמ׳ 22-20.
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 101
72) Ц. Фридлянд, “Размышления о путях развития израильского театра”, Финкель,
сн. 61, с. 104-06.
израильского театра. Несмотря на то, что спектакли игрались на
иврите, не на русском языке, социокультурная функция русской тра-
диции была велика. Связи с этой традицией во многом определяли и
художественные поиски, и эмоции, влияли на отношения израиль-
ского театра и с прошлым, и с будущим. Когда в шестидесятые годы
Фридлянд размышлял о проблемах театральной жизни Израиля,
он говорил о том, что отдалившись от системы Московского
Художественного театра, израильский театр отдался на волю случай-
ного стечения обстоятельств, а это противоречит художественному
развитию. 72 В последующие тридцать лет логика театральной жизни
Израиля была в большей степени связана с западноевропейским и с
американским театром. Однако, когда в девяностые годы из России в
Израиль вновь приехали десятки театральных артистов, они были
встречены с удивленным восторгом.
Новая волна: русский театр на иврите
Девяностые годы открывают новую страницу в истории русского теа-
тра в Израиле. Тогда в страну, население которой исчислялось шестью
миллионами человек, приехал миллион русскоговорящих евреев из
Советского Союза. Среди приехавших были десятки артистов театра
и тысячи зрителей. Ожидалось, что на этой волне в Израиле появится
множество театров и спектаклей на русском языке.
В целом эти ожидания не оправдались. На сценических площадках
районных клубов и домов культуры действительно появилось немало
русских спектаклей, но художественный уровень их, как правило, был
не высок. В то же самое время репертуарные израильские театры
стали показывать свои лучшие спектакли с переводом на русский
язык, а лучшие русские актеры быстро заговорили на иврите и устре-
мились на ивритскую сцену. Это тем более интересно, что в отличие
от двадцатых и тридцатых годов, на этот раз в Израиль приехали
артисты русских театров, профессиональный опыт которых был свя-
зан с русским языком исключительно. Вместе с тем, спектакли на
иврите и театры на иврите, созданные русскими артистами, стали
центральными событиями израильской театральной жизни.
102 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
73) Э. Бар-Кадма, “запомните это имя”, Едиот Ахронот , 12.4.1991, иврит.
( בר-קדמא, ע׳. רישמו את השם. ידיעות אחרונות, 12.4.1991). 74) Леонидов разошелся с Селезневой и вернулся в Россию в середине девяностых
годов. Селезнева работала в Камерном театре до 2000, когда выйдя замуж за англича-
нина, она уехала в Англию. 75) Евгений Арье, ученик Г. Товстоногова, работал в ведущих театрах Ленинграда и
Москвы (Большой драматический театр, Малый драматический театр, Театр им.
Маяковского), преподавал в ГИТИСе. В 1987 он снял фильм “Костюмер” с З. Гердтом
в главной роли. Незадолго до отъезда в Израиль поставил со своими студентами
В апреле 1991 на фестивале моноспектаклей Театронетто первый
приз получил спектакль “Русская любовь” в исполнении актрисы
Ирины Селезневой, в прошлом актрисы ленинградского Малого
драматического театра, ученицы Льва Додина. Селезнева, русская по
происхождению, приехала в Израиль с мужем Максимом Леонидо-
вым, популярным певцом, создателем и солистом группы “Секрет”.
Профессиональная судьба Леонидова в Израиле не сложилась.
Селезнева мгновенно стала звездой израильской сцены и была при-
глашена в Камерный театр. “Русская любовь” – спектакль – коллаж,
композиция из десяти монологов из русской классической литера-
туры, где связующим звеном была личность актрисы, поразил и
зрителей, и критиков. Селезнева сыграла моноспектакль на иврите
через полгода после приезда в Израиль, и это воспринято было как
чудо. Лирическая интонация, исповедальность, легкость и свобода
сосуществования смешного и печального, точность в выборе выра-
зительных средств восхитили коллег по актерскому цеху. В Израиле
вновь заговорили о непревзойденной русской актерской школе.
Бар-Кадма, один из старейщих театральных критиков Израиля
опубликовал о ней восторженную статью: “Она владеет ивритским
текстом с поразительной свободой, практически не делает ошибок,
говорит без акцента. Легко и свободно. Невероятно, и это через
четыре месяца после приезда в Израиль”. 73 Спектакль “Русская
любовь” с успехом прошел более ста раз, Селезнева награждена была
почетной актерской премией имени Авраама Бен Йосефа. Среди луч-
ших актерских работ Селезневой в Камерном театре – роль Заречной
в “Чайке”, поставленной приглашенным в Израиль московским
режиссером Борисом Морозовым (1991), Титания в комедии “Сон в
летнюю ночь” В. Шекспира (1993). 74
Тогда же в апреле 1991 театр Гешер, созданный в 1990 группой
молодых московских актеров во главе с режиссером Евгением Арье, 75
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 103
спектакль “Розенкранц и Гильденстерн мертвы”, который стал культовым событием
Москвы в период перестройки. 76) М. Хендельзальц, “Боль человеческая служит театру”, Хаарец . 1.11.1993, иврит.
(הנדלזלץ, מ׳. ”הנאב האנושי בשירות הספקטקל“. הארץ. 1.11.1993).
Проблематика взаимоотношений театра Гешер с израильским культурным дискур-
сом рассматривается в книге O. Gershonson. Gesher: Russian Theater in Israel – A Study of
Cultural Colonization (New York, Peter Lang, 2005).
показал свою первую премьеру – спектакль “Розенкранц и Гиль-
денстерн мертвы” Т. Стоппарда. Спектакль был сыгран по-русски, для
ивритоязычного зрителя предлагались наушники с параллель-
ным переводом текста. В отличие от Селезневой, русский театр не
предлагал израильской публике русский репертуар. Выбор постмо-
дернисткой пьесы Стоппарда для премьеры был во многом рискован-
ным. Театр шел ва-банк, пренебрегая ностальгическими чувствами
и русскоязычного, и коренного израильского зрителя. Расчет был
на высокий профессионализм и на честность позиции: Гешер с пер-
вых шагов заявил о себе как театр отличного актерского ансамбля,
авторской режиссуры и блистательных в своей неожиданности
мизансцен.
После первого же спектакля у театра сложился свой круг поклон-
ников среди критиков, зрителей и государственного истеблиш-
мента. В какой-то мере история Гешера в Тель-Авиве напоминала
историю Габимы в Москве. Большую часть зрителей театра состав-
ляли не репатрианты из России, но израилитяне. Публика прихо-
дила в Гешер вопреки тому, что слова произносились на непонятном
языке. Притягивало искусство. Материальные трудности, периоды,
когда актеры по несколько месяцев кряду не получали заработ-
ной платы, не влияли на уровень мастерства. Спектакли Гешера с
успехом представляли Израиль на международных фестивалях в
Нью-Йорке (1992), в Авиньоне (1993), в Базеле (1993) и в Манчестере
(1994). В 1993 Гешер получил статус репертуарного театра с постоян-
ной труппой и государственными субсидиями. Критика писала о
Гешере с восторгом: “Всего за два года Гешер занял одно из централь-
ных мест в израильском театре. То, что вначале казалось лишь экспе-
риментом, рукой помощи русскоговорящим артистам, своего рода
башней из слоновой кости для русских в Израиле, в кратчайший срок
превратилось в самое потрясающее событие израильской театраль-
ной жизни”. 76
104 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
Только четвертый спектакль Гешера – инсценировка романа
“Идиот” Ф. Достоевского имел отношение к русской классике (1993).
Только пятый – “Адам – сучий сын” по мотивам романа Й. Канюка – к
оригинальной израильской литературе (1993). При этом проходного,
развлекательного репертуара театр себе не позволял. Логика
выбора той или иной пьесы не всегда была понятна. Сегодня
оглядываясь назад, можно сказать, что вначале ни русская, ни
еврейская тема не занимали ведущего места в жизни театра. Вначале
Гешер декларировал лицедейство в качестве своей самоидентифика-
ции. Лицедейство было главным мотивом первых постановок:
“Розенкранц и Гильденстерн”, “Процесс Дрейфуса” Ж. Громберга
и “Мольер” М. Булгакова. Только утвердившись в этом праве быть
лицедеями, не русскими, не евреями и не израилитянами, – актеры
Гешера обратились к русской классике (“На дне” М. Горького, 1994,
“Три сестры” А. Чехова, 1997, “Бесприданница” А. Островского, 1999
и др.), к еврейской теме (“Одесские рассказы” И. Бабеля, 1996, “Раб”
И. Башевиса-Зингера, 2002, “Шоша” И. Башевиса-Зигера, 2004 и др.)
и к израильской драматургии (“Деревушка” Й. Соболя, 1996, “Едим”
И. Шабтай, 1999, “Момик” Д. Гроссмана, 2005 и др.). Абсолютное
большинство спектаклей Гешера выходило в режиссуре Е. Арье.
Театральный мир Израиля с нескрываемым любопытством отно-
сился к каждой премьере, критики хотели увидеть, как эти лицедеи
сыграют русскую классику или как они разыграют израильскую
пьесу.
С первых дней существования Гешера Евгений Арье говорил об
идее двуязычного театра, который будет показывать спектакли на
русском и на иврите. Первым спектаклем действительно сыгранном
на двух языках был “Идиот” Достоевского (1993). Пожалуй, этот двуя-
зычный период был наиболее интересным в истории Гешера, когда
каждый спектакль становился уникальным лабораторным экспери-
ментом, раскрывающим связи актера с языком и культурой. В этом
смысле “Идиот” был удивительным примером. Один и тот же спек-
такль, исполненный одними и теми же актерами, в тех же мизансце-
нах, поставленных Арье, получал разное смысловое значение в своей
ивритской и русской версии. Играя на чужом языке, актеры опира-
лись на гротеск, на родном языке были свободнее, сдержаннее.
Нередко рисунок гротеска оказывался интереснее.
В 1998 в Гешер пришла группа молодых израильских актеров, не
говоривших по-русски, но мечтавших работать у Арье. Последующие
О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106 105
постановки с участием молодых шли уже на иврите, и сегодня театр
практически не дает спектакли на русском языке. За прошедшие
двадцать лет, конечно, немало изменилось. Гешер стал одним из
самых благополучных и самых популярных бюджетных театров
Израиля. То, что называется маинстрим. Двое артистов театра –
Александр Демидов и Евгения Додина стали звездами израильской
сцены. В дополнение к своей работе в Гешере Додина сыграла роль
Анны Карениной в Габиме (2007), а Демидов – царя Ивана Грозного в
многосерийном русском телефильме (2009). Как и в каждом театре,
на сцене Гешера идут сегодня спектакли разного уровня и разной
серьезности. Однако, у театр Гешер по-прежнему есть своя публика,
отличающаяся от публики Габимы и Камерного театра. Чем? Любовью
к чистой театральности.
В 1997 в Тель-Авиве появился новый “русский” театр с провокатив-
ным названием “Маленький”. Этот театр создан был двумя молодыми
людьми, актером Михаилом Теплицким и режиссером Игорем
Березиным. Березин, выпускник отделения цирковой режиссуры
московской академии театральных искусств, только начинал свою
профессиональную карьеру. Новый театр был создан в знак протеста
против монументальных спектаклей Гешера, в противоречие со
стремлением Гешера обращаться к широкой израильской аудитории.
Маленький выбрал для себя формат театра-студии, где процесс
работы и эксперимент важнее конечного результата. В труппе
Маленького собрались русскоязычные и ивритоязычные актеры.
Репертуар театра был откровенно космополитическим.
Первый спектакль театра – “Игра” П. Шеффера представлен был на
русском языке, все последующие – на иврите. В 2001 моноспектакль
“Контрабас” П. Зюскинда в исполнении Теплицкого и в постановке
Березина получил первый приз фестиваля Театронетто. В 2003
Березин поставил спектакль “Старуха и волшебник” по рассказам Д.
Хармса. Спектакль был сделан в содружестве с Рои Хеном, моло-
дым израильским переводчиком, родившимся в ивритоязычной
семье и выучившим русский язык из любви к русской литературе и
русскому театру. Игровой и мрачно-веселый абсурд этой театральной
феерии создал фанатов Маленького. У театра появились зрители, в
большинстве своем молодые люди, которые по многу раз прихо-
дили на один и тот же спектакль. “Посторонний” А. Камю в поста-
новке Березина признан был лучшим спектаклем израильского
фринджа 2004 г. Спустя три года в 2007 Березин выпустил спектакль
106 О. Левитан / Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) 76–106
77) Б. Файнгольд, “Израэли и Достоевский в театре Тмуна”, Цофе (2007), иврит. http://
www.hazofe.co.il/katavab.asp?Modul=24&id=56130&Word=&gilayon=3048&mador=
(פיינגולד, ב׳. ”ישראלי ודוסטויבסקי בתיאטרון תמונע. הצופה) Подробнее о пути театра Маленький см. Е. Тартаковская. Маленький: история теа-
тра в контексте встречи культур. 2010, иврит, на правах рукописи.
“О преступлении” по мотивам “Преступления и наказания” Ф.
Достоевского. Эта работа, сделанная в стилистике бедного театра, где
важнейшие смысловые акценты рождались в экспрессии ритмов
актерской игры, где персонажи поражали немыслимой откровенно-
стью, обнаженностью чувств и переживаний, стал главным событием
израильского театрального сезона. Актеры спектакля “О преступле-
нии” в большинстве своем не говорили по-русски. Пресса писала:
“Этот спектакль – пример совершенного мастерства. Настоящий
театр”. 77 Последние два года Игорь Березин занят поиском помеще-
ния и условий репетиционной работы, без которых театр больше не
может обходиться. Как настоящий русский артист он не идет на ком-
промиссы, возможно в ущерб самому себе.
В заключение
Одна из главных особенностей русского театра в Израиле - в его тес-
ной связи и продуктивном диалоге с ивритским театром. Русский
театр в Израиле никогда не был театром эмигрантским, театром рус-
ского гетто в инокультурной среде. На протяжении ста лет в разных
и непохожих друг на друга исторических обстоятельствах израиль-
ские русские, сохраняя верность русской театральной культуре и
почти личную привязанность к русской литературе, выбирали иврит
как язык творчества. Это позволило артистам русской театральной
школы стать строителями, непосредственными участниками и вре-
менами главными действующими лицами израильской театральной
жизни.
Трудно говорить о том, как сложатся в дальнейшем судьбы рус-
ского театра в израильской культуре. Речь идет о живом, непрекра-
щающемся процессе, где обе стороны проявляют редкую для
современного мира доброжелательность по отношению к другому и
отличному от себя.