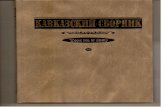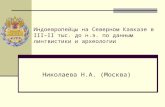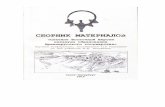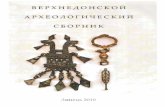Раннегосударственные образования и «княжеская»...
-
Upload
archaeolog-ru -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Раннегосударственные образования и «княжеская»...
Махачкала,13–17 ноября 2013 г.
Махачкала,13–17 ноября 2013 г.
РАННЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯИ «КНЯЖЕСКАЯ» КУЛЬТУРА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕВ КОНЦЕ АНТИЧНОСТИ – НАЧАЛЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВмеждународного научного семинара
РАННЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯИ «КНЯЖЕСКАЯ» КУЛЬТУРА
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В КОНЦЕАНТИЧНОСТИ – НАЧАЛЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Москва – 2013
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУКИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИДАГЕСТАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВМЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СЕМИНАРА
Махачкала, 13–17 ноября 2013 г.
УДК 902/903ББК 63.4
Р22
Международный научный семинар проводится при финансовойподдержке РГНФ, проект № 13-01-14002г
Утверждено к печати Ученым советом ИА РАН
Ответственный редактордоктор исторических наук А.В. Мастыкова
Рецензентыкандидат исторических наук Н.В. Лопатиндоктор исторических наук А.М. Обломский
В оформлении обложки использованы фотографии вида Южного Дагестана и бляхи из ВерхнейРутхи, коллекции графини П. Уваровой, собрание ГИМ.
ISBN 978-5-94375-156-1© Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт археологииРоссийской академии наук, 2013 г.
© Авторы статей, 2013
Р22
Раннегосударственные образования и «княжеская» культура на Се-верном Кавказе в конце Античности – начале Средневековья. Тезисы док-ладов международного научного семинара. – М.: ИА РАН, 2013 – с.52:илл. 21
ISBN 978-5-94375-156-1
В издании публикуются тезисы докладов международного научного семина-ра «Раннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кав-казе в конце Античности – начале Средневековья», прошедшего в Махачкале 13–17 ноября 2013 г. В докладах участников семинара рассматривались проблемыстановления и развития протогосударственных образований как на территории Се-верного Кавказа, так и в других регионах Европы на основе сравнительно-исторического изучения данных археологических и письменных источников.
Книга предназначена археологам, историкам, студентам исторических специ-альностей и всем интересующимся историей Северного Кавказа.
УДК 902/903ББК 63.4
СОДЕРЖАНИЕ
А.В. Мастыкова. ПредисловиеРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Север-ном Кавказе в конце Античности – начале Средневековья . . . . . . . 5
М.Х. Багаев, Р.А. Даутова (Грозный, Россия).Галайтинский клад в контексте темы раннесредневековых вождеств наСеверном Кавказе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Bitner-Wróblewska, A. Bliujienė (Варшава, Клайпеда, Польша, Литва)Chieftain graves and the centres of power in the Balts lands n late RomanPeriod and Migration Period. Neglected Barbarians from the North . . . . . . . . 10
Е.В. Вдовченков (Ростов-на-Дону, Россия)Элита среднесарматского и позднесарматского обществ Нижнего По-донья – сравнительный анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Т.А. Габуев (Москва, Россия)«Княжеские» аланские курганы на Верхнем Тереке (Брут, Беслан) . . . . 13
М.С. Гаджиев, В.Ю. Малашев (Махачкала, Москва, Россия)«Княжеские» и элитные воинские погребения позднесарматского игуннского времени в Дагестане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
О.В. Зеленцова (Москва, Россия)Проблема выделения воинских и «вождеских» погребений раннесред-невековой мордвы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Э. Иштванович, В. Кульчар (Ньиредьхаза, Сегед, Венгрия)«Вождеские» погребения и центры власти позднеримского времени иэпохи Великого переселения народов в Карпатском бассейне . . . . . . . . . 21
М.М. Казанский, П. Перен (Париж, Франция)«Королевские» и «вождеские» погребения раннемеровингского време-ни в Галлии: состояние исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Д.С. Коробов (Москва, Россия)Аланские «вождеские» погребения и центры власти в Кисловодскойкотловине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
В.Ю. Малашев (Москва, Россия)Аланская культура Северного Кавказа во II–IV вв. н.э.: проблема ран-ней государственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
— 3 — — 3 —
УДК 902/903ББК 63.4
Р22
Международный научный семинар проводится при финансовойподдержке РГНФ, проект № 13-01-14002г
Утверждено к печати Ученым советом ИА РАН
Ответственный редактордоктор исторических наук А.В. Мастыкова
Рецензентыкандидат исторических наук Н.В. Лопатиндоктор исторических наук А.М. Обломский
В оформлении обложки использованы фотографии вида Южного Дагестана и бляхи из ВерхнейРутхи, коллекции графини П. Уваровой, собрание ГИМ.
ISBN 978-5-94375-156-1© Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт археологииРоссийской академии наук, 2013 г.
© Авторы статей, 2013
Р22
Раннегосударственные образования и «княжеская» культура на Се-верном Кавказе в конце Античности – начале Средневековья. Тезисы док-ладов международного научного семинара. – М.: ИА РАН, 2013 – с.52:илл. 21
ISBN 978-5-94375-156-1
В издании публикуются тезисы докладов международного научного семина-ра «Раннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кав-казе в конце Античности – начале Средневековья», прошедшего в Махачкале 13–17 ноября 2013 г. В докладах участников семинара рассматривались проблемыстановления и развития протогосударственных образований как на территории Се-верного Кавказа, так и в других регионах Европы на основе сравнительно-исторического изучения данных археологических и письменных источников.
Книга предназначена археологам, историкам, студентам исторических специ-альностей и всем интересующимся историей Северного Кавказа.
УДК 902/903ББК 63.4
СОДЕРЖАНИЕ
А.В. Мастыкова. ПредисловиеРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Север-ном Кавказе в конце Античности – начале Средневековья . . . . . . . 5
М.Х. Багаев, Р.А. Даутова (Грозный, Россия).Галайтинский клад в контексте темы раннесредневековых вождеств наСеверном Кавказе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Bitner-Wróblewska, A. Bliujienė (Варшава, Клайпеда, Польша, Литва)Chieftain graves and the centres of power in the Balts lands n late RomanPeriod and Migration Period. Neglected Barbarians from the North . . . . . . . . 10
Е.В. Вдовченков (Ростов-на-Дону, Россия)Элита среднесарматского и позднесарматского обществ Нижнего По-донья – сравнительный анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Т.А. Габуев (Москва, Россия)«Княжеские» аланские курганы на Верхнем Тереке (Брут, Беслан) . . . . 13
М.С. Гаджиев, В.Ю. Малашев (Махачкала, Москва, Россия)«Княжеские» и элитные воинские погребения позднесарматского игуннского времени в Дагестане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
О.В. Зеленцова (Москва, Россия)Проблема выделения воинских и «вождеских» погребений раннесред-невековой мордвы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Э. Иштванович, В. Кульчар (Ньиредьхаза, Сегед, Венгрия)«Вождеские» погребения и центры власти позднеримского времени иэпохи Великого переселения народов в Карпатском бассейне . . . . . . . . . 21
М.М. Казанский, П. Перен (Париж, Франция)«Королевские» и «вождеские» погребения раннемеровингского време-ни в Галлии: состояние исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Д.С. Коробов (Москва, Россия)Аланские «вождеские» погребения и центры власти в Кисловодскойкотловине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
В.Ю. Малашев (Москва, Россия)Аланская культура Северного Кавказа во II–IV вв. н.э.: проблема ран-ней государственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Х.М. Мамаев, С.Б. Бурков (Грозный, Владикавказ, Россия)«Княжеский» комплекс эпохи Великого переселения народов из пред-горной Ингушетии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
А.В. Мастыкова, Г.Л. Земцов (Москва, Липецк, Россия)«Княжеское» женское погребение с поселения Мухино-2 эпохи Вели-кого переселения народов на Верхнем Дону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
В.А. Нюшков (Сухум, Абхазия)Всадническое сословие у апсилов в ранневизантийскую эпоху . . . . . . . . 35
О.А. Радюш (Москва, Россия)«Княжеские» погребения V века в Верхнем Поднепровье (Курское По-семье): новые исследования и находки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
С.Н. Савенко (Пятигорск, Россия)Еще одно захоронение представителя аланской социальной элиты нача-ла раннего средневековья из Кисловодской котловины (по архивнымматериалам А.П. Рунича) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
И.А. Сапрыкина (Москва, Россия)Техника изготовления и химический состав металла золотых изделий вконтексте определения «маркеров статусности» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
И.Г. Семенов (Махачкала, Россия)Место правителя восточнокавказских гуннов в иерархии государстваевропейских гуннов (по данным «Истории страны Алуанк‛») . . . . . . . . . 43
Н.И. Сударев, И.Р. Ахмедов (Москва, Россия)Новые погребальные комплексы конца IV – начала V в. н.э. на Таман-ском полуострове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
И.Н. Храпунов (Люблин, Польша)О «князьях» и «вождях» на примере крымских могильников поздне-римского времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
О.В. Шаров (Cанкт-Петербург, Россия)«Княжеские» погребения Боспора позднеримской эпохи . . . . . . . . . . . . . 46
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
РАННЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯИ «КНЯЖЕСКАЯ» КУЛЬТУРА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕВ КОНЦЕ АНТИЧНОСТИ – НАЧАЛЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
На переломе античности и раннего средневековья (III–VI вв.) Северный Кавказнаходится в орбите интересов двух великих держав: Восточной Римской империи иСасанидского Ирана, боровшихся за господство на Ближнем Востоке и в Закавказье.Народы северокавказского региона оказались втянутыми в военно-политическое со-перничество между двумя империями, пытавшимися превратить северокавказские на-роды в своих подчиненных союзников. Это стимулировало возникновение здесь«варварских» раннегосударственных образований, союзных или враждебных Ирану иРиму, таких как аланское царство в Центральном Предкавказье или державагуннов/маскутов в Дагестане. В ту же эпоху, в конце IV в., гуннские вторжения карди-нально изменили этническую и политическую карту Европы и положили начало фор-мированию современных европейских народов. В Барбарикуме зарождаются первыераннегосударственные образования, так называемые варварские королевства. Активноидет процесс социального расслоения «варварских» социумов, появляется прослойкапрофессиональных воинов, кристаллизуется новая военнизированная аристократия,связанная на первых порах либо с могущественной федерацией гуннов и их подчинен-ных союзников, либо с военной системой поздней Римской империи.
Археологический материал и письменные источники свидетельствуют об ускоре-нии социального расслоения у народов Северного Кавказа, появлении здесь военнойзнати, представленной, в частности, богатыми могилами воинских предводителей иформировании военно-дружинного сословия. Концентрация вождеских и воинскихнаходок в определенных регионах маркирует появление новых центров власти, напри-мер, в Южном Дагестане, в Северной Осетии и в Пятигорье.
Международный научный семинар с участием российских и зарубежных специа-листов призван определить как методы изучения северокавказских древностей«княжеской» и воинской культур, так и их место в общеевропейском контексте эпохиВеликого переселения народов.
В его задачи входит:
– Выявить критерии выделения «княжеских» и воинских погребений и их место всоциальной иерархии в эпоху поздней античности – раннего Средневековья на Север-ном Кавказе по археологическим данным.
– Изучить географию распространения «княжеских» и воинских находок на Се-верном Кавказе с целью выявления центров власти.
– Определить «интернациональные» черты «княжеских» и воинских погребений ипопытаться проследить их эволюцию для каждого конкретного региона.
— 5 — — 5 —
Х.М. Мамаев, С.Б. Бурков (Грозный, Владикавказ, Россия)«Княжеский» комплекс эпохи Великого переселения народов из пред-горной Ингушетии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
А.В. Мастыкова, Г.Л. Земцов (Москва, Липецк, Россия)«Княжеское» женское погребение с поселения Мухино-2 эпохи Вели-кого переселения народов на Верхнем Дону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
В.А. Нюшков (Сухум, Абхазия)Всадническое сословие у апсилов в ранневизантийскую эпоху . . . . . . . . 35
О.А. Радюш (Москва, Россия)«Княжеские» погребения V века в Верхнем Поднепровье (Курское По-семье): новые исследования и находки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
С.Н. Савенко (Пятигорск, Россия)Еще одно захоронение представителя аланской социальной элиты нача-ла раннего средневековья из Кисловодской котловины (по архивнымматериалам А.П. Рунича) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
И.А. Сапрыкина (Москва, Россия)Техника изготовления и химический состав металла золотых изделий вконтексте определения «маркеров статусности» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
И.Г. Семенов (Махачкала, Россия)Место правителя восточнокавказских гуннов в иерархии государстваевропейских гуннов (по данным «Истории страны Алуанк‛») . . . . . . . . . 43
Н.И. Сударев, И.Р. Ахмедов (Москва, Россия)Новые погребальные комплексы конца IV – начала V в. н.э. на Таман-ском полуострове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
И.Н. Храпунов (Люблин, Польша)О «князьях» и «вождях» на примере крымских могильников поздне-римского времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
О.В. Шаров (Cанкт-Петербург, Россия)«Княжеские» погребения Боспора позднеримской эпохи . . . . . . . . . . . . . 46
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
РАННЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯИ «КНЯЖЕСКАЯ» КУЛЬТУРА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕВ КОНЦЕ АНТИЧНОСТИ – НАЧАЛЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
На переломе античности и раннего средневековья (III–VI вв.) Северный Кавказнаходится в орбите интересов двух великих держав: Восточной Римской империи иСасанидского Ирана, боровшихся за господство на Ближнем Востоке и в Закавказье.Народы северокавказского региона оказались втянутыми в военно-политическое со-перничество между двумя империями, пытавшимися превратить северокавказские на-роды в своих подчиненных союзников. Это стимулировало возникновение здесь«варварских» раннегосударственных образований, союзных или враждебных Ирану иРиму, таких как аланское царство в Центральном Предкавказье или державагуннов/маскутов в Дагестане. В ту же эпоху, в конце IV в., гуннские вторжения карди-нально изменили этническую и политическую карту Европы и положили начало фор-мированию современных европейских народов. В Барбарикуме зарождаются первыераннегосударственные образования, так называемые варварские королевства. Активноидет процесс социального расслоения «варварских» социумов, появляется прослойкапрофессиональных воинов, кристаллизуется новая военнизированная аристократия,связанная на первых порах либо с могущественной федерацией гуннов и их подчинен-ных союзников, либо с военной системой поздней Римской империи.
Археологический материал и письменные источники свидетельствуют об ускоре-нии социального расслоения у народов Северного Кавказа, появлении здесь военнойзнати, представленной, в частности, богатыми могилами воинских предводителей иформировании военно-дружинного сословия. Концентрация вождеских и воинскихнаходок в определенных регионах маркирует появление новых центров власти, напри-мер, в Южном Дагестане, в Северной Осетии и в Пятигорье.
Международный научный семинар с участием российских и зарубежных специа-листов призван определить как методы изучения северокавказских древностей«княжеской» и воинской культур, так и их место в общеевропейском контексте эпохиВеликого переселения народов.
В его задачи входит:
– Выявить критерии выделения «княжеских» и воинских погребений и их место всоциальной иерархии в эпоху поздней античности – раннего Средневековья на Север-ном Кавказе по археологическим данным.
– Изучить географию распространения «княжеских» и воинских находок на Се-верном Кавказе с целью выявления центров власти.
– Определить «интернациональные» черты «княжеских» и воинских погребений ипопытаться проследить их эволюцию для каждого конкретного региона.
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
М.Х. Багаев, Р.А. ДаутоваГрозный, Россия
ГАЛАЙТИНСКИЙ КЛАД В КОНТЕКСТЕ ТЕМЫРАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ВОЖДЕСТВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Комплекс (клад) украшений, о котором пойдет речь, был найден случайно в1974 г. у предгорного села Галайты в Чечне (Рис. 1). По словам рабочих-очевидцев,находки компактно залегали на глубине 1 м, при этом никаких следов погребальногосооружения и погребенного при проведенных нами раскопках здесь обнаружено небыло. Исходя из этого факта, данный комплекс рассматривается как клад, значитель-ная часть предметов из которого была утеряна (Багаев, 1977. С. 239. Рис. 2).
Предметы из Галайты в определенной степени уникальны (Рис. 2). Судить об ихэтнокультурной принадлежности однозначно сложно. Отдельные вещи находят себеаналогии не только на Северном Кавказе, но и на территориях Казахстана, Украины,Среднего Дуная, Германии, Италии (Багаев, 1977. С. 238–242). В целом комплекс от-носится к периоду V–VI вв., но если исходить из недавних исследований обкладокленчиков седел, то его дату можно ограничить концом V – первой половиной VI в.(Казанский, Мастыкова, 2010). Можно полагать, что эти вещи могли принадлежать
Участникам Международного семинара для обсуждения предложены следующиетемы, которые предлагается рассмотреть на широком европейском фоне:
– Возможно ли сравнительное изучение «княжеских» и воинских находок на меж-региональном уровне, существует ли «интернациональные» инсигнии-статусные вещии каково их происхождение.
– Как формируется «интернациональный» характер воинской и княжеской куль-тур.
– Насколько богатство погребений может определять их социальный статус и на-сколько уровень богатства «княжеских» находок сопоставим на межрегиональномуровне.
– Насколько количество воинских и «княжеских» погребений соответствует сте-пени социального расслоения общества.
А.В. Мастыкова
Рис. 1. Карта с указанием места находки комплекса из сел. Галайты
— 7 — — 7 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
М.Х. Багаев, Р.А. ДаутоваГрозный, Россия
ГАЛАЙТИНСКИЙ КЛАД В КОНТЕКСТЕ ТЕМЫРАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ВОЖДЕСТВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Комплекс (клад) украшений, о котором пойдет речь, был найден случайно в1974 г. у предгорного села Галайты в Чечне (Рис. 1). По словам рабочих-очевидцев,находки компактно залегали на глубине 1 м, при этом никаких следов погребальногосооружения и погребенного при проведенных нами раскопках здесь обнаружено небыло. Исходя из этого факта, данный комплекс рассматривается как клад, значитель-ная часть предметов из которого была утеряна (Багаев, 1977. С. 239. Рис. 2).
Предметы из Галайты в определенной степени уникальны (Рис. 2). Судить об ихэтнокультурной принадлежности однозначно сложно. Отдельные вещи находят себеаналогии не только на Северном Кавказе, но и на территориях Казахстана, Украины,Среднего Дуная, Германии, Италии (Багаев, 1977. С. 238–242). В целом комплекс от-носится к периоду V–VI вв., но если исходить из недавних исследований обкладокленчиков седел, то его дату можно ограничить концом V – первой половиной VI в.(Казанский, Мастыкова, 2010). Можно полагать, что эти вещи могли принадлежать
Участникам Международного семинара для обсуждения предложены следующиетемы, которые предлагается рассмотреть на широком европейском фоне:
– Возможно ли сравнительное изучение «княжеских» и воинских находок на меж-региональном уровне, существует ли «интернациональные» инсигнии-статусные вещии каково их происхождение.
– Как формируется «интернациональный» характер воинской и княжеской куль-тур.
– Насколько богатство погребений может определять их социальный статус и на-сколько уровень богатства «княжеских» находок сопоставим на межрегиональномуровне.
– Насколько количество воинских и «княжеских» погребений соответствует сте-пени социального расслоения общества.
А.В. Мастыкова
Рис. 1. Карта с указанием места находки комплекса из сел. Галайты
— 8 — — 8 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
только состоятельным людям, таким как предводители (вожди) племен, отдельныхвоенных сообществ и др.
Кроме того, рассматриваемая находка еще раз подтверждает тезис о том, что вI тыс. до н. э. – I тыс. н. э. на Северном Кавказе, включая и Предкавказье, шел непре-рывный и интенсивный процесс взаимопроникновения автохтонных и кочевническихкультур, особенно начиная со скифского времени.
Заметный симбиоз традиций, который мы наблюдаем в предметах галайтинского“клада”, где аналогий, по всей вероятности, отражает какие-то местные особенности вформе и декоре изделий (Багаев, 2008. С. 130–132).
Как известно, проникновение привнесенных элементов материальной культуры вновую этнокультурную среду, как правило, не всегда сопровождалось массовыми ми-грациями крупных этнических групп, даже в эпоху Великого переселения народов. Но,с другой стороны, оно «действовало подобно катализатору уже наметившихся процес-сов – роста социальной дифференциации и милитаризации общества, выделению про-слойки свободных воинов-общинников» (Ахмедов и др., 2007. С. 113). Последние, какправило, составляли мощную прослойку общества и возглавлялись избранными вождя-ми. Естественно, что эти социальные верхушки как в скифо-сарматский период, так и враннем средневековье находили общий язык в монополизации обменно-торгового про-цесса. Эти политические объединения, надо думать, управлялись признанными главны-ми вождями, подобно тому, как это было в Северном Причерноморье (Засецкая, 2003.С. 31). Говоря иначе, речь может идти о социально-политических структурах предгосу-дарственного типа на Северном Кавказе, получивших в литературе название«вождеств»/«варварских королевств» (Казанский, Мастыкова, 2001. С. 146 и далее). По-следние, как структуры предгосударственного типа, заслуживают особого внимания,когда речь заходит о сложении раннесредневекового аланского образования на Север-ном Кавказе. Там еще много вопросов, ждущих своих исследователей.
ЛИТЕРАТУРА
Ахмедов И.Р., Фурасьев А.Г., Щукин М.Б., Белоцерковская И.В., 2007. Лесная зонаВосточной Европы в эпоху великого переселения // Эпоха меровингов – Европабез границ. Археология м мстирия V–VIII вв. Berlin-Wolfratshausen.
Багаев М.Х., 1977. Галайтинский клад VI–VII вв. н. э // Советская Археология. № 2.
Багаев М.Х., 2008. Культура горной Чечни и Дагестана в древности и средневековье.VI в. до н.э. – XII в. н.э. М.
Засецкая И.П., 2003. Боспорский некрополь как эталонный памятник древности IV –начала VII века // Археология. Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закав-казье в эпоху средневековья IV–XIII века. М.
Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2001. Центры власти и торговые пути в ЗападнойАлании в V–VI вв. // Северный Кавказ: историко- археологические очерки и за-метки. М.
Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2010. О хронологии престижного оружия и конско-го снаряжения «шиповского» горизонта на Северном Кавказе // Проблемы хроно-логии и периодизации археологических памятников и культур Северного Кавказа.XXVI Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Магас.Рис. 2. Находки из сел. Галайты в предгорной Чечне
— 9 — — 9 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
только состоятельным людям, таким как предводители (вожди) племен, отдельныхвоенных сообществ и др.
Кроме того, рассматриваемая находка еще раз подтверждает тезис о том, что вI тыс. до н. э. – I тыс. н. э. на Северном Кавказе, включая и Предкавказье, шел непре-рывный и интенсивный процесс взаимопроникновения автохтонных и кочевническихкультур, особенно начиная со скифского времени.
Заметный симбиоз традиций, который мы наблюдаем в предметах галайтинского“клада”, где аналогий, по всей вероятности, отражает какие-то местные особенности вформе и декоре изделий (Багаев, 2008. С. 130–132).
Как известно, проникновение привнесенных элементов материальной культуры вновую этнокультурную среду, как правило, не всегда сопровождалось массовыми ми-грациями крупных этнических групп, даже в эпоху Великого переселения народов. Но,с другой стороны, оно «действовало подобно катализатору уже наметившихся процес-сов – роста социальной дифференциации и милитаризации общества, выделению про-слойки свободных воинов-общинников» (Ахмедов и др., 2007. С. 113). Последние, какправило, составляли мощную прослойку общества и возглавлялись избранными вождя-ми. Естественно, что эти социальные верхушки как в скифо-сарматский период, так и враннем средневековье находили общий язык в монополизации обменно-торгового про-цесса. Эти политические объединения, надо думать, управлялись признанными главны-ми вождями, подобно тому, как это было в Северном Причерноморье (Засецкая, 2003.С. 31). Говоря иначе, речь может идти о социально-политических структурах предгосу-дарственного типа на Северном Кавказе, получивших в литературе название«вождеств»/«варварских королевств» (Казанский, Мастыкова, 2001. С. 146 и далее). По-следние, как структуры предгосударственного типа, заслуживают особого внимания,когда речь заходит о сложении раннесредневекового аланского образования на Север-ном Кавказе. Там еще много вопросов, ждущих своих исследователей.
ЛИТЕРАТУРА
Ахмедов И.Р., Фурасьев А.Г., Щукин М.Б., Белоцерковская И.В., 2007. Лесная зонаВосточной Европы в эпоху великого переселения // Эпоха меровингов – Европабез границ. Археология м мстирия V–VIII вв. Berlin-Wolfratshausen.
Багаев М.Х., 1977. Галайтинский клад VI–VII вв. н. э // Советская Археология. № 2.
Багаев М.Х., 2008. Культура горной Чечни и Дагестана в древности и средневековье.VI в. до н.э. – XII в. н.э. М.
Засецкая И.П., 2003. Боспорский некрополь как эталонный памятник древности IV –начала VII века // Археология. Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закав-казье в эпоху средневековья IV–XIII века. М.
Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2001. Центры власти и торговые пути в ЗападнойАлании в V–VI вв. // Северный Кавказ: историко- археологические очерки и за-метки. М.
Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2010. О хронологии престижного оружия и конско-го снаряжения «шиповского» горизонта на Северном Кавказе // Проблемы хроно-логии и периодизации археологических памятников и культур Северного Кавказа.XXVI Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Магас.Рис. 2. Находки из сел. Галайты в предгорной Чечне
— 10 — — 10 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
A. Bitner-Wrуblewska, A. BliujienėВаршава, Клайпеда, Польша, Литва
CHIEFTAIN GRAVES AND THE CENTRES OF POWER INTHE BALTS LANDS IN LATE ROMAN PERIOD AND MIGRATION PERIOD. NE-
GLECTED BARBARIANS FROM THE NORTH
• Area under discussion: Balts lands – in the Roman Period between Pasłęka River andthe basin of Daugava River (Western Dvina), in the Migration Period between lower VistulaRiver and the basin of Daugava River (Fig. 1)
• The period of time under discussion: late Roman Period and Migration Period ac-cording to periodisation in area in question (3rd – 7th c.)
• Chieftain graves in the Balts lands had a different character than in the other territoryof Barbaricum. Any interregional status symbols (e.g. set of Roman metal and glass vessels,insignia of power) could be recorded in the Balt society, but there are a number of local pres-tige goods (e.g. elaborated costume elements, horse offerings, equestrian equipment)
• In late Roman Period and early Migration Period it is possible to distinguish the localelites in particular, small territorial communities, but impossible to point out over-regionalelites
• Situation has changed in late Migration Period when appeared outstanding graves ofhigh rank warlords (Warnikam 1, Taurapilis 5 and others) who were in lively, direct contactswith elites from Scandinavia, lower Danube and Merovingian area
• During the whole period under discussion the main centres of power in the Balt landscould be connected with the territories of Samland Peninsula with the richest amber depositsin the world and Western Lithuania with very good geographical location supplemented bysome amber resources. Both areas had far-flung interregional contacts and possibility to cu-mulate wealth and power
• However, in the late Roman Period there were also some other regions which couldbe treated as local centres of power as Suwałki Region (confirmed by chieftain grave atSzwajcaria, barrow 2, grave 1) and Central Lithuania (confirmed by cemeteries at Veršvai,Marvelė)
• In the region of the middle reaches of the Nemunas River at the crossroads’ to east-ern Lithuania power centre emerged, with chieftain graves of the early and late MigrationPeriod (eg. Krikštonys barrow field with Sösdala-style artefacts, double-edged sword, shieldetc.)
• During late Migration Period some of earlier power centres lost their position andnew ones appeared as Mazury and Eastern Lithuania
• During the late Migration Period in Mazury (between Łyna River and GreatMasurian Lake, including the western reaches of the Mrągowo Lake District) we can see anaccumulation, not encountered elsewhere in this part of Europe, of elements of interregionalGermanic culture (Bügelfibeln, belt elements and others). A big number of local imitationsof imported specimens remains the other feature of this region. We can observe close con-nections between Mazury and western Europe, lower and middle Danube area, Black Searegion and Scandinavia as well as forest zone of eastern Europe and Slavonic milieu(cemeteries at Tumiany, Kielary, Kosewo, Miętkie). Last, but not least a recent discovery inLake Nidajno should be mentioned – a unique sacrificial site with gold or silver gilded belt
Fig. 1. The Balt lands during late Roman Period and Migration Period
1 – Dollkeim/Kovrovo Culture; 2 – Bogaczewo Culture/Olsztyn Group;3 – West Lithuanian Group; 4 – Lower Nemunas Group; 5 – Central Lithuanian Group;
6 – Samogitian (Zemaitija) Flat Cemeteries Group; 7 – Semigallian Flat Cemeteries Group;8 – East Latvian Flat Cemeteries Group; 9 – Sudovian Culture;
10 – East Lithuanian Barrows Culture; 11 – Elbląg Group.Olsztyn Group (2) and Elbląg Group (11) functioned only in the late Migration Period
— 11 — — 11 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
A. Bitner-Wrуblewska, A. BliujienėВаршава, Клайпеда, Польша, Литва
CHIEFTAIN GRAVES AND THE CENTRES OF POWER INTHE BALTS LANDS IN LATE ROMAN PERIOD AND MIGRATION PERIOD. NE-
GLECTED BARBARIANS FROM THE NORTH
• Area under discussion: Balts lands – in the Roman Period between Pasłęka River andthe basin of Daugava River (Western Dvina), in the Migration Period between lower VistulaRiver and the basin of Daugava River (Fig. 1)
• The period of time under discussion: late Roman Period and Migration Period ac-cording to periodisation in area in question (3rd – 7th c.)
• Chieftain graves in the Balts lands had a different character than in the other territoryof Barbaricum. Any interregional status symbols (e.g. set of Roman metal and glass vessels,insignia of power) could be recorded in the Balt society, but there are a number of local pres-tige goods (e.g. elaborated costume elements, horse offerings, equestrian equipment)
• In late Roman Period and early Migration Period it is possible to distinguish the localelites in particular, small territorial communities, but impossible to point out over-regionalelites
• Situation has changed in late Migration Period when appeared outstanding graves ofhigh rank warlords (Warnikam 1, Taurapilis 5 and others) who were in lively, direct contactswith elites from Scandinavia, lower Danube and Merovingian area
• During the whole period under discussion the main centres of power in the Balt landscould be connected with the territories of Samland Peninsula with the richest amber depositsin the world and Western Lithuania with very good geographical location supplemented bysome amber resources. Both areas had far-flung interregional contacts and possibility to cu-mulate wealth and power
• However, in the late Roman Period there were also some other regions which couldbe treated as local centres of power as Suwałki Region (confirmed by chieftain grave atSzwajcaria, barrow 2, grave 1) and Central Lithuania (confirmed by cemeteries at Veršvai,Marvelė)
• In the region of the middle reaches of the Nemunas River at the crossroads’ to east-ern Lithuania power centre emerged, with chieftain graves of the early and late MigrationPeriod (eg. Krikštonys barrow field with Sösdala-style artefacts, double-edged sword, shieldetc.)
• During late Migration Period some of earlier power centres lost their position andnew ones appeared as Mazury and Eastern Lithuania
• During the late Migration Period in Mazury (between Łyna River and GreatMasurian Lake, including the western reaches of the Mrągowo Lake District) we can see anaccumulation, not encountered elsewhere in this part of Europe, of elements of interregionalGermanic culture (Bügelfibeln, belt elements and others). A big number of local imitationsof imported specimens remains the other feature of this region. We can observe close con-nections between Mazury and western Europe, lower and middle Danube area, Black Searegion and Scandinavia as well as forest zone of eastern Europe and Slavonic milieu(cemeteries at Tumiany, Kielary, Kosewo, Miętkie). Last, but not least a recent discovery inLake Nidajno should be mentioned – a unique sacrificial site with gold or silver gilded belt
Fig. 1. The Balt lands during late Roman Period and Migration Period
1 – Dollkeim/Kovrovo Culture; 2 – Bogaczewo Culture/Olsztyn Group;3 – West Lithuanian Group; 4 – Lower Nemunas Group; 5 – Central Lithuanian Group;
6 – Samogitian (Zemaitija) Flat Cemeteries Group; 7 – Semigallian Flat Cemeteries Group;8 – East Latvian Flat Cemeteries Group; 9 – Sudovian Culture;
10 – East Lithuanian Barrows Culture; 11 – Elbląg Group.Olsztyn Group (2) and Elbląg Group (11) functioned only in the late Migration Period
— 12 — — 12 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
elements (buckles, belt appliqués), swords with gold mounts and other weaponry. Although,the chronology of the site is still under discussion
• In the Eastern Lithuania during late Migration Period some small centres with concen-tration of imports and weapons in chieftain graves and a horizon of well armed men with stan-dard weaponry appeared. In a small territory between the lakes of Tauragnas, Žeimenis andVajuonis, as it seems today, a large accumulation of imported artefacts which have analogieswithin a very wide region, from the middle reaches of the Danube, Transylvania, northern It-aly, the central part of the Iberian Peninsula, as well as to the south-western part of the Cri-mean Peninsula, southern and central Scandinavia, the lower reached of the Don (Tanais),northern Caucasus and, finally, to the forest belt of northern Europe (e.g. well known Tau-rapilis and resent investigations at Sudota, Pavajuonis-Rekučiai, Ziboliškės and others)
• During the late Migration Period in Eastern Lithuania, as far as we know today, wasthe biggest concentration of the imports, including gold artefacts in all territory between theNemunas and Daugava Rivers. In the western part of the Balt lands the same position keptSamland Peninsula.
Е.В. ВдовченковРостов-на-Дону, Россия
ЭЛИТА СРЕДНЕСАРМАТСКОГО И ПОЗДНЕСАРМАТСКОГООБЩЕСТВ НИЖНЕГО ПОДОНЬЯ – СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
При исследовании социальной истории кочевников существуют известные трудно-сти в интерпретации археологического материала. Опираясь на данные только погре-бального обряда сложно делать сколько-нибудь масштабные выводы. Важно сопостав-ление материала с данными ближайших культур и памятников (близких как культурно,так и хронологически). Сравнительный анализ разных культур, их отличительных исхожих черт позволяет зачастую лучше понять социальную и политическую структуруобщества.
Особенно перспективно сосредоточение на катаклизмах, то есть использование в про-цессе исследования резких сдвигов и трансформаций. В культурных изменениях у номадовбольшую роль играют миграции, войны и тому подобные события. Такие встряски обна-жают структуру разного рода процессов, помогая лучше понять многие проблемы прошло-го. Для изучения социальной истории сарматов перспективно исследование процессов сме-ны одной культуры другой и сопутствующих социальных изменений.
Три сарматских культуры – раннесарматская, среднесарматская, позднесарматскаявыглядят настолько своеобразно, что за каждой из них мы видим разные общества. Поданным погребального обряда создается впечатление о незначительной социально-имущественной дифференциации в раннесарматской культуре, сменившая ее средне-сарматская культура отличается богатыми комплексами и более значимой имуществен-ной дифференциацией, а позднесарматскую культуру характеризует достаточно одно-родный (в отличие от элитарных комплексов предшествующего времени) горизонтвсаднических погребений, в которых выражен военный характер деятельности этойгруппы. Эти представления, имеющие под собой основания, необходимо проверять наконкретном материале.
При изучении социальных процессов принципиальным является вопрос об элитеу кочевников, критериях ее выделения, ее роли в обществе. Ключевая функция у ко-чевнической элиты – политическая и военная. Отдельного изучения требуют и про-блемы наличия у кочевников экономической элиты (особенно торговой) и обособлен-ного жреческого сословия/протосословия.
Наличие богатых погребений, статусных предметов и знаков власти в погребени-ях, изучение структуры и планиграфии могильников позволяют исследовать вопрос обэлите у кочевников. Существует две важные темы, актуальные при анализе элиты но-мадов Европы первых веков нашей эры – это проблема катафрактариев и дружин усарматов и отношения номадов с оседлым миром. При сравнении элитных групп носи-телей среднесарматской и позднесарматской культур именно эти аспекты позволяютпонять характер элиты и ее роль в обществе.
Исключительную роль в изучении сарматской элиты играют данные о сарматах вТанаисе и меотских городищах, поскольку у нас есть эпиграфика и энциклопедиитамг, что позволяет нам получить принципиально иную информацию о сарматах – пе-реселенцах в Танаис.
Т.А. ГабуевМосква, Россия
«КНЯЖЕСКИЕ» АЛАНСКИЕ КУРГАНЫ НА ВЕРХНЕМ ТЕРЕКЕ(БРУТ, БЕСЛАН)
Письменные источники III в. н.э. надежно фиксируют алан с этого времени в Цен-тральном Предкавказье. Более поздние источники (армянские и грузинские), указыва-ют на их присутствие здесь, начиная с I в. н.э. Эти свидетельства говорят о существо-вание на территории Предкавказья Алании, возглавляемой царями. Возникает во-прос – являлись ли эти “цари” реальными правителями данных территорий или этобыли племенные вожди, возглавлявшие воинские аланские контингенты.
Со 2-й половины II в. н.э. на территории Центрального Предкавказья фиксируетсяраннеаланская культура, для которой характерно наличие больших городищ, окружен-ных многочисленными курганными могильниками. На Верхнем Тереке (РеспубликаСеверная Осетия-Алания) имеется несколько городищ, из которых выделяются дванаиболее крупных – Брут и Беслан (Рис. 1). Эти городища огромны по площади и име-ют цитадели. Это свидетельствует о социальной неоднородности населения, а также оналичии власти, способной организовать большое количество людей для масштабныхстроительных работ. Катакомбные могильники, окружающие эти городища, так жеуказывают на стратификацию аланского общества.
На могильнике Беслан, наряду с многочисленными рядовыми могилами(в основном III в. н.э.), выделяются огромный (4 м) курган, раскопанныйВ.Л. Ростуновым в 1990 г., и группа погребений (у которых высота насыпи не былапрослежена) содержавшие богатые наборы изделий из золота. Эти захоронения, в пер-вую очередь курган 1990 г., мы можем рассматривать как княжеские.
— 13 — — 13 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
elements (buckles, belt appliqués), swords with gold mounts and other weaponry. Although,the chronology of the site is still under discussion
• In the Eastern Lithuania during late Migration Period some small centres with concen-tration of imports and weapons in chieftain graves and a horizon of well armed men with stan-dard weaponry appeared. In a small territory between the lakes of Tauragnas, Žeimenis andVajuonis, as it seems today, a large accumulation of imported artefacts which have analogieswithin a very wide region, from the middle reaches of the Danube, Transylvania, northern It-aly, the central part of the Iberian Peninsula, as well as to the south-western part of the Cri-mean Peninsula, southern and central Scandinavia, the lower reached of the Don (Tanais),northern Caucasus and, finally, to the forest belt of northern Europe (e.g. well known Tau-rapilis and resent investigations at Sudota, Pavajuonis-Rekučiai, Ziboliškės and others)
• During the late Migration Period in Eastern Lithuania, as far as we know today, wasthe biggest concentration of the imports, including gold artefacts in all territory between theNemunas and Daugava Rivers. In the western part of the Balt lands the same position keptSamland Peninsula.
Е.В. ВдовченковРостов-на-Дону, Россия
ЭЛИТА СРЕДНЕСАРМАТСКОГО И ПОЗДНЕСАРМАТСКОГООБЩЕСТВ НИЖНЕГО ПОДОНЬЯ – СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
При исследовании социальной истории кочевников существуют известные трудно-сти в интерпретации археологического материала. Опираясь на данные только погре-бального обряда сложно делать сколько-нибудь масштабные выводы. Важно сопостав-ление материала с данными ближайших культур и памятников (близких как культурно,так и хронологически). Сравнительный анализ разных культур, их отличительных исхожих черт позволяет зачастую лучше понять социальную и политическую структуруобщества.
Особенно перспективно сосредоточение на катаклизмах, то есть использование в про-цессе исследования резких сдвигов и трансформаций. В культурных изменениях у номадовбольшую роль играют миграции, войны и тому подобные события. Такие встряски обна-жают структуру разного рода процессов, помогая лучше понять многие проблемы прошло-го. Для изучения социальной истории сарматов перспективно исследование процессов сме-ны одной культуры другой и сопутствующих социальных изменений.
Три сарматских культуры – раннесарматская, среднесарматская, позднесарматскаявыглядят настолько своеобразно, что за каждой из них мы видим разные общества. Поданным погребального обряда создается впечатление о незначительной социально-имущественной дифференциации в раннесарматской культуре, сменившая ее средне-сарматская культура отличается богатыми комплексами и более значимой имуществен-ной дифференциацией, а позднесарматскую культуру характеризует достаточно одно-родный (в отличие от элитарных комплексов предшествующего времени) горизонтвсаднических погребений, в которых выражен военный характер деятельности этойгруппы. Эти представления, имеющие под собой основания, необходимо проверять наконкретном материале.
При изучении социальных процессов принципиальным является вопрос об элитеу кочевников, критериях ее выделения, ее роли в обществе. Ключевая функция у ко-чевнической элиты – политическая и военная. Отдельного изучения требуют и про-блемы наличия у кочевников экономической элиты (особенно торговой) и обособлен-ного жреческого сословия/протосословия.
Наличие богатых погребений, статусных предметов и знаков власти в погребени-ях, изучение структуры и планиграфии могильников позволяют исследовать вопрос обэлите у кочевников. Существует две важные темы, актуальные при анализе элиты но-мадов Европы первых веков нашей эры – это проблема катафрактариев и дружин усарматов и отношения номадов с оседлым миром. При сравнении элитных групп носи-телей среднесарматской и позднесарматской культур именно эти аспекты позволяютпонять характер элиты и ее роль в обществе.
Исключительную роль в изучении сарматской элиты играют данные о сарматах вТанаисе и меотских городищах, поскольку у нас есть эпиграфика и энциклопедиитамг, что позволяет нам получить принципиально иную информацию о сарматах – пе-реселенцах в Танаис.
Т.А. ГабуевМосква, Россия
«КНЯЖЕСКИЕ» АЛАНСКИЕ КУРГАНЫ НА ВЕРХНЕМ ТЕРЕКЕ(БРУТ, БЕСЛАН)
Письменные источники III в. н.э. надежно фиксируют алан с этого времени в Цен-тральном Предкавказье. Более поздние источники (армянские и грузинские), указыва-ют на их присутствие здесь, начиная с I в. н.э. Эти свидетельства говорят о существо-вание на территории Предкавказья Алании, возглавляемой царями. Возникает во-прос – являлись ли эти “цари” реальными правителями данных территорий или этобыли племенные вожди, возглавлявшие воинские аланские контингенты.
Со 2-й половины II в. н.э. на территории Центрального Предкавказья фиксируетсяраннеаланская культура, для которой характерно наличие больших городищ, окружен-ных многочисленными курганными могильниками. На Верхнем Тереке (РеспубликаСеверная Осетия-Алания) имеется несколько городищ, из которых выделяются дванаиболее крупных – Брут и Беслан (Рис. 1). Эти городища огромны по площади и име-ют цитадели. Это свидетельствует о социальной неоднородности населения, а также оналичии власти, способной организовать большое количество людей для масштабныхстроительных работ. Катакомбные могильники, окружающие эти городища, так жеуказывают на стратификацию аланского общества.
На могильнике Беслан, наряду с многочисленными рядовыми могилами(в основном III в. н.э.), выделяются огромный (4 м) курган, раскопанныйВ.Л. Ростуновым в 1990 г., и группа погребений (у которых высота насыпи не былапрослежена) содержавшие богатые наборы изделий из золота. Эти захоронения, в пер-вую очередь курган 1990 г., мы можем рассматривать как княжеские.
— 14 — — 14 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
К городищу Брут относятся два могильника Брут 1 (рубеж IV–V в. – рубеж V–VI в.) и Брут 2 (2-я пол. II в. – рубеж VI–VII в.). Могильник Брут 2 можно рассматри-вать как кладбище рядового населения, относящегося к этому городищу, тогда какБрут 1 являлся могильником элиты. Анализ материала позволяет утверждать, чтоздесь были захоронены “царь” (если исходить из письменной традиции описывающейКавказ) с дружиной. На дружину указывает то, что почти все курганы с оружием и неимеют женских вещей. С правителями можно связать три кургана отличающихся осо-бым богатством и их можно расположить в хронологической последовательности.
Установить характер отношений между властными структурами Брута и Беслана,а также с аналогичными структурами других аланских территорий пока затруднитель-но, однако, то, что эти территории не были разгромлены гуннами, указывает на их тес-ное политическое взаимодействие. Говорить же о наличии центральной власти в Ала-нии, видимо, преждевременно.
М.С. Гаджиев, В.Ю. МалашевМахачкала, Москва, Россия
«КНЯЖЕСКИЕ» И ЭЛИТНЫЕ ВОИНСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯПОЗДНЕСАРМАТСКОГО И ГУННСКОГО ВРЕМЕНИ В ДАГЕСТАНЕ
В докладе анализируются «княжеские» и элитные воинские захоронения позднегосарматского и гуннского периода, выявленные на территории Дагестана. «Княжеские»погребения кон. IV – первой пол. V в. представлены большими курганами (H = 3–5 m)
Андрейаульского могильника с Т-образными катакомбами со стрельчатым сводом,сооруженными на глубине около 9 м от древней дневной поверхности (Рис. 1, 1; 2) и,очевидно, принадлежавшими аланской высшей элите, а также каменной гробницей вИраги (Рис. 1, 4) с богатым погребальным инвентарем (типа Армазис Хеви, ВерхняяРутха, Унтерзибенбрунн, Лендьелтоти и др.), вероятно, принадлежавшей представи-тельнице высшей знати княжества Хайдак.
Воинские элитные погребения также представлены как местными дагестанскими, таки пришлыми кочевыми среднесарматскими и аланскими племенами. Это, в частности,захоронение в каменной гробнице первой пол. V века в Калкни (Рис. 1, 5) с вооружением,железными кольчугой и ламинарным шлемом с бармицей, и диагональное погребениепозднего II – первой пол. III в. в большой прямоугольной яме под курганом 1 могильникаКох-тебе с железным ламеллярным доспехом типа lorica squamata (Рис. 1, 2; 3).
Рис. 1. Аланские памятники Брут и Беслан в Северной Осетии
Рис. 1. Элитные погребения Дагестана III–V вв.
1 – Андрейаул; 2 – Кох-тебе 2; 3– Львовский Первый-4;4 – Ираги; 5 – Калкни; 6 – Цыйша
— 15 — — 15 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
К городищу Брут относятся два могильника Брут 1 (рубеж IV–V в. – рубеж V–VI в.) и Брут 2 (2-я пол. II в. – рубеж VI–VII в.). Могильник Брут 2 можно рассматри-вать как кладбище рядового населения, относящегося к этому городищу, тогда какБрут 1 являлся могильником элиты. Анализ материала позволяет утверждать, чтоздесь были захоронены “царь” (если исходить из письменной традиции описывающейКавказ) с дружиной. На дружину указывает то, что почти все курганы с оружием и неимеют женских вещей. С правителями можно связать три кургана отличающихся осо-бым богатством и их можно расположить в хронологической последовательности.
Установить характер отношений между властными структурами Брута и Беслана,а также с аналогичными структурами других аланских территорий пока затруднитель-но, однако, то, что эти территории не были разгромлены гуннами, указывает на их тес-ное политическое взаимодействие. Говорить же о наличии центральной власти в Ала-нии, видимо, преждевременно.
М.С. Гаджиев, В.Ю. МалашевМахачкала, Москва, Россия
«КНЯЖЕСКИЕ» И ЭЛИТНЫЕ ВОИНСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯПОЗДНЕСАРМАТСКОГО И ГУННСКОГО ВРЕМЕНИ В ДАГЕСТАНЕ
В докладе анализируются «княжеские» и элитные воинские захоронения позднегосарматского и гуннского периода, выявленные на территории Дагестана. «Княжеские»погребения кон. IV – первой пол. V в. представлены большими курганами (H = 3–5 m)
Андрейаульского могильника с Т-образными катакомбами со стрельчатым сводом,сооруженными на глубине около 9 м от древней дневной поверхности (Рис. 1, 1; 2) и,очевидно, принадлежавшими аланской высшей элите, а также каменной гробницей вИраги (Рис. 1, 4) с богатым погребальным инвентарем (типа Армазис Хеви, ВерхняяРутха, Унтерзибенбрунн, Лендьелтоти и др.), вероятно, принадлежавшей представи-тельнице высшей знати княжества Хайдак.
Воинские элитные погребения также представлены как местными дагестанскими, таки пришлыми кочевыми среднесарматскими и аланскими племенами. Это, в частности,захоронение в каменной гробнице первой пол. V века в Калкни (Рис. 1, 5) с вооружением,железными кольчугой и ламинарным шлемом с бармицей, и диагональное погребениепозднего II – первой пол. III в. в большой прямоугольной яме под курганом 1 могильникаКох-тебе с железным ламеллярным доспехом типа lorica squamata (Рис. 1, 2; 3).
Рис. 1. Аланские памятники Брут и Беслан в Северной Осетии
Рис. 1. Элитные погребения Дагестана III–V вв.
1 – Андрейаул; 2 – Кох-тебе 2; 3– Львовский Первый-4;4 – Ираги; 5 – Калкни; 6 – Цыйша
— 16 — — 16 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Рис. 2. Андрейаульский курганный могильник. Курган 1 (А) и курган 2 (Б).
Планы и разрезы катакомб (по: Магомедов, 1987)
Рис. 3. Могильник Кох-тебе 2. Курган 1. Погребальный инвентарь
1 – железный доспех in situ; 2 – железные наконечники стрел
— 17 — — 17 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Рис. 2. Андрейаульский курганный могильник. Курган 1 (А) и курган 2 (Б).
Планы и разрезы катакомб (по: Магомедов, 1987)
Рис. 3. Могильник Кох-тебе 2. Курган 1. Погребальный инвентарь
1 – железный доспех in situ; 2 – железные наконечники стрел
— 18 — — 18 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Панцирные, кольчужные доспехи, характерные для катафрактария и представляв-шие значительную материальную ценность, выступают социальными маркерами, пре-стижным снаряжением военной аристократии. Последняя, в существовавших услови-ях, когда власть имела преимущественно военный характер, занимала главенствую-щие позиции и в общественной организации.
Сообщение Тацита о сарматах, у которых «вожди и знать» носят панцири, сде-ланные «из пригнанных друг к другу пластин» (Hist., I, 79), как следует из приведен-ных материалов, можно определенно использовать для характеристики социальнойструктуры и номадов Северо-Западного Прикаспия, и дагестанского общества, кото-рое имело тесные контакты (в т.ч. военно-политические) со степным миром. Извес-тие Тацита и информация Аммиана Марцеллина о парфянской знати, несшей службув кавалерии (Hist., XXIII, 6, 83), ядром которой являлись катафрактарии, вкупе сархеологическими данными подтверждают тезис о возможности соотнесениявоенного понятия «катафрактарий» и социального термина «нобиль» (Кошеленко,1985. С. 345).
В обеих группах выделенных погребений представлены захоронения, этнокуль-турная интерпретация которых определяется как местная кавказская (дагестанская) ипришлая степная (носители среднесарматской культуры и их потомков, а также алан-ской культуры). Вероятно, что в среде этих этнокультурных, тесно контактировавшихсообществ в позднесарматское и гуннское время происходили сходные процессы со-циальной поляризации, становления и развития раннегосударственных форм социаль-ной организации.
ЛИТЕРАТУРА
Кошеленко Г.А., 1985. Заключение // Археология СССР. Древнейшие государстваКавказа и Средней Азии. М.
Магомедов М.Г., 1987. Отчет о работе Северо-Дагестанской экспедиции в1987 г. //Архив ИА РАН. Р-1, № 12233.
О.В. ЗеленцоваМосква, Россия
ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ ВОИНСКИХ И «ВОЖДЕСКИХ»ПОГРЕБЕНИЙ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ МОРДВЫ
Для выделения воинских и «вождеских» погребений были привлечены материалаВторого Старобадиковского могильника, расположенного в долине р. Вад(правобережье Волги) и датируемого второй пол. VII – первой пол. X в. (Рис. 1). Из366 погребений, для анализа привлечены 111 мужских, которые относятся к раннейстадии, второй пол. VII – первой пол. VIII в. Исследование взаимовстречаемости кате-
горий предметов личного убора, оружия, орудий труда и конского снаряжения позволи-ло выделить в этой выборке несколько групп захоронений, имеющих, на наш взгляд,социологическое значение.
Первая группа включает 23 погребения без оружия (20%). Для нее характерен ми-нимальный набор, который является базовым для мужских захоронений: нож, фитиль-ная трубочка, кресало с кремнем, редко – втульчатый топор. Из предметов личного уб-ранства в половине погребений присутствуют пояса, украшенные несколькими желез-ными накладками, либо железная пряжка.
Ко второй группе погребений относятся захоронения, содержащие, помимо базо-вого набора, еще копье или колчан со стрелами (24 захоронения – 21%). В некоторыхприсутствуют пояса с железными накладками, железные пряжки, редко браслеты исюлгамы.
Третья группа составляет 50% от выборки. Воинское снаряжение помимо топоравключает и колчан со стрелами, и копье. Присутствие в комплексах стремян, удил и,изредка уздечек, свидетельствует, что это конные воины. Воинский плащ застегивалафибула с «крылатой» иглой, фиксируемая в большей части погребений. Костюм вклю-чал также железный наборный пояс, реже присутствовал пояс с геральдическими на-кладками. В четырех случаях встречаются гривны, в половине погребений браслеты,сюлгамы. Погребения этой группы сопровождались женскими украшениями(«дарственный комплекс»).
Восемь захоронений, четвертая группа, (7%), кроме набора оружия и украшений,характерных для третьей группы содержали клинковое оружие и (или) боевой топор.Эти захоронения отличаются максимальным количеством инвентаря и украшений, ноздесь отсутствует фибула с «крылатой» иглой, которая, вероятно, несла ранговую на-грузку.
Итак, исследования свидетельствуют о сложной социальной структуре общества.Половина мужских захоронений (третья группа), вероятно, были профессиональнымиконными воинами, о чем свидетельствует характерный набор оружия, снаряжения изнаки воинского отличия (застежка с «крылатой» иглой). Военная элита представленазахоронениями четвертой группы. Пятая часть мужских погребений (вторая группа)относится к категории народ-войско – мужчины брали оружие в случае необходимости.Группа погребений, не содержащих вооружение (первая), может интерпретироватьсякак страта не связанная с военным делом.
Таким образом, старобатиковское общество на раннем этапе было достаточносильно военизировано – оружие (без учета втульчатых топоров) встречалось в 80%мужских погребений. Примечательно, что детали вооружения (копья, стрелы) и воин-ского убранства (фибулы с «крылатой» иглой, кольчужицы) встречаются не только вмужских, но и в женских захоронениях (20% от женских). События VII века привели вдвижение массы населения и не случайно в Правобережье Волги складываются новыецентры расселения поволжских финнов – в это время на Мокше и Цне фиксируютсяновые могильники (Рис. 1). Примечательно, что во всех Примокшанских и Цнинскихмогильниках выделяется ранний пласт захоронений воинов с геральдическими поясны-ми наборами и застежкой с «крылатой» иглой; воинов, которые осваивают новые тер-ритории, в первую очередь при помощи оружия.
— 19 — — 19 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Панцирные, кольчужные доспехи, характерные для катафрактария и представляв-шие значительную материальную ценность, выступают социальными маркерами, пре-стижным снаряжением военной аристократии. Последняя, в существовавших услови-ях, когда власть имела преимущественно военный характер, занимала главенствую-щие позиции и в общественной организации.
Сообщение Тацита о сарматах, у которых «вожди и знать» носят панцири, сде-ланные «из пригнанных друг к другу пластин» (Hist., I, 79), как следует из приведен-ных материалов, можно определенно использовать для характеристики социальнойструктуры и номадов Северо-Западного Прикаспия, и дагестанского общества, кото-рое имело тесные контакты (в т.ч. военно-политические) со степным миром. Извес-тие Тацита и информация Аммиана Марцеллина о парфянской знати, несшей службув кавалерии (Hist., XXIII, 6, 83), ядром которой являлись катафрактарии, вкупе сархеологическими данными подтверждают тезис о возможности соотнесениявоенного понятия «катафрактарий» и социального термина «нобиль» (Кошеленко,1985. С. 345).
В обеих группах выделенных погребений представлены захоронения, этнокуль-турная интерпретация которых определяется как местная кавказская (дагестанская) ипришлая степная (носители среднесарматской культуры и их потомков, а также алан-ской культуры). Вероятно, что в среде этих этнокультурных, тесно контактировавшихсообществ в позднесарматское и гуннское время происходили сходные процессы со-циальной поляризации, становления и развития раннегосударственных форм социаль-ной организации.
ЛИТЕРАТУРА
Кошеленко Г.А., 1985. Заключение // Археология СССР. Древнейшие государстваКавказа и Средней Азии. М.
Магомедов М.Г., 1987. Отчет о работе Северо-Дагестанской экспедиции в1987 г. //Архив ИА РАН. Р-1, № 12233.
О.В. ЗеленцоваМосква, Россия
ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ ВОИНСКИХ И «ВОЖДЕСКИХ»ПОГРЕБЕНИЙ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ МОРДВЫ
Для выделения воинских и «вождеских» погребений были привлечены материалаВторого Старобадиковского могильника, расположенного в долине р. Вад(правобережье Волги) и датируемого второй пол. VII – первой пол. X в. (Рис. 1). Из366 погребений, для анализа привлечены 111 мужских, которые относятся к раннейстадии, второй пол. VII – первой пол. VIII в. Исследование взаимовстречаемости кате-
горий предметов личного убора, оружия, орудий труда и конского снаряжения позволи-ло выделить в этой выборке несколько групп захоронений, имеющих, на наш взгляд,социологическое значение.
Первая группа включает 23 погребения без оружия (20%). Для нее характерен ми-нимальный набор, который является базовым для мужских захоронений: нож, фитиль-ная трубочка, кресало с кремнем, редко – втульчатый топор. Из предметов личного уб-ранства в половине погребений присутствуют пояса, украшенные несколькими желез-ными накладками, либо железная пряжка.
Ко второй группе погребений относятся захоронения, содержащие, помимо базо-вого набора, еще копье или колчан со стрелами (24 захоронения – 21%). В некоторыхприсутствуют пояса с железными накладками, железные пряжки, редко браслеты исюлгамы.
Третья группа составляет 50% от выборки. Воинское снаряжение помимо топоравключает и колчан со стрелами, и копье. Присутствие в комплексах стремян, удил и,изредка уздечек, свидетельствует, что это конные воины. Воинский плащ застегивалафибула с «крылатой» иглой, фиксируемая в большей части погребений. Костюм вклю-чал также железный наборный пояс, реже присутствовал пояс с геральдическими на-кладками. В четырех случаях встречаются гривны, в половине погребений браслеты,сюлгамы. Погребения этой группы сопровождались женскими украшениями(«дарственный комплекс»).
Восемь захоронений, четвертая группа, (7%), кроме набора оружия и украшений,характерных для третьей группы содержали клинковое оружие и (или) боевой топор.Эти захоронения отличаются максимальным количеством инвентаря и украшений, ноздесь отсутствует фибула с «крылатой» иглой, которая, вероятно, несла ранговую на-грузку.
Итак, исследования свидетельствуют о сложной социальной структуре общества.Половина мужских захоронений (третья группа), вероятно, были профессиональнымиконными воинами, о чем свидетельствует характерный набор оружия, снаряжения изнаки воинского отличия (застежка с «крылатой» иглой). Военная элита представленазахоронениями четвертой группы. Пятая часть мужских погребений (вторая группа)относится к категории народ-войско – мужчины брали оружие в случае необходимости.Группа погребений, не содержащих вооружение (первая), может интерпретироватьсякак страта не связанная с военным делом.
Таким образом, старобатиковское общество на раннем этапе было достаточносильно военизировано – оружие (без учета втульчатых топоров) встречалось в 80%мужских погребений. Примечательно, что детали вооружения (копья, стрелы) и воин-ского убранства (фибулы с «крылатой» иглой, кольчужицы) встречаются не только вмужских, но и в женских захоронениях (20% от женских). События VII века привели вдвижение массы населения и не случайно в Правобережье Волги складываются новыецентры расселения поволжских финнов – в это время на Мокше и Цне фиксируютсяновые могильники (Рис. 1). Примечательно, что во всех Примокшанских и Цнинскихмогильниках выделяется ранний пласт захоронений воинов с геральдическими поясны-ми наборами и застежкой с «крылатой» иглой; воинов, которые осваивают новые тер-ритории, в первую очередь при помощи оружия.
— 20 — — 20 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Э. Иштванович, В. КульчарНьиредьхаза, Сегед, Венгрия
«ВОЖДЕСКИЕ» ПОГРЕБЕНИЯ И ЦЕНТРЫ ВЛАСТИ ПОЗДНЕРИМСКОГОВРЕМЕНИ И ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ
В КАРПАТСКОМ БАССЕЙНЕ
Говоря о Карпатском бассейне, мы должны иметь в виду четыре совершенноразличных региона: это Задунавье – римская провинция Паннония, Алфёльд (БольшаяВенгерская низменность), северная полоса (германский Барбарикум, о котором здесьречи не пойдет) и, наконец, Трансильвания, территория провинции Дакии,оставленной римлянами в 271 г. В данной работе мы делаем упор на сарматскомБарбарикуме (Рис. 1).
О структуре сарматского общества Алфёльда известно очень мало. По скупымсведениям источников можно понять, что в сарматском Барбарикуме Карпатскогобассейна, достаточно едином по своей материальной культуре, не было единовластия.Руководящую роль играли племенные вожди, «короли” (rex) и „князья” (dux), повиди-мому, стоявшие во главе различных племен. Есть указания на существование институ-та двойного королевства. Особого рассмотрения требует проблема аркарагантов и ли-мигантов – сведения о них, возможно, единственные, на основании которых можносделать выводы о центрах власти в сарматском Барбарикуме.
Рис.
1.М
огил
ьник
и м
ордв
ы с
вои
нски
ми
фиб
улам
и с
«кры
лато
й»иг
лой
1–
Втор
ой С
тар
обад
иков
ский
,2–
Втор
ой Ж
урав
кинс
кий,
3–
Степ
анов
ский
,4–
Пан
овск
ий,5
–Ел
изав
ет-М
ихай
ловс
кий,
6–
Крю
ковс
ко-К
ужно
вски
й,7
–Во
лчих
инск
ий,8
–И
вань
ковс
кий,
9–
Абра
мовс
кий
Рис. 1. Главные регионы Карпатского бассейна
— 21 — — 21 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Э. Иштванович, В. КульчарНьиредьхаза, Сегед, Венгрия
«ВОЖДЕСКИЕ» ПОГРЕБЕНИЯ И ЦЕНТРЫ ВЛАСТИ ПОЗДНЕРИМСКОГОВРЕМЕНИ И ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ
В КАРПАТСКОМ БАССЕЙНЕ
Говоря о Карпатском бассейне, мы должны иметь в виду четыре совершенноразличных региона: это Задунавье – римская провинция Паннония, Алфёльд (БольшаяВенгерская низменность), северная полоса (германский Барбарикум, о котором здесьречи не пойдет) и, наконец, Трансильвания, территория провинции Дакии,оставленной римлянами в 271 г. В данной работе мы делаем упор на сарматскомБарбарикуме (Рис. 1).
О структуре сарматского общества Алфёльда известно очень мало. По скупымсведениям источников можно понять, что в сарматском Барбарикуме Карпатскогобассейна, достаточно едином по своей материальной культуре, не было единовластия.Руководящую роль играли племенные вожди, «короли” (rex) и „князья” (dux), повиди-мому, стоявшие во главе различных племен. Есть указания на существование институ-та двойного королевства. Особого рассмотрения требует проблема аркарагантов и ли-мигантов – сведения о них, возможно, единственные, на основании которых можносделать выводы о центрах власти в сарматском Барбарикуме.
Рис.
1.М
огил
ьник
и м
ордв
ы с
вои
нски
ми
фиб
улам
и с
«кры
лато
й»иг
лой
1–
Втор
ой С
тар
обад
иков
ский
,2–
Втор
ой Ж
урав
кинс
кий,
3–
Степ
анов
ский
,4–
Пан
овск
ий,5
–Ел
изав
ет-М
ихай
ловс
кий,
6–
Крю
ковс
ко-К
ужно
вски
й,7
–Во
лчих
инск
ий,8
–И
вань
ковс
кий,
9–
Абра
мовс
кий
Рис. 1. Главные регионы Карпатского бассейна
— 22 — — 22 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Из-за очень высокого процента ограбленности могил мы располагаем совсемнебольшим количеством погребений, которые, судя по обряду (курганы, камерныепогребения) или каким-то предметам (регалиям, престижным подаркам), могутсчитаться княжескими (Гестеред, Херпай, Тисалёк, Ясалшосентдьёрдь). В то жевремя, это только кажущаяся „бедность”. В недавней работе мы собрали находкииз золота в сарматских могилах, и их оказалось на удивление много (в отличие,скажем, от соседних германцев – квадов). В какой-то мере это может являться от-блеском годовых субсидий, получаемых от римлян, о чем имеется упоминание висточнике.
Судя по археологическому материалу (группы Чонград, Тисадоб и др.), с прихо-дом гуннов сарматское общество, во всяком случае его военнизированная часть, гар-монично вписывается в новые структуры власти. Мы знаем, что на территории Вос-точной Венгрии находилась ставка Аттилы, исследования по определению места кото-рой практически не продвинулись за последние десятилетия.
Слабая изученность этнической картины Трасильвании после эвакуации римскойДакии не позволяет пока делать какие-либо серьёзные выводы о центрах власти вест-готов, занявших этот регион где-то в конце III в., хотя новейшие исследования поселе-ний культуры Марошсентанна/Сынтана де Муреш, возможно, вскоре представят этупроблему в новом свете.
М.М. Казанский, П. ПеренПариж, Франция
«КОРОЛЕВСКИЕ» И «ВОЖДЕСКИЕ» ПОГРЕБЕНИЯРАННЕМЕРОВИНГСКОГО ВРЕМЕНИ В ГАЛЛИИ:
СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Галлия – один из регионов, где для начала средневековья изучение археологиче-ских источников, в первую очередь могильников меровингского времени, находитсяна относительно высоком уровне, а также имеются свидетельства письменных источ-ников.
Проблема социальной градации меровингских древностей по характеру и богатст-ву инвентаря давно разрабатывается в западноевропейской археологии (см. подроб-нее: Périn, 1998). Р. Кристляйн выделил три социальных уровня погребений, из нихнаиболее «богатые» – уровень «С», считаются «вождескими» (Christlein, 1973; Рис. 1).Их, в частности, характеризует присутствие в инвентаре парадных мечей, ангонов, бо-гатой поясной гарнитуры, а также, в ряде случаев, особое топографическое положениев некрополе. Для раннемеровингского времени известно и одно королевское погребе-ние. Это захоронение Хильдерика (умер в 481/482 гг.) в г. Турнэ. Его отличают осо-бый погребальный обряд (курган, многочисленные захоронения лошадей), а такжеприсутствие в инвентаре символов власти – золотого браслета и римской фибулы выс-шего чиновника (Казанский, Перен, 2005).
«Вождеские» могилы довольно хорошо известны в Северной Галлии (Périn,1995). Ранее считалось, что они принадлежат знати времен Хлодвига, сына Хильде-рика, их распространение отражает географию начальной стадии франкских завоева-ний (начиная с 486 г.) и маркирует центры власти (Рис. 2).
Сейчас выясняется, что ряд этих захоронений по времени соответствует времениХильдерика и предшествуют франкской экспансии. Видимо, эти погребения отража-ют, во-первых, позднеримскую «генеральскую» моду, а во-вторых, свидетельствуюто том, что франки взяли под контроль значительную часть Северной Галлии, до бас-сейна Сены включительно, уже при Хильдерике т.е. в 460–480 гг.
Обоснованно считается, что «вождеские» могилы с оружием принадлежат герман-ской традиции, тогда как у римской знати, сохранившей в Галлии высокие социальныепозиции, социальный статус погребенного выражался в богатстве могильных соору-жений (мавзолеи, саркофаги, погребальные мозаики и надписи).
Но сосуществование и постепенное слияние этих двух правящих группировок –варварской и римской – не могло не найти отражания и в погребальной практике. Обэтом свидетельствует захоронение в Бурже (наиболее вероятная дата: 474–507 гг.), вЦентральной Галлии, на территории визиготского королевства. Оно было совершенопо римскому обычаю в саркофаге и с типичным римским инвентарем – стеклянная по-суда, сандалии, но содержало также боевой нож и командирское копье с надписью,свидетельствующей о том, что здесь захоронен «королевский патриций» (Рис. 3).В VI в. постепенно вырабатывается практика привилегированных захоронений в церк-вях, по христианскому обычаю, что окончательно нивелирует погребения римской иварварской знати в Галлии.
Рис. 1. Три уровня меровингских могил, выявляемые по богатству инвентаря(по: Christlein, 1973. Abb. 11)
Pfeil+BogenSaxGlasgefäss 6 JhdtLanzeSpathaSchildSaufederSpornHolzeimerAngoHelm/PanzerTrense+PferdegeschirrGlasgefäss 7 JhdtBronzegefässEimer mit BronzebeschlägenGoldfingerringGoldperlenMesser mit GoldgriffGoldscheibenfibel massiveSilberwadenbindenHolzkästchen mit Bein oderMetallbeschlägenGoldohrringeSilberfingerringBugelfibelpaarSilberohrringeZiernadelZierscheibeWadenbinden (Eisen/Bronze Blech)Scheibenfibel (Silber Bronze Eisen)BronzeohrringeGlasperlen
— 23 — — 23 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Из-за очень высокого процента ограбленности могил мы располагаем совсемнебольшим количеством погребений, которые, судя по обряду (курганы, камерныепогребения) или каким-то предметам (регалиям, престижным подаркам), могутсчитаться княжескими (Гестеред, Херпай, Тисалёк, Ясалшосентдьёрдь). В то жевремя, это только кажущаяся „бедность”. В недавней работе мы собрали находкииз золота в сарматских могилах, и их оказалось на удивление много (в отличие,скажем, от соседних германцев – квадов). В какой-то мере это может являться от-блеском годовых субсидий, получаемых от римлян, о чем имеется упоминание висточнике.
Судя по археологическому материалу (группы Чонград, Тисадоб и др.), с прихо-дом гуннов сарматское общество, во всяком случае его военнизированная часть, гар-монично вписывается в новые структуры власти. Мы знаем, что на территории Вос-точной Венгрии находилась ставка Аттилы, исследования по определению места кото-рой практически не продвинулись за последние десятилетия.
Слабая изученность этнической картины Трасильвании после эвакуации римскойДакии не позволяет пока делать какие-либо серьёзные выводы о центрах власти вест-готов, занявших этот регион где-то в конце III в., хотя новейшие исследования поселе-ний культуры Марошсентанна/Сынтана де Муреш, возможно, вскоре представят этупроблему в новом свете.
М.М. Казанский, П. ПеренПариж, Франция
«КОРОЛЕВСКИЕ» И «ВОЖДЕСКИЕ» ПОГРЕБЕНИЯРАННЕМЕРОВИНГСКОГО ВРЕМЕНИ В ГАЛЛИИ:
СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Галлия – один из регионов, где для начала средневековья изучение археологиче-ских источников, в первую очередь могильников меровингского времени, находитсяна относительно высоком уровне, а также имеются свидетельства письменных источ-ников.
Проблема социальной градации меровингских древностей по характеру и богатст-ву инвентаря давно разрабатывается в западноевропейской археологии (см. подроб-нее: Périn, 1998). Р. Кристляйн выделил три социальных уровня погребений, из нихнаиболее «богатые» – уровень «С», считаются «вождескими» (Christlein, 1973; Рис. 1).Их, в частности, характеризует присутствие в инвентаре парадных мечей, ангонов, бо-гатой поясной гарнитуры, а также, в ряде случаев, особое топографическое положениев некрополе. Для раннемеровингского времени известно и одно королевское погребе-ние. Это захоронение Хильдерика (умер в 481/482 гг.) в г. Турнэ. Его отличают осо-бый погребальный обряд (курган, многочисленные захоронения лошадей), а такжеприсутствие в инвентаре символов власти – золотого браслета и римской фибулы выс-шего чиновника (Казанский, Перен, 2005).
«Вождеские» могилы довольно хорошо известны в Северной Галлии (Périn,1995). Ранее считалось, что они принадлежат знати времен Хлодвига, сына Хильде-рика, их распространение отражает географию начальной стадии франкских завоева-ний (начиная с 486 г.) и маркирует центры власти (Рис. 2).
Сейчас выясняется, что ряд этих захоронений по времени соответствует времениХильдерика и предшествуют франкской экспансии. Видимо, эти погребения отража-ют, во-первых, позднеримскую «генеральскую» моду, а во-вторых, свидетельствуюто том, что франки взяли под контроль значительную часть Северной Галлии, до бас-сейна Сены включительно, уже при Хильдерике т.е. в 460–480 гг.
Обоснованно считается, что «вождеские» могилы с оружием принадлежат герман-ской традиции, тогда как у римской знати, сохранившей в Галлии высокие социальныепозиции, социальный статус погребенного выражался в богатстве могильных соору-жений (мавзолеи, саркофаги, погребальные мозаики и надписи).
Но сосуществование и постепенное слияние этих двух правящих группировок –варварской и римской – не могло не найти отражания и в погребальной практике. Обэтом свидетельствует захоронение в Бурже (наиболее вероятная дата: 474–507 гг.), вЦентральной Галлии, на территории визиготского королевства. Оно было совершенопо римскому обычаю в саркофаге и с типичным римским инвентарем – стеклянная по-суда, сандалии, но содержало также боевой нож и командирское копье с надписью,свидетельствующей о том, что здесь захоронен «королевский патриций» (Рис. 3).В VI в. постепенно вырабатывается практика привилегированных захоронений в церк-вях, по христианскому обычаю, что окончательно нивелирует погребения римской иварварской знати в Галлии.
Рис. 1. Три уровня меровингских могил, выявляемые по богатству инвентаря(по: Christlein, 1973. Abb. 11)
Pfeil+BogenSaxGlasgefäss 6 JhdtLanzeSpathaSchildSaufederSpornHolzeimerAngoHelm/PanzerTrense+PferdegeschirrGlasgefäss 7 JhdtBronzegefässEimer mit BronzebeschlägenGoldfingerringGoldperlenMesser mit GoldgriffGoldscheibenfibel massiveSilberwadenbindenHolzkästchen mit Bein oderMetallbeschlägenGoldohrringeSilberfingerringBugelfibelpaarSilberohrringeZiernadelZierscheibeWadenbinden (Eisen/Bronze Blech)Scheibenfibel (Silber Bronze Eisen)BronzeohrringeGlasperlen
— 24 — — 24 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
ЛИТЕРАТУРА
Казанский М.М., Перен П., 2005. Могила Хильдерика (481/482 г.): состояние исследо-ваний // Краткие Сообщения Института Археологии. № 218. С. 24–42.
Christlein R., 1973. Besitzabstufungen zur Merowingeriet im Spiegel reicher Grabunde ausWest- und Süddeutschland // Jahrbuch des Römisch-Germanischen ZentralmuseumsMainz. Band 20. S. 147–180.
De Kersers A., de Marquerye R., de la Guerè R., 1891. Tombes du cimetière des Capucins //Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre. 18. Р. 51–63.
Périn P., 1995. Les tombes des «chefs» du début de l’époque mérovingienne. Datation etinterprétation historique // La noblesse romaine et les chefs barbares du IIIe au VIIesiècle. Saint-Germain-en-Laye. P. 247–302.
Périn P., 1998. Possibilités et limites de l’interprétation sociale des cimetièresmérovingiens // Antiquités Nationales. N° 30. P. 169–184.
La Picardie, berceau de la France, 1986. Amiens.
Д.С. КоробовМосква, Россия
АЛАНСКИЕ «ВОЖДЕСКИЕ» ПОГРЕБЕНИЯ И ЦЕНТРЫ ВЛАСТИВ КИСЛОВОДСКОЙ КОТЛОВИНЕ
Доклад посвящен одному из аспектов изучения системы расселения носителейаланской культуры, занимавших Кисловодскую котловину в эпоху раннегоСредневековья, – процессу формирования у них центров власти. Полевые работыавтора, проводившиеся в котловине в 1996–2012 гг. с использованием ГИС-технологий, подтвердили широкое расселение алан по всей изучаемой территории вV–VIII вв. н.э. Основная масса поселений этого периода представляет собой неболь-шие патронимические поселки – места обитания семейных кланов из 5–20 семейств,расположенных внутри ресурсной зоны, способной прокормить данные коллективы.Подобная ситуация говорит о рассеянной модели расселения, предполагающей высо-кую степень автономности социальных коллективов и, следовательно, низкий уровеньиерархии и социального развития.
Если обратиться к западноевропейским аналогиям, то наиболее близкую картину
Рис. 2. Распространение «вождеских» меровингских могил последней трети V –начала VI в. на северном пограничье римской Галлии
(по: La Picardie, berceau de la France, 1986. Fig. 66)
1 – римские крепости; 2 – погребения с парадными мечами; 3 – погребения с ангонами;4 – погребения с парадной поясной гарнитурой; 5 – наличие других престижных вещей
в «вождеских» погребениях
Рис. 3. Погребение в Бурже (по: De Kersers, de Marquerye, de la Guerè, 1891)
— 25 — — 25 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
ЛИТЕРАТУРА
Казанский М.М., Перен П., 2005. Могила Хильдерика (481/482 г.): состояние исследо-ваний // Краткие Сообщения Института Археологии. № 218. С. 24–42.
Christlein R., 1973. Besitzabstufungen zur Merowingeriet im Spiegel reicher Grabunde ausWest- und Süddeutschland // Jahrbuch des Römisch-Germanischen ZentralmuseumsMainz. Band 20. S. 147–180.
De Kersers A., de Marquerye R., de la Guerè R., 1891. Tombes du cimetière des Capucins //Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre. 18. Р. 51–63.
Périn P., 1995. Les tombes des «chefs» du début de l’époque mérovingienne. Datation etinterprétation historique // La noblesse romaine et les chefs barbares du IIIe au VIIesiècle. Saint-Germain-en-Laye. P. 247–302.
Périn P., 1998. Possibilités et limites de l’interprétation sociale des cimetièresmérovingiens // Antiquités Nationales. N° 30. P. 169–184.
La Picardie, berceau de la France, 1986. Amiens.
Д.С. КоробовМосква, Россия
АЛАНСКИЕ «ВОЖДЕСКИЕ» ПОГРЕБЕНИЯ И ЦЕНТРЫ ВЛАСТИВ КИСЛОВОДСКОЙ КОТЛОВИНЕ
Доклад посвящен одному из аспектов изучения системы расселения носителейаланской культуры, занимавших Кисловодскую котловину в эпоху раннегоСредневековья, – процессу формирования у них центров власти. Полевые работыавтора, проводившиеся в котловине в 1996–2012 гг. с использованием ГИС-технологий, подтвердили широкое расселение алан по всей изучаемой территории вV–VIII вв. н.э. Основная масса поселений этого периода представляет собой неболь-шие патронимические поселки – места обитания семейных кланов из 5–20 семейств,расположенных внутри ресурсной зоны, способной прокормить данные коллективы.Подобная ситуация говорит о рассеянной модели расселения, предполагающей высо-кую степень автономности социальных коллективов и, следовательно, низкий уровеньиерархии и социального развития.
Если обратиться к западноевропейским аналогиям, то наиболее близкую картину
Рис. 2. Распространение «вождеских» меровингских могил последней трети V –начала VI в. на северном пограничье римской Галлии
(по: La Picardie, berceau de la France, 1986. Fig. 66)
1 – римские крепости; 2 – погребения с парадными мечами; 3 – погребения с ангонами;4 – погребения с парадной поясной гарнитурой; 5 – наличие других престижных вещей
в «вождеских» погребениях
Рис. 3. Погребение в Бурже (по: De Kersers, de Marquerye, de la Guerè, 1891)
— 26 — — 26 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
можно наблюдать в раннесредневековой Ирландии, где так же имеется большое коли-чество небольших родовых укрепленных поселков, расположенных внутри малыхпредгосударственных образований – так называемых «королевств» (túath – переводит-ся со староирландского как племя или клан). Размеры ирландского «королевства» VI–VII вв., так же как и некоторых англо-саксонских королевств этого времени, вполнесопоставимы с границами Кисловодской котловины. Так, согласно «племенному спи-ску» Англии VII в. (Tribal Hidage), размеры среднего королевства лежат в пределах300–7000 хайдов (единиц площади, с которой способно прокормиться одно домохо-зяйство; в метрических единицах один хайд составляет от 80 до 120 акров или 32–48,5 га), т.е. в среднем около 400–500 кв. км.
Однако в Кисловодской котловине наблюдается постепенный процесс склады-вания элит и выделения центров власти. В V–VIII вв. формируется несколько по-добных центров, связанных скорее всего с останцовыми укреплениями (Рим-Гора,Центральное Эшкаконское, Клин-Яр, Горное Эхо, Кугульское, Первомайское 1;Рис. 1), где в сопровождающих укрепления могильниках наблюдается концентра-ция предметов роскоши, выделение участков с элитными захоронениями родствен-ников, использование специфических погребальных сооружений для подчеркива-ния высокого социального статуса. Данные поселения являются более крупнымипо размерам, на них прослеживаются следы более качественных архитектурныхсооружений. И все же данных о поселениях по-прежнему недостаточно для болееподробной характеристики картины постепенного складывания социальных элит вКисловодской котловине – в основном, для подобного анализа используются мате-риалы могильников.
В.Ю. МалашевМосква, Россия
АЛАНСКАЯ КУЛЬТУРА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ВО II–IV ВВ. Н.Э.:ПРОБЛЕМА РАННЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Во II–IV вв. н.э. на территории предгорий и равнин Центрального Кавказа наблю-дается культурный феномен: в короткий срок возникают значительные по площадигородища (до 1,5 км2) с развитой фортификацией и связанные с ними могильные поля(до 7 км2) с подкурганными катакомбами. Основная территория распространения па-мятников охватывает центральные и отчасти восточные районы Северного Кавказа(Рис. 1). Подобная плотность населения неизвестна на данной территории ни в пред-шествующую, ни в последующую эпохи.
Памятники объединяются, с одной стороны общим керамическим комплексом, сдругой – единым погребальным обрядом, что может свидетельствовать о наличиикультурной близости. При этом речь может идти не только о новой культуре, но и о
Рис.
1.К
арта
укр
епле
ний
и по
селе
ний
Кис
лово
дско
й ко
тлов
ины
эпо
хи р
анне
го С
редн
евек
овья
(V–V
III в
в.)
— 27 — — 27 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
можно наблюдать в раннесредневековой Ирландии, где так же имеется большое коли-чество небольших родовых укрепленных поселков, расположенных внутри малыхпредгосударственных образований – так называемых «королевств» (túath – переводит-ся со староирландского как племя или клан). Размеры ирландского «королевства» VI–VII вв., так же как и некоторых англо-саксонских королевств этого времени, вполнесопоставимы с границами Кисловодской котловины. Так, согласно «племенному спи-ску» Англии VII в. (Tribal Hidage), размеры среднего королевства лежат в пределах300–7000 хайдов (единиц площади, с которой способно прокормиться одно домохо-зяйство; в метрических единицах один хайд составляет от 80 до 120 акров или 32–48,5 га), т.е. в среднем около 400–500 кв. км.
Однако в Кисловодской котловине наблюдается постепенный процесс склады-вания элит и выделения центров власти. В V–VIII вв. формируется несколько по-добных центров, связанных скорее всего с останцовыми укреплениями (Рим-Гора,Центральное Эшкаконское, Клин-Яр, Горное Эхо, Кугульское, Первомайское 1;Рис. 1), где в сопровождающих укрепления могильниках наблюдается концентра-ция предметов роскоши, выделение участков с элитными захоронениями родствен-ников, использование специфических погребальных сооружений для подчеркива-ния высокого социального статуса. Данные поселения являются более крупнымипо размерам, на них прослеживаются следы более качественных архитектурныхсооружений. И все же данных о поселениях по-прежнему недостаточно для болееподробной характеристики картины постепенного складывания социальных элит вКисловодской котловине – в основном, для подобного анализа используются мате-риалы могильников.
В.Ю. МалашевМосква, Россия
АЛАНСКАЯ КУЛЬТУРА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ВО II–IV ВВ. Н.Э.:ПРОБЛЕМА РАННЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Во II–IV вв. н.э. на территории предгорий и равнин Центрального Кавказа наблю-дается культурный феномен: в короткий срок возникают значительные по площадигородища (до 1,5 км2) с развитой фортификацией и связанные с ними могильные поля(до 7 км2) с подкурганными катакомбами. Основная территория распространения па-мятников охватывает центральные и отчасти восточные районы Северного Кавказа(Рис. 1). Подобная плотность населения неизвестна на данной территории ни в пред-шествующую, ни в последующую эпохи.
Памятники объединяются, с одной стороны общим керамическим комплексом, сдругой – единым погребальным обрядом, что может свидетельствовать о наличиикультурной близости. При этом речь может идти не только о новой культуре, но и о
Рис.
1.К
арта
укр
епле
ний
и по
селе
ний
Кис
лово
дско
й ко
тлов
ины
эпо
хи р
анне
го С
редн
евек
овья
(V–V
III в
в.)
— 28 — — 28 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
новой этнической группе, ставшей основой средневековых алан. Памятники находят-ся в одной ландшафтной зоне, что подразумевает одинаковую систему хозяйства. Нагородищах возникают сложные и трудоемкие фортификационные сооружения, тре-бующие организации населения, что свидетельствует о социальной структуре, необ-ходимой для создания этих укреплений. Значительная мощность культурного слоя инасыщенность материалом свидетельствуют о высокой интенсивности жизни. Резуль-таты раскопок свидетельствуют о наличии развитых ремесел – гончарного, производ-ства металла, металлообработки. Наличие устойчивых контактов отражается, с однойстороны, в находках на памятниках римского и закавказского импортов, с другой сто-роны, в вывозе в степь собственной керамической продукции и предметов из металла,встреченных от Нижнего Дона до Южного Приуралья. Погребения отличались богат-ством и обилием инвентаря. В состав наиболее крупных некрополей входят курганывысотой от 5 до 9 м.
Экспансия носителей аланской культуры, начавшаяся в 1-й половине III в. н.э.,охватила громадную территорию. На западе она достигла районов Прикубанья иНижнего Дона; погребальные памятники в степи распространены от Днепро-Донского междуречья до Нижней Волги. На востоке в сферу распространения алан-ской культуры с 1-й половины – середины III в. н.э. входит Терско-Сулакское между-речье, а с IV в. н.э. ее погребения известны на юге Прикаспийского Дагестана. Мыимеем дело с чрезвычайно яркой и мощной культурой, феномен развития и расцветакоторой пока еще не раскрыт. Высокий экономический потенциал нашел отражение встроительстве громадных фортификационных сооружений и в оформлении трудоем-ких погребальных конструкций, что требовало высокой организации общества (в. т.ч.аппарата принуждения). Присутствие значительного количества крупных городищ,которые можно считать особого типа городами, свидетельствует о процессах урбани-зации в данном обществе. Высокая концентрация населения, наличие значительногоколичества городов с высокой плотностью населения, с широким характером и гео-графией контактов позволяет ставить вопрос о наличии структуры и организации бо-лее высокого порядка.
Учитывая перечисленные особенности, памятники аланской культуры II–IV в.в. н.э.можно считать, по Л.Е. Гринину, стадиально государственными. Однако напрямую со-относить данное культурное образование с ранними государствами преждевременно.Более корректным выглядит их сопоставление с аналогами ранних государств (поЛ.Е. Гринину). То есть на сегодняшний день можно говорить о том, что это культурноеобразование исторически догосударственное.
Представленные наблюдения и заключения являются постановкой проблемы и ос-нованы исключительно на анализе археологических источников. Дальнейшая разработ-ка проблемы упирается в исследования поселенческих памятников, степень изученно-сти которых на сегодняшний день оставляет желать лучшего, поскольку информация оданном феномене в письменных источниках практически отсутствует.
ЛИТЕРАТУРА
Гринин Л.Е., 2007. Государство и исторический процесс. М.
Рис.
1.О
снов
ная
терр
итор
ия (б
ез у
чета
миг
раци
й1-
й по
лови
ныII
I– IV
вв. н
.э.)
алан
ской
кул
ьтур
ы р
анне
го э
тапа
и н
аи-
боле
е из
вест
ные
пам
ятни
ки (т
опон
имы
)
1–
Алха
н-ка
ла;2
–Эк
ажев
о;3
- «Ач
им-б
оарз
»; 4
–Бр
атск
ое;5
–О
ктяб
рьск
ое;6
–Ви
ногр
адны
й;7
–Ки
евск
ое;
8–
Хами
дие;
9–
Ниж
ний
Джул
ат;1
0–
Тере
кско
е;11
–Зм
ейск
ая;1
2–
Эльх
отов
о;13
–Бе
слан
;14
–Зи
лга;
15–
Брут
;16
–За
манк
ул;1
7–
Разд
зог;
18–
Стар
ый
Лес
кен;
19–
Аргу
дан;
20–
Урв
ань;
21–
Ино
земц
ево;
22–
Юца
;23
–П
егуш
ин;2
4–
Нас
ыр-
корт
;25
–Гу
дерм
ес
— 29 — — 29 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
новой этнической группе, ставшей основой средневековых алан. Памятники находят-ся в одной ландшафтной зоне, что подразумевает одинаковую систему хозяйства. Нагородищах возникают сложные и трудоемкие фортификационные сооружения, тре-бующие организации населения, что свидетельствует о социальной структуре, необ-ходимой для создания этих укреплений. Значительная мощность культурного слоя инасыщенность материалом свидетельствуют о высокой интенсивности жизни. Резуль-таты раскопок свидетельствуют о наличии развитых ремесел – гончарного, производ-ства металла, металлообработки. Наличие устойчивых контактов отражается, с однойстороны, в находках на памятниках римского и закавказского импортов, с другой сто-роны, в вывозе в степь собственной керамической продукции и предметов из металла,встреченных от Нижнего Дона до Южного Приуралья. Погребения отличались богат-ством и обилием инвентаря. В состав наиболее крупных некрополей входят курганывысотой от 5 до 9 м.
Экспансия носителей аланской культуры, начавшаяся в 1-й половине III в. н.э.,охватила громадную территорию. На западе она достигла районов Прикубанья иНижнего Дона; погребальные памятники в степи распространены от Днепро-Донского междуречья до Нижней Волги. На востоке в сферу распространения алан-ской культуры с 1-й половины – середины III в. н.э. входит Терско-Сулакское между-речье, а с IV в. н.э. ее погребения известны на юге Прикаспийского Дагестана. Мыимеем дело с чрезвычайно яркой и мощной культурой, феномен развития и расцветакоторой пока еще не раскрыт. Высокий экономический потенциал нашел отражение встроительстве громадных фортификационных сооружений и в оформлении трудоем-ких погребальных конструкций, что требовало высокой организации общества (в. т.ч.аппарата принуждения). Присутствие значительного количества крупных городищ,которые можно считать особого типа городами, свидетельствует о процессах урбани-зации в данном обществе. Высокая концентрация населения, наличие значительногоколичества городов с высокой плотностью населения, с широким характером и гео-графией контактов позволяет ставить вопрос о наличии структуры и организации бо-лее высокого порядка.
Учитывая перечисленные особенности, памятники аланской культуры II–IV в.в. н.э.можно считать, по Л.Е. Гринину, стадиально государственными. Однако напрямую со-относить данное культурное образование с ранними государствами преждевременно.Более корректным выглядит их сопоставление с аналогами ранних государств (поЛ.Е. Гринину). То есть на сегодняшний день можно говорить о том, что это культурноеобразование исторически догосударственное.
Представленные наблюдения и заключения являются постановкой проблемы и ос-нованы исключительно на анализе археологических источников. Дальнейшая разработ-ка проблемы упирается в исследования поселенческих памятников, степень изученно-сти которых на сегодняшний день оставляет желать лучшего, поскольку информация оданном феномене в письменных источниках практически отсутствует.
ЛИТЕРАТУРА
Гринин Л.Е., 2007. Государство и исторический процесс. М.
Рис.
1.О
снов
ная
терр
итор
ия (б
ез у
чета
миг
раци
й1-
й по
лови
ныII
I– IV
вв. н
.э.)
алан
ской
кул
ьтур
ы р
анне
го э
тапа
и н
аи-
боле
е из
вест
ные
пам
ятни
ки (т
опон
имы
)
1–
Алха
н-ка
ла;2
–Эк
ажев
о;3
- «Ач
им-б
оарз
»; 4
–Бр
атск
ое;5
–О
ктяб
рьск
ое;6
–Ви
ногр
адны
й;7
–Ки
евск
ое;
8–
Хами
дие;
9–
Ниж
ний
Джул
ат;1
0–
Тере
кско
е;11
–Зм
ейск
ая;1
2–
Эльх
отов
о;13
–Бе
слан
;14
–Зи
лга;
15–
Брут
;16
–За
манк
ул;1
7–
Разд
зог;
18–
Стар
ый
Лес
кен;
19–
Аргу
дан;
20–
Урв
ань;
21–
Ино
земц
ево;
22–
Юца
;23
–П
егуш
ин;2
4–
Нас
ыр-
корт
;25
–Гу
дерм
ес
— 30 — — 30 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Х.М. Мамаев, С.Б. БурковГрозный, Владикавказ, Россия
«КНЯЖЕСКИЙ» КОМПЛЕКС ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВИЗ ПРЕДГОРНОЙ ИНГУШЕТИИ
В 1995 г. на южной окраине сел. Насыр-Корт (правый берег р. Назранки) пристроительстве дороги к новому административному центру РИ – г. Магас было обнару-жено подкурганное катакомбное сооружение, к моменту его исследования уже ограб-ленное (Рис. 1). Изображения сохранившихся находок и их частичное описание неодно-кратно публиковались в краеведческих изданиях (Кодзоев, 2001. С. 80; 2006. С. 25; Рес-публика Ингушетия, 2005 и др.), нашли отражение в работе Д. Кваста (Quast, 2006), нов целом памятник специально не исследовался.
Основная часть погребения представляла собой прямоугольную в плане камерудлиной 2,5 и шириной 2 м, ориентированную по линии СЗ–ЮВ и перекрытую двускат-ным стрельчатым, частично разрушенным сводом высотой не менее 2 м. В нее вел лазаркообразной (?) формы высотой 0,45 м и шириной внизу около 0,5 м, прикрывавшийсямощной плитой размерами 0,9×0,6×0,15 м и весом в несколько сот килограмм. От вход-ной ямы глубиной около 5 м осталось только трапециевидное дно шириной 1,1 м и дли-ной около 0,6 м. Видимо, в ней находились глиняные сосуды, позже разбитые – кружкаи два кувшина.
В катакомбе был погребен один индивид, но детали обряда остались неясными.Из находок здесь зафиксированы только золотая дисковидная фибула-брошь в стиле«клуазоне» с альмандинами, специально укрытая в ямке на дне и фрагмент железногоизогнутого стрежня (Рис. 2, 1). По утверждению очевидцев, отсюда происходила иплоская каменная подквадратная плита (жертвенник?) со следами бронзы – возмож-но, от обломков (?) котла гуннского типа, часть которых найдена в грабительском вы-киде.
Среди собранных у местных жителей артефактов оказался ряд других предме-тов в стиле «клуазоне»: три золотых перстня с плоскими шинками и круглыми щит-ками с парными боковыми гнездами; прямоугольный наконечник ремня с закруглен-ным концом; плоская овальная пряжка с широким язычком и овальный щиток (Рис.2, 2–7). По достоверным сведениям из этой же катакомбы были извлечены и иныеизделия с аналогичным декором – два очень больших перстня, накладки поясногонабора, витая из трех проволок гривна с застежкой в виде «пряжки», серьги и фраг-мент браслета.
Дата предложенная для части этого «статусного» набора Д. Квастом (Quast,2006. S. 268) – вторая половина V века может быть уточнена. На наш взгляд, этоаланское захоронение с предметами, изготовленными, видимо, в мастерских Запад-ного Средиземноморья, относится скорее всего к третьей четверти указанного сто-летия, по времени предшествуя вещам из погребения Хильдерика в Турнэ(Казанский, Перен, 2005). Своеобразие комплексу придает гуннский котел(Рис. 2, 13), относящийся к группе поздних (румынско/венгерских, см.: Боковенко,Засецкая, 1993) изделий, что также указывает на европейский регион сложение это-го мультикультурного комплекса в рамках формирования интернациональной«княжеской» культуры эпохи.
ЛИТЕРАТУРА
Боковенко Н.А., Засецкая И.П., 1993. Происхождение котлов « гуннского типа» Вос-точной Европы в свете проблемы хунно- гуннских связей // ПАВ. 3. СПб.
Казанский М.М., П. Перен, 2005. Могила Хильдерика (481/482 г.): состояние исследо-ваний // КСИА. № 218.
Кодзоев Н.Д., 2001. Археологические памятники Магаса // Вестник Археологическогоцентра. Вып. I. Назрань.
Кодзоев Н.Д., 2006. Город Назрань. Магас. Республика Ингушетия, 2005. Ростов-на-Дону.Quast D., 2006. Mediterrane Scheibenfibeln der Völkerwanderungszeit mit Cloison-
néverzierung – eine typologische und chronologische Übersicht // Sonderdruck aus Ar-chäologisches Korrespondenzblatt. Jahrgang 36. Heft 2.
Рис. 1. Карта расположения «княжеского» погребения у г. Магас
— 31 — — 31 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Х.М. Мамаев, С.Б. БурковГрозный, Владикавказ, Россия
«КНЯЖЕСКИЙ» КОМПЛЕКС ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВИЗ ПРЕДГОРНОЙ ИНГУШЕТИИ
В 1995 г. на южной окраине сел. Насыр-Корт (правый берег р. Назранки) пристроительстве дороги к новому административному центру РИ – г. Магас было обнару-жено подкурганное катакомбное сооружение, к моменту его исследования уже ограб-ленное (Рис. 1). Изображения сохранившихся находок и их частичное описание неодно-кратно публиковались в краеведческих изданиях (Кодзоев, 2001. С. 80; 2006. С. 25; Рес-публика Ингушетия, 2005 и др.), нашли отражение в работе Д. Кваста (Quast, 2006), нов целом памятник специально не исследовался.
Основная часть погребения представляла собой прямоугольную в плане камерудлиной 2,5 и шириной 2 м, ориентированную по линии СЗ–ЮВ и перекрытую двускат-ным стрельчатым, частично разрушенным сводом высотой не менее 2 м. В нее вел лазаркообразной (?) формы высотой 0,45 м и шириной внизу около 0,5 м, прикрывавшийсямощной плитой размерами 0,9×0,6×0,15 м и весом в несколько сот килограмм. От вход-ной ямы глубиной около 5 м осталось только трапециевидное дно шириной 1,1 м и дли-ной около 0,6 м. Видимо, в ней находились глиняные сосуды, позже разбитые – кружкаи два кувшина.
В катакомбе был погребен один индивид, но детали обряда остались неясными.Из находок здесь зафиксированы только золотая дисковидная фибула-брошь в стиле«клуазоне» с альмандинами, специально укрытая в ямке на дне и фрагмент железногоизогнутого стрежня (Рис. 2, 1). По утверждению очевидцев, отсюда происходила иплоская каменная подквадратная плита (жертвенник?) со следами бронзы – возмож-но, от обломков (?) котла гуннского типа, часть которых найдена в грабительском вы-киде.
Среди собранных у местных жителей артефактов оказался ряд других предме-тов в стиле «клуазоне»: три золотых перстня с плоскими шинками и круглыми щит-ками с парными боковыми гнездами; прямоугольный наконечник ремня с закруглен-ным концом; плоская овальная пряжка с широким язычком и овальный щиток (Рис.2, 2–7). По достоверным сведениям из этой же катакомбы были извлечены и иныеизделия с аналогичным декором – два очень больших перстня, накладки поясногонабора, витая из трех проволок гривна с застежкой в виде «пряжки», серьги и фраг-мент браслета.
Дата предложенная для части этого «статусного» набора Д. Квастом (Quast,2006. S. 268) – вторая половина V века может быть уточнена. На наш взгляд, этоаланское захоронение с предметами, изготовленными, видимо, в мастерских Запад-ного Средиземноморья, относится скорее всего к третьей четверти указанного сто-летия, по времени предшествуя вещам из погребения Хильдерика в Турнэ(Казанский, Перен, 2005). Своеобразие комплексу придает гуннский котел(Рис. 2, 13), относящийся к группе поздних (румынско/венгерских, см.: Боковенко,Засецкая, 1993) изделий, что также указывает на европейский регион сложение это-го мультикультурного комплекса в рамках формирования интернациональной«княжеской» культуры эпохи.
ЛИТЕРАТУРА
Боковенко Н.А., Засецкая И.П., 1993. Происхождение котлов « гуннского типа» Вос-точной Европы в свете проблемы хунно- гуннских связей // ПАВ. 3. СПб.
Казанский М.М., П. Перен, 2005. Могила Хильдерика (481/482 г.): состояние исследо-ваний // КСИА. № 218.
Кодзоев Н.Д., 2001. Археологические памятники Магаса // Вестник Археологическогоцентра. Вып. I. Назрань.
Кодзоев Н.Д., 2006. Город Назрань. Магас. Республика Ингушетия, 2005. Ростов-на-Дону.Quast D., 2006. Mediterrane Scheibenfibeln der Völkerwanderungszeit mit Cloison-
néverzierung – eine typologische und chronologische Übersicht // Sonderdruck aus Ar-chäologisches Korrespondenzblatt. Jahrgang 36. Heft 2.
Рис. 1. Карта расположения «княжеского» погребения у г. Магас
— 32 — — 32 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
А.В. Мастыкова, Г.Л. ЗемцовМосква, Липецк, Россия
«КНЯЖЕСКОЕ» ЖЕНСКОЕ ПОГРЕБЕНИЕ С ПОСЕЛЕНИЯ МУХИНО-2ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ
НА ВЕРХНЕМ ДОНУ
Богатое погребение, открытое на многослойном поселении Мухино-2 (Задонскийр-он Липецкой области) на левом берегу р. Снова (Земцов, 2003), принадлежит к чис-лу «княжеских» находок гуннского времени, т.н. горизонта Унтерзибенбрунн(Рис. 1, 1). Захоронение было совершено в могильной яме по обряду ингумации. Ске-лет находился в вытянутом положении на спине, ориентированный по линии СЮ.Проведенное М.В. Добровольской и М.Б. Медниковой антропологическое исследова-ние скелетных останков показало, что они принадлежат женщине 20–29 лет. При ре-конструкции состояния здоровья погребенной, на основании отсутствия эмалевой ги-поплазии (признак, свидетельствующий о стрессах, перенесенных человеком в детст-ве) предполагается, что ее детство было достаточно благополучным и не сопровожда-лось кратковременными остановками роста.
Инвентарь, помимо двух керамических сосудов в верхней части погребальнойямы, представлен следующими предметами: многочисленные бляшки-накладки из зо-лотой фольги округлой, треугольной и зигзаговидной формы; золотые пронизи; нож собкладкой из тисненой золотой фольги; металлические трехрогая лунница, зеркалотипа Карповка-Анке-4, туалетный набор, браслет с расплющенными окончаниями ввиде змеиных головок, пинцет, многочисленные стеклянные и янтарные бусы и т.д.(Рис. 2).
Мухинский убор очень близок княжескому женскому костюму горизонтаУнтерзибенбрунн1 (период D2 «варварской» европейской хронологии, т.е. 380/400–440/450 гг. практически содержит те же элементы, не хватает только пары двупластин-чатых фибул, обычных для такого рода захоронений. Отсутствие важного германско-го элемента как пара фибул указывает, по нашему мнению, на северо-понтийское про-исхождение мухинского костюмаему известны параллели убора без двупластинчатыхфибул, но с золотыми накладками и пронизками (напр.: Керчь, могила 11.1899 г., ин-гумация 1; могила 340.1903 г., ингумация 1; могила 165.1904 г., ингумация 4; могила176.1904 г., ингумация 1; Танаис, погр 10.1981 г.) (Рис. 1, 2, 3). Впрочем, металличе-ские зеркала и золотые аппликации являются неотъемлемой частью княжеского уборагоризонта Унтерзибенбрунн во всей зоне его распространения, от Пиренеев до Кавка-за. Вероятно, что под тем же понтийским влиянием в княжеских женских могилахгуннского времени, в том числе и в погребении Мухино, появляются браслеты с зоо-морфными окончаниями, являющиеся, скорее всего, варварской переработкой поздне-римских браслетов.
«Княжеское» женское погребение Мухино на Верхнем Дону существенно измени-ло наши представления о географии распространения престижной культуры типа
Рис. 2. Находки из «княжеского» погребения у г. Магас(по: Кодзоеву, 2001; 2006)
1 Похожий костюм распространялся у различных народов (готы, герулы, гепиды, аланы и т.д.),он отражает гетерогенный характер правящих варварских элит гуннского времени (Мастыкова, Казан-ский, 2005; Mastykova, Kazanski, 2006).
— 33 — — 33 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
А.В. Мастыкова, Г.Л. ЗемцовМосква, Липецк, Россия
«КНЯЖЕСКОЕ» ЖЕНСКОЕ ПОГРЕБЕНИЕ С ПОСЕЛЕНИЯ МУХИНО-2ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ
НА ВЕРХНЕМ ДОНУ
Богатое погребение, открытое на многослойном поселении Мухино-2 (Задонскийр-он Липецкой области) на левом берегу р. Снова (Земцов, 2003), принадлежит к чис-лу «княжеских» находок гуннского времени, т.н. горизонта Унтерзибенбрунн(Рис. 1, 1). Захоронение было совершено в могильной яме по обряду ингумации. Ске-лет находился в вытянутом положении на спине, ориентированный по линии СЮ.Проведенное М.В. Добровольской и М.Б. Медниковой антропологическое исследова-ние скелетных останков показало, что они принадлежат женщине 20–29 лет. При ре-конструкции состояния здоровья погребенной, на основании отсутствия эмалевой ги-поплазии (признак, свидетельствующий о стрессах, перенесенных человеком в детст-ве) предполагается, что ее детство было достаточно благополучным и не сопровожда-лось кратковременными остановками роста.
Инвентарь, помимо двух керамических сосудов в верхней части погребальнойямы, представлен следующими предметами: многочисленные бляшки-накладки из зо-лотой фольги округлой, треугольной и зигзаговидной формы; золотые пронизи; нож собкладкой из тисненой золотой фольги; металлические трехрогая лунница, зеркалотипа Карповка-Анке-4, туалетный набор, браслет с расплющенными окончаниями ввиде змеиных головок, пинцет, многочисленные стеклянные и янтарные бусы и т.д.(Рис. 2).
Мухинский убор очень близок княжескому женскому костюму горизонтаУнтерзибенбрунн1 (период D2 «варварской» европейской хронологии, т.е. 380/400–440/450 гг. практически содержит те же элементы, не хватает только пары двупластин-чатых фибул, обычных для такого рода захоронений. Отсутствие важного германско-го элемента как пара фибул указывает, по нашему мнению, на северо-понтийское про-исхождение мухинского костюмаему известны параллели убора без двупластинчатыхфибул, но с золотыми накладками и пронизками (напр.: Керчь, могила 11.1899 г., ин-гумация 1; могила 340.1903 г., ингумация 1; могила 165.1904 г., ингумация 4; могила176.1904 г., ингумация 1; Танаис, погр 10.1981 г.) (Рис. 1, 2, 3). Впрочем, металличе-ские зеркала и золотые аппликации являются неотъемлемой частью княжеского уборагоризонта Унтерзибенбрунн во всей зоне его распространения, от Пиренеев до Кавка-за. Вероятно, что под тем же понтийским влиянием в княжеских женских могилахгуннского времени, в том числе и в погребении Мухино, появляются браслеты с зоо-морфными окончаниями, являющиеся, скорее всего, варварской переработкой поздне-римских браслетов.
«Княжеское» женское погребение Мухино на Верхнем Дону существенно измени-ло наши представления о географии распространения престижной культуры типа
Рис. 2. Находки из «княжеского» погребения у г. Магас(по: Кодзоеву, 2001; 2006)
1 Похожий костюм распространялся у различных народов (готы, герулы, гепиды, аланы и т.д.),он отражает гетерогенный характер правящих варварских элит гуннского времени (Мастыкова, Казан-ский, 2005; Mastykova, Kazanski, 2006).
— 34 — — 34 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Унтерзибенбрунн. Данное захоронение по богатству инвентаря не уступает известнымцентрально- и западноевропейским княжеским находкам. Подобные могилы маркиру-ют некие центры власти «варварских» предгосударственных образований и показываютсуществование общей иерархической системы у территориально удаленных друг отдруга варварских социумов. Последнее обстоятельство позволяет рассматривать княже-ские находки гуннского времени в рамках единой системы.
ЛИТЕРАТУРА
Земцов Г.Л., 2003. Миграционные потоки III–V вв. н. э. и Верхнедонской регион (напримере поселения Мухино 2) // Контактные зоны Евразии на рубеже эпох. Са-мара.
Мастыкова А.В., Казанский М.М., 2005. О происхождении «княжеского» женскогокостюма варваров гуннского времени (горизонт Унтерзибенбрунн) // II Городцов-
ские чтения: Мат. науч. конф., посвящ. 100-летию деятельности В.А. Городцова вГИМ. Апрель 2003 г. (Тр. ГИМ. Вып. 145). М.
Mastykova A., Kazanski M., 2006. A propos des Alains en Occident à l’époque des GrandesMigrations: le costume à appliques en or // Gallia e Hispania en el contexto de lapresencia ‘germánica’ (ss.V–VII): Balance y Perspectivas: Actas de la Mesa Redondahispano-francesca celebrada en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y MuseoArqueológico Regional de la Comunidad de Madrid/ Oxford. (BAR InternationalSeries 1534).
В. А. Нюшков Сухум, Абхазия
ВСАДНИЧЕСКОЕ СОСЛОВИЕ У АПСИЛОВВ РАННЕВИЗАНТИЙСКУЮ ЭПОХУ
1. Отличительным признаком для обществ, вступивших в V–VI вв. в стадию рас-пада, большесемейных общин, как правило, являлась военная организация. Если гово-рить об апсилийском обществе, то оно, при ситуации найденного довольного большогоколичества оружия и погребений воинов при всей его милитаризации, как это было ужепоказано недавними исследованиями М.М. Казанского и А.В. Мастыковой (2008), былоне столь воинственным, как может показаться.
Рис. 1. Местоположение поселения Мухино-2
1 – Мухино-2; 2 – Танаис; 3 – Боспор/Керчь
Рис. 2. Вещи из погребения Мухино (по: Земцов, 2003)
— 35 — — 35 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Унтерзибенбрунн. Данное захоронение по богатству инвентаря не уступает известнымцентрально- и западноевропейским княжеским находкам. Подобные могилы маркиру-ют некие центры власти «варварских» предгосударственных образований и показываютсуществование общей иерархической системы у территориально удаленных друг отдруга варварских социумов. Последнее обстоятельство позволяет рассматривать княже-ские находки гуннского времени в рамках единой системы.
ЛИТЕРАТУРА
Земцов Г.Л., 2003. Миграционные потоки III–V вв. н. э. и Верхнедонской регион (напримере поселения Мухино 2) // Контактные зоны Евразии на рубеже эпох. Са-мара.
Мастыкова А.В., Казанский М.М., 2005. О происхождении «княжеского» женскогокостюма варваров гуннского времени (горизонт Унтерзибенбрунн) // II Городцов-
ские чтения: Мат. науч. конф., посвящ. 100-летию деятельности В.А. Городцова вГИМ. Апрель 2003 г. (Тр. ГИМ. Вып. 145). М.
Mastykova A., Kazanski M., 2006. A propos des Alains en Occident à l’époque des GrandesMigrations: le costume à appliques en or // Gallia e Hispania en el contexto de lapresencia ‘germánica’ (ss.V–VII): Balance y Perspectivas: Actas de la Mesa Redondahispano-francesca celebrada en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y MuseoArqueológico Regional de la Comunidad de Madrid/ Oxford. (BAR InternationalSeries 1534).
В. А. Нюшков Сухум, Абхазия
ВСАДНИЧЕСКОЕ СОСЛОВИЕ У АПСИЛОВВ РАННЕВИЗАНТИЙСКУЮ ЭПОХУ
1. Отличительным признаком для обществ, вступивших в V–VI вв. в стадию рас-пада, большесемейных общин, как правило, являлась военная организация. Если гово-рить об апсилийском обществе, то оно, при ситуации найденного довольного большогоколичества оружия и погребений воинов при всей его милитаризации, как это было ужепоказано недавними исследованиями М.М. Казанского и А.В. Мастыковой (2008), былоне столь воинственным, как может показаться.
Рис. 1. Местоположение поселения Мухино-2
1 – Мухино-2; 2 – Танаис; 3 – Боспор/Керчь
Рис. 2. Вещи из погребения Мухино (по: Земцов, 2003)
— 36 — — 36 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
2. Между тем с середины I тыс. н.э. (V–VI вв.) в военной среде апсилов1 идёт про-цесс формирования, вслед за «военной демократией» нового типа военной организа-ции управления – «военной иерархии». Во главе социума стоит военный предводи-тель (ар рпыза) и верная ему дружина2, состоящая, судя по выявленному археологиче-скому цебельдинскому материалу из могил апсилов, из знатных воинов (аамста),представлявших всадническое сословие.
3. В этой связи особый интерес вызывают конские погребения, которые былиобнаружены на месте исторического расселения апсилов (в Цебельдинской долинеРеспублики Абхазия) (Рис. 1). В хронологическом плане по времени они большеотносятся к V–VI вв., т.е., по-видимому, к расцвету военно-всаднического быта. Изних наиболее изученными являются следующие захоронения 313 (3), 376 (1), 377 (1а),383 (6) некрополей Цибилиум-1 и Цибилиум-2 383 (Воронов, 2003).
4. По существующим археологическим признакам, определяющим дружинно-всадническое сословие, как: 1. вооружение, 2. снаряжение всадника, 3. снаряжение,сопровождающее захоронение боевых коней (упряжь, шпоры, плети и т.д.) (Армарчук,2004), можно судить, что в Апсилии, в её социальной структуре существовал особыйстрат всадников, составлявших передовую часть апсилийского ополчения. Поставкаскакунов, судя по найденной конской сбруе, имевшей северокавказский характер,совершалась путём регулярного перегона с Северного Кавказа, пополняя тем самымконские ресурсы Апсилии, «за счёт внедрения в местную дружинную знатьсеверокавказских всадников» (Бгажба, Воронов, 1987).
5. Появление всаднического сословия у апсилов могло отчасти быть связано ссуществовавшими контактами с кочевниками, что, в свою очередь, оформило и самукак таковую дружинную знать, составлявшую, без сомнения, привилегированнуюэлитную прослойку общества в Апсилии (Казанский Мастыкова, 2009) и состоявшуюиз местного населения – апсилов.
ЛИТЕРАТУРА
Армарчук Е.А., 2004. Археологические признаки дружинного сословия по материаламмогильников Северо-Восточного Причерноморья XI–XIII вв. // XXIII Крупнов-ские чтения. М.
Бгажба О.Х., Воронов Ю.Н., 1987. Два всаднических захоронения апсилов из Цебель-ды // Труды АГУ. Т. 6. Сухуми.
Воронов Ю.Н., 2003. Могилы апсилов. Пущино.Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2008. Эволюция некрополя Цибилиум (II–VII вв.) //
Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах СеверногоКавказа и сопредельных территорий. XXV «Крупновский чтения». Владикавказ.
Казанский М.М, Мастыкова А.В., 2009. Погребения коней в Абхазии в позднеримскоевремя и в эпоху Великого переселения народов // Пятая кубанская археологиче-ская конференция. Материалы конференции. Краснодар.
О.А. РадюшМосква, Россия
«КНЯЖЕСКИЕ» ПОГРЕБЕНИЯ V ВЕКАВ ВЕРХНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ (КУРСКОЕ ПОСЕМЬЕ):
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАХОДКИ
На территории современной Курской области России, начиная с 1849 года, из-вестны три случая обнаружения уникальных «кладов», связанных с элитами периодаконца позднеримского времени – раннего этапа переселения народов (конец IV – пер-вая половина V в.). Подобное скопление находок, до сих пор остается уникальным длялесостепной зоны Юго-Восточной Европы.
Первая находка сделана в 1849 г. в Обоянском уезде (ныне Медвенский район) вВинном логу д. Паники у истоков р. Полная, левого притока Сейма. Описаны и сохра-нились лишь позолоченная медная гривна, золотые тиснёные нашивки на одежду истеклянная чаша с гравировкой.
В 1927 г. найден т.н. 1-й Старосуджанский клад – в д. Большой Каменец, у исто-ков р. Суджа – правого притока р. Псёл. Случайно на склоне берега ручья были най-дены: два золотых браслета, золотая цепь, золотая гривна. Позднее было установлено,
Рис. 1. Апсилия и её центр Цебельдинская долина в V – начале VI в.
1 Апсилы – одна из древнеабхазских этнообщностей (абасги, саниги, мисимиане), существовав-шая в позднеантичную и ранневизантийскую эпохи.
2 Если провести ретроспективный анализ, то можно сказать, что она была близка к ашнакума(телохранители владетеля в XIX веке).
— 37 — — 37 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
2. Между тем с середины I тыс. н.э. (V–VI вв.) в военной среде апсилов1 идёт про-цесс формирования, вслед за «военной демократией» нового типа военной организа-ции управления – «военной иерархии». Во главе социума стоит военный предводи-тель (ар рпыза) и верная ему дружина2, состоящая, судя по выявленному археологиче-скому цебельдинскому материалу из могил апсилов, из знатных воинов (аамста),представлявших всадническое сословие.
3. В этой связи особый интерес вызывают конские погребения, которые былиобнаружены на месте исторического расселения апсилов (в Цебельдинской долинеРеспублики Абхазия) (Рис. 1). В хронологическом плане по времени они большеотносятся к V–VI вв., т.е., по-видимому, к расцвету военно-всаднического быта. Изних наиболее изученными являются следующие захоронения 313 (3), 376 (1), 377 (1а),383 (6) некрополей Цибилиум-1 и Цибилиум-2 383 (Воронов, 2003).
4. По существующим археологическим признакам, определяющим дружинно-всадническое сословие, как: 1. вооружение, 2. снаряжение всадника, 3. снаряжение,сопровождающее захоронение боевых коней (упряжь, шпоры, плети и т.д.) (Армарчук,2004), можно судить, что в Апсилии, в её социальной структуре существовал особыйстрат всадников, составлявших передовую часть апсилийского ополчения. Поставкаскакунов, судя по найденной конской сбруе, имевшей северокавказский характер,совершалась путём регулярного перегона с Северного Кавказа, пополняя тем самымконские ресурсы Апсилии, «за счёт внедрения в местную дружинную знатьсеверокавказских всадников» (Бгажба, Воронов, 1987).
5. Появление всаднического сословия у апсилов могло отчасти быть связано ссуществовавшими контактами с кочевниками, что, в свою очередь, оформило и самукак таковую дружинную знать, составлявшую, без сомнения, привилегированнуюэлитную прослойку общества в Апсилии (Казанский Мастыкова, 2009) и состоявшуюиз местного населения – апсилов.
ЛИТЕРАТУРА
Армарчук Е.А., 2004. Археологические признаки дружинного сословия по материаламмогильников Северо-Восточного Причерноморья XI–XIII вв. // XXIII Крупнов-ские чтения. М.
Бгажба О.Х., Воронов Ю.Н., 1987. Два всаднических захоронения апсилов из Цебель-ды // Труды АГУ. Т. 6. Сухуми.
Воронов Ю.Н., 2003. Могилы апсилов. Пущино.Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2008. Эволюция некрополя Цибилиум (II–VII вв.) //
Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах СеверногоКавказа и сопредельных территорий. XXV «Крупновский чтения». Владикавказ.
Казанский М.М, Мастыкова А.В., 2009. Погребения коней в Абхазии в позднеримскоевремя и в эпоху Великого переселения народов // Пятая кубанская археологиче-ская конференция. Материалы конференции. Краснодар.
О.А. РадюшМосква, Россия
«КНЯЖЕСКИЕ» ПОГРЕБЕНИЯ V ВЕКАВ ВЕРХНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ (КУРСКОЕ ПОСЕМЬЕ):
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАХОДКИ
На территории современной Курской области России, начиная с 1849 года, из-вестны три случая обнаружения уникальных «кладов», связанных с элитами периодаконца позднеримского времени – раннего этапа переселения народов (конец IV – пер-вая половина V в.). Подобное скопление находок, до сих пор остается уникальным длялесостепной зоны Юго-Восточной Европы.
Первая находка сделана в 1849 г. в Обоянском уезде (ныне Медвенский район) вВинном логу д. Паники у истоков р. Полная, левого притока Сейма. Описаны и сохра-нились лишь позолоченная медная гривна, золотые тиснёные нашивки на одежду истеклянная чаша с гравировкой.
В 1927 г. найден т.н. 1-й Старосуджанский клад – в д. Большой Каменец, у исто-ков р. Суджа – правого притока р. Псёл. Случайно на склоне берега ручья были най-дены: два золотых браслета, золотая цепь, золотая гривна. Позднее было установлено,
Рис. 1. Апсилия и её центр Цебельдинская долина в V – начале VI в.
1 Апсилы – одна из древнеабхазских этнообщностей (абасги, саниги, мисимиане), существовав-шая в позднеантичную и ранневизантийскую эпохи.
2 Если провести ретроспективный анализ, то можно сказать, что она была близка к ашнакума(телохранители владетеля в XIX веке).
— 38 — — 38 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
что в 1917–1919 гг. на территории деревни также находили древние вещи, при этомони происходили из погребения в каменном склепе, совершенного на берегу того жеручья. Были обнаружены: два золотых браслета, золотая гривна, серебряный кув-шин, бронзовое ведро, золотые тиснёные нашивки, стеклянные блюдо и чаша, золотойперстень, серебряный фалар.
В 2010 г. стала известна находка у д. Волниковка Фатежского района, у истокар. Усожа, впадающей в р. Свапа, правый приток р. Сейм. Находки были сделаны вовремя строительных работ и по всей видимости происходили из погребения. Онивключали: два портупейных набора, один – серебряный, второй – медный позолочен-ный с пряжками, инкрустированными в стиле “клуазоне”, длинный и короткий мечи вножнах, украшенных золотыми обкладками с инкрустацией и гарнитурой, удила и уз-дечный набор также украшенный вставками сердолика в гнёздах, небольшие фрагмен-ты стеклянного сосуда. Проведенные археологические работы на месте находки непозволили выявить остатки погребального сооружения, возможно полностью разру-шенного при строительстве в конце 1980-х гг.
На данный момент единственной монографической публикацией курских находокостаётся работа Л.А. Мацулевича 1934 г. В связи с новыми находками было решено
обратиться к архивным материалам для установления подробностей обнаружения ве-щей в Б. Каменце. В архивах Л.А. Мацулевича и В.А. Городцова удалось уточнить об-стоятельства их обнаружения, состав находок, некоторые неосвещённые в моногра-фии подробности.
В настоящее время существует высокая степень вероятности, что все три находкисвязаны с погребениями знати, близких хронологически, но различающихся по стату-су и возможно погребальному обряду. Находки имеют прямые аналогии среди погре-бений варварской знати, в первую очередь на Боспоре и Кавказе, а также и в Цен-тральной Европе, демонстрируя интернациональный характер. Уровень находок по-зволяет выделить «погребение» в Б. Каменце как наиболее высокое по рангу. Исходяиз имеющихся данных не исключено, что находка 1927 года, может относиться к захо-ронению, обнаруженному еще в революционные годы.
Картирование находок указывает на их исключительную топографическую связьс истоками крупных ручьев, при этом выходящих на водоразделы речных систем.Возможна также их привязанность к сухопутным водораздельным дорогам, что под-тверждается во всех трёх случаях (Рис. 1). Все они обнаружены в глубоких оврагах.Археологическая ситуация, фиксируемая в Посеймье, демонстрирует нахождение на-ходок из Б. Каменца и Обояни в зоне к югу от Сейма, фактически в междуречье Сеймаи Псла, плотно заселённой в IV в. черняховскими посёлками, закончившими своё су-ществование к концу столетия. Ближайшие поселения находятся в 1–2 км от местанаходок. Волниковка расположена в зоне к северу от Сейма, связанной с локальнойгруппой поселений, датируемых концом IV – первой половиной V в., территорией ра-нее не заселённой. Прямая связь погребений знати с поселениями черняховской культу-ры достоверно не подтверждена, однако хронологически и территориально они несо-мненно связаны.
С. Н. СавенкоПятигорск, Россия
ЕЩЕ ОДНО ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АЛАНСКОЙСОЦИАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ НАЧАЛА РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ИЗ КИСЛОВОДСКОЙ КОТЛОВИНЫ(ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ А.П. РУНИЧА)
Кисловодская котловина – особый природно-географический и эколого-культурный микрорегион Северного Кавказа, известный археологам в связи с наличи-ем ярких и ценных комплексов и артефактов различных исторических эпох, включаяэпоху Великого переселения народов. Первым стал вводить в научный оборот богатыекомплексы V–VI вв. н.э. окрестностей Кисловодска А.П. Рунич (1911–1986). Они бы-ли выявлены в могильниках: Лермонтовская Скала 2 (Рунич, 1976. С. 256–266), Мок-рая балка 1(Афанасьев, Рунич, 2001. С. 228–231. Рис. 150–151), склеповый Кугуль-ский 2 (Рунич, 1979. С. 242. Рис. 7), Острый мыс 1 (Абрамова, 1997. С. 43–44. Рис. 28–29) и др. Эти материалы, наряду с находками других исследователей, позволили отне-
Рис. 1. Карта «княжеских» находок в бассейнах Сейма и Вернего Псла
1 – Паники, 2 – Большой Каменец, 3 – Волниковкапрерывистая линия – водораздельные пути, точки – поселения черняховского времени (IV –
нач. V в.), звёздочки – монетные находки и клады римских монет
— 39 — — 39 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
что в 1917–1919 гг. на территории деревни также находили древние вещи, при этомони происходили из погребения в каменном склепе, совершенного на берегу того жеручья. Были обнаружены: два золотых браслета, золотая гривна, серебряный кув-шин, бронзовое ведро, золотые тиснёные нашивки, стеклянные блюдо и чаша, золотойперстень, серебряный фалар.
В 2010 г. стала известна находка у д. Волниковка Фатежского района, у истокар. Усожа, впадающей в р. Свапа, правый приток р. Сейм. Находки были сделаны вовремя строительных работ и по всей видимости происходили из погребения. Онивключали: два портупейных набора, один – серебряный, второй – медный позолочен-ный с пряжками, инкрустированными в стиле “клуазоне”, длинный и короткий мечи вножнах, украшенных золотыми обкладками с инкрустацией и гарнитурой, удила и уз-дечный набор также украшенный вставками сердолика в гнёздах, небольшие фрагмен-ты стеклянного сосуда. Проведенные археологические работы на месте находки непозволили выявить остатки погребального сооружения, возможно полностью разру-шенного при строительстве в конце 1980-х гг.
На данный момент единственной монографической публикацией курских находокостаётся работа Л.А. Мацулевича 1934 г. В связи с новыми находками было решено
обратиться к архивным материалам для установления подробностей обнаружения ве-щей в Б. Каменце. В архивах Л.А. Мацулевича и В.А. Городцова удалось уточнить об-стоятельства их обнаружения, состав находок, некоторые неосвещённые в моногра-фии подробности.
В настоящее время существует высокая степень вероятности, что все три находкисвязаны с погребениями знати, близких хронологически, но различающихся по стату-су и возможно погребальному обряду. Находки имеют прямые аналогии среди погре-бений варварской знати, в первую очередь на Боспоре и Кавказе, а также и в Цен-тральной Европе, демонстрируя интернациональный характер. Уровень находок по-зволяет выделить «погребение» в Б. Каменце как наиболее высокое по рангу. Исходяиз имеющихся данных не исключено, что находка 1927 года, может относиться к захо-ронению, обнаруженному еще в революционные годы.
Картирование находок указывает на их исключительную топографическую связьс истоками крупных ручьев, при этом выходящих на водоразделы речных систем.Возможна также их привязанность к сухопутным водораздельным дорогам, что под-тверждается во всех трёх случаях (Рис. 1). Все они обнаружены в глубоких оврагах.Археологическая ситуация, фиксируемая в Посеймье, демонстрирует нахождение на-ходок из Б. Каменца и Обояни в зоне к югу от Сейма, фактически в междуречье Сеймаи Псла, плотно заселённой в IV в. черняховскими посёлками, закончившими своё су-ществование к концу столетия. Ближайшие поселения находятся в 1–2 км от местанаходок. Волниковка расположена в зоне к северу от Сейма, связанной с локальнойгруппой поселений, датируемых концом IV – первой половиной V в., территорией ра-нее не заселённой. Прямая связь погребений знати с поселениями черняховской культу-ры достоверно не подтверждена, однако хронологически и территориально они несо-мненно связаны.
С. Н. СавенкоПятигорск, Россия
ЕЩЕ ОДНО ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АЛАНСКОЙСОЦИАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ НАЧАЛА РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ИЗ КИСЛОВОДСКОЙ КОТЛОВИНЫ(ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ А.П. РУНИЧА)
Кисловодская котловина – особый природно-географический и эколого-культурный микрорегион Северного Кавказа, известный археологам в связи с наличи-ем ярких и ценных комплексов и артефактов различных исторических эпох, включаяэпоху Великого переселения народов. Первым стал вводить в научный оборот богатыекомплексы V–VI вв. н.э. окрестностей Кисловодска А.П. Рунич (1911–1986). Они бы-ли выявлены в могильниках: Лермонтовская Скала 2 (Рунич, 1976. С. 256–266), Мок-рая балка 1(Афанасьев, Рунич, 2001. С. 228–231. Рис. 150–151), склеповый Кугуль-ский 2 (Рунич, 1979. С. 242. Рис. 7), Острый мыс 1 (Абрамова, 1997. С. 43–44. Рис. 28–29) и др. Эти материалы, наряду с находками других исследователей, позволили отне-
Рис. 1. Карта «княжеских» находок в бассейнах Сейма и Вернего Псла
1 – Паники, 2 – Большой Каменец, 3 – Волниковкапрерывистая линия – водораздельные пути, точки – поселения черняховского времени (IV –
нач. V в.), звёздочки – монетные находки и клады римских монет
— 40 — — 40 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
сти район Кисловодска к «центрам власти» рассматриваемого периода (Казанский,Мастыкова, 2001. С. 139–161).
Во время подготовки конференции, посвященной 100-летию А.П. Рунича(Пятигорский краеведческий музей, 2011), очередной раз изучались архивы и просмат-ривались коллекции археолога-краеведа, хранящиеся в музеях Пятигорска, Кисловодскаи Ставрополя. Среди этих материалов имеются данные, не вошедшие в отчеты. Пред-ставлению и интерпретации одного из них – № 1(8) из могильника Березовский 2, обла-дающего показателями элитности, посвящен наш доклад.
Захоронение находилось в глубокой (378 см) разрушенной катакомбе, вырублен-ной в плотной мергелистой глине. В камере выше средних, размеров (233×145×75 см)расчищены останки 4-х погребенных, лежавших вытянуто на спине (ЗЗС): мужчины,маленького (до 2–3-х лет) ребенка – девочки (?), женщины и подростка, возможно,юноши. Смещение скелетов не отмечено. Не выявлялись и дополнительные элементыобряда – подстилки, подсыпки.
Первым от входа был мужчина-воин с длинным мечом с инкрустированнымцветными стеклами перекрестьем. Он лежал вдоль левой руки мужчины, перекрываякостяк ребенка. Ножны частично покрывались серебряной с позолотой фольгой, на-вершие рукояти – с бронзовой обоймой. На поясе – крупная серебряная пряжка совставками из альмандинов на щитке. Две серебряных обувных пряжки – у берцовыхкостей. В ногах располагался медный (бронзовый) клепаный котел с железной дуж-кой и ушками и костями барана или козы внутри. В погребальный набор входилитакже: керамическая кружка с умбоновидным орнаментом, железные пружинныеножницы, предмет из двух соединенных бронзовых трубочек, мелкие предметы изсеребра.
На груди ребенка были бронзовая семилепестковая брошь с желтыми стеклянны-ми вставками и серебряная фибула. Женский костяк сопровождался: серебряной ин-крустированной пряжкой, дисковидным бронзовым украшением с красными стеклян-ными вставкам, зеркалом, туалетным набором, двумя серебряными фибулами, желез-ными округлым в сечении витым штырем (?), ножом, двумя наконечниками стрел,кольцами и обильным набором разнообразных бус из разноцветного стекла, янтаря,сурьмы (?), раковин – аммонитов. На четвертом костяке была серебряная фибула,бронзовая пряжка и колечко. Ряд мелких предметов находились выше пола, частичнов кротовьих норах.
Комплекс включает ряд статусных и престижных предметов: меч, бронзовый ко-тел, детали костюма. По уровню богатства он уступает наборам типа комплекса ката-комбы 10 могильника Лермонтовская Скала № 2, но явно выделяется из числа другихзахоронений. Применение кластерного анализа позволило Д.С. Коробову установить,что бронзовые котлы по уровню престижности шли на втором месте после привозныхстеклянных сосудов (Коробов, 2003. С. 232–242). К числу статусных относились и ме-чи средиземноморского или ранневизантийского типа (Казанский, 2008. С. 748). Обра-щают на себя внимание семилепестковое украшение, инкрустированные пряжки, об-разцы бус (Мастыкова, 2009) и др.
Данный комплекс подтверждает мнение об особом месте Кисловодской котлови-ны в социально-политической пространстве северокавказского региона в эпоху Вели-кого переселения народов как центра власти, социальной иерархии и всадническо-княжеской моды в погребальной обрядности.
ЛИТЕРАТУРА
Абрамова М.П., 1997. Ранние аланы Северного Кавказа III–V вв.н.э. М.
Афанасьев Г.Е., Рунич А.П., 2001. Мокрая Балка. Выпуск 1. Дневник раскопок. М.Казанский М.М., 2008. Ранневизантийские парадные мечи на Северном Кавказе и в
Северо-Восточном Причерноморье // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Выпуск VIII. Крупновские чтения.1971–2006. М., Ставрополь.
Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2001. Центры власти и торговые пути в ЗападнойАлании в V–VI вв. // Северный Кавказ: историко-археологические очерки и замет-ки. Материалы и исследования по археологии России. Вып. 3. М.
Коробов Д.С., 2003. Социальная организация алан Северного Кавказа IV–IX вв. М.Мастыкова А.В., 2009. Женский костюм центрального и западного Предкавказья в
конце IV – середине VI в. н.э. М.Рунич А.П., 1976. Захоронение вождя эпохи раннего средневековья из Кисловодской
котловины // Советская археология. № 3.
Рунич А.П., 1979. Раннесредневековые склепы Пятигорья // Советская археология. № 4.
И.А. СапрыкинаМосква, Россия
ТЕХНИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВМЕТАЛЛА ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ
В КОНТЕКСТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «МАРКЕРОВ СТАТУСНОСТИ»
Одним из основных направлений современных исследований археологическихизделий из золота (шире – из драгоценного металла) является определение источниковпоступления металла и центров производства. Внимание к этой проблематике в зару-бежной археологии столь высоко, что значительный объем данных, накопленный бо-лее чем за столетнюю историю исследований, позволил достоверно реконструироватьраннюю историю добычи и обработки этого металла, в частности, для Европы(результаты этих исследований опубликованы, к примеру, в: Prehistoric Gold inEurope…, 1994; The Art of the Greek Goldsmith, 1998; The Art of the Early MedievalGoldsmith, 2006; и др.). Из отечественных исследований, посвященных проблеме опре-деления источников добычи золота в древности, стоит указать публикацию, посвящен-ную золотым изделиям Южного Урала в контексте золотоносных руд этого региона(Зайков и др., 2012).
В современных методиках исследования изделий из золота отмечается необхо-димость проведения анализа химического состава металла несколькими методами с
— 41 — — 41 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
сти район Кисловодска к «центрам власти» рассматриваемого периода (Казанский,Мастыкова, 2001. С. 139–161).
Во время подготовки конференции, посвященной 100-летию А.П. Рунича(Пятигорский краеведческий музей, 2011), очередной раз изучались архивы и просмат-ривались коллекции археолога-краеведа, хранящиеся в музеях Пятигорска, Кисловодскаи Ставрополя. Среди этих материалов имеются данные, не вошедшие в отчеты. Пред-ставлению и интерпретации одного из них – № 1(8) из могильника Березовский 2, обла-дающего показателями элитности, посвящен наш доклад.
Захоронение находилось в глубокой (378 см) разрушенной катакомбе, вырублен-ной в плотной мергелистой глине. В камере выше средних, размеров (233×145×75 см)расчищены останки 4-х погребенных, лежавших вытянуто на спине (ЗЗС): мужчины,маленького (до 2–3-х лет) ребенка – девочки (?), женщины и подростка, возможно,юноши. Смещение скелетов не отмечено. Не выявлялись и дополнительные элементыобряда – подстилки, подсыпки.
Первым от входа был мужчина-воин с длинным мечом с инкрустированнымцветными стеклами перекрестьем. Он лежал вдоль левой руки мужчины, перекрываякостяк ребенка. Ножны частично покрывались серебряной с позолотой фольгой, на-вершие рукояти – с бронзовой обоймой. На поясе – крупная серебряная пряжка совставками из альмандинов на щитке. Две серебряных обувных пряжки – у берцовыхкостей. В ногах располагался медный (бронзовый) клепаный котел с железной дуж-кой и ушками и костями барана или козы внутри. В погребальный набор входилитакже: керамическая кружка с умбоновидным орнаментом, железные пружинныеножницы, предмет из двух соединенных бронзовых трубочек, мелкие предметы изсеребра.
На груди ребенка были бронзовая семилепестковая брошь с желтыми стеклянны-ми вставками и серебряная фибула. Женский костяк сопровождался: серебряной ин-крустированной пряжкой, дисковидным бронзовым украшением с красными стеклян-ными вставкам, зеркалом, туалетным набором, двумя серебряными фибулами, желез-ными округлым в сечении витым штырем (?), ножом, двумя наконечниками стрел,кольцами и обильным набором разнообразных бус из разноцветного стекла, янтаря,сурьмы (?), раковин – аммонитов. На четвертом костяке была серебряная фибула,бронзовая пряжка и колечко. Ряд мелких предметов находились выше пола, частичнов кротовьих норах.
Комплекс включает ряд статусных и престижных предметов: меч, бронзовый ко-тел, детали костюма. По уровню богатства он уступает наборам типа комплекса ката-комбы 10 могильника Лермонтовская Скала № 2, но явно выделяется из числа другихзахоронений. Применение кластерного анализа позволило Д.С. Коробову установить,что бронзовые котлы по уровню престижности шли на втором месте после привозныхстеклянных сосудов (Коробов, 2003. С. 232–242). К числу статусных относились и ме-чи средиземноморского или ранневизантийского типа (Казанский, 2008. С. 748). Обра-щают на себя внимание семилепестковое украшение, инкрустированные пряжки, об-разцы бус (Мастыкова, 2009) и др.
Данный комплекс подтверждает мнение об особом месте Кисловодской котлови-ны в социально-политической пространстве северокавказского региона в эпоху Вели-кого переселения народов как центра власти, социальной иерархии и всадническо-княжеской моды в погребальной обрядности.
ЛИТЕРАТУРА
Абрамова М.П., 1997. Ранние аланы Северного Кавказа III–V вв.н.э. М.
Афанасьев Г.Е., Рунич А.П., 2001. Мокрая Балка. Выпуск 1. Дневник раскопок. М.Казанский М.М., 2008. Ранневизантийские парадные мечи на Северном Кавказе и в
Северо-Восточном Причерноморье // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Выпуск VIII. Крупновские чтения.1971–2006. М., Ставрополь.
Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2001. Центры власти и торговые пути в ЗападнойАлании в V–VI вв. // Северный Кавказ: историко-археологические очерки и замет-ки. Материалы и исследования по археологии России. Вып. 3. М.
Коробов Д.С., 2003. Социальная организация алан Северного Кавказа IV–IX вв. М.Мастыкова А.В., 2009. Женский костюм центрального и западного Предкавказья в
конце IV – середине VI в. н.э. М.Рунич А.П., 1976. Захоронение вождя эпохи раннего средневековья из Кисловодской
котловины // Советская археология. № 3.
Рунич А.П., 1979. Раннесредневековые склепы Пятигорья // Советская археология. № 4.
И.А. СапрыкинаМосква, Россия
ТЕХНИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВМЕТАЛЛА ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ
В КОНТЕКСТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «МАРКЕРОВ СТАТУСНОСТИ»
Одним из основных направлений современных исследований археологическихизделий из золота (шире – из драгоценного металла) является определение источниковпоступления металла и центров производства. Внимание к этой проблематике в зару-бежной археологии столь высоко, что значительный объем данных, накопленный бо-лее чем за столетнюю историю исследований, позволил достоверно реконструироватьраннюю историю добычи и обработки этого металла, в частности, для Европы(результаты этих исследований опубликованы, к примеру, в: Prehistoric Gold inEurope…, 1994; The Art of the Greek Goldsmith, 1998; The Art of the Early MedievalGoldsmith, 2006; и др.). Из отечественных исследований, посвященных проблеме опре-деления источников добычи золота в древности, стоит указать публикацию, посвящен-ную золотым изделиям Южного Урала в контексте золотоносных руд этого региона(Зайков и др., 2012).
В современных методиках исследования изделий из золота отмечается необхо-димость проведения анализа химического состава металла несколькими методами с
— 42 — — 42 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
тем, чтобы получить данные по содержанию основных компонентов (Au, Ag, Cu идр.) как на поверхности, так и в объеме образца, т.к. содержание их варьируется(Corti, 2001. P. 20–29; Gunnar, 1985). Известно, что содержание серебра в золоте (какв натуральном, так и в сплавах) отличается сильной вариабельностью, причем этозависит как от участков месторождения, из которого был получен драгоценный ме-талл, так и от участков проведения собственно анализа, зависящего как от участковрасположения отдельных зерен, так и групп зерен золота, в пределах которых содер-жание серебра также варьируется (Петровская, 1993. С. 9). Кроме того, серебро в зо-лоте и в золотых сплавах обладает способностью к диффузии и «выпадению» на по-верхность образца, что естественно повышает его концентрацию при анализе, к при-меру, методом РФА (Dowben et al., 1987; Centeno et al., 2000; Wanhill, 2003). Эта осо-бенность золотых сплавов с серебром была известна уже в древности: так, с V в. дон.э. золото рафинировалось, чтобы обеспечить стабильность монетной системы(Gänsicke et al., 2000. Р. 76). Кроме того, золото с малым количеством примесей до-вольно редко встречается в природе, а набор примесей может зависеть от типа ме-сторождения; соответственно, фиксация полного набора микропримесей позволяет вдальнейшем проводить геохимическую привязку золота к конкретному источнику(Петровская, 1993. С. 38–42).
Однако проблема исследования золотых изделий заключается не только в реше-нии общих вопросов исторических реконструкций, в частности, для ранних этаповразвития металлообработки. Исследования техники изготовления и химического со-става металла золотых изделий показывают, что эти данные могут быть привлечены, втом числе, для решения частных вопросов – к примеру, для разработки вопроса трак-товки золотых изделий как однозначно понимаемых «маркеров статусности», проведе-ния экспертизы в сфере аутентификации древних золотых изделий и др. В то же вре-мя, увеличение объема проводимых анализов показывает как перспективность, так исложность исследования золотых изделий, особенно – в плане интерпретации полу-ченных данных.
Так, исследование золотой обкладки рукояти ножа из погребения Мухино(Верхний Дон, вторая четверть V в. н.э.) показало, что для изготовления фольги дляобкладки был использован 14-каратный сплав Ag-Au-Cu, технологически сложныйдля обработки давлением (Saprykina et al., 2010). Анализ других золотых изделий изэтого погребения показал, что они были также изготовлены из сплава тройной систе-мы, но разной каратности. Интерпретации полученных данных и сопоставлению их сизвестными для рассматриваемого периода данными посвящен доклад.
ЛИТЕРАТУРА
Зайков В.В., Таиров А.Д., Зайкова Е.В., Котляров В.А., Яблонский Л.Т., 2012. Благород-ные металлы в рудах и древних золотых изделиях Южного Урала. Екатеринбург.
Петровская Н.В., 1993. Золотые самородки. М. «Наука».
The Art of the Greek Goldsmith // Edited by Dyfri Williams. The British Museum Press.1998.
The Art of the Early Medieval Goldsmith // Historical Metallurgy. Vol. 40. P.1. 2006.
Centeno S.A., Schorch D., 2000. The Characterisation of Gold Layer on Copper Artifactsfrom Piura Valley (Peru) in the Early Intermediate Period // Gilded Metals. History,
Technology and Conservation. Edited by Terry Drayman-Weisser. Archetype Publica-tions Ltd. London.
Corti C.W., 2001. Assaying of gold jewellery – choice of technique // (доклад был пред-ставлен на Santa Fe Simposium, США) адрес в сети-Интернет: http://coralsas.eu/DocSpecial/Assay/GT_32_%20Assaying_Au_Jwl_Corti.pdf
Dowben P.A., Miller A.H., Vook R.W., 1987. Surface Segregation from Gold Alloys // GoldBulletin. 20 (3).
Gänsicke S., Newman R., 2000. Gilded Silver from Ancient Nubia // Gilded Metals. History,Technology and Conservation. Edited by Terry Drayman-Weisser. Archetype Publica-tions Ltd. London.
Gunnar H., 1985. Surface Enrichment of Low Gold Alloys // Gold Bulletin. 18 (2).
Prehistoric Gold in Europe: Mines, Metallurgy and Manufacture // Edited by G.Morteaniand J.P. Northover. NATO Science Series E. 1994.
Saprykina I., Teterin A., Mitoyan R., 2010. Gold foil covering of a handle of an iron knifefrom burial 2 of the Hunnic Period cemetery at Mukhino, in the Upper Don area // Ar-cheoSciences, № 7(39), 2009. Rennes.
Wanhill R.J., 2003. Brittle Archaeological Silver: a Fracture Mechanisms and MechanicsAssessment // Archaeometry. Vol. 45. P.4.
И.Г. СеменовМахачкала, Россия
МЕСТО ПРАВИТЕЛЯ ВОСТОЧНОКАВКАЗСКИХ ГУННОВВ ИЕРАРХИИ ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ ГУННОВ
(ПО ДАННЫМ «ИСТОРИИ СТРАНЫ АЛУАНК‛»)
По мнению автора, «росмосоки» «жития кн. Теофила», сохранившегося в составе«Истории страны Алуанк‛» (1. 28–30), идентичны европейским гуннам, а сам кн. Тео-фил являлся правителем восточнокавказских гуннов (honk‛ раннесредневековых ар-мянских источников). Анализ этого источника приводит к выводу о том, что военно-политическое ядро европейских гуннов имело десятичный принцип организации, ха-рактерный для многих степных объединений, и что восточнокавказские гунны не вхо-дили в состав этого ядра, и занимали в государстве европейских гуннов подчиненноеположение.
По мнению автора, упомянутый в источнике набег «росмосоков» на Закавказьеотносится к 441 г. «Царь росмосоков», возглавивший эту атаку, идентичен hЕрану ар-мянского писателя Елишэ и Эрнаху Приска Панийского (у Иордана – Ирник).
— 43 — — 43 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
тем, чтобы получить данные по содержанию основных компонентов (Au, Ag, Cu идр.) как на поверхности, так и в объеме образца, т.к. содержание их варьируется(Corti, 2001. P. 20–29; Gunnar, 1985). Известно, что содержание серебра в золоте (какв натуральном, так и в сплавах) отличается сильной вариабельностью, причем этозависит как от участков месторождения, из которого был получен драгоценный ме-талл, так и от участков проведения собственно анализа, зависящего как от участковрасположения отдельных зерен, так и групп зерен золота, в пределах которых содер-жание серебра также варьируется (Петровская, 1993. С. 9). Кроме того, серебро в зо-лоте и в золотых сплавах обладает способностью к диффузии и «выпадению» на по-верхность образца, что естественно повышает его концентрацию при анализе, к при-меру, методом РФА (Dowben et al., 1987; Centeno et al., 2000; Wanhill, 2003). Эта осо-бенность золотых сплавов с серебром была известна уже в древности: так, с V в. дон.э. золото рафинировалось, чтобы обеспечить стабильность монетной системы(Gänsicke et al., 2000. Р. 76). Кроме того, золото с малым количеством примесей до-вольно редко встречается в природе, а набор примесей может зависеть от типа ме-сторождения; соответственно, фиксация полного набора микропримесей позволяет вдальнейшем проводить геохимическую привязку золота к конкретному источнику(Петровская, 1993. С. 38–42).
Однако проблема исследования золотых изделий заключается не только в реше-нии общих вопросов исторических реконструкций, в частности, для ранних этаповразвития металлообработки. Исследования техники изготовления и химического со-става металла золотых изделий показывают, что эти данные могут быть привлечены, втом числе, для решения частных вопросов – к примеру, для разработки вопроса трак-товки золотых изделий как однозначно понимаемых «маркеров статусности», проведе-ния экспертизы в сфере аутентификации древних золотых изделий и др. В то же вре-мя, увеличение объема проводимых анализов показывает как перспективность, так исложность исследования золотых изделий, особенно – в плане интерпретации полу-ченных данных.
Так, исследование золотой обкладки рукояти ножа из погребения Мухино(Верхний Дон, вторая четверть V в. н.э.) показало, что для изготовления фольги дляобкладки был использован 14-каратный сплав Ag-Au-Cu, технологически сложныйдля обработки давлением (Saprykina et al., 2010). Анализ других золотых изделий изэтого погребения показал, что они были также изготовлены из сплава тройной систе-мы, но разной каратности. Интерпретации полученных данных и сопоставлению их сизвестными для рассматриваемого периода данными посвящен доклад.
ЛИТЕРАТУРА
Зайков В.В., Таиров А.Д., Зайкова Е.В., Котляров В.А., Яблонский Л.Т., 2012. Благород-ные металлы в рудах и древних золотых изделиях Южного Урала. Екатеринбург.
Петровская Н.В., 1993. Золотые самородки. М. «Наука».
The Art of the Greek Goldsmith // Edited by Dyfri Williams. The British Museum Press.1998.
The Art of the Early Medieval Goldsmith // Historical Metallurgy. Vol. 40. P.1. 2006.
Centeno S.A., Schorch D., 2000. The Characterisation of Gold Layer on Copper Artifactsfrom Piura Valley (Peru) in the Early Intermediate Period // Gilded Metals. History,
Technology and Conservation. Edited by Terry Drayman-Weisser. Archetype Publica-tions Ltd. London.
Corti C.W., 2001. Assaying of gold jewellery – choice of technique // (доклад был пред-ставлен на Santa Fe Simposium, США) адрес в сети-Интернет: http://coralsas.eu/DocSpecial/Assay/GT_32_%20Assaying_Au_Jwl_Corti.pdf
Dowben P.A., Miller A.H., Vook R.W., 1987. Surface Segregation from Gold Alloys // GoldBulletin. 20 (3).
Gänsicke S., Newman R., 2000. Gilded Silver from Ancient Nubia // Gilded Metals. History,Technology and Conservation. Edited by Terry Drayman-Weisser. Archetype Publica-tions Ltd. London.
Gunnar H., 1985. Surface Enrichment of Low Gold Alloys // Gold Bulletin. 18 (2).
Prehistoric Gold in Europe: Mines, Metallurgy and Manufacture // Edited by G.Morteaniand J.P. Northover. NATO Science Series E. 1994.
Saprykina I., Teterin A., Mitoyan R., 2010. Gold foil covering of a handle of an iron knifefrom burial 2 of the Hunnic Period cemetery at Mukhino, in the Upper Don area // Ar-cheoSciences, № 7(39), 2009. Rennes.
Wanhill R.J., 2003. Brittle Archaeological Silver: a Fracture Mechanisms and MechanicsAssessment // Archaeometry. Vol. 45. P.4.
И.Г. СеменовМахачкала, Россия
МЕСТО ПРАВИТЕЛЯ ВОСТОЧНОКАВКАЗСКИХ ГУННОВВ ИЕРАРХИИ ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ ГУННОВ
(ПО ДАННЫМ «ИСТОРИИ СТРАНЫ АЛУАНК‛»)
По мнению автора, «росмосоки» «жития кн. Теофила», сохранившегося в составе«Истории страны Алуанк‛» (1. 28–30), идентичны европейским гуннам, а сам кн. Тео-фил являлся правителем восточнокавказских гуннов (honk‛ раннесредневековых ар-мянских источников). Анализ этого источника приводит к выводу о том, что военно-политическое ядро европейских гуннов имело десятичный принцип организации, ха-рактерный для многих степных объединений, и что восточнокавказские гунны не вхо-дили в состав этого ядра, и занимали в государстве европейских гуннов подчиненноеположение.
По мнению автора, упомянутый в источнике набег «росмосоков» на Закавказьеотносится к 441 г. «Царь росмосоков», возглавивший эту атаку, идентичен hЕрану ар-мянского писателя Елишэ и Эрнаху Приска Панийского (у Иордана – Ирник).
— 44 — — 44 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Н.И. Сударев, И.Р. АхмедовМосква, Россия
НОВЫЕ ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ КОНЦА IV –НАЧАЛА V В. Н.Э. НА ТАМАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
В 2012 г. при раскопках юго-восточной части некрополя Фанагории экспедициейИнститута Археологии РАН, под руководством В.Д. Кузнецова и при участии сотруд-ников Южно-Российского Центра археологических исследований были изучены не-сколько погребальных комплексов конца IV – начала V в. В ходе работ были раскопа-ны два участка грунтового некрополя и 5 курганов, относящихся к различным эпохамфункционирования городища Фанагория.1
К захоронениям начала эпохи Великого переселения народов можно отнести6 погребений. Это погр. 38(Р1), а так же погр. 21, 30, 38 (парное), 44, 54(Р2). Все онисовершены по обряду ингумации. Пять погребений – в подпрямоугольных ямах, четы-ре ориентированы на С, одно – на ЮЗ. Еще одно совершено в Г-образной катакомбе,с погребальной ямой, ориентированной по направлению ВЗ. Первые по классифика-ции О.М. Ворошиловой относятся к типам I/1, погр. 30(Р2) с заплечиками вдольдлинных сторон ямы – к типу I/2, сооружения, подобные погр. 44, ею отнесены кземляным склепам – тип V/2А.
Наиболее ранним является погр. 54(Р2), в котором найдены две двучленные под-вязные фибулы с пластинчатыми спинками, располагавшиеся на ключицах, усеченно-биконическая бусина синего стекла. Между коленями найден комплекс украшений:две подвески из раковин, подвеска из клыка кабана, железные коробочка-булла и пла-стинка; в ЮЗ борту были устроены две ниши, в одной из них помещался сероглиня-ный кувшин.
К чуть более позднему времени относится комплекс погр. 38(Р1). Здесь в районепредплечья костяка 2 была найдена двупластинчатая фибула с пятью выступами накаркасе головной пластины, 1 подгруппы по типологии А.К. Амброза; под костяком 1был расчищен железный наконечник стрелы типа 1Аа, согласно классификацииИ.П. Засецкой. Здесь так же найден сероглиный кувшин со сливом. Близкая двупла-стинатая фибула из погр. 5 могильника Сумы-Сад, на Левобережной Украине, отно-сится к гуннскому времени. Фибула 1 подгруппы Амброза, но более поздней модифи-кации, была найдена также и в погр. 30(Р2).
Важны и находки в погр. 38(Р2). Здесь были найдены золотая лунница, бронзовыепроволочные височные кольца, бронзовое зеркало с центральной петлей и рельефныморнаментом, бронзовая пряжка с прямоугольной пластинчатой обоймой, массивнойрамкой и хоботковидным язычком, а так же бронзовый пинцет и два набора ременнойгарнитуры от обуви: небольшие пряжки с массивными рамками, массивными язычка-ми и пластинчатыми обоймами, распределительные кольца с тремя зажимами. Обув-ные наборы обнаружены и в погр. 21(Р2). Пряжки, использованные в составе гарни-тур, характерны для начала гуннского времени, фиксаторы ремней аналогичны наход-
ке из погр. 4 склепа Фанагория-МТФ 1991 г., датируемого второй половиной IV – на-чалом V в. Наконечники ремней, подобные найденным, наиболее широко распростра-нены в начале V в.
В погр. 44(Р2) находок немного – сероглиняный подлощенный кувшин с проло-щенным орнаментом, груболепной горшочек, поясной набор из бронзовых пряжки смассивным язычком и пластинчатая обойма с кольцом. Их облик позволяет датиро-вать это погребение V в.
Погр. 30, 38, 44 располагались в крайней северо-восточной группе захоронений нараскопе 2. Поблизости находилось и погребение 54.
Количество определимых комплексов конца IV – нач. V в. на некрополе Фанагорииневелико. Общее количество погребений IV–V вв. по подсчетам О.М. Ворошиловой ко-леблется от 85 до 104. Некоторые черты погребений – ориентировка на С, сероглинянаяпосуда являются общими для большинства, учтенных ею, погребений кон. IV – нач.V в.К новым для этого памятника ранним типам относятся находки фибул. Ранее были из-вестны три погребения более позднего времени с фибулами на плечах погребенных, вдвух случаях найденных парами. Находки двупластинчатых фибул ранних типов в погр.38(Р1), 30(Р2), а так же пары подвязных фибул и набор амулетов в погр. 54(Р2), подтвер-ждают предположения исследователей о связи этого типа костюма с традициями черня-ховской культуры. Важны и находки полных наборов обувных гарнитур, прослеженныхin situ, а так же других предметов – височных колец, лунницы, зеркала, пинцета и др.
Представленные материалы следует рассматривать в рамках изучения «восточно-германских» и «сармато-аланских» элементов в культуре населения Фанагории, появ-ление которых, связано, вероятно, в том числе и с событиями, сопровождавшее гунн-ское вторжение в Восточную Европу.
И. Н. ХрапуновЛюблин, Польша
О «КНЯЗЬЯХ» И «ВОЖДЯХ» НА ПРИМЕРЕ КРЫМСКИХМОГИЛЬНИКОВ ПОЗДНЕРИМСКОГО ВРЕМЕНИ
1. При попытке реконструировать социальную или имущественную структуру тогоили иного общества по археологическим данным, как правило, легче всего выделяются«княжеские» или «вождеские» погребения, сопровождаемые богатым инвентарем.
2. В крымских предгорьях открыты могильники Курское, Нейзац, Дружное,Перевальное, Озерное III, Красная Заря, Тас-Тепе, Вишневое, Суворово, Инкерманский,Чернореченский, Килен-Балка. Они состоят из склепов, подбойных и грунтовых могил.Могильники использовались во II–IV вв. н.э. и принадлежали одной археологическойкультуре. Ни один из них не связан с поселением. Они оставлены оседавшими на землюсарматами и мигрировавшими с Северного Кавказа предками средневековых алан.
3. Письменные источники о населении, оставившем перечисленные некрополи, от-сутствуют. Поэтому попытки социальной и имущественной стратификации опираютсятолько на археологические данные.
1 Авторы выражают искреннюю благодарность В.Д. Кузнецову за возможность работы с неопуб-ликованными материалами. В работе использованы материалы диссертации О. М. Ворошиловой«Некрополь Фанагории в I в. до н.э. – V в. н.э. как источник по истории населения столицы АзиатскогоБоспора»
— 45 — — 45 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Н.И. Сударев, И.Р. АхмедовМосква, Россия
НОВЫЕ ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ КОНЦА IV –НАЧАЛА V В. Н.Э. НА ТАМАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
В 2012 г. при раскопках юго-восточной части некрополя Фанагории экспедициейИнститута Археологии РАН, под руководством В.Д. Кузнецова и при участии сотруд-ников Южно-Российского Центра археологических исследований были изучены не-сколько погребальных комплексов конца IV – начала V в. В ходе работ были раскопа-ны два участка грунтового некрополя и 5 курганов, относящихся к различным эпохамфункционирования городища Фанагория.1
К захоронениям начала эпохи Великого переселения народов можно отнести6 погребений. Это погр. 38(Р1), а так же погр. 21, 30, 38 (парное), 44, 54(Р2). Все онисовершены по обряду ингумации. Пять погребений – в подпрямоугольных ямах, четы-ре ориентированы на С, одно – на ЮЗ. Еще одно совершено в Г-образной катакомбе,с погребальной ямой, ориентированной по направлению ВЗ. Первые по классифика-ции О.М. Ворошиловой относятся к типам I/1, погр. 30(Р2) с заплечиками вдольдлинных сторон ямы – к типу I/2, сооружения, подобные погр. 44, ею отнесены кземляным склепам – тип V/2А.
Наиболее ранним является погр. 54(Р2), в котором найдены две двучленные под-вязные фибулы с пластинчатыми спинками, располагавшиеся на ключицах, усеченно-биконическая бусина синего стекла. Между коленями найден комплекс украшений:две подвески из раковин, подвеска из клыка кабана, железные коробочка-булла и пла-стинка; в ЮЗ борту были устроены две ниши, в одной из них помещался сероглиня-ный кувшин.
К чуть более позднему времени относится комплекс погр. 38(Р1). Здесь в районепредплечья костяка 2 была найдена двупластинчатая фибула с пятью выступами накаркасе головной пластины, 1 подгруппы по типологии А.К. Амброза; под костяком 1был расчищен железный наконечник стрелы типа 1Аа, согласно классификацииИ.П. Засецкой. Здесь так же найден сероглиный кувшин со сливом. Близкая двупла-стинатая фибула из погр. 5 могильника Сумы-Сад, на Левобережной Украине, отно-сится к гуннскому времени. Фибула 1 подгруппы Амброза, но более поздней модифи-кации, была найдена также и в погр. 30(Р2).
Важны и находки в погр. 38(Р2). Здесь были найдены золотая лунница, бронзовыепроволочные височные кольца, бронзовое зеркало с центральной петлей и рельефныморнаментом, бронзовая пряжка с прямоугольной пластинчатой обоймой, массивнойрамкой и хоботковидным язычком, а так же бронзовый пинцет и два набора ременнойгарнитуры от обуви: небольшие пряжки с массивными рамками, массивными язычка-ми и пластинчатыми обоймами, распределительные кольца с тремя зажимами. Обув-ные наборы обнаружены и в погр. 21(Р2). Пряжки, использованные в составе гарни-тур, характерны для начала гуннского времени, фиксаторы ремней аналогичны наход-
ке из погр. 4 склепа Фанагория-МТФ 1991 г., датируемого второй половиной IV – на-чалом V в. Наконечники ремней, подобные найденным, наиболее широко распростра-нены в начале V в.
В погр. 44(Р2) находок немного – сероглиняный подлощенный кувшин с проло-щенным орнаментом, груболепной горшочек, поясной набор из бронзовых пряжки смассивным язычком и пластинчатая обойма с кольцом. Их облик позволяет датиро-вать это погребение V в.
Погр. 30, 38, 44 располагались в крайней северо-восточной группе захоронений нараскопе 2. Поблизости находилось и погребение 54.
Количество определимых комплексов конца IV – нач. V в. на некрополе Фанагорииневелико. Общее количество погребений IV–V вв. по подсчетам О.М. Ворошиловой ко-леблется от 85 до 104. Некоторые черты погребений – ориентировка на С, сероглинянаяпосуда являются общими для большинства, учтенных ею, погребений кон. IV – нач.V в.К новым для этого памятника ранним типам относятся находки фибул. Ранее были из-вестны три погребения более позднего времени с фибулами на плечах погребенных, вдвух случаях найденных парами. Находки двупластинчатых фибул ранних типов в погр.38(Р1), 30(Р2), а так же пары подвязных фибул и набор амулетов в погр. 54(Р2), подтвер-ждают предположения исследователей о связи этого типа костюма с традициями черня-ховской культуры. Важны и находки полных наборов обувных гарнитур, прослеженныхin situ, а так же других предметов – височных колец, лунницы, зеркала, пинцета и др.
Представленные материалы следует рассматривать в рамках изучения «восточно-германских» и «сармато-аланских» элементов в культуре населения Фанагории, появ-ление которых, связано, вероятно, в том числе и с событиями, сопровождавшее гунн-ское вторжение в Восточную Европу.
И. Н. ХрапуновЛюблин, Польша
О «КНЯЗЬЯХ» И «ВОЖДЯХ» НА ПРИМЕРЕ КРЫМСКИХМОГИЛЬНИКОВ ПОЗДНЕРИМСКОГО ВРЕМЕНИ
1. При попытке реконструировать социальную или имущественную структуру тогоили иного общества по археологическим данным, как правило, легче всего выделяются«княжеские» или «вождеские» погребения, сопровождаемые богатым инвентарем.
2. В крымских предгорьях открыты могильники Курское, Нейзац, Дружное,Перевальное, Озерное III, Красная Заря, Тас-Тепе, Вишневое, Суворово, Инкерманский,Чернореченский, Килен-Балка. Они состоят из склепов, подбойных и грунтовых могил.Могильники использовались во II–IV вв. н.э. и принадлежали одной археологическойкультуре. Ни один из них не связан с поселением. Они оставлены оседавшими на землюсарматами и мигрировавшими с Северного Кавказа предками средневековых алан.
3. Письменные источники о населении, оставившем перечисленные некрополи, от-сутствуют. Поэтому попытки социальной и имущественной стратификации опираютсятолько на археологические данные.
1 Авторы выражают искреннюю благодарность В.Д. Кузнецову за возможность работы с неопуб-ликованными материалами. В работе использованы материалы диссертации О. М. Ворошиловой«Некрополь Фанагории в I в. до н.э. – V в. н.э. как источник по истории населения столицы АзиатскогоБоспора»
— 46 — — 46 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
4. В целом, погребения выглядят весьма однородно. Они сопровождаются довольноразнообразным, но не богатым инвентарем. Причем количество предметов инвентаря взахоронении не зависит от типа погребального сооружения.
5. Все же незначительная группа погребений выделяется из общей массы.Некоторые из них не содержали вещей. Встречаются очень мелкие могилы, глубинакоторых не превышала 0,5м. Они либо тоже безинвентарны, либо сопровождалисьочень бедным инвентарем (1–2 бусины, оселок, колокольчик и т.п.).
6. Использование традиционных для археологии маркеров высокого социальногостатуса погребенных приводит к следующим результатам. Изделий из золота совсемнемного. Это женские украшения (серьги, подвески), найденные по 1–2 в могиле. Крометого, одежда некоторых женщин расшивалась очень тонкими золотыми бляшками.
Серебряные изделия, в отличие от золотых, весьма многочисленны. Из этого метал-ла делали украшения, как для людей, так и для коней. Они использовались наряду сбронзовыми, имеющими такую же форму и довольно равномерно рассредоточены помногим могилам.
7. Другой традиционный маркер, пригодный для ранжирования мужскихпогребений – наличие в них оружия. Оружие найдено в 10–20% могил, но, учитывая,что около половины погребальных сооружений ограблено, это очень приблизительныецифры. Тем не менее, можно сказать, что предметы вооружения клали в немногиемогилы. Чаще всего в качестве погребального инвентаря использовались мечи, изредкакопья и топоры. Почти во всех случаях погребенный сопровождался одним предметомвооружения.
8. Дифференциация погребенных по социальному или имущественному признаку небыла очень заметной. Выделяется не большая группа могил с бедным инвентарем иливообще без инвентаря. В них, вероятно, похоронены представители беднейших слоев.
На более высоком, чем основная масса населения, социальном уровне находиласьгруппа, имевшая возможность хоронить женщин в украшенной золотыми бляшкамиодежде и с мелкими единичными золотыми украшениями, а мужчин с оружием, иногдас несколькими его экземплярами.
Никаких погребений «князей» или «вождей», столь характерных для многих син-хронных культур, в крымских предгорьях выделить не удается.
О.В. ШаровCанкт-Петербург, Россия
«КНЯЖЕСКИЕ» ПОГРЕБЕНИЯ БОСПОРАПОЗДНЕРИМСКОЙ ЭПОХИ
В докладе будут рассмотрены погребения боспорской знати позднеримской эпо-хи, в основном, происходящие из некрополя Пантикапея (Рис. 1, 1). В некрополях дру-гих городов удалось для этой эпохи выделить лишь единичные комплексы.«Княжеские» погребения Боспора можно отнести к следующим хронологическимгруппам:
К первой хронологической группе (эпоха Тиберия Евпатора – Савромата II(150/160 – 200/210 гг.) можно отнести погребения «всадников» середины – второй по-ловины II века н.э. Это подкурганные погребения в склепах, состоящих из одной-двухпогребальных комнат – погребение в склепе Деметры; в склепе у завода князя Херхе-улидзева, 1841 года; в склепе Каллисфена; в двойной плитовой гробнице на Глинище,1896 г.; погребение № 2 в расписном склепе 1975 г. из Горгиппии (Рис. 1, 3). В погре-бальном обряде этих комплексов представлены захоронения коня или конского уборавместе с покойником, длинные мечи с навершием и кинжалы.
Ко второй хронологической группе погребений (эпоха Рескупорида IV(V) – Тейра-на – Фофорса (260/270 – 300/310 гг.) можно отнести погребения, датированные временемпосле окончания «готских войн». Это погребение с Золотой маской, погребение 1842 го-да из Фанагории, погребение 1972 года из Танаиса (Рис. 1, 2, 4). Во второй группе можнотакже отметить сочетание варварских и местных элементов погребального обряда.
Рис. 1. Местонахождение княжеских погребений позднеримской эпохи,указанных в тексте
1 – Пантикапей; 2 – Фанагория; 3 – Горгиппия; 4 – Танаис
— 47 — — 47 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
4. В целом, погребения выглядят весьма однородно. Они сопровождаются довольноразнообразным, но не богатым инвентарем. Причем количество предметов инвентаря взахоронении не зависит от типа погребального сооружения.
5. Все же незначительная группа погребений выделяется из общей массы.Некоторые из них не содержали вещей. Встречаются очень мелкие могилы, глубинакоторых не превышала 0,5м. Они либо тоже безинвентарны, либо сопровождалисьочень бедным инвентарем (1–2 бусины, оселок, колокольчик и т.п.).
6. Использование традиционных для археологии маркеров высокого социальногостатуса погребенных приводит к следующим результатам. Изделий из золота совсемнемного. Это женские украшения (серьги, подвески), найденные по 1–2 в могиле. Крометого, одежда некоторых женщин расшивалась очень тонкими золотыми бляшками.
Серебряные изделия, в отличие от золотых, весьма многочисленны. Из этого метал-ла делали украшения, как для людей, так и для коней. Они использовались наряду сбронзовыми, имеющими такую же форму и довольно равномерно рассредоточены помногим могилам.
7. Другой традиционный маркер, пригодный для ранжирования мужскихпогребений – наличие в них оружия. Оружие найдено в 10–20% могил, но, учитывая,что около половины погребальных сооружений ограблено, это очень приблизительныецифры. Тем не менее, можно сказать, что предметы вооружения клали в немногиемогилы. Чаще всего в качестве погребального инвентаря использовались мечи, изредкакопья и топоры. Почти во всех случаях погребенный сопровождался одним предметомвооружения.
8. Дифференциация погребенных по социальному или имущественному признаку небыла очень заметной. Выделяется не большая группа могил с бедным инвентарем иливообще без инвентаря. В них, вероятно, похоронены представители беднейших слоев.
На более высоком, чем основная масса населения, социальном уровне находиласьгруппа, имевшая возможность хоронить женщин в украшенной золотыми бляшкамиодежде и с мелкими единичными золотыми украшениями, а мужчин с оружием, иногдас несколькими его экземплярами.
Никаких погребений «князей» или «вождей», столь характерных для многих син-хронных культур, в крымских предгорьях выделить не удается.
О.В. ШаровCанкт-Петербург, Россия
«КНЯЖЕСКИЕ» ПОГРЕБЕНИЯ БОСПОРАПОЗДНЕРИМСКОЙ ЭПОХИ
В докладе будут рассмотрены погребения боспорской знати позднеримской эпо-хи, в основном, происходящие из некрополя Пантикапея (Рис. 1, 1). В некрополях дру-гих городов удалось для этой эпохи выделить лишь единичные комплексы.«Княжеские» погребения Боспора можно отнести к следующим хронологическимгруппам:
К первой хронологической группе (эпоха Тиберия Евпатора – Савромата II(150/160 – 200/210 гг.) можно отнести погребения «всадников» середины – второй по-ловины II века н.э. Это подкурганные погребения в склепах, состоящих из одной-двухпогребальных комнат – погребение в склепе Деметры; в склепе у завода князя Херхе-улидзева, 1841 года; в склепе Каллисфена; в двойной плитовой гробнице на Глинище,1896 г.; погребение № 2 в расписном склепе 1975 г. из Горгиппии (Рис. 1, 3). В погре-бальном обряде этих комплексов представлены захоронения коня или конского уборавместе с покойником, длинные мечи с навершием и кинжалы.
Ко второй хронологической группе погребений (эпоха Рескупорида IV(V) – Тейра-на – Фофорса (260/270 – 300/310 гг.) можно отнести погребения, датированные временемпосле окончания «готских войн». Это погребение с Золотой маской, погребение 1842 го-да из Фанагории, погребение 1972 года из Танаиса (Рис. 1, 2, 4). Во второй группе можнотакже отметить сочетание варварских и местных элементов погребального обряда.
Рис. 1. Местонахождение княжеских погребений позднеримской эпохи,указанных в тексте
1 – Пантикапей; 2 – Фанагория; 3 – Горгиппия; 4 – Танаис
— 48 — — 48 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Ахмедов Илья РафаэлевичГосударственный Исторический музей, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Багаев Муса ХароновичИнститут гуманитарных исследований АН ЧР, Грозный, Россияe-mail: [email protected]
Битнер-Врублевска Анна / Bitner-Wróblewska AnnaГосударственный археологический музей, Варшава, Польшаe-mail: [email protected]
Блюене Аудроне / Bliujienė AudronėИнститут истории и археологии Балтийского региона Клайпедского универ-ситета, Клайпеда, Литваe-mail: [email protected]
Бурков Сергей БорисовичИнститут истории и археологии РСО-Алания, Владикавказ, Россияe-mail: [email protected]
Вдовченков Евгений ВикторовичЮжный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россияe-mail: [email protected]
Габуев Тамерлан АлександровичГосударственный музей искусства народов Востока, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Гаджиев Муртазали СеражутдиновичИнститут истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центраРАН, Махачкала, Россияe-mail: [email protected]
Даутова Резеда АбдулмуслимовнаИнститут гуманитарных исследований АН ЧР, Грозный, Россияe-mail: [email protected]
Зеленцова Ольга ВикторовнаИнститут археологии РАН, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Земцов Григорий ЛеонидовичЛипецкий государственный педагогический университет, Липецк, Россияe-mail: [email protected]
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
К третьей хронологической группе (эпоха Радамсада – Рескупорида V (VI)(310/320 – 340/350 гг.) можно отнести погребения Аджимушкай, 1841 г.; склеп Горди-ковых; Керчь, 1891 г.; т.н. погребение Мессаксуди, 1918 г. (Рис. 1, 1). В это время ис-пользуются склепы эллинистического времени (погребение 1841 г.), но появляютсязахоронения в земляных склепах с трапециевидными камерами и лежанками (склепГордиковых).
Во всех комплексах, представлены детали конской упряжи, в двух (Аджимушкай,1841 г.; склеп Гордиковых, 1891 г.) представлены кости лошади. Помимо этого, в каж-дом погребении лежало оружие или его части.
Можно отметить, что в погребениях боспорской элиты сохраняются отдельныедетали сарматского погребального обряда, но при этом всегда используются местныепогребальные конструкции.
Работа выполнена в рамках проекта «Элита Боспора Киммерийского. Традициии инновации в аристократической культуре» (2012–2014 гг.) Программы фундамен-тальных исследований секции истории Отделения историко-филологических наукРАН «Нации и государства в мировой истории».
— 49 — — 49 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Ахмедов Илья РафаэлевичГосударственный Исторический музей, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Багаев Муса ХароновичИнститут гуманитарных исследований АН ЧР, Грозный, Россияe-mail: [email protected]
Битнер-Врублевска Анна / Bitner-Wróblewska AnnaГосударственный археологический музей, Варшава, Польшаe-mail: [email protected]
Блюене Аудроне / Bliujienė AudronėИнститут истории и археологии Балтийского региона Клайпедского универ-ситета, Клайпеда, Литваe-mail: [email protected]
Бурков Сергей БорисовичИнститут истории и археологии РСО-Алания, Владикавказ, Россияe-mail: [email protected]
Вдовченков Евгений ВикторовичЮжный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россияe-mail: [email protected]
Габуев Тамерлан АлександровичГосударственный музей искусства народов Востока, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Гаджиев Муртазали СеражутдиновичИнститут истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центраРАН, Махачкала, Россияe-mail: [email protected]
Даутова Резеда АбдулмуслимовнаИнститут гуманитарных исследований АН ЧР, Грозный, Россияe-mail: [email protected]
Зеленцова Ольга ВикторовнаИнститут археологии РАН, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Земцов Григорий ЛеонидовичЛипецкий государственный педагогический университет, Липецк, Россияe-mail: [email protected]
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
К третьей хронологической группе (эпоха Радамсада – Рескупорида V (VI)(310/320 – 340/350 гг.) можно отнести погребения Аджимушкай, 1841 г.; склеп Горди-ковых; Керчь, 1891 г.; т.н. погребение Мессаксуди, 1918 г. (Рис. 1, 1). В это время ис-пользуются склепы эллинистического времени (погребение 1841 г.), но появляютсязахоронения в земляных склепах с трапециевидными камерами и лежанками (склепГордиковых).
Во всех комплексах, представлены детали конской упряжи, в двух (Аджимушкай,1841 г.; склеп Гордиковых, 1891 г.) представлены кости лошади. Помимо этого, в каж-дом погребении лежало оружие или его части.
Можно отметить, что в погребениях боспорской элиты сохраняются отдельныедетали сарматского погребального обряда, но при этом всегда используются местныепогребальные конструкции.
Работа выполнена в рамках проекта «Элита Боспора Киммерийского. Традициии инновации в аристократической культуре» (2012–2014 гг.) Программы фундамен-тальных исследований секции истории Отделения историко-филологических наукРАН «Нации и государства в мировой истории».
— 50 — — 50 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Иштванович Эстер / Istvánovits EszterМузей им. Андраша Йожа, Ньиредьхаза, Венгрияe-mail: [email protected]
Казанский Михаил МихайловичНациональный Центр Научных Исследований, Париж, Францияe-mail: [email protected]
Коробов Дмитрий СергеевичИнститут археологии РАН, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Кульчар Валерия / Kulcsár ValériaСегедский университет, Сегед, Венгрияe-mail: [email protected]
Малашев Владимир ЮрьевичИнститут археологии РАН, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Мамаев Хамид МагомедовичИнститут гуманитарных исследований АН ЧР, Грозный, Россияe-mail: [email protected]
Мастыкова Анна ВладимировнаИнститут археологии РАН, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Нюшков Валентин АлександровичАбхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа,Сухум, Абхазияe-mail: [email protected]
Перен Патрик / Périn PatrickМузей национальной археологии, Сен-Жермен-ан-Лэ, Францияe-mail: [email protected]
Радюш Олег АлександровичИнститут археологии РАН, Москва, Россияe-mail: [email protected]; [email protected]
Савенко Сергей НиколаевичГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей», Пятигорск, Россияe-mail: [email protected]
Сапрыкина Ирина АнатольевнаИнститут археологии РАН, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Семенов Игорь ГодовичИнститут истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центраРАН, Махачкала, Россияe-mail: [email protected]
Сударев Николай ИгоревичИнститут археологии РАН, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Храпунов Игорь НиколаевичУниверситет Марии Кюри-Склодовской, Люблин, Польшаe-mail: [email protected]
Шаров Олег ВасильевичИнститут истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург, Россияe-mail: [email protected]
— 51 — — 51 —
Тезисы докладов международного научного семинараРаннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе...
Иштванович Эстер / Istvánovits EszterМузей им. Андраша Йожа, Ньиредьхаза, Венгрияe-mail: [email protected]
Казанский Михаил МихайловичНациональный Центр Научных Исследований, Париж, Францияe-mail: [email protected]
Коробов Дмитрий СергеевичИнститут археологии РАН, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Кульчар Валерия / Kulcsár ValériaСегедский университет, Сегед, Венгрияe-mail: [email protected]
Малашев Владимир ЮрьевичИнститут археологии РАН, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Мамаев Хамид МагомедовичИнститут гуманитарных исследований АН ЧР, Грозный, Россияe-mail: [email protected]
Мастыкова Анна ВладимировнаИнститут археологии РАН, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Нюшков Валентин АлександровичАбхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа,Сухум, Абхазияe-mail: [email protected]
Перен Патрик / Périn PatrickМузей национальной археологии, Сен-Жермен-ан-Лэ, Францияe-mail: [email protected]
Радюш Олег АлександровичИнститут археологии РАН, Москва, Россияe-mail: [email protected]; [email protected]
Савенко Сергей НиколаевичГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей», Пятигорск, Россияe-mail: [email protected]
Сапрыкина Ирина АнатольевнаИнститут археологии РАН, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Семенов Игорь ГодовичИнститут истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центраРАН, Махачкала, Россияe-mail: [email protected]
Сударев Николай ИгоревичИнститут археологии РАН, Москва, Россияe-mail: [email protected]
Храпунов Игорь НиколаевичУниверситет Марии Кюри-Склодовской, Люблин, Польшаe-mail: [email protected]
Шаров Олег ВасильевичИнститут истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург, Россияe-mail: [email protected]
Научное издание
Раннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказев конце Античности – начале Средневековья
Тезисы докладов международного научного семинара
Дизайн и верстка: В.Б. Степанов, С.В. Кожушков
Подписано к печати 19.10.2013. Формат 60 х 90 1/8
Бумага офсетная. Печать на ризографе.Уч.-изд.л. 4,7. Тираж 120 экз.
________________________________________________
Отпечатано в Лаборатории множительной техникиИнститута археологии Российской академии наук
117036 Москва, ул. Дм. Ульянова, 19