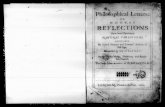Philosophical aspect of freedom of conscience in Islam
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Philosophical aspect of freedom of conscience in Islam
0
CULTURE AS AN INSPIRER
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
КУЛЬТУРА КАК ВДОХНОВИТЕЛЬ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Уфа 2014
1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРА КАК ВДОХНОВИТЕЛЬ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Материалы научной конференции с международным участием,
посвященной Году культуры в России,
60-летию сотрудничества Российской Федерации и ЮНЕСКО,
15-летию сотрудничества Республики Башкортостан и ЮНЕСКО
(Уфа, 25 апреля 2014 г.)
УФА
РИЦ БашГУ
2014
2
УДК 008.001
ББК 71.0
К90
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Министерства образования Республики Башкортостан
Договор № 02-23/37 от 23.04.2014 г.
Редакционная коллегия:
Культура как вдохновитель устойчивого развития: мате-
К90 риалы научной конференции с международным участием,
посвященной Году культуры в России, 60-летию
сотрудничества Российской Федерации и ЮНЕСКО, 15-
летию сотрудничества Республики Башкортостан и
ЮНЕСКО (25 апреля 2014 г.) / отв. ред. З.Я. Рахматуллина. –
Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – 260 с.
ISBN 978-5-7477-3569-9
В сборник включены материалы научной конференции,
посвященной социокультурным проблемам устойчивого развития в
глобализирующемся мире. Особое внимание уделено роли
ЮНЕСКО в реализации целей устойчивого развития, рассмотрены
вопросы инклюзивного и экологического образования,
межкультурной коммуникации и медиакультуры, а также
этические, эстетические, религиоведческие и конфликтологические
аспекты устойчивого развития.
Изложенные факты и оценки отражают точку зрения их авторов
и не обязательно являются позицией ЮНЕСКО. Организация
какой-либо ответственности за них не несет.
УДК 008.001
ББК 71.0
ISBN 978-5-7477-3569-9 © БашГУ, 2014
канд. филос. наук, доцент З.Р. Валеева (БашГУ, г. Уфа);
канд. филос. наук, доцент З.Р. Валиуллина (БашГУ, г. Уфа);
канд. филос. наук, доцент Л.К. Вычужанова (БашГУ, г. Уфа);
канд. филос. наук, доцент Л.А. Иткулова (БашГУ, г. Уфа);
канд. филос. наук, доцент Р.В. Ханова (БашГУ, г. Уфа);
канд. филос. наук, доцент Л.Р. Хасанова (БашГУ, г. Уфа);
аспирант Л.С. Шайхутдинова (отв. секретарь)
208
297.1+ 172.3 А.С.Комаров
(КГУ им. Н.А.Некрасова, Кострома)
Философский аспект свободы совести в исламе
В исламе (в основных его течениях) преобладают традиционалистические
тенденции. В классическом исламском вероучении имеется фаталистическое
представление о сущности человеческой жизни, которая от сотворения мира
предопределена Аллахом. Человек должен покорно подчинить себя и свою волю
существующему порядку вещей, установленному самим богом. Само слово
«ислам» переводится как «покорность» Аллаху. Свобода воли в исламе – это
продолжение определѐнных Аллахом намерений в отношении человека. Так, в
Коране говорится: «Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах,
Господь миров» [33, сура 81, аят 29]. Все желания и поступки человека
изначально известны Аллаху и находятся в его воле. Он дозволяет им
совершаться. Ещѐ одним источником исламского фатализма является вера в
Судный день, которым завершается история человечества и определится
значимость намерений и поступков. Мусульманский мыслитель М. Икбал,
обращаясь к суфийскому опыту, утверждает, что «фатализм…это — жизнь и
безграничная власть, которая не признает никаких препятствий» [8, 111],
подчѐркивая, что фатализм не отрицает эго, а создаѐт условия для формирования
самообладания личности. По Корану человек не освобождается от моральной
ответственности за свои поступки [33, сура 17, аят 7] и, таким образом, многими
мусульманскими мыслителями признается наличие свободы воли у человека.
«Элемент управления и направляющего контроля в деятельности эго ярко
показывает, что оно есть свободная индивидуальная причинность» [8, 110]. Это
кажущееся противоречие разрешается добровольным актом отказа от
свободного выбора в пользу свободного проявления любви Бога к человеку [21,
193]. Основная цель свободного выбора или отказа от него – познание Бога.
Через это своеобразное жертвоприношение воли у человека появляется
самообладание. Наибольшее развитие эта концепция получает в исламском
мистицизме – суфизме. Так, представитель «опьяненного» направления суфизма
ал-Халлāдж считал, что для достижения погружения в созерцание «сокрытого»
мира «необходимо освободиться от власти материального мира, а это
требует упорного труда, совершенствования тела и духа и постепенного, шаг
за шагом, подъема к Богу» [21, 244]. При этом классическая ценность суфизма
«Отрешение от мирского» (зухд) не рассматривалась, как способ совершенного
бытия, а лишь как необходимый подготовительный этап мистического пути,
сочетающего постоянный духовный труд и самообладание (умственную,
физическую и нравственную дисциплину). Суфийское понимание
предопределения, как и классическое исламское, основано на идее отрицания
свободы воли человека и имеет параллели с кальвинистским учением об
уверенности в спасении [2, 187]. Эта мысль об абсолютном предопределении в
суфизме так же является не парализующим, а побуждающим началом, как
209
учение о предопределении в кальвинистской этике. Если главное в суфийской
мистике – достижение единства с Богом, познание его высшей любви, то все
переживания мистического опыта и вдохновение, и чувства, и послушание – это
дар божественной любви, акт его свободной воли [2, 189].
Ещѐ в классическую исламскую эпоху, при Омейядах, сложились два подхода к
пониманию проблемы свободы воли человека. Джабариты отрицали за
человеком способность к действию; добрые дела рассматривали, как
побуждаемые к совершению Аллахом, а грехи, как наказания от него. В
противоположность им кадариты утверждали полную самостоятельность
человека в собственных поступках. Их последователи, мутазилиты, считали, что
человек наделѐн свободой воли, потому что грех не мог быть создан
совершенным и справедливым Богом, который является творцом только
лучшего. Грех – полностью человеческое творение. Как творец собственных
поступков (и хороших, и плохих), в загробной жизни человек получит
воздаяние, в соответствии с тем, что совершал во время земной жизни. Богу
нельзя ставить в вину существование зла и несправедливости, которые являются
полностью человеческими производными.
Социальная и личностная свобода в исламе так же имеет свою специфику,
отличную от принятой в Западном мире. А. В. Смирнов [32] подчѐркивает
отличие понятия «раб» в исламском праве от классического представления,
подчѐркивая наличие прав и обязанностей у рабов в исламе. Мусульманское
правоведение основывается на концепции двусоставного поступка («намерение-
действие»), так, что предметом ответственности нередко выступают намерения.
Другой особенностью социальной свободы в исламе – это традиционная для
многих восточных обществ доминирующая установка на «коллективизм». Это
проявляется в консервативной тенденции в организации социальной жизни и
поддержании традиционных социальных связей, осуждении их всевозможных
разрывов. Стремление к сохранению крепких социальных связей в
мусульманских странах оказывает большое влияние на состояние религиозной
свободы, а так же различных эмансипаций, активно распространяющихся в
Западных обществах. Представления о социальной и личной свободе в
мусульманском мире формируются в процессе диалога с западно-либеральными
концепциями, но до настоящего времени «первое слово» здесь принадлежит
мусульманской стороне. Мусульманский мир почти не затронут секуляризацией.
Модернизм в исламском мире не знает идеи «смерти Бога» и допускает критику
лишь мусульманских институтов, но не Бога или Корана.
В последнее время наблюдается немалый интерес приверженцев ислама к
проблемам религиозной свободы, особенно в странах, где ислам не является
преобладающей религией, но наблюдается его количественный рост. При этом
религиозные лидеры ислама склонны настойчиво подчѐркивать традиционную
толерантность ислама в полемике с правозащитниками, критиковать отношение
к мусульманам на Западе [30]. В действительности, существует некоторое
различие в отношении ислама к религиозной свободе в тех странах, где ислам
210
является государственной или основной религией и там, где мусульмане не
являются большинством. И, хотя некоторые учѐные, как например А. В.
Смирнов, Ф. Кардини [15, 222-223], и в странах с преобладающим
мусульманским населением усматривают признаки веротерпимости, всѐ же
подобные выводы нередко расходятся с наличествующей практикой и
шариатским законодательством этих стран. Так, за переход из ислама в другие
религии во многих странах предусмотрена смертная казнь. Для зимми (иудеев,
христиан и зороастрийцев) предусмотрен ряд дискриминационных ограничений,
призванных через эти виды давления подтолкнуть их к принятию ислама. Это и
ряд специальных налогов, и поражение в правах. Для прочего немусульманского
населения установлены ещѐ более жѐсткие дискриминационные порядки.
Многие из этих порядков имеют «назидательный смысл», призваны указывать
«правоверным» на неизбежность наказания и плачевного состояния кафиров
(неверных). Та средневековая мусульманская веротерпимость, о которой
положительно отзываются современные исследователи ислама, как Ф. Кардини,
В. В. Наумкин [22, 522], которую превозносят в своей литературе сами
мусульманские лидеры, обусловлена многочисленными факторами, в том числе
и развитием средневековой арабской культуры, науки, философии, становлением
новых государственных и социальных отношений на территориях с
многонациональным населением.
Ещѐ одна социальная причина распространения в исламе современных
представлений о религиозной свободе – усиление влияния реформаторского
ислама с нач. XX в., особенно его либерального направления и усиление
тенденции к социокультурной интеграции в мировое сообщество,
нуждающегося в укреплении начал толерантности. Так, уже в нач. XX в.
высказывается идея необходимости преобразования ислама в частную религию,
исповедовать которую мог бы каждый человек на основании свободного выбора
[29, 263].
В статье Т. П. Минченко [17] дан анализ мусульманского понимания
религиозной свободы в его соотношении с еѐ современным западным
пониманием. В ней рассмотрены проблемы изучения возможности культурного
диалога по вопросу религиозной свободы. В статье подчѐркивается, что
трудности диалога основываются часто на искажении начального смысла
понятий при переводах и на ментальных различиях построения социумов и
культур. Это позволило автору разоблачить ряд мифов, укоренившихся в обоих
типах культур в отношении ислама и Корана. Минченко показывает, что самый
главный источник веры в исламе – Коран во многих аятах провозглашает
принципы веротерпимости. Действительно, одна из ранних сур Корана (109)
провозглашает взаимную терпимость, как и сура 18: 29 право на свободу в
отношении принятия ислама. Сура 16: 126 признаѐт необходимость свободных
религиозных дискуссий, а 6: 108 уважение религиозного поклонения не
мусульман. Известный принцип «нет принуждения в религии»[33, сура 2, аят
256] содержится в Коране. Проблема замены первоначальных толерантных
211
принципов Корана на более жѐсткие и даже фанатичные его интерпретации в
статье объясняется сменой политических режимов и стремлением защитить
ислам от нападений при расширении территорий, занимаемых мусульманскими
государствами [17]. Новый политический режим стремится агрессивно
«отрицать» свободолюбивые ценности предшественников под лозунгом
«возрождения поруганных традиций». На основании анализа содержания
исламских правовых документов по вопросу об отношении к религиозной
свободе, Т. П. Минченко делает вывод о дифференцировании подходов в
мусульманских странах по данной проблеме. Сам факт выработки и принятия
этих юридических документов, а также их содержание, свидетельствуют об
очень напряжѐнном диалоге мусульманских государств с международной
правовой системой. Приведение практики ряда мусульманских стран в
отношении религиозной свободы, уважения прав и свобод личности нуждается в
построении диалога, основанного на взаимном уважении и культурном обмене.
Примечания:
1. Аль-Хусейн С. А. Толерантность в понимании Ислама и Запада. Пер. с
арабского А. С. Джелилова. М.: Радуга, 2009.
2. Андре Т. Исламские мистики. СПб.: Евразия, 2003.
3. Бог—человек—общество в традиционных куль турах Востока. М.: Наука. ИФ
«Восточная литература», 1993.
4. Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания /М. П.
Мчедлов (отв. ред.) и др. М.: Культурная революция, 2007.
5. Двадцать лет религиозной свободы в России / под ред. А. Малашенко и С.
Филатова; Моск. Центр Карнеги. М.: РОССПЭН, 2009.
6. Добаев И. П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. Ростов-
на-Дону, изд. СКНЦ ВШ, 2005.
7. Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М.: Политиздат,
1990.
8. Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в исламе. М. : Вост. лит.,
2002.
9. Ислам в советском и постсоветском пространстве: истории и
методологические аспекты исследования. Сост. и ред. Р.М.Мухаметшин. Казань,
2004.
10. Ислам в Среднем Поволжье: история и современность. Очерки. Казань:
Мастер Лайн, 2001.
11. Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри / Под ред. А.
Малашенко и М. Б. Олкотт; Моск. Центр Карнеги. М.: Арт-Бизнес-Центр, 2001.
12. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический
словарь. Выпуск 1. М.: ИФ «Восточная литература»РАН, 1998.
13. Исламская философия и философское исламоведение: Перспективы
развития. М.: Языки славянских культур, 2012.
212
14. История религий в России. / Под общ. ред. Н.А.Трофимчука. М.: Изд-во
РАГС, 2001.
15. Кардини Ф. Европа и ислам: история непонимания. СПб.:
«Александрия», 2007.
16. Малашенко А. Ислам для России. М.: РОССПЭН, 2007.
17. Минченко Т. П. Религиозная свобода в Коране и исламе. URL:
http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/297/image/297_71.pdf.
18. Мухаметшин Р. Татары и ислам в XX веке (Ислам в общественной н
политической жизни татар и Татарстана). Казань: Изд. «Фән», 2003.
19. Набиев Р.А. Ислам и государство: Культурно-историческая эволюция
мусульманской религии на Европейском Востоке. Казань: Изд-во Казанск. ун-та,
2002.
20. На пути к свободе совести/ Сб. М.: Прогресс, 1989.
21. Насыров И. Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция).
М.: Языки славянских культур, 2009.
22. Наумкин В. В. Ислам и мусульмане: культура и политика (статьи,
очерки и доклады разных лет). М., 2009.
23. Нуруллаев А. А., Нуруллаев Ал. А. Религия н политика. Учебное пособие.
М.: КМК. 2006.
24. Пинес Ш. Иудаизм, христианство, ислам: парадигмы взаимовлияния. М.:
изд. «Мосты культуры», 2009.
25. Религии Поволжья: проблемы социального служения: Сб. мат. кон. Н.
Новгород, 2009.
26. Религии России: проблемы социального служения. Сборник материалов
конференции. Москва Н. Новгород: ИД «Медина», 2011.
27. Религия и глобализация на просторах Евразии / под ред. А. Малашенко и
С. Филатова. М.: РОССПЭН; Моск. Центр Карнеги, 2009.
28. Религия и общество: Очерки религиозной жизни современной России./
Oтв. ред. и сост. С. Б. Филатов. М.; СПб.: Летний сад, 2002.
29. Россия и мусульманский мир: Инаковость как проблема / Отв. ред.
выпуска А. В. Смирнов. М.: Языки славянских культур, 2010.
30. Салих Ибрахим.Религиозная свобода в Шариате. URL:
http://www.wasat.ru/posts/item/378/religioznaya_svoboda_v_shariate.html
31. Санаи М. Мусульманское право и политика. М. , 2004.
32. Смирнов А. В. О понятии «свобода» в арабо-мусульманской культуре.
URL: http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_2/svob.htm
33. Смысловой перевод священного Корана на русский язык (пер. Э. Кулиева),
любое издание.
34. Степанянц М. Т. Мусульманские концепции в философии и политике
(XIX—XX вв.). М.: «Наука», 1982.
35. Шахрастани М. Книга о религиях и сектах. Ч. 1 Ислам. М.: Наука.
© А.С.Комаров, 2014.
260
Научное издание
КУЛЬТУРА КАК ВДОХНОВИТЕЛЬ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Материалы научной конференции с международным участием,
посвященной Году культуры в России,
60-летию сотрудничества Российской Федерации и ЮНЕСКО,
15-летию сотрудничества Республики Башкортостан и ЮНЕСКО
(Уфа, 25 апреля 2014 г.)
Редактор Е.В. Полякова
Корректор А.И. Николаева
Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 021319 от 05.01.99 г.
Подписано в печать 06.06.2014 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ.л 14,95. Уч.-изд.л. 15,6.
Тираж 55 экз. Изд. № 136. Заказ 208.
Редакционно-издательский центр
Башкирского государственного университета
450076, РБ, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32.
Отпечатано на множительном участке
Башкирского государственного университета
450076, РБ, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32.