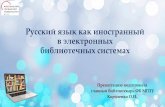Морфологические особенности житийной части...
Transcript of Морфологические особенности житийной части...
Часть II. Исследования
798
В. Б. Крысько
Морфологические особенностижитийной части Софийского пролога1
В настоящей статье рассматривается морфология рукописи, датируемой рубе-жом XII и XIII вв. и составляющей первую, синаксарную часть т. н. Софийскогопролога (РНБ, Соф. 1324, л. 1–160).
1. Двойственное число
На фоне в целом абсолютно корректного употребления большинства форм дв. ч.(например, îòàøà [вм. îòøà] èìà ïîÿñà è îæåðåëèè 14б20–21; äâý íà äåñòå ïëåìåíèèçë�âý 25в10–11, ñòðà�T ñò�îþ• èóëèÿíû è âàñèëèñû• èæå ïîñòðàäàñòà• âú àíòèíîè ãðàäý119в16) заслуживающим упоминания представляется использование мн. ч. на мес-те ожидаемого дв. ч. в соответствии с греческим мн. ч., прежде всего в конструк-циях со словами ïàìòü / ñòðàñòü [ИГДРЯ II, 130–131], например: ñòðà� T ñòû �a ì÷�íêú•ñàðâóëà æüðöà• è ñåñòðû ¬ãî âàâèý 130в1–2, ïàì� U… ñò�ûõú ìó÷åíèêú• ôàóñòà è âà-ñèëèñû 140г7–8, ñòðà� T ñò�ûõú àêyëû è ïðèñêóëû 147б6–7, ïàì� U ïðï�Dáíûõú èñïîâýä-íèêú• âàñèëèà• è ïðîêîïèà äåêïîëèòà 159б4–5 (впрочем, прозвище Прокопия могловосприниматься как имя третьего святого); ср. также: Òú áýàøå… âú ö � Tðòâîêîñòíòèíà è èðèíû• ïðàâîâýðüíîþ ö � Tðþ… âî¬âîäîþ æå ïîñëàíú áûâú• § ö � Tðü 131г14.
При обозначении ‘12’ существительные могут находиться как в дв. ч., с ориен-тацией на первый элемент словосочетания, так и во мн. ч., с ориентацией на плю-ральную семантику: •â�¶• èñòî÷üíèêà• è •â�¶• äðýâåñà ôþíè÷üñêà 126а14–16.
Весьма важны примеры, отражающие изменения форм со значением сакраль-ных двоиц («двандва») [ИГДРЯ II, 34–35]: ìàíàñòûðü• ñò�îþ ñåðãèè è âàêõà 9г11 —утрата склонения первым компонентом по типу, дальнейшее развитие которогопредставлено композитами ñåðãèâàêõú 14б6–72 и áðàòúñåñòðà, ср. РП áðàòúñåñòðó4г21–22 и áðàòà è � ñåñòðó 18а1 (исправлено из áðàòúñåñòðó) [ИГДРЯ II, 37]); àíã �ëàñâî¬ãî ïîñëà êú ïðàâüäíèêîìà• èwàêûìà è àíüíý 82б15 — формульное употреблениеИ–ВП–Зв. дв. ч. одного из пары имен [ИГДРЯ II, 105–106].
Флексия, отличающаяся от «этимологических» -åìà resp. -üìà, наблюдается вДП дв. ч. существительного *jo-склонения ïëåùå и в Д–ТП duale tantum *i-скло-нения î÷è: î÷èìà 15в5, 29а17, ïî ïëåùèìà 44б21–22. Возникновение таких форм,очевидно, связано с обобщением основы в кругу парных обозначений [ИГДРЯ II,122]; для î÷è (и óøè) подобные образования документированы уже в старославян-ской письменности [Вайан 1952, 136], однако ïëåùèìà в Соф является первым подревности примером с данной формой в древнерусском языке.
1 В статье отчасти учтены материал и статистика, собранные по словоуказателю И. М. Лады-женским.
2 Несмотря на экзотичность этой формы, данная трактовка представляется все же более вероят-ной, нежели предположения о гаплографическом упрощении трех è в одно (ср. П ñåðãèè è âàõêú) илистяжении финали -èè в необычном для Синаксаря бессоюзном сочетании **ñåðãèè âàêõú.
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
799
В дв. ч. местоимений представлена унификация формы ñè как единого показа-теля И–ВП, независимо от рода (в отличие от старославянского, для которого по-стулируется противопоставление формы ñèÿ в мужском роде форме ñè в женскоми среднем [Вайан 1952, 167]), ср.: Ñè [Зинаида и Филонила] áýàñòà• § òàðñà 19г10;Ñè ñò�àÿ ì÷�íêà• êàðïú è ïàïèëú 22б1. Тем самым в данной позиции нейтрализуетсяразличие между ИП дв. и мн. ч. муж. (а также сред.) рода. Необходимо, однако, за-метить, что ñè в муж. роде vs. ñèÿ не обязательно является инновацией — вы-сказывалось предположение, что это исконное образование, аналогичное формам*i-склонения [Вайан 1952, 168].
В системе глагола привлекают внимание архаичные старославянские формы3 л. наст. вр. ðàçäýëèòåñ 25в9 и 3 л. аориста áûñòå 59б7 (см. [ИГДРЯ II, 93]). В 3 л.имперфекта абсолютно преобладают возникшие под влиянием аориста формы на-ñòà, широко распространенные, впрочем, уже в старославянском [Вайан 1952,267–268], — 38 примеров, в частности: èìýÿñòà æå ëþáúâü ÿêî õðüñòèÿíà è áë�ãî-ãîâýèíà• è êú ÷ë�âêîìú è–ñïîâýäüíèêîìú õ � Tâîìú… è øüäúøà ïîñýùàñòà ÿ• è óòýøà-ñòà è óêðýïëñòà ÿ• íú è ¬ëèíû ó÷àñòà ñëîâó á�èþ• è ìíîãû § íèõú óáî êðüñòñòà136б3–19; архаичные формы на -øåòà встретились всего три раза: áîðøåòàñ153в20–21, ïîêîðøåòàñ 153в17–18, íîñøåòà 160г1–2 (но вокруг — целый рядформ на -ñòà 160в20–г9).
2. Категория одушевленности
В выражении категории одушевленности Соф демонстрирует ряд особенно-стей, которые, однако, находят подтверждение в других ранних источниках. К ихчислу относятся:
– В=И у личных имен [Крысько 1994, 22–25]: ðîäè æå [Авраам] èñàêà âú ñòàðî-ñòè… èñàêú æå èÿêîâú 92в8–9;
– В=И в названии должности: àíôyïàòú æå è ¬õèäüíó wñòàâè 151в1, (?) ñè ðåêúè íàìýñòüíèêú ñâî¬ãî [в др. сп. ¬ãî] âú èì ïðîçâàíèÿ [в др. сп. ïðèçâàâú] 70г7;
– сосуществование В=И и В=Р у названий животных и сверхъестественныхсуществ: óíîøà• èìyùà [vs. èìóùü Л, П] áýñú íà÷àëíûè 11б22; ìîëøå è• èçãíàòè§ íåÿ áýñú• è ïîìîëèâúñ èçãíà § îòðîêîâèöà áýñú 19а12–14, ö� Tðåâó äúùåðü áýñúèìóùþ• ìë�òâîþ èöýëè 150б9 (5 примеров vs. двух с В=Р: ïóñòè íà íþ áýñà 61г1, ср.особенно в соседних предложениях: èöýëè æå è äúùåðü ö � Tðåâó• èìóùþ áýñú• è ïî-êàçà ïðèøüäúøèìú áýñà• wáðàçú èìóùà ÷üðíà ïñà 133г22–134а3); èñ õðàíèëíèöçìèÿ èçâåäú 58в22–г1, âú ãîðý æèâóùàãî çìèÿ• ìíîãû âðýæþùà• ìë�òâîþ óáèâúøà96г16, çìüÿ óáèþ 151а7, çìüÿ… óìîðè 153а18; èñïðãú âîëú ¬äèíú 76в13; âèäýâúæå ñò�ûè çâýðü ãðäóùü íà íü 113а18;
– В=Р у обозначений семантически собирательных существительных: èåðèõîíàâúç ãðàäà 1б8; ìèðà ïðîñâýòèëú ¬ñè 64а15, 136г3, ìèðà wñòàâèâú 78б15–163, wñòà-âèâú ìèðà 148а6, wñòàâëüøå æå ìèðà 159б12;
3 В этом и следующих двух случаях не исключено, однако, и исконное генитивное управлениепри глаголе îñòàâèòè, образованном с помощью префикса *ot-, который предполагал сочетаемостьс РП.
Часть II. Исследования
800
– В=Р метафорический у имен неодушевленных, используемых как эпитетыпри именах одушевленных (в тропарях): ñòûa� ì÷�íêú íà÷òúêà• ñòå»àíå ÷� Tòüíûè• äî-ñòîèíî õâàëèìú ò 105г6–7; òåáå áî ñòæàõîìú äàðà á�èÿ 142в1;
– использование определения или приложения в В=Р при существительном(либо субстантивате) в В=И и наоборот [Крысько 1994, 134]: ó÷èòåë èìóùå…àìîíà äüÿêîíú 1г12; íîøàøå íà ðóêó ñâî¬þ àãíüöü êðàñüíú• èìóùà íà ðîãó ñâî¬þñâýùà ãîðùà 71г11–12; ñâàðõó ñò�ãî• ÿêî ðàçîðèòåëü á�à èõú 99г21–224.
– сохранение В=И после предлогов: ïðåîáðàçèñ âú ìóæü 4в21;– В=Р у местоимений: óìîðè ¬ãî [змéя] 58в19 (18 примеров против 200 с
В=И è).
3. Склонение грецизмов
В области склонения существительных прежде всего обращает на себя внима-ние деклинационная вариативность имен, восходящих к греческим существитель-ным жен. и муж. рода на -h, -hj, -aj, -ij, -eij. Так, feminina на -h рефлексируются внашем источнике как существительные твердой *ā-основы и мягкой *ī-основы, ср.ИП åðìèwíèè 2в7–8 — РП åðìèwíû 2в5, 2в21, ИП èóñòèíà 7в14 — РП èóñòèíèè7в4–5, РП ôèëèêèòàòû 135б19–20 — ТП ôèëèêèòàòè¬þ 135в8–9, ВП ôèëèêèòàòèþ135в10–11. Номинатив этих существительных выступает в четырех видах:
– с флексией -è, воспроизводящей греческую (ср. в старославянском Èóëèÿíèи Ìàãäàëèíè [Вайан 1952, 142]): èðèíè 13г2, àãàôîíèêè 22в15, ôåîäîòè 32б19, Ôåw-äîòè 101б2, ìàðèàìíè 151в55;
– с финалью -èè, отражающей морфологическое освоение имени по типу *ī-основ (ñóäèè, ìúëíèè): åðìèwíèè 2в7–8, ãàèÿíèè 5а20, 5а21–22, êàëèñôåíèè 9в5–6,ôåîäîòèè 32г8, »åwäîòèè 69а5–6, åïèñòèìèè 47в3, »åñàëîíèêèè 50б1–2, ôåñàëîíèêèè50в17–18, ìàðèàìíèè 58б19, 151в9, ñêèíèè 66в16, íèíåâãèè 75в3, ìåëàíèè 110а24–25,ìåôåðêèè 150в1–2;
– с финалью -èÿ или флексией -à, маркирующими переход в продуктивныетипы *ā-склонения: àãàïèÿ 100г11, ñóíüêëèòèêèÿ 115г15 (так же — от существи-тельных на -»j и -…j: åâòóõèÿ 2в11–12, åðîòèÿ 37г3, 37г8); èóñòèíà 7в14, õàðèòèíà12г1, èóëüÿíà 97в15.
Masculina на -aj, -hj предстают в виде *(j)o-основных и *(j)ā-основных суще-ствительных, ср. вариативность форм, восходящих к греч. Lus…aj: с одной сторо-ны — ДП ëóñèþ 26в4–5, 41б14, с другой — ИП ëóñèÿ 130в21–22, ДП ëóñèè131в20 (при наличии амбивалентных форм РП ëyñè 21г14, § ëóñèÿ 86г13 и МПïðè ëóñèè 39в15); ”Indhj выступает в тексте в формах РП èíúäû 104б21 и ТП èí-äîìü 107в14–15, а также в форме ИП èíäèè 108б20 (переосмысленной как МП).У имен è¬ðåìèÿ и èñàèÿ ТП имеет форму *jo-склонения: ñú è¬ðåìè¬ìü è èñàè¬ìü
4 Ср. также в других списках Пролога: âèäýâúøå ìåäâåäü ãîíèìú• è ïàäúøà Л 34в29–30 (128),
óêðýïèâúøèñ æåíà• âèäý ïàêû ñò�ûè âú ñâî¬ âúëýçúøà ìýñòî П 59б.5 К этому ряду примыкает гиперкорректная форма òðóôåíè 133а22–б1 на месте первоначального
-íà (= TrÚfaina), сохраненного другими списками (ср. также ¬óñåâèè Л 135в3 (638) на местеEÙseb…a).
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
801
149в18–19; в имени Моисея ИП, калькирующий греческую форму за вычетомфлексии -j и в принципе остающийся за пределами славянского склонения: ìîèñè91г3 (Ð... MwãsÁj), противопоставлен *jo-основным образованиям косвенных па-дежей [Вайан 1952, 141]: РП ìwèñýà 156б2–3, § ìîèñåÿ 117б1; то же явление, по-видимому, представлено в имени мученика ìèëè 56г11 (Ð... M…lhj) — РП ìèëèà56г7 (M…lh).
ИП имен на -eij передается формой на -èè, а косвенные падежи изменяются по*o-склонению, ср. àïñèè 85а1 — РП àïñà 84г7.
Греческие имена с ИП -aj, РП -a провоцировали славянских книжников насоздание двусмысленных в деклинационном отношении форм типа ИП àëóìïà53в11–12 — РП àëóìïà 53в7–8, ИП ãóðèÿ, ñàìîíà 59б10–11 — РП ãóðèÿ, ñàìîíà59а10–11 (наряду с ТП ñàìîíîþ 77б1–2 и ИП ñàìîíú 77б10–11), ИП åðìà 46в11 —РП åðìà 46в1, ИП Ìàðóôà 150а22–23— РП ìàðóôà 150а22 (но: ИП ïàòðîâà 46в4–5 — РП ïàòðîâû 46в1, ИП ôåwíà 115а12 — РП ôåwíû 114г21, ИП ôîìà 13б4 — РПôîìû 13а17). Имя императора Константа — Kènstaj, -antoj — дает два разноос-новных рефлекса: ИП êîñòà 48г8–9 (с устранением греческого окончания) — РПêîñòàíòà 48г15 (с заменой греческого окончания славянским).
Вариативность склонения характеризует и слова, восходящие к греческим не-склоняемым существительным и существительным жен. рода на -ij. Так, неизме-няемому 'Elis£bet соответствуют — буквально на одной странице — формы по*ā- и *i-склонениям: РП åëèñàâåôû 31в6 и ВП åëèñàâåôü 31г7–8, a†resij рефлекси-руется как åðåñà (три формы по *ā-склонению) и как åðåñü (12 форм по *i-скло-нению).
Двоякое развитие демонстрируют существительные, восходящие к греческимсобственным и нарицательным именам на -polij. Помимо сохраняющейся и в со-временном языке вариативности — *jā-склонение у нарицательного ìèòðîïîëèÿ(например, § ì·òðîïîëèý ãúðòóíüñêûÿ 102а9–10) и *jo-склонение у топонимов на-ïîëü, — формы по *jā-склонению спорадически наблюдаются и у названий го-родов: РП (§) äåêïîëèÿ 64б1, МП àðãóðîïîëèè 41в13, âú àìüôèïîëèè 50в22–г1,âú ìàðòèðîïîëèè 150а20; особо отметим ВП íàðå÷å è ìàðòóðîïîëè 150б21–22 (ср.греч. acc. на -in); к форме ВП на -ïîëè восходит и искаженное в Соф вследствиегаплографии написание (âåäåíú) âú ìàðêèàíó• ïî ëèöþ (æüãóùà) 158в10–11 из *âúìàðêèàíóïîëè ïî ëèöþ (æüãîø) (¢cqeˆj e„j MarkianoÚpolin… tÕ prÒswponka…etai).
Крайним случаем грецизации в области склонения является словоизменениеимени, восходящего к греч. Mari£mnh: в славянском оно сохраняет облик грече-ской основы (за исключением консонантных флексий) — а именно форму ìàðèàì-íè — в ИП (151в5), РП (149а19–20, 151а23–б1) и ВП (151б17)6.
6 ДП и МП в Соф отсутствуют; аналогичная форма ВП отмечена в февральской Минее [Крысь-
ко 2009, 67], ср. также [ИИВ I, 20; II, 115].
Часть II. Исследования
802
4. Звательная форма
Помимо совершенно регулярного употребления у имен существительных *ā-,*o- и *i-склонений (например, âàðâàðî 78г18, âë�äêî 135б4, 136а4, á�îwòðîêîâèöå 82б1,öýâüíèöå 112б5–6, ïð� Dò÷å 117в18, 156г17, ã� Tèíå 12г15–16, ïñå 87г22, äðóæå 120а8, ö� Tðþ28в14, 65б14, æèòåëþ 117в19–20, âñåäüðæèòåëþ 145а11–12, ã� Tè 106в12), в том числе ив соответствии с греческими indeclinabilia (èîñè»å 105б18 — 'Iws»f, ¬ôðýìå 129в1–2 — 'Efra…m), особое образование вокатива наблюдается у имен *jo-склонения на-èè, воспроизводящих в этой позиции греческую флексию -e [Вайан 1952, 108],ср.: ñâ�Uëþ àíü»èëîõè¬ 67г13–14, àíòîíè¬ 145в21, ãðèãîðè¬ 68г13; греческая Зв. сохра-няется и у существительного àíäðýè: àíäðýà 74г16 ('Andrša). Вокатив ¶ñ � 138в15('Ihsoà) отражает обычное для этого сакрального имени условно-сокращенное на-писание формы без окончания.
В соответствии с греческим звательные формы (по *o-склонению) нередко —особенно в тропарях — используются также у прилагательных, относящихся клицам мужского пола (ïüðâîì÷�í÷å ïðýõâàëíå 105г16–17, ïðýõâàëíå ñòå»àíå 106а3–4,î÷�å ïðï� Dáíå 122г3, 154а7, ñòðàñòîòüðïü÷å ñëàâüíå ôåwäîðå 142б20, ïðýñëàâüíå 133г5,ìóäðå 112б3, 145в21, íå÷üñòèâå 96в13–14, ïðï� Dáüíå 85г7–8 и др., áë�æíå 24в15,129б22 — но áë�æíûè 154а3, ñëàâüíå 142б20 — но ñëàâüíúè 150г2–3), и даже у ме-стоимения åäèíú в адъективном значении ‘единственный’: ¬äèíå ÷ë�âêîëþá÷<å>14б5 (mÒne), 109г1, 149б14.
5. Взаимодействие *о- и *u-склонений
Унификация *о- и *u-склонений началась еще в праславянский период и изна-чально охватывала односложные основы, но ко времени создания славянскогоСинаксаря и тем более Софийского списка получила существенно более широкоераспространение.
Среди «этимологических» *u-основных имен исконная парадигма в полномобъеме нигде, по-видимому, не сохранилась. Так, ñûíú демонстрирует в РП и ВП(В=Р) ед. ч. исключительно флексию -à; в ДП одному примеру с исконной формойñí �âè 37б13 противостоят шесть примеров с флексией -ó; в МП исконное образо-вание (w) ñí �ó 142а14 «уравновешивается» формой (w) ñûíý 120б1 — и лишь в ТПнаблюдаются только формы на -úìü, что, однако, в свете широчайшей экспансииэтого окончания (см. ниже) едва ли может служить иллюстрацией архаичногосклонения. В дв. ч. одна исконная форма ТП (ñú) ñûíúìà 127б21–22 выступает нафоне четырех *о-основных образований — ИП ñí �à 26б3, 127б5 и РП ñûíó 42а9,ñí �ó 80б15; искаженным реликтом ИП дв. ч. ñûíû является, по всей видимости,бессмысленное ñòðàíû 42а14 в контексте, где греческий оригинал содержит формуuƒo… (о Косме и Дамиане). И только во мн. ч. зарегистрированы не имеющие ва-риантов формы *u-склонения, однако их немногочисленность не дает основанийдля далеко идущих выводов, ср.: ИП ñí �âå 27в8, 92б11, ДП ñí �úìú 32б5. Кроме того,о наличии *u-основной флексии -îâú в РП мн. ч. косвенно свидетельствует иска-женная форма (âúøåäú âú ¬äèíú) wñíîâú (ãðàäà) 64б20, восходящая к представлен-
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
803
ному в других списках § ñí �âú ‘(в одну) из башен’, от омонимичного германизмаñûíú2, уподобившегося в деклинационном отношении слову ñûíú1 ‘сын’.
Исключительно *u-основные формы отмечены у слова ïîëú (РП ед. ч. äî ïîëóíîùè 48б21, МП íà ïîëó 143б8, ВП дв. ч. íà ïîëû 88а21–22, 126а6, 133в7–8), одна-ко при отсутствии других релевантных форм (например, ДП ед. ч. или ДП дв. ч.)мы, естественно, не можем говорить о полноте парадигмы. То же относится к сло-ву äîìú, весьма рано вошедшему в орбиту *u-склонения, ср. РП ед. ч. äîìó94б21, èç äîìó 50б15, § äîìó 91г18, МП âú äîìó (6 примеров), ИП мн. ч. äîìîâå120в21.
Напротив, исконно *u-основное существительное ëåäú дважды выступает свторичной флексией МП ед. ч. по *o-склонению: (íà) ëåäý 8б21, 8г14.
Другое существительное *u-склонения, òúðãú, демонстрирует как будто быэтимологически закономерную форму РП ед. ч.: áë·çü òúðãó 50г12, но отсутствиедругих примеров с данным словом не дает простора для обобщений, тем более чтопри предлогах áëèçú / áëèçü был возможен и ДП [Крысько 2007, 13] и, следова-тельно, òúðãó может быть и дативной формой.
Наиболее заметным проявлением экспансии *u-склонения следует признатьмассовое распространение флексии ТП ед. ч. -úìü — более 250 примеров. На фоневесьма ограниченного («vereinzelt» [Diels 1932, 151]) использования подобныхформ в старославянском языке, где они, по мнению А. Вайана [1952, 109], отра-жают традицию «западного церковнославянского языка» — если вообще не пред-ставляют собой результат смешения ú и î после падения редуцированных, — вСоф данное явление логично признать одним из русизмов. В самом деле, исконнаядля *o-склонения флексия -îìü фигурирует в нашем памятнике лишь в сравни-тельно немногих случаях (72) — обычно рядом с формами на -úìü, ср.: 1-й по-черк — ö �Tðâîìü 2б2 (после *n-основного ïåðñòåíåìü), ïðîçâyòåðîìü 10а7–8, 39б4–5,ïîïîìü 13в12 (vs. äüÿêîíúìü 13в13), ãåìîíîìü 21в5, ôîíòîìü 33г6 (искажение пер-воначального ïî òîìü), 3-й почерк — ¬ï·ñêóïîìü 112б13–14, ïàòðèàðõîìü 122б17–18, ¬ï�Tïîìü 130в207; большинство таких написаний (56) сосредоточено в отрезке2-го писца: ÷ë� B÷üñêîìü ÿçûêîìü 42в4–5, ïàòðèàðõîìü 48в20, âåëèêîìü ãëà�Tìü 49б18,ïðîçâþòåðîìü 54г19, íèêè»îðîìü 55а9–10, ñþíüêëèòîìü 55г18–19, èðîäîìü 60б8, ó÷å-íèêîìü 60в21, ñìûñëîìü 61б15, âúçäðàñòîìü 62а21 (vs. âúçðàñòúìü 61а3), äûìîìü62б10–11, ä¹õîìü 64а11–12, ïîìûñëîìü 64г13, èwàíîìü ïîñòüíèêîìü 65г14–15, äüÿ-êîíîìü 69а18–19, 95а11, íðàâîìü 71г16–17, ðîäîìü 72а21, ÷ðýâîìü 72в12, ö� Tðâîìü72в16, 73г16, íîñîìü 73в20, (ñú) âîëîìü 76б15–168, ñ ìþðîìü 77а17–18, ïðýñò¹ïíèêîìü•è âðàãúìü õ �Tâîìü 84а8–10, æåëýçíîìü ïîÿñîìü ðàæüæåíúìü 84а14–15, ñâýòúìü èãóìå-íîâîìü 85б18–19, wáðàçúìü ïðîñòú• ñð �äöåìü ñìýðåíîìü 85г14, ñú çëàòîìü ìíîãîìü97б18–19, åówäîìü 101в18–19, ñòðàõîìü 103а14, ðîæüñòâîìü 103а18, äüÿâîëîìü103б11, èîñè»îìü 104г12, äóõîìü 105г10 (но: äóõúìü 105г15), ìíèõîìü 106г2–3,110б17, ÷üðíèëîìü 106г15–16, èíäîìü 107в14–15, ãëàäîìü 109в15, ö� Tðòâîìü 110а159.
7 Ошибочная форма под влиянием предыдущего ñëîâåñåìü, вм. -ïà в других списках.8 У исконно *u-основного существительного (при отсутствии других релевантных форм)!9 В сокращенном написании á�îìü 60б14 нельзя быть уверенным, относится ли î к флексии или к
корню.
Часть II. Исследования
804
Крайне редки (и представлены лишь во 2-м почерке) формы, отражающие нетолько -î- во флексии, но и отвердение конечного [м’]: ñú ãíýâîìú 65в22, ïîñòàâ-ëåíú áûm� ïàòðèàðõîìú 90а2–3, 107б12–13. Значительная часть примеров с -îìü при-ходится на устойчивое сочетание ñú ìèðîìü (12 vs. 32 с -úìü, из них 10 во 2-м по-черке), а также на существительные, первоначально относившиеся к основе на*s, — может быть, потому, что они позже подключились к процессам унификациив *o- и *u-склонениях (ñëîâîìü 11в18, 121а13, òýëîìü 57б15, 105г14, 113б21, ÷þ-äîìü 57г19). Отчасти наличие форм на -îìü можно объяснить прояснением [ъ] вокончании -úìü, однако в свете того обстоятельства, что «вокализация сильныхредуцированных в корнях, суффиксах и флексиях представлена [в Соф] незначи-тельным числом примеров» (см. наст. том, с. 000), такая интерпретация кажетсяактуальной скорее для 1-го и 3-го почерков, где немногие случаи c -îìü коррели-руют со столь же немногочисленными случаями прояснения еров, нежели для 2-гопочерка, где относительная частотность написаний с -îìü (более 40 % от общегоколичества примеров с ТП) вступает в противоречие со спорадичностью примероввокализации в корнях и суффиксах, хотя и сопоставима (si licet parva componeremagnis) с удельным весом -å-форм во флексиях *i- и консонантного склонений10.Ввиду существенного преобладания написаний с -å- в указанных позициях в ста-рославянских текстах [Diels 1932, 161, 163, 165, 167, 171, 173] представляется ве-роятным, что в обеих категориях форм 2-й писец, который и в других аспектах не-редко проявляет известный консерватизм (см., например, на с. 818 о нестяженныхформах на -ûè-), следовал не столько собственному произношению, сколько юж-нославянскому протографу.
Окончание -úìü засвидетельствовано (помимо исконных *u-основ либо слов,издревле изменяющихся по *u-склонению: äîìúìü 10в16) не только у masculina,но и у neutra, относившихся к *o- и консонантному склонению (çëàòúìü 15б21,÷èñëúìü 20в4, 41в15, ñòúìü 24г6, 63в19, ïðàâèëúìü 30г19–20, ÷þâüñòâúìü 78г10,òýëúìü 111г1, 123б8, 134в, ëóêàâüñòâúìü 120б8, ñëîâúìü 157в14–15), а также уименных прилагательных, определяющих существительные муж. и сред. рода(ïîâåëýíè¬ìü ãåìîíîâúìü 6а16, âåëèêúìü æå ãëà� Tìü 30г2, ìíîãúìü òå÷åíè¬ìü 74в18,õëóäè¬ìü wñòðúìü 114в10–11, ïîâåëýíè¬ìü ö � Tðåâúìü 115а16, âëàñíúìü ïëàòúìü128г16–17). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что распространение-úìü не ограничено односложными существительными, в кругу которых из-начально протекала унификация *o- и *u-склонений, ср.: èãåìîíúìü• è àëüêñàíä-ðúìü 3б14–15; åï�Tïúìü• îïòàòúìü 7в17; âëúøüñòâúìü 7в22–г1; äüÿêîíúìü 9г16–17и др.
В мягком варианте *o-склонения, напротив, исконное окончание -åìü преобла-дает (70 форм, не считая десятков примеров с практически безвариантным -¬ìüпосле гласных), тогда как -üìü наблюдается лишь в немногих случаях: ö �Tðüìü
10 Ср. ТП ед. ч. êàìåíåìü 58г12, ïóòåìü 83а6, ï¹òåìü 109а8–9, èìåíåìü 52в7–8, 97а11–12, 103г7–8
vs. èìåíüìü 42а15, 42б6, 42б11, 47а20, 51в3, 51в11, 51в20, 73г5, 89б15–16, ã�üìü 60б13–14; ДП мн. ч.äâüðåìú 81а5, ñëîâåñåìú 83б8–9, ÷þäåñåìú 83б12–13 vs. çâýðüìú 96б19, ëþäüìú 55б18, 82а8; МП ñëîâå-ñåõú 56а21, äåñòåõú 64г4, äí�åõú 64г4–5 vs. äí�üõú 43б1, áðàíüõú 45в19, òðüõú 64г4, 66г18–19, êîëåñüõú68б22–в1, ÿñëüõú 103г1, ëþäüõú 106б13–14.
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
805
(5 примеров vs. 14 с -åìü), ìå÷üìü (9 примеров vs. 24 с -åìü), èäîëîñëóæèòåëüìü42г18–19, îö �üìü 79а22–б1, ìóæüìü 91б811, — что очевидным образом свидетель-ствует о более позднем вовлечении *jo-основ в деклинационную унификацию,охватившую первоначально только существительные с твердым исходом основы.Широкая употребительность -üìü у слова êíçü (12 примеров vs. 12 -åìü), возмож-но, объясняется тем, что оно подверглось влиянию *u-склонения еще до начала IIIпалатализации, т. е. в форме *kъnęgъ. Примечательно соположение образованийна -úìü и -åìü в аппозитивных сочетаниях: âàóäúìü… êíçåìü 1г13–15, êíçåìü•àðèàíúìü 4б6–7, ìèõàèëúìü ö� Tðåìü 33в22–г1, ñú àðèàíúìü á�àòûìü• íýêûèìü ìóæåìü88а19–21 — и у однородных членов: ñú ö � Tðåìü• è ïàòðèàðõúìü 3г2–3. Совершенноизолирована единственная форма, отражающая флексию -[ьмь] после основы на-[j]: ìèíüäýèìü 13б7–8 (где è = [jь]); этому образованию, находящему параллели встарославянском (îëý¶ìú [Вайан 1952, 108]), противостоят несколько примеров на-ý¬ìü: âàð»îëîìý¬ìü 58а17–18, âàðôîëîìý¬ìü 151б5–6, äîðî»ý¬ìü 108в4–5, çåâå-äý¬ìü 60а13, òèìî»ý¬ìü 46в21–22, 75б4–5, — не говоря уже о чрезвычайно час-тотных формах на -è¬ìü (ñú ñí�úìü ñâîèìü• äèìèòðè¬ìü 29в17).
Столь же последовательно сохраняется исконная флексия -îìú (и тем бо-лее -åìú) в ДП мн. ч. *o-основных существительных (÷ë�âêîìú 1а17, áýñîìú 1г17,èäîëîìú 1г19, 38а14–15 и мн. др., ðàòîáîðöåìú 1в14–15, åðåòèêîìú 34в11, ìýñòîìú38б23, 69а18, ðåáðîìú 40в4–5, ÷èíîìú 51а15, ÷äîìú 55б9–10, ïî óñòîìú 62в22,ëîâöåìú 63в12, òðýáèùåìú 102б5–6, æüðüöåìú 120б20 и т. д.), а также прилага-тельных (õT�üÿíîìú 59б9, ìíîãîìú 73г7) и причастий (óáèâà¬ìîìú 49б9, ïîñëàíîìú63в13, èñòçà¬ìîìú 72г8, ïîòðýáëåíîìú 77г2, òîìëåíîìú 120б22 и др.). Примерына -úìú весьма немногочисленны, хотя и встречаются у разных существительных*o-склонения: ÷ðåâúìú 4б15, 29а18, ïî ðåáðúìú 6а10, 35в, ïî ðåáðú|ìú 68б4–5, ñóùåìúâðàãú|ìú 6в3–4, áýñúìú 23в20, àï� Tëú|ìú 27в10–11, àï� Tëúìú 30г13, ïî ñúñòàâú|ìú28а3–4, ïî ãðàäúìú 28в1, åëèíúìú 32в18 (но ниже — áýñîìú 32в20–21, èäîëîìú32в22), ñòúìú 33а18, èäîëúìú 42в22, âúëõâú|ìú 108г20–21, àíã�ëúìú 110б24, а такжеу причастия (ÿòúìú æå áûâøåìú 35б12–13). На фоне написаний с предвосхище-нием последующего ú, типа ñàòóðúâú 33г16, ¬ïèñêúïú 41в22–г1, ÿçúêú 45в21,эти формы допускают и чисто графическую интерпретацию. Возможно, чуждостьформ на -úìú/-üìú языковому узусу служит причиной переосмыслений, когдана месте ожидаемого окончания ДП мн. ч. -îìú/-åìú фигурирует флексия ТПед. ч. -úìü/-üìü, очевидно, заменяющая ДП с -úìú/-üìú, ср. îìèðèòúìü 34а9 vs.греч. РП мн. ч. `Omhritîn, èäîëîñëóæèòåëüìü 42г18–19 vs. to‹j e„dwlol£traij (П-üìú).
В условиях безраздельного господства обычных форм ТП мн. ч. на -û в *o-склонении всего один раз зафиксировано образование с флексией -úìè: è òàêîâú áýäø�åïîëüçüíú• ÿêî ìíîçýìú îñòàâëò· ìèðà ñåãî• è âíèìàòè ¬ìó• è ìíèõìè áûòè18в12 vs. синтаксически более оправданного в данном контексте и, по-видимому,первичного ìíèõîìú П. Хотя такие образования встречаются уже в старославян-ском [Diels 1932, 157] и весьма частотны в древнерусских памятниках [ИГДРЯ I,
11 Сюда, конечно, не относятся регулярные (и исконные) формы на -üìü консонантного склоне-ния (èìåíüìü).
Часть II. Исследования
806
91–92], они очевидно чужды языку Синаксаря12. Уникальность данной формы да-ет основания считать ее индивидуальной инновацией 1-го писца, причем с учетомособой соотнесенности форм на -úìè с юго-западным ареалом [ИГДРЯ I, 92, 93]ее, может быть, следовало бы рассматривать и как один из немногих диагности-рующих признаков, позволяющих уточнить происхождение очевидно неновгород-ской рукописи Соф.
Таким образом, наш материал подтверждает тот факт, что процесс внутри-родовой унификации *o- и *u-склонений вначале затронул ед. ч. Однако и в этойсубпарадигме активность распространения *u-флексий по разным падежам несовпадала. Так, в РП ед. ч. окончание -ó у исконных *o-основных существитель-ных (даже односложных) представлено лишь единичными примерами. Показа-тельно в этом плане обращение к разночтениям: например, словосочетание ìíîãó÷èíó 51а16–17, с греческой параллелью ˜tšraj t£xewj (РП), в других списках вы-глядит как èíîãî ÷èíà, и можно предположить, что в первоначальном тексте фигу-рировала конструкция *èíîãî ÷èíó, в которой *u-основная форма РП затем либозаменялась *o-основной, либо, как в Соф, переосмысливалась в качестве ДП. Про-тивоположное развитие отражено в примере Òè ¬þïòíå áýàõ¹• ðîäó êðüñòüÿíà94в10, где другие списки в соответствии с греческим винительным отношения tÕgšnoj cristiano… демонстрируют ТП отношения ðîäîìü + ИП существительного;тем самым словосочетание в Соф предстает как результат переосмысления кон-струкции в качестве родительного определительного.
Несколько более частотны формы МП односложных существительных, тради-ционно ассоциируемых с *u-склонением, хотя этимологически к нему и не отно-сящихся, ср.: âú ÷èíó 59б13, 70г18–19, 150г14, (íà) ñàíó 155б14 (но: РП ñàíà14б22, 51а13), âú ïèðó 16в18–19.
Еще более употребительна — хотя в целом существенно уступает исконной-ó — флексия ДП ед. ч. -îâè, которая встречается у слов как с односложной, так ис неодносложной основой, ср.: áâ�è 61б16, 109г11, áã�âè 115г11 (на фоне десятковпримеров с исконной флексией -ó), áýñîâè 31б10–11, êðîíîâè 64г6–7 (но: êðîíó64в15), ëüâîâ· 91б18 (имя личное, ср. ëüâó 13г13, 84г2, 147г1–2), ìèðîâè 129б8(в тропаре; но: ìèðó 6×), ï¬òðîâè 73а15 (но: ïåòðó 5×), ïîïîâè 47б9; äâ�äâè 105б19,ôàìyðîâè 3б8, ïèëàòîâè 25а2–3, èwñåäåêîâè 142а9. Весьма частотны формы с окон-чанием *u-склонения в ДП существительного õðèñòîñú (36 примеров из 53), причемпреимущественно в беспредложных конструкциях (32), тогда как с предлогом êúпреобладает форма на -ó (12 vs. 4).
Флексия ИП мн. ч. -îâå за пределами исконного *u-склонения представленатолько у существительного ëüâú: ëüâîâå 90г13, 130б10, 136в6, 136в7–8. Значитель-но чаще наблюдается окончание РП -îâú, соотносящееся почти исключительно содносложными основами: § áýñîâú 72а3–4, 72а8, 84в12, 93б10, 134в17, âúëúõâîâú103г4, 45а15 (но: âúëúõâú 45а5; § âúëõâú 138б16; § âúëúõâú 104б11, 104в16), ãðý-õîâú 67г18, 105г17–18; ãðýõîâú 35г14 (но: ãðýõú ðàäè 127г22, 148б5; ãðåõú 35г20),äàðîâú 148б3, ëüâîâú 130а17, § ñàíîâú 149б23; ÷ñîâú 59б18 (но: ÷à� T 5в17, 35в16,
12 Äàðúìè в (íàäú) äàðìè 10а2 и Л, 137г [ИГДРЯ I, 81] — форма существительного, издавна вхо-дящего в круг *u-основ.
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
807
75б10, 111а3, 133в15; ÷� T 42а3); единственный пример у неодносложного существи-тельного — ö �Tðåâú 91а20 (но: § öüñàðü 74б3–4, § ö� Tðü 81в17, 107а20, 122в11, 131г14).
Распространение *u-основных образований на мягкий вариант *o-склонениязасвидетельствовано прежде всего формами ДП на -åâè (конкурирующими с -þуже в старославянском, см. [Diels 1932, 159]): ìóæåâè 3б6–7, 110б9, 141в17, 155в3(но: ìóæþ 97в19), êú ìó÷èòåëåâè 10г11–12 (но: ì÷�òëþ 159в7), äúæäåâè 48б2,çìü¬âè 58в12, çìè¬âè 118б10, ïøåíèöåõðàíèòåëåâè 68в15, ñò�èòåëåâè 118г7, ìå÷åâè143г9–10, а также, вероятно, êîíäàêàðåâ (так!) 6в22 — скорее всего, в заголовкепредставлена форма на -åâè, хотя и недописанная, как это нередко бывает именнов заголовках (ср. в других списках: У325, Тп158, Тп160 êîíäàêàðåâè, С êàíäàêàð]‘кондакаря’, т. е. сборника кондаков, что по смыслу близко к греч. tîn kontak…wn‘кондаков’). У существительного öüñàðü флексия -åâè значительно преобладает: 33примера против двух с исконным окончанием (ö �Tðþ 107г22; êú ö� Tðþ 14б16). Приме-чательно, что круг имен, употребляющихся с данной флексией, не ограничиваетсятак называемым личным подродом или названиями персонифицированных пред-метов (ср. [Вайан 1952, 113]).
В МП мягкого варианта флексия *u-склонения зафиксирована только у суще-ствительного ãíîè: âú ãíîþ 25а9 (1-й писец), 102б14 (2-й писец), причем оба при-мера едва ли могут быть возведены к протографу перевода, так как в первом слу-чае многие списки демонстрируют вариантное чтение ãíîèùè, а во втором —ãíîè13. В один ряд с этой формой вряд ли может быть поставлено написание (ïîòîìü) ãîíåíèþ 115а4, которое, очевидно, представляет собой просто ошибочное по-вторение формы ДП ãîíåíèþ со 2-й строки.
В ИП и РП мн. ч. окончания -åâå, -åâú отмечены только у одной лексемы: âðà÷åâå81в7, § âðà÷åâú 41б12 (ср. [Вайан 1952, 113]).
Особенностью, восходящей к старославянской письменности [Вайан 1952,108], является необозначение мягкости основы в образованиях от имен собствен-ных на -[j] (в том числе во вторичных формах с флексиями *u-склонения), т. е. ис-пользование в таких случаях окончаний твердого варианта: êú àíäðýwâè 68в14–15,àíäðýîâè 73а15–16, è¬ðýwìú 48б8, è¬ðýîìú 112б1, èþäýwìú 135а4, êîðåíü»ýwìú81г15 (аналогично — в притяжательных прилагательных с суффиксом -îâ-: ñàêó-äèwâú 54г14, àíüôåìèwâû 116г16–17).
6. Вариативность флексийв мягких вариантах *ā- и *o-склонений
Яркой особенностью Соф является широкое распространение древнерусскойфлексии РП ед. ч. *jā-склонения -ý: из 247 форм, зафиксированных в памятнике,церковнославянское окончание -[’а] (-à, -ÿ, -) наблюдается в 140 случаях, вос-точнославянское -ý — в 96 (у всех трех основных писцов); кроме того, 11 раз за-
13 Форма во гною` отмечена А. А. Зализняком в Травнике рубежа XVI–XVII вв., относимом к за-
паду южновеликорусской территории [Зализняк 1985, 251, 227].
Часть II. Исследования
808
регистрированы формы на -è, к анализу которых мы обратимся позже, после рас-смотрения древнерусских форм.
Обращает на себя внимание концентрация образований на -ý среди собствен-ных имен: если флексия -[’а], при общем изобилии антропонимов в тексте Синак-саря, почти поровну распределена между именами нарицательными и собствен-ными (resp. 67 и 73 примера), то -ý 59 раз отмечена у антропонимов и топонимов и39 — у имен нарицательных, среди которых превалируют ìó÷åíèöà (16 примеров+ ïüðâîì÷�íöý 3а3 vs. 10 с -[’а]) и òüìüíèöà (14 случаев без исключений, что гово-рит о статусе данного написания как устойчивой орфограммы у всех основныхписцов). У остальных нарицательных (существенно менее частотных) использо-вание -ý носит спорадический характер, причем речь идет главным образом о по-зиции при личных именах в заголовках житий: èóñòèíèè äâ�öý 7в5, ïîïëèý• ñëó-æèòåëíöý [так!] 16г15, àíàñòàñèý ðèìëíûíý 39а14, ëyêèý äýâèöý 87б8–9, »åw»àíûö �Tðöý 91а11, ÷þäîòâîðèöý• ñî»üý 94б8, ôåwäîðû ö �Tðöý 145а9; вне данной позициизафиксированы лишь две формы — âú ïîñòåëý ìýñòî 78б21 (NB ý в следующемслоге) и § ì·òðîïîëèý 102а9–10.
Причина последовательного введения древнерусской флексии в круг именсобственных представляется вполне прозрачной: в условиях, когда далеко не каж-дое имя было известно (ср. многочисленные случаи искажений, хотя бы ïàêòîâèÿи íèêîïîëèêòèàíú на соседних строках — 44а17–19), а многие антропонимы — сединственным отличием во флексии — могли относиться как к мужчинам, так и кженщинам (например, àíàñòàñèè и àíàñòàñèÿ, åóãåíèè и åóãåíèÿ), употреблениеоднозначного -ý позволяло отграничить женские имена от мужских и просто мар-кировать относительно редкие женские имена (в оппозиции муж. -ÿ / жен. -ý) —как при соположении имен святого и святой (или имен родителей), так и при пе-речислении, обычно включавшем ряд мужских имен и лишь одно женское, ср.:ñòð �Tü ñò�îþ ì÷�íêó• åyëàìïè• è åyëàìïèý 17г21–22, ñòð� Tòü ñò�ãî• ì÷�íêà• çèíîâèÿ• è çè-íîâèý 41а15–16, ñòð� Tòü ñòû �a• åóòóõèÿ• è ñåëóíý 96а7–814, ñòðà�T ñòûè �a ì÷�íêú• óàêòà èòàóðèwíà• è ôåñàëîí·êèý 50а22–б1, ñòðà� T ñòû �a òåðåíüòèÿ• è âèêåíòèÿ• è åìèëèàíà• èâåâýý 85в14, ñòð �Tòü ñòàC � ì÷�íêà ñåâàñòèàíà• è èæå ñ íèìü• òðàíüêþëèíà• íèêîñòðàòà•êëàâäè• êàñòîðà• òèâóðòèÿ• ìàðêåëèíà• ìàðêà• è çîý 93г4, ñòð �Tòü ñò�îþ ì÷�íêó• çà-êüõýÿ äüêîíà• è–ëú»ýÿ ÷üòüö… è ïàì� U ñò�û ÷þäîòâîðèöý• ñî»üý 94б8–9, äúùèàíàñòàñèÿ ñóíüêëèòèêà• è ñúêðàòèý õðüñòüÿíû 133б2–4.
О том, что при двусмысленных написаниях с -[’а] смешение полов в подобныхконтекстах было возможно, свидетельствуют любопытные случаи смены рода.Так, под 22 октября в Соф поминается ñòðà� T ñòîC �• àëüêñàíäðà åï� Tïà• è àðàêëèÿ ì÷�íêà•àííû æå è åëèñàâåôû ôåwäîòà è ãëóêåðèÿ 31в3–7. Обращение к греческому показы-вает, что мученик Феодот, поименованный после двух святых жен Анны и Елиса-веты, в действительности является мученицей Феодотией (РП QeodÒthj), каковаяи фигурирует в списке С в форме РП с восточнославянской флексией ôåwäîòè¬.Очевидно, что писец Соф, обнаружив в своем антиграфе амбивалентную форму на-ÿ (такую же, как ãëóêåðèÿ) — *ôåwäîòèÿ — осмыслил ее как гиперкорректноеобразование муж. рода (типа РП èóñòèíèÿ 96а6, òåëåñôîðèà 156а19–20, МП ìàêñè-
14 Примечательно, что восточнославянская флексия сохранена и в ю.-сл. сп. I.
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
809
ìèè 59в20–21 вместо èóñòèíà, òåëåñôîðà, ìàêñèìý)15 и заменил в принципе совер-шенно правильной формой без -[иj]- (такое варьирование форм мужского именинаблюдается под 19 января: Л 136в1 ôåwäîòèÿ / П ôåwäîòà, см. т. I, с. 643), не об-ратив, однако, внимания на то, что далее в тексте «святой Феодот» превращается вôåîäîòèþ 31г8. Очень вероятно, что и Гликерия, благодаря двузначной флексииРП, была воспринята переписчиком как святой Гликерий (ср. ИП ãëóêåðèè108в10–11 — Glukšrioj). Еще нагляднее превращение патриарха Игнатия в сынадвух императоров — ìèõàèëà ö �Tð• è ïðîêîïèÿ ö �Tð 33в7–8 (23 октября): амбива-лентная форма ïðîêîïèÿ, понятая как муж. род, логичным образом подвигла писцана замену титула, и вместо императрицы (Тп162 öT�ðöà = tÁj basil…sshj) Прокопиипоявился «император Прокопий» — причем явно не только в Соф, но и в прото-графе некоторых других списков (включая Л), писцы которых предпочли вообщеопустить упоминание ïðîêîïèÿ ö � Tð. К форме жен. рода на -ÿ (Б72 åyäî¿èÿ = EÙdo-x…aj) восходит, очевидно, и имя другого никогда не существовавшего императора,«Евдоксиана» — ¬yäîêñèàíà 127в14–15, в котором -íà предвосхищает следующийпредлог. Как форма муж. рода был воспринят и РП от имени матери Василия Ве-ликого, Эмилии, — об этом явно свидетельствует постановка следующего место-имения в муж. роде, причем во всех списках: áý æå âåëèêûè âàñèëèè ñí �ú âàñèà [в др.сп. âàñèëèÿ] èæå § ïîíòà• è ¬ì·ëèÿ èæå § êàïàäîêèÿ 112а1–5. Дальнейшие приме-ры такого переосмысления, спровоцированного формами на -ÿ в антиграфе, нафоне правильных форм Соф демонстрируют более поздние списки. Так, на местесупругов Õðèñòî»îðà• è ¬ó»èìüý• è ÷äú ¬þ, фигурирующих в Соф 63г21, Тп155поминает двух святых мужей — Христофора и Евфимия — и детей последнего(¬ãî). Святая Апфия, трижды упомянутая в Соф под 23 ноября в формах *jā-склонения (РП àïü»èý 68б17–18, ДП àïî»èè! 68в12, ИП ñò�àÿ àïú»è 68г7), в П,благодаря сохранению церковнославянской формы РП àïôèÿ, превращается в му-ченика Апфия, с последовательной заменой форм *jā-склонения на *jo-склонение(ДП àïôèþ, ИП ñò�ûè àïôèè). В Соф, с другой стороны, представлено еще одно не-гативное следствие омофонии ИП и РП, возникшей в результате восточнославян-ской реинтерпретации старославянского -, — замена правильного ИП родитель-ным под влиянием предшествующей двусмысленной формы на -ÿ: òðè ñåñòðýíèöý•àãàïèÿ• õèwíèý• è èðèíû 100г11–12 (вм. õèîíèÿ è èðèíà).
Показательно, что при отсутствии в ближайшем контексте омонимичной фор-мы ИП и в окружении однозначно генитивных форм церковнославянская флексияимени может не заменяться на -ý: ïàì� U ïðýïîäîáíû• ìåëàíèÿ ðèìëíûí 110а12(ИП появляется 12 строками ниже, однако он не омонимичен форме на -ÿ: ìåëàíèè110а24–25). Напротив, флексия -ý возможна и в окружении совершенно недву-смысленных форм жен. рода, но в этом случае ее употребление, вероятно, вновьобъясняется стремлением к оппозиции женского имени на -èý мужскому на -èÿ:
15 Ср. противоположное явление — усечение -[иj]- или -[ěj]-: РП ôèëîãîíà 98в5 (Filogon…ou) vs.
правильного ИП ôèëîãîíèè 98в8, âàðñèìà 130в13–14 (Barsima…ou) vs. ИП âàðñèìèà 131б19–20, (муче-ника) è¬íóàð Л 33в6 (126) ('Iannouar…ou) vs. èàíóàðèÿ Л 20г17 (90), ИП ïàóñèðú Л 138а16,138а32–33 (668) (Paus…rioj) vs. РП ïàóñèðiÿ Л 138а4–5 (666). Усечение возможно и в именах нари-цательных: ïàòðèêà 66б17 (patrik…ou) vs. П ïàòðèêèÿ, ïðîñòîñïàôàðà 33г3–4 (prwtospaq£rion).
Часть II. Исследования
810
ïàì� U ïðï�Dáíûÿ ìò�ðå íàøåÿ• àïîëèíàðèý• äúùåðå• àíüôåìèwâû• è ïðýïîäîáüíàãî îö �àíàøåãî ãðèãîðèÿ 116г15–19.
В кругу *jā-masculina использование флексии -ý позволяло осуществить аде-кватную идентификацию имен на -[jа] в отличие от имен на -[jь], например: èëèýèåð �Tëìüñêàãî 20в2 (от начальной формы èëèÿ, ср. в Л 15б22, 28 под 13 сентября,в части, не сохранившейся в Соф, формы имени èëèè), ñò�ûõú ì÷�íêú• ïðîìà• àðýÿ•è–ëüý 94в8 (ср. ИП àðýè 94г11–12 — èëüÿ 94г21), ñòð� Tòü ñò�ãî ìó�c àíàíèý 75г5 (и да-лее ИП Àíàíèÿ). В свою очередь, форма РП çàõàðèÿ 122в1, может быть, указываетна восприятие имени пророка как *jo-основного çàõàðèè, ср. В=Р çàðèÿ (вм. çàõà-ðèÿ) в С 8а16 (т. I, с. 32) (см. также [Шульга 2003, 47]). Противоположное осмыс-ление отражено в *jā-основном ИП âàðñèìèà 131б19–20 vs. греч. Barsima‹oj и Сâàðñèì·è.
Маркированием рода, по-видимому, объясняется использование -ý у геогра-фических названий: § àëüêñàíäðèý 71б8–9, § àëåêñàíüäðèý 132б20–21, ñòâîð–è ¬ï� Tïàêîëîíè¬ 82г16, § ñòðàíû àôðèêèý 135б21 (но ср. неизменное êèëèêèÿ, отражающееуверенность писцов в том, что это название страны жен. рода). Название городаПерги Памфилийской (Pšrgh) могло правильно восприниматься как существи-тельное жен. рода, о чем свидетельствует согласование: так, под 21 сентября вУ96 после амбивалентной формы МП, которая в Л 23б12–13 (98) выглядит какïüðãèè, фигурирует определение ïàìôyëèèñòýè (т. I, с. 99); к жен. роду, судя поприлагательному, отнесен этот топоним и в большинстве списков под 9 ноября (Пïåðãèÿ ïàìôiëèèñêûÿ, ср. т. I, с. 321). Однако в Соф обе фиксации данного назва-ния отражают осмысление двузначной формы РП на -[’а] как masculinum: под 9ноября — § ïüðãèÿ• ïàìüôèëèèñêàãî 51б22–в1, под 28 февраля — § ãðàäà ïåðãèà•ïàìôèëèèñêàãî 159г9 — причем во втором случае отсутствие разночтений указы-вает на исконность такой трактовки рода (видимо, поддержанной влиянием словаãðàäà). Незнание писцом города Тавромения Сицилийского (греч. Tauromšnion =лат. Tauromenium, совр. Таормина) привело, кажется, к осмыслению его как именисвятой, что и нашло выражение в использовании окончания РП -ý, противопос-тавленного -à/-ÿ в именах святых мужей: Âú òú�F äí �ü ñòû � a• ìàðúêèàíà ¬ï� Tïà ñèêåëèè-ñêàãî• ïàíúêðàòèÿ• òàyðîìåíèý• è ôèëàãðèà êyïðüñêàãî 143г20. Тот факт, что обозна-чение епархии св. Панкратия передано не прилагательным, как у окружающихимен, указывает, на наш взгляд, на ошибку не только писца Соф, но и переводчи-ка — вероятно, он воспринял форму РП Tauromen…ou, входящую в тот же ряд, чтои Sikel…aj и KÚprou, как однородную с именами святых — Markianoà, Pag-krat…ou, Filagr…ou (невзирая на то, что 16 строками ниже географический статусТавромения вполне прояснился: ïîñòàâëåíú áú � T¶ § íåãî ¬ï� Tïúìü âú òàyðîìåíèè 144а14).
У существительных ìó÷åíèöà и ïüðâîìó÷åíèöà из 31 фиксации -ý 14 приходят-ся на формулу ñòðàñòü (ïüðâî)ìó÷åíèöý (все 10 случаев с -à/- также отмечены вэтой конструкции). Представляется, что данное распределение отражает стремле-ние писцов к орфографическому противопоставлению разных падежных форм,находящихся рядом, — -ý-форм РП в заголовках памятей и -а-форм ИП в сле-дующем далее тексте жития, ср.: ñòðà�T ñò�ûÿ• ïüðâîì÷�íöý• ôåêëû 3в3 — Ñò�àÿ ïüðâî-ì÷�íö ôåêëà 3в18, ñòðà� T ñò�û ì÷�íöý• õàðèòèíû 12в22 — Ì÷�íöà õàðèòèíà 12г1, ñòðà�Tñò�ûÿ ì÷�íöý èóëèÿíû 97в14 — Èóëüÿíà ì÷�íö 97в15, ñòðà� T ñò�ûÿ ì÷�íöý òàòèÿíû•
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
811
Ì÷�íöà òàòèíà [так!] 123в9–10, ñòðà�T ñò�ûÿ ìó÷åíèöý òðóôåíû 133а20–21 — Ñò�àÿì÷�íöà òðóôåíè16 133а22–б1, ñòðà� T ñò�ûÿ ì÷�íöý ôàóñòû 139г14 — Ôàóñòà õâ�à ì÷�íöà139г17. Аналогичным образом объясняется варьирование -ý- и -а-форм существи-тельных äýâèöà, öüñàðèöà в противопоставлениях: ñòðà� T... èóñòèíèè äâ�öý 7в517 —äâ�öà áøå… èóñòèíà ãë�åìàÿ 7в12–14, (память) »åw»àíû ö� Tðöý 91а11 — Áë�æíàÿ »åw-»àíà ö � Tðö 91а14, ïàì�U ôåwäîðû ö �Tðöý 145а9 — Áë�æíàÿ ö � Tðöà ôåwäîðà 145б1; сим-птоматично, что -а-формы РП данных существительных фигурируют в Соф внепротивопоставлений, т. е. не в заголовках (ö � Tðöà 13в22, 19б21, äâ�ö 82б22). Флек-сия -ý может не использоваться и в том случае, когда исконная старославянскаяоппозиция ИП на -à / РП на -, характерная для протографа Синаксаря, сохраняет-ся на письме, ср.: Âú òú � F äí �ü• ñò�ûÿ ì÷�íö• êàïåòîëèíû 37в1 — Ì÷�íöà êàïåòîëèíà37в4.
Предложенное объяснение кажется логичным и для находящихся рядом формРП и ИП от личных имен, ср.: ñòðàT � ñò�û ì÷�íöà• àíàñòàñèý äâ�û — Ì÷�íöà õ � Tâà àíà-ñòàñèÿ 21б14–16, ñò�ûÿ ì÷�íö• êèêèëèý 69б17 — Ì÷�íö êèêèëüÿ 69б20, ñòðàT � ñò�ûì÷�íöà• ëyêèý äýâèöý 87б8–9 — Ì÷�íö ëóêèÿ 87б10 (примечательно, что приразличении форм личного имени орфографическая оппозиция форм слова ìó÷å-íèöà становится избыточной), ïàì� U• ïðýïîäîáüíûÿ ñóíüêëèòèêèý• Ñò�àÿ ñóíüêëè-òèêèÿ 115г14–15, ñòðà� T ñò�ûÿ ì÷�íöý àãàôèý• Ì÷�íöà õâ�à àãàôèÿ 137г9–10.
Периферийное место среди варьирующихся форм РП мягкой разновидностизанимает генитив на -è (с предшествующей согласной, 4 примера): ñòð �Tòü ñò�õú•æåíú• ðè¾èìèý• è ãàèÿíè• è äðóæèíû å]� 5а17–18, îâà áî áýñòà• ñí �à ôåîäîòè æåíû26б3, ïàì�U… ìàðèàìíè 149а19–20 (в перечне имен, см. ниже), ïàì� U• ñò�ûÿ ìàðèàì-íè 151а23–б1 — и -èè (5–7 примеров): ñòðà�T ñò�ûÿ ôåîäîòèè 32б17 (менее вероятно,что это ДП, варьирующийся с РП при слове ñòðàñòü), (страсть) åyíèêèè 38г9 (в пе-речне имен); æåíû íýêî¬ÿ… èìåíüìü »åwäîòèè 42а15–16, ñòðà� T… ôåwäîòèè 47а5 (всписке имен), (страсть) ìèëèà• ¬ï� Tïà• è ó÷åíèêà ¬ãî• åâîðèè• ïàïû• è ñåâîèà• äüÿêî-íà 56г8; в двух однотипных случаях идентификация форм не вполне надежна: §ñåëà íàðèöà¬ìàãî êàíäàâëèè 2а13 (legomšnou KandaÚlhj), § ñåëà äàâóäèè íà-ðèö¬ìàãî 59в21 (Daboud¾ kaloumšnou) — хотя в оборотах с причастием íàðèöàå-ìûè как само причастие, так и имя (название) обычно согласуются в падеже с су-ществительным, от которого зависит причастный оборот, в Соф отмечена и кон-струкция с ИП: íà ìýñòý• íàðèöà¬ìýìü ôåðåìàíú 26б8 (kaloumšnJ Ferem©n)18.А. А. Шахматов [1957, 81–82] привел ряд подобных форм из памятников XII в.,подчеркнув, что это памятники «именно русской редакции». В нашем материале,однако, флексия -(è)è совершенно не встречается у существительных на -èÿ, вос-ходящих к греческим на -ia, -iaj (ср. у Шахматова Захарии, Наталии, Зиновии), иограничена в своем употреблении именами собственными, образованными от
16 См. примеч. 5.17 В данном случае введение формы äâ�öý, не имеющей параллелей в греческом и в других спи-
сках, очевидно, является инициативой писца, который таким способом дополнительно маркировалоппозицию мужского и женского имен в контексте с предшествующим именем мученика: ñòðà� T ñò�ãîêyïðèÿíà.
18 В конструкции ïðàçäíèêú ïíüòèêîñòèè 27в2–3 мы имеем дело скорее с ДП, обычным в при-именной позиции в соответствии с греческим генитивом.
Часть II. Исследования
812
имен с основой на -h-, в контекстах, где греческий оригинал демонстрирует гени-тивную флексию -hj (и только в соответствии с åâîðèè — 'EbÒrh, äàâóäèè — Da-boud»). На фоне уже упоминавшегося выше минимализма в склонении слова ìà-ðèàìíè, сохраняющего -è по меньшей мере в трех падежах (но, очевидно, также ив ДП и МП), кажется весьма плодотворной идея Л. В. Прокопенко (высказанная вкомментариях к I тому, с. 137, 221, 245, 305) о том, что формы РП типа ôåîäîòèповторяют греческие, но только с естественным для славянского устранением ко-нечной согласной. Как номинативные, так и генитивные формы такого типа на-блюдаются в Соф лишь в виде реликтов, а в более поздних списках практическиизживаются — что позволяет со значительной долей вероятности реконструиро-вать для протографа Синаксаря более последовательное сохранение данной арха-ичной черты. По сравнению со столь вопиюще неславянскими образованиямиформы на -èè выступают как вторичные, как продукт славянизации, предпола-гающей распространение на РП основы -[иj]-, утверждавшейся в процессе морфо-логической адаптации и перехода в склонение с основой на *ī, с присущей емуомонимией форм ИП–ДП–МП (ср. ìúëíèè), к которым, судя по данным, приве-денным А. А. Шахматовым, весьма рано примкнул и РП; тем самым возможнаяальтернативная трактовка форм на -è как стяженных из -èè менее предпочтитель-на. Другие пути освоения, также отраженные Соф и позднейшими списками, —распространение более обычных (но и более отличных от исходных) форм на -èÿ /-èý (по мягкому варианту) либо на -û (по твердому варианту). Рядом с этимиформами, как мы видим, написания с -(è)è даже в древнейшем списке Синаксарявыглядят изолированными.
Таким образом, формы на -è в первоначальном тексте славянского переводаСинаксаря образовывали позицию нейтрализации номинатива и генитива. Пер-вичным способом их морфологического и орфографического разграничения яви-лось, как можно предположить, противопоставление форм с флексией -è формам сфиналью -èè, ср.: ñòðà� T ñò�ûÿ ôåîäîòèè 32б17 — Ñò�àÿ ôåîäîòè 32б19. В некоторыхдругих случаях сохранение архаичных флексий либо использование промежуточ-ных форм на -èè служит тем же целям, что и введение восточнославянского окон-чания -ý у женского имени в ряд мужских имен, ср.: ñòû � a• ì÷�Oêú òåðåíòèà• è íåîíèëûè ÷àäú ¬þ• ñàðâèëà• èåðàêà• è ôîòèà• è íèêèòû• è ôåîäóëà• è åyíèêèè• è âèëà 38г5–10; ñòðà�T ñòû �a ì¹÷í �êú• äàñèÿ• è àíúäðîíà• »åwäîòà è ôåwäîòèè 47а3–5; ïàì�U ïðï�Dáíàãîïàôíóòèà• è wôðîñèíèý òîãî äúùåðå• è ñò�ãî ñù�íîì÷�íêà àôàíàñèà• è ïðï� Dáíûÿ è ðàâü-íûÿ àï� Tëîìú• ìàðèàìíè• ñåñòðû ñò�ãî àï� Tëà ôèëèïà 149а14–21 (NB форму wôðîñèíèýс русифицированным анлаутом и древнерусской флексией в Соф vs. исконногоåôðîñèíè, изначально, очевидно, сосуществовавшего с ìàðèàìíè, в болгарском спи-ске П58 и деклинационно измененного ¬ôðîñèíû в списке С).
В ИП и ВП мн. ч. *jā-склонения древнерусские флексии наблюдаются значи-тельно реже, что, однако, во многом определяется относительно низкой частотно-стью самих этих форм. Так, ИП мн. ч. представлен в Соф всего лишь семью упо-треблениями, из которых три демонстрируют южнославянскую по происхожде-нию флексию: äø�à 2в1, êóùà 120а19, ñâýùà 67а2, а четыре — восточнославян-скую: ìîùý 35б5, 142г22, 157б11, ñåñòðýíèöý 100г10, — причем показательно, чтони слова ìîù (в отличие от *i-основного ìîùè), ни слова ñåñòðýíèöà нет в старо-
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
813
славянских памятниках. Формы ВП мн. ч. встречаются существенно чаще, приэтом заметно преобладают церковнославянские флексии — 38 примеров против 9форм с -ý, однако это превосходство во многом иллюзорно, так как большинствопримеров с окончанием -а (26) приходится на устойчивые сочетания со словомäóøà и/или отмечено в тропарях, с их маркированно церковнославянской грам-матикой. Древнерусская флексия абсолютно преобладает у восточнославянизмаìîùý (6 примеров vs. одного с -à), дважды зафиксирована у существительногоäâüðüöà (äâüðöý 79а15–16, äâüðüöý 160в17–18 vs. äâüðüöà 160в15) и по одному ра-зу — в формах ëäâüý 119б10–11 (против двух примеров с -ÿ) и òûñùå 7а10 (приотсутствии церковнославянских форм). Важным примером, свидетельствующим отом, что древнерусское окончание -ý не является только особенностью идиолектаписцов Соф, но имелось и в предшествующих списках, представляется написаниеçëàòüöå 88б16, которое в Соф выступает как ВП ед. ч. сред. рода — диминутив отçëàòî (и при этом hapax legomenon), но в действительности, с учетом греч. мн. ч.nom…smata и формы çëàòèöå в списке С, должно быть интерпретировано как ре-ликт формы ВП мн. ч. *jā-склонения *çëàòèöý, которая, по-видимому, в антиграфеСоф была написана с конечным -å, что и привело к смене суффикса, рода и числа.
В мягком варианте *o-склонения, при наличии в целом немногочисленныхконтекстов с единственной релевантной в рассматриваемом аспекте формой ВПмн. ч. (например, æüðüö 58б14, æüðöà 120б13, èêîíîáîðüö 20в5–6, èêîíîáîðöà 20в9,èêîíîáîðüöà 145в4–5, ìàíàñòûð 123а5–6, ìóæà 34б3–5, ìóæ 75г21, 80а5, ìüðòâü-öà 24г15, 131а11, îãíåñëóæèòåë 154в8–9, ó÷èòåë 37в16, ö� Tð 103г22), древнерус-ское окончание наблюдается лишь в двух примерах: ì �Töý 107б19, 127г10 (церков-нославянские формы со словом ìýñöü отсутствуют).
7. *i-склонение
Устойчиво сохраняется в Соф парадигма *i-склонения обоих родов. Проявле-нием начавшегося после падения редуцированных процесса межродового взаимо-действия *i-masculina c *jo-основами можно было бы счесть форму РП мн. ч. §ìóæèè 94г1 (vs. Л -æü) — если бы не вероятность влияния со стороны предшест-вующей формы § ñòðàæèè 94в22 — от существительного, которое уже в старосла-вянском демонстрирует вариативность *i- и *jo-флексий [Вайан 1952, 125], восхо-дящую, надо полагать, к праславянской вариативности бессуфиксального образо-вания *storgь и суффиксального *storgjь (ср. в Соф ДП ед. ч. ñòðàæþ 95в18, ВПмн. ч. ñòðàæà 34а17). Аналогичное объяснение нельзя, однако, предложить дляформы (§ ðàçëè÷üíûèõú) êíçèè 99в8: на фоне исконного -çü в других списках, приуникальности формы âðà÷åè Асс, Мр. 5, 26 в старославянской письменности [Вай-ан 1952, 126] и при отсутствии подобных примеров в древнерусских рукописяхXI в. эта форма, кажется, действительно предстает как один из древнейших при-меров все возрастающей в XII–XIV вв. экспансии окончания -èè на восточносла-вянской почве [ИГДРЯ I, 117].
Существительное îãíü, исконно относившееся к *i-склонению, однако уже встарославянских и раннедревнерусских памятниках в результате изменения [гн] >
Часть II. Исследования
814
[гн’] (см. [Васильев 1972, 454]) перешедшее в *jo-склонение [Вайан 1952, 124] (ср.РП wãí 108б12, 108б17–18), усваивает отдельные флексии *u-склонения вместе сдругими *jo-основными существительными, что в нашем памятнике демонстри-рует прежде всего ДП ед. ч.: окончание -åâè засвидетельствовано 13 примерами,тогда как ни «этимологическое» -è, ни даже *jo-основное -þ не встретились ни ра-зу. В ТП ед. ч. 11 примерам с -åìü противостоят 5 с -üìü; ввиду очевидной утратыисконной *i-парадигмы у анализируемого существительного последние едва лимогут быть соотнесены с формами на -üìü в *i-склонении, и мы, по-видимому,имеем здесь дело с варьированием *jo-основных и *u-основных флексий (см.с. 804–805).
Сходным образом ведет себя слово ãîñïîäü: *i-основные окончания сохраня-ются только в Зв. (ã �Tè 106в12, ã�è 3в14 и др.) и, может быть, в ТП (ñú ã �üìü 60б13–14); в РП и В=Р используются формы твердого *ā-склонения (ã �Tà, ã �à), в ДП ед. ч. вСоф преобладают формы на -åâè (45 примеров из 79; ср. [Diels 1932, 162]), причемв беспредложной позиции данная флексия безусловно превалирует над конку-рентным окончанием твердого варианта *o-склонения, в итоге все же утвердив-шимся в указанной форме: все 45 форм на -åâè употреблены без предлога, и импротивостоит единственный пример беспредложной формы ã �Tó 65в14, тогда каквсе остальные формы на -ó зафиксированы после предлога êú (см. выше, с. 806, оДП существительного õðèñòîñú). В тот же твердый вариант *o-склонения, что и РПãîñïîäà и ДП ãîñïîäó, в результате болгарского отвердения согласных перешлаформа МП ед. ч.: (î) ã �ý 127б21, 147в9.
Развитие номинативно-аккузативного синкретизма во мн. ч. отражает формаИП=ВП ëþäè: è áóäóòü ëþäè óñòðî¬íè á�èè 77г4 (см. [ИГДРЯ I, 174–175]).
8. Консонантное склонение
8.1. Мужской род
Парадигма ед. ч. *n-основ представлена ИП ïëàìû 125г9, 125г10–11 и êàìåíü3в4, 158в4 (с издавна утвердившейся здесь формой ВП), ВП ðåìåíü 27г19, ïëàìåíü40г17–18, íà ïëàìåíü 3а12, РП только с исконной флексией -å (äí �å — 11 примеров,ïîñðýäý ïëàìåíå 147а15, êàìåíå — 4 примера), ДП на -è (ïëàìåíè 48б5–6, 62б9–10),ТП ïåðñòåíåìü 2б1 (с исконным окончанием -üìü > -åìü), МП с вторичной флексией-è (также уже в старославянском и раннедревнерусском вытеснявшей первона-чальную -å: ïî äüíè 10в5–6, ïî äí �è 46а6, 53а12, íà ñòåïåíè öð �êâüíýìü 67а11, íà ñòå-ïåíè 154в16). Во мн. ч. зафиксирован РП существительного äüíü: при абсолютномгосподстве флексии *i-склонения -èè один раз отмечена первоначальная формаäüíú 149а4, причем после числового обозначения (ïî) ñåäìè (что характерно —впрочем, в гораздо большем объеме — уже для старославянского [Diels 1932, 164](«nach Zahlen regelmäßig»). В МП мн. ч. фигурирует исконная флексия -üõú(> -åõú): (ïî) äí �üõú 29а20, 43б1, 114г13, äí�åõú 64г4–5 (после äåñòåõú, т. е. синтак-сически незакономерная, см. ниже, с. 823).
Весьма последовательно флексии консонантного склонения сохраняются усуществительного *t-основы íîãúòü, документированного исключительно плю-
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
815
ральными формами, ср. РП (§) íîãúòú 155в21, ВП íîãúòè 13а13, íîãòè 21в18, ТПíîãúòû 61а10, 63г9–10, 95г7, 153в22, íîãòû 124г1419.
8.2. Средний род
Парадигма ед. ч. существительных с основой на *n может быть проиллюстри-рована традиционными по образованию формами И–ВП âðåì, РП с окончанием -å(§ ïëåìåíå 75б16, èìåíå 37в11, äî èìåíå 119б20–21, áå–ñýìåíå 82в13) и, в единствен-ном случае, с флексией *i-склонения -è (èìåíè ðàäè 68а15–16), ДП на -è (âðýìåíè67а15, 118б5), ТП на -üìü/-åìü (èìåíüìü 9б10 и др., èìåíåìü 15б14–15 и др.), МП на-è (w èìåíè 144а15, 144б2, âú âðýìåíè 159в16; ïî âðýìåíè 47г5, 104в15–16). Дв. ч.представлено исконными формами ИП ïëåìåíè 25в10–11 и ВП ïëåìåí· 60б5. Вомн. ч., помимо обычного ИП ïëåìåíà 101в4, сохраняется форма ТП на -û (по про-исхождению *o-основная): èìåíû 26а19–20, ñýìåíû 70б6.
В основе на *nt, на фоне исконных форм ИП ед. ч. (от существительных îñüëи îòðî÷à), ТП wòðî÷àòåìü 129в11, МП w îòðî÷òå 104б18 (NB -å vs. более поздней -èв других консонантных основах) и ВП дв. ч. wòðî÷àòè 127а14–15, обращает на себявнимание РП ед. ч. с флексией -è, индуцированной *i-склонением, — äýòòè98в13. Во всех других списках здесь читается, в соответствии с греч. paid…a, ВПмн. с. äýòèùà, и, таким образом, Соф отражает не просто переосмысление формыкак РП ед. ч., не только замену лексемы, но и свежую морфологическую иннова-цию — при том что «в памятниках старославянской редакции» генитив *-nt-основ«засвидетельствован только в форме на -òå» [Вайан 1952, 132].
Основа на *s представлена лексемами êîëî, íåáî, îêî, ñëîâî, òýëî, óäî, ÷óäî, де-монстрирующими полный набор обычных консонантных форм (например, РПед. ч. на -å: íåáåñå, òåëåñå — без конкурирующих форм с -è; ДП êú òåëåñè 4б19, êúêîëåñè 129а12, ТП ñëîâåñåìü 130в20, МП íà òåëåñè 124б10, ИП и ВП мн. ч. òåëåñà2б20–21 и др., ñëîâåñà 3б3, ÷þäåñà 15в20 и др., íåáåñà 117в2–3 и др., íà óäåñà 52г6,РП ÷þäåñú, ñëîâåñú, ДП ñëîâåñåìú 83б8–9, ÷þäåñåìú 83б12–13, где -åìú < -üìú, ТПóäåñû 2б18, ÷þäåñû 18в5, ñëîâåñû 112а7 и др., МП âú êîëåñüõú 68б22–в120, íà òåëå-ñüõú 125г19–20, w ÷þäåñüõú 132в12, âú ÷þäåñåõú 17г12, âú ñëîâåñåõú 56а21 — с -åõú <-üõú). Инновации в данной парадигме восходят к дописьменному периоду и отра-жаются уже в старославянских и раннедревнерусских памятниках; связаны они сунификацией *o- и *s-основ, первоначально имевшей взаимный, двунаправлен-ный характер (доказательством чему — исконно *o-основные существительныеäðåâî, ÷ðåâî со вторичной основой на -åñ- во мн. ч.: äðýâåñà 126а15–16, ÷ðýâåñà157г14; NB старославянскую огласовку корня), но затем сосредоточившейся напоглощении менее продуктивной, изолированной группы слов несопоставимо бо-лее многочисленным классом *o-neutra. Этот последний процесс проявляется какв полной замене -åñ-основы образованиями с усеченной *o-основой (РП ед. ч. ñëîâàðàäè 46г10, òýëà 118а13, 144б20; ДП wêó 141в17, íåáó — 3 примера, ñëîâó — 20,
19 О существительном äåñòü см. в разделе о числовых обозначениях.20 Переосмысление первоначального названия города êîëîñýõú как орудия казни (колесования),
аналогично ниже âú êîëåñýõú.
Часть II. Исследования
816
òýëó — 7; ТП по *о-склонению ñëîâîìü, òýëîìü — всего 6 примеров, по *u-склонению ñëîâúìü, òýëúìü — 4 примера, см. с. 804; МП îáî îäèíîìü îöý 40в6, íàòýëý 85б9; РП мн. ч. ñëîâú 112а721, ТП ñëîâû 65в8 vs. ñëîâåñû в П), так и в присое-динении флексий *о-склонения к основе на -åñ- [ИГДРЯ I, 135–136]: ДП ÷óäåñúìú24б8–9 (ú в начале флексии, возможно, отражает компромисс между исконным-üìú и *о-основным -îìú), МП (w) ÷þäåñýõú 72г21, âú êîëåñýõú 153г14.
8.3. Женский род
Склонение существительных *r-основы ìàòè и äúùè, помимо неполного ком-плекта традиционных консонантных форм (см. словоуказатель: ИП ед. ч. ìàòè,äúùè, Зв. ìò�è, РП ìàòåðå, äúùåðå, ДП ìò�ðè, äúùåðè, ВП ìàòåðü, äúùåðü, ТП ìàòåðüþ,äúùåðèþ, äúùåðüþ, ИП дв. ч. äúùåðè, ВП мн. ч. äúùåðè, ТП äúùåðüìè), демонстри-рует также обычные уже для старославянских и раннедревнерусских памятников[Вайан 1952, 137; ИГДРЯ I, 69, 144] формы по *i-склонению в МП ед. ч. (ìò�ðè20б18), ИП мн. ч. (äúùåðè 27в8–9) и РП мн. ч. (äúùåðèè 58а15).
В основе на *ū ИП ед. ч. представлен исконными формами на -û у существи-тельных ëþáû 114а8, íåïëîäû 91а22, ñìîêû 66б3, öð�êû (6 примеров) и вторичной,но возникшей уже в дописьменный период формой ИП=ВП у существительногоêðúâü 66б2–3, 133а4. В РП ед. ч. в условиях абсолютного преобладания исконнойфлексии -å (êðúâå, ëþáúâå, öüðêúâå) один раз встретилась флексия *i-склонения -è:(§) êðúâè 71а13. Форма МП, зафиксированная у слова öüðêû и у редкого существи-тельного îïàíû ‘сковорода’, иллюстрируемого в исторических словарях единст-венной цитатой из Пролога, во всех случаях имеет окончание -è (20 примеровöüðêúâè + íà–ïàíúâèè 129а13–14 — с лишней -è). Необычная форма ДП=РП ед. ч.отмечена у существительного íåïëîäû: ê íåïëîäúâå 82б522.
Во мн. ч. зафиксированы только формы ИП и ВП от слова öüðêû с флексией -è,исконной для аккузатива, а в номинативе обычной уже в древнейший период[ИГДРЯ I, 70–71]. Форма ВП мн. ч. ñìîêâû 123а3, противостоящая форме на -è,представленной в других списках Пролога, знаменует завершение перехода части*ū-основных лексем во мн. ч. в *ā-склонение, начавшегося еще в праславянскийпериод распространением в ДП, ТП и МП флексий -àìú, -àìè, -àõú.
8.4. Существительные pluralia tantum с суффиксом -ян-
В ИП слова этой группы устойчиво (как и в наши дни) сохраняют исконнуюконсонантную флексию -å: ¬þïòíå 94в9, ¬»èwïëíå 75а13–14, ïüðñíå 138в89,150б7, ñàyðíå 39в19, ñåëíå 52г4, ôàðàíèòíå 126б7, õð �Tòüÿíå 108а11 (аналогично12в11, 62г12, 77а16); уникальное написание íàyàòèàíý (в контексте óáèøà è ¬ðå-òèöè• íà|yàòèàíý 58г10–11), вероятно, отражает непонимание писцом названия
21 Впрочем, форма не вполне надежная, так как не имеет параллелей в других списках и в грече-
ском; возможно, она представляет собой недописанную форму ТП мн. ч. ñëîâû, которую писец, незачеркнув, тотчас заменил исконным ñëîâåñû (to‹j lÒgoij).
22 Существительное òûêû наблюдается лишь в той части Синаксаря, которая не сохранилась вСоф: ВП òûêúâü Л 10а15, ТП ñú òûêîâüþ Л 10а28 (т. I, с. 52).
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
817
ереси и переосмысление его как сочетания предлога íà + МП от какого-то геогра-фического названия (так же неизвестного древнерусским книжникам, как и боль-шинство реальных топонимов Синаксаря)23. В РП представлена столь же тради-ционная флексия -ú: § ñóðèÿíú 106в22, èñàâîðíú 143б20–21, áëèçü åyõàèòíú151а5–6.
В ДП Софийский синаксарь, в отличие от рукописей XI в., порой сохраняю-щих исконное окончание -üìú (либо его орфографический вариант -åìú) [ИГДРЯI, 47], демонстрирует только флексию *о-склонения -îìú, которая, впрочем, такжевстречается уже в XI в. и абсолютно господствует в последующий период [ИГДРЯI, 113–114]: (êú, ê) ðèìëíîìú 46в14, 53в19, 53г3–4, ãàçíîìú 158г23–159а1; ис-ключительно *о-основное окончание -ýõú зафиксировано и в МП: î ðèìëíýõú93а8–9, âú íèêîìèäèàíýõú 107г20.
8.5. Существительные с суффиксом -тел-
В ИП представлена только неисконная флексия -è, засвидетельствованная,однако, уже в древнейших источниках, начиная со старославянских рукописей[Вайан 1952, 130; ИГДРЯ I, 46, 109]: ñúâýäýòåëè 33б18–19, èäîëîñëóæèòåëè 68в7–8, 100а11–12, âëàñòåëè 92в6–7, ïðýäàòåëè 94г3; примеры с исконным окончаниемконсонантного склонения -å не отмечены. В РП наблюдается вторичное окончание*jo-основ -ü, обычное уже в старославянском [Вайан 1952, 130], при отсутствиикаких-либо следов исконного -ú: æèòåëü 4г22, ìó÷èòåëü 145а14–15, ì÷�òëü 125а16,(§) èäîëîñëóæèòåëü (7 примеров), в ВП — *jo-основная церковнославянская флек-сия -: îãíåñëóæèòåë 154в8–9, ó÷èòåë 37в16, ðîäèòåë (дв. ч.?) 24б20, èäîëîñë¹-æèòåë 96г10–11, в ТП — также восходящая к *jo-склонению флексия -è: èäîëî-ñëóæèòåëè 80г14, ñú èäîëîñëóæèòåëè 100б21–22, ñú ðîäèòåëè 145б20, и лишь в МПеще сохраняется консонантная флексия -åõú (< -üõú): âú ñò�ëåõú 5г4. Об определен-ной активности исконного склонения — по крайней мере как источника гиперкор-рекции — свидетельствует аналогическая форма ТП дв. ч. ðîäèòåëìà 86б6–7 (vs. Л,П -ëåìà), которой противостоят пять примеров ТП и ДП с исконной для дв. ч. су-ществительных на -òåëü *jo-основной флексией -åìà (ðîäèòåëåìà).
9. Прилагательные
У имен прилагательных первоначальное семантическое и синтаксическое про-тивопоставление именных и членных форм в значительной степени стерлось, чтопроявляется, в частности, в параллельном употреблении тех и других флексий водинаковом контексте, например, в словосочетании (áèòè) æèëàìè ãîâæèìè 6а9,27г20–21 (1-й писец) — æèëàìè ãîâæàìè 61а9–10, ãîâæìè 44в1 (2-й писец), но:òåïåíú… âîëóÿìè æèëàìè 29а3–4 (1-й писец); ïðè êîñòíòèíý âåëèöý 30а6–7(С -öýìü) — âåëèöýìü 9в21–22 (и еще в 9 случаях); ñò�à áö � 104г10 (при обычномñò�àÿ); âúñàäè âú ìýäíûè âîëú• ðàæüæåíú 15а9–10 — âú âîëú ìýäíú ðàæüæåíúâúâüðæåíú áûm � 81а7; áý ïðè ôåwäîñèè âåëèöýìü• § ãðàäà êàðòàãåíüñêà 119в10 — áú� T¶ æå
23 Ср. написания с y в начале слова и строки у 3-го писца: yàëåðèàíà 143в3, yàëèñú 149г1.
Часть II. Исследования
818
§ ãðàäà êàðòàãåíüñêàãî 122б11–12, âëý÷åíú áú� T¶ âüðõó òðüðîãú æåëýçüíú 98б21–22 —âüðõó æåëýçíûõú [С далее ãâîçäèè] ïîëîæåíú áú � T¶ 134а19 и т. п.
В целом, однако, именные формы существенно уступают по употребительно-сти членным (примерно 850 из общего количества 4000 форм прилагательных);особенно редки они в косвенных падежах мн. ч. (ср. РП: § ïàòðèàðú [в др. сп. ïà-òðèàðõú] è¬ðóñàëèìüñêú 79г3, ДП: õâ�àìú ñòð �Tòüìú 125а14 — в тропаре, ТП: ñëîâåñû æåáëóäüíû 147а9, МП: âú ñêîòüÿõú ÿñëüõú 103в22). Полностью отсутствуют член-ные формы только у притяжательных прилагательных, а среди относительныхединственным прилагательным, у которого именные формы употребляются в мас-совом порядке (во всех родах и числах), является õðüñòèÿíú/êðüñòèÿíú, однако оно,как правило, субстантивировано, и лишь один пример с членным окончанием на-поминает о его исконном адъективном статусе: õðüñòèÿíûìú 131а6.
В сфере употребления притяжательных прилагательных упоминания заслужи-вает, пожалуй, только любопытный посессив от названия города (а не, как обыч-но, от обозначения человека или животного): w ðàçîðåíèè• è¬ðóñàëèìîâý 76в15, wïëýíåíèè• è¬ðóñàëèìîâý 77в21–22. По всей видимости, это образование являетсятаким же отражением персонификации священного города, как и встречающиеся вдревнеславянской письменности формы В=Р типа на Иерусалима или Вифлеома[Крысько 1994, 121].
Среди членных форм большинство составляют стяженные; нестяженные за-фиксированы в следующих позициях: РП ед. м. на -ààãî (åìåñèèñêààãî 6г2–3 —единственный пример), ТП ед. м. и с. на -ûèìü (êîïèèíûèìü 36б18–19, âåòúõûèìü110а21, ñò�ûèìü 112в4–5 и т. п.), РП мн. ч. на -ûèõú (ñëàâüíûèõú 8б17–18, ðàçëè÷íû-èõú 102а8 и т. п., а также ïðî÷èèõú 41г20), ДП на -ûèìú (âýðüíûèìú 37а17–18, íå-÷üñòèâûèìú 108а14–15 и др.), ТП на -ûèìè (ñò�ûèìè 10а1–2, æåëýçüíûèìè 74в3–4 идр.). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что из 60 примеров членныхформ с -ûè- большинство (42) приходится на отрезок 2-го писца; в 3-м почеркезафиксирована одна-единственная членная форма, причем в позиции переноса, —ТП ñò�û|èìü 112в4–5. Примечательно, что в Соф, при наличии стяженных формтипа РП ед. ч. на -àãî, -ûÿ (с единственным примером на -ûý: á�îâúìýñòèìûý66в1524), ДП на -ýè, МП на -ýìü, РП дв. ч. на -óþ (áë�ãî÷� Tòüíóþ 58г18–19 и [у при-частия] ïîìèíà¬ìóþ 155в7), нет ДП ед. м.-с. на -óìó. Эволюция членных формпредставлена в основном образованиями с -î-/-å- в начале флексии (см. [ИГДРЯIII, 104]) — ДП ед. ч. на -îìó/-åìó (áåñòð �Tòüíîìó 3г19–20, âåëèêîìó 51б5, äèâü¬ìó53а20, ïî äðýâüíåìó 120а20–21 и т. п.), Р–МП дв. ч. на -îþ (ïðàâîâýðüíîþ ö � Tðþ131г10–11, ãîðüêîþ ãîíèòåëþ 150г12, ïðè áåçàêîíüíîþ ö � Tðþ 49б3–4 и др.). На этом фонечрезвычайно важны две однотипные формы ДП ед. м. членного склонения, отме-ченные на соседних листах, — прилагательное íèùåwìó 86а5 и причастие ñêðîâå-íîwìó 87а19. Как убедительно показал А. М. Кузнецов, подобные образования,отнюдь не единичные в рукописях XI – начала XIII в., отражают фонетическоеразвитие первоначальных [уе] > [уо] > [оо] и [’уе] > [’уо] > [’ео] [ИГДРЯ III, 102–103, 241]. Другие списки демонстрируют в этих случаях более продвинутыеизменения — resp. íèùåìó Л, П и ñêðîâåíóìó П / ñêðîâåíîìó Л.
24 Пример (из тропаря) не очень вразумительный, в греческом ему соответствует форма ИП.
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
819
Дальнейшее развитие членных форм — переход в местоименное склонение —документировано лишь четырьмя примерами: в РП ед. ж. — ñò�îý (ì÷�íöý) 12в17–18 (на месте первоначального и сохраненного другими списками ДП) и ïðï� Dáíîý(ìð �èý) 146а15 (показательно, что эти проявления древнерусской инновации в си-стеме прилагательных сопровождаются древнерусскими же формами определяе-мых существительных), в РП ед. м. — (äîìó) ñò�îãî 94б21 (прилагательное не ис-конно, в П присутствует первоначальное чтение ÷� Tòíàãî, соответствующее греч.sebasm…ou), в МП ед. м. сравнительной степени — (âú) ñòàðýèøåìü (ðèìý) 112б14–15. В данном отношении Соф еще всецело примыкает к рукописям XII в., где по-добные флексии весьма немногочисленны (см. [ИГДРЯ III, 244–249]).
При существительных грамматического мужского, но морфологического жен-ского рода отмечаются прилагательные в жен. роде: ИП мн. ч. âýòèÿ ìóäðûÿ83в19 (другие списки сохраняют здесь первоначальное ед. ч.: ìóäðû–è âýòèÿ —sofÕj kaˆ ·»twr), âèäýâúøå æå è äðóãûÿ âî¬âîäû… wñòàâèøà è ¬äèíîãî 132а5–6(ср. [Вайан 1952, 195; Шульга 2003, 29]).
Двумя примерами представлена в Соф начавшаяся в XII в. межродовая унифи-кация адъективных парадигм мн. ч. в прямых падежах — а именно использованиевнеродовой флексии -ûÿ у прилагательного, определяющего существительноесред. рода [ИГДРЯ I, 170]: âúçáðàíèòè• àðèàíüñêûÿ ñúíüìèùà 28б21–22 (в др. сп.-êàÿ, -êà), î÷�üñêûÿ èçâýùàþùè ïîâåëýíèÿ 145а21–23 (важно подчеркнуть, что фор-мы на -ûÿ не могли быть спровоцированы греческим, где определение несогласо-ванное — РП существительного, кроме того, во втором примере определяемоетоже в сред. роде). Формы сред. рода на -à(ÿ) в соответствии с греч. poll¦ kak£ожидались бы и в следующем контексте, однако искажения в разных списках непозволяют с уверенностью судить, чтò именно было в протографе: ïî ïóòè ìíî-ãîìú çëûÿ ïîêàçàøà íà íåìü 96б11–12. ВП ñòàðü÷üñêûÿ в соответствии с греческимсубстантивированным словосочетанием t¦ tîn gerÒntwn ‘то, что присуще стар-цам’ и на месте закономерного -ñêàÿ в некоторых других списках объясняетсяошибочной реинтерпретацией следующего сочетания *ïî ñúìûñëó (kat¦ t¾nfrÒnhsin ‘по уму’) как формы ВП мн. ч. ïîìûñëû, с которой и было соотнесеноприлагательное (в Соф ïî ìTûñëó, т. е. написание исправлено в процессе перепи-сывания).
В условиях последовательного сохранения различий между твердым и мягкимвариантами во всех позициях, где эти различия существовали, пример âú êîñòíú-òèíý ãðàäý 152а12–13 (в др. сп. -íòèíè) едва ли можно интерпретировать какобобщение флексии по твердой разновидности *о-склонения, но вероятнее объяс-нить антиципацией окончания следующей словоформы.
В парадигме сравнительной степени отмечено лишь два отклонения, однако иони, очевидно, имеют не морфологическую, а графическую природу: в ВП мн. м.ìíîæèøè § ¬ëèíú wáðàòèâú êú á�ó 53г20–21 (П -øà) — повторение гласной преды-дущего слога, в ДП ед. ж. wíú æå íåèçìýíüíî ñòîøå• è íåïðýëîæíî ñèëíýèøå ¬ìó•ìýäè è æåëýçà• ÿâëüøèñ ðóöý 61б1–2 — предвосхищение гласного следующегослога (С -øè, дательный самостоятельный).
Часть II. Исследования
10. Местоимения
Форма МП (íà) ñîáý 160г2–3 является единственным примером восточносла-вянской основы с -î- в Д–МП личных и возвратного местоимений, и примечатель-ная замена очевидно присутствовавшего в переводе сочетания (¬æå) òî áý (с реля-тивизатором òî, в греч. Óper Ãn ‘что было свойственно’), в котором òî áý быловоспринято как òîáý, на *òåáý > òåáå 3г18 служит ярким свидетельством того, чтотакая огласовка расценивалась как недопустимая в книжном тексте.
В противоположность обычным формам ДП и МП òåáý, ñåáý, отмеченным во2-м и 3-м почерках, 1-й писец использует только формы òåáå и ñåáå, совпадающие сРП и В=Р: ДП ñåáå 30г22, 34в16, êú ñåáå 16г9, ê ñåáå 21в3, òåáå 23г1, Ê òåáå 15а17, МПî ñåáå 33а8.
У местоимения ÷üòî четыре раза отмечена старославянская форма РП ÷üñî (÷ñî)[Вайан 1952, 170] — при отсутствии ÷åãî. Примечательно, что эта «инородная»форма может сочетаться как с кирилло-мефодиевским послелогом ðàäè (7а21,47б4, 71в2), так и с восточноболгарским (но существовавшим и в восточнославян-ских говорах) послелогом äýë (22в7).
Об отсутствии в живой восточнославянской речи относительного местоименияèæå, особенно в функции эквивалента греческого артикля, свидетельствуют мно-гочисленные случакоррелирующих с нðàäè èæå âú õ � Tà 39а2(pÒqon), но ср. П ÿæðàäè èæå âú õ � Tà 74а1íèêîìèäèàíýõú• èææåíú 144в21. Отметвероятно, калькируñòûðè• ¬æå âëàñíûè
Древнерусские дующих формах: РПточнославянским окùý), âñý ¬ðåñû ñëîâúìõ �Tüíû 81а13 (Л âñ)
В группе указатформами наблюдаюизвестное уже в ста[ИГДРЯ III, 217–21стороны, ИП ед. м.êîìóæäî 77г10, êîêî¬ãîæüäî 93а4–5, Мимения ñü членные ñèÿ 56б12, ВП мнтолько одна бессповитие членных форской специализацие
820
и употребления его безотносительно к падежу, роду и числуим имен (см. словоуказатель, с. 119–120), например: ëþáúâå æå3 (возможно, морфологическая калька артикля муж. рода tÕnå), ïàì�U… àêàêèÿ• èæå â ëýñòâèöè ïîìèíà¬ìàãî 72в20, âýðû æå
1, ñú æåíàìè• èæå ñ íåþ 99в19, ñòð� Tòü ñòû � a •â�• òìó ì÷�íêú• èæå âúüæåíûèõú 107г19, ñòðà�T ñò�ãî ñù�íîì÷�íêà âëàñèÿ• è èæå ñú íèìü ñòû � aим также неправильное употребление формы сред. рода ¬æå,ющей греческий род: ïîëîæåíú áú � T¶ âú ñúçäàíýìü § íåãî ìàíà- íàðè÷åòüñ 148б11 (Óper).флексии у неличных местоимений зарегистрированы в сле- ед. ж. íýêî¬ý 3а20–21 (после существительного также с вос-ончанием: ôåîêëèý), ВП мн. ж. ñâîý 12г16 (после русизма ìî-ü ñâîèìü ïðèøüñòâè¬ìü ïîãóáèòè 157в14, ВП мн. м. ñòâîðè ÿ âñý, ïîâåëý âñå âú ¬äèíó íîùü óáèòè 101в7 (в др. сп. âñ).ельных и определительных местоимений наряду с исконнымится также вторичные членные образования — явление, хорошорославянском [Вайан 1952, 168, 172] и в раннедревнерусском
8]. Так, в парадигме местоимения ‘каждый’ отмечены, с одной êúæäî 31б5, 159в16, êîæäî 20г4, РП êîãîæäî 27в17, 78в17, ДПì¹æäî 51а5–6, с другой стороны — ИП êûèæäî 59б17, РПП с. êî¬ìüæäî 72в12–13, МП ж. êî¬èæäî 138в12–13. У место-
формы немногочисленны: ВП ед. м. ñèè 57а17, 92а11, ИП ед. ж.. с. ñèÿ 16г4, 141а18. У местоимения âüñêú зафиксированарная адъективная форма — ДП мн. ч. âñêûìú 154а16. Раз-м местоимения ñàìú (aÙtÒj) сопровождается их семантиче-й «в выделительно-усилительной функции» [Кузнецов 1997,
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
821
60]: § ñàìûÿ óòðîáû è § ïåëåíú• á�ó ïðýäàñ 72а18–19 (см. также [Сумникова1995, 350]).
У местоимения íýêûè, напротив, образования, включающие во флексию фор-мы местоимения *è (íýêî¬ãî, íýêî¬ìó и т. п.) [ИГДРЯ III, 214], полностью вытес-нили исконную парадигму, и вариативность здесь проявляется только в РП и ДПед. ч. жен. рода, где членные формы íýêî¬ý 3а20–21, íýêî¬ÿ 28в5, 42а13–14 (изíýêîª + ¬ª), íýêî¬è 51в19–20 (из íýêîè + ¬è) противостоят формам собственноадъективного склонения — РП íýêûÿ 15б7–8, 20а10, 70а8–9, 97а11, ДП íýöýè132в15, 137г21–22 (по типу âåëèêûÿ, âåëèöýè). В форме ИП ед. ж. íýêîÿ 57в4 от-ражено распространение -êî- из косвенных падежей.
Ряд местоимений демонстрирует сосуществование флексий местоименного,именного и адъективного склонений. Прежде всего это относится к слову ìúíîãú(ср. [Вайан 1952, 182–183]), которое в основном выступает как прилагательное25:
– по местоименному склонению у него образуются формы МП ед. м. ìíîãîìú96б11–1226, ДП мн. ìíîçýìú 18в10, 105а8 , 129г3, МП ìíîçýõú 1в15–16, 122в8–9,157а6;
– по именному — РП ед. м. и с. ìíîãà 75г12–13, ДП ед. м. и с. ìíîãó 51а16–1727, 150б11, ТП ìíîãîìü 97б19, ìíîãúìü 74в18, МП с. и ж. ìíîçý 2б12, 16а1, 47г4–5, 157г1, 65а14, РП ед. ж. ìíîãû 71а13, 143б10, РП мн. ìíîãú 29б4, 30б9, 148б2, ДПм. и с. ìíîãîìú 24б10, 73г7, ìíîãîìü! 24б15, ТП м. ìíîãû 41г4–5;
– по адъективному (членному) — ИП ìíîãûè 142б18–19, 150г1, РП ìíîãàãî78в4, 157в2–3, ВП ìíîãî¬ 152а14–15, ТП ìíîãûìü 155в19, РП ед. ж. ìíîãûÿ 55в7,65б3, 148а22, ВП ìúíîãóþ 80б16–17, 145г17–18, ìíîãóþ 112б10, 122в12, 152в15,РП мн. ìíîãûõú 35г13, 35г19, 110б4, 123а17, ДП ìíîãûìú 130в16–17, 155г20,157а23–б1, ВП ж. ìíîãûÿ 11г16, 116а15–16, ТП ìíîãûìè 44г3–4, 73г10, 107в16–17, 115г21, 154б9, 34а22–б1, МП ìíîãûèõú 86в11, ìúíîãûõú 87б4–5, ìíîãûõú39г15, 66а12, 132г5–6, 149в21–22, 156в14, а также формы ВП ед. ж. ïðýìíîã¹þ98в22–г1, ïðåìíîãóþ 24а20 и ВП мн. с. ïðýìíîãàÿ 118а15–16.
У слова òîëèêú, помимо амбивалентных форм, встречаются образования поименному (РП ед. ж. òîëèêû 69в13, РП мн. òîëèêú 47г21) и по местоименномусклонению (РП и МП мн. òîëèöýõú 41в2, 29а20) [ИГДРЯ III, 214, 216]. Местоиме-ние òàêîâú на фоне целого ряда форм членного склонения (ИП ед. м. òàêîâûè127а22, 143б9, РП òàêîâàãî 37б7, 64в17–18, ВП òàêîâûè 71г9, ТП òàêîâûìü 135б12,И–ВП с. òàêîâî¬ 32б2, 51б10, 103г17, МП òàêîâýìü 87в19–20, ИП ж. òàêîâàÿ 34а11,РП òàêîâûÿ 7в11, 84г12, 128а7, 135г15, ВП òàêîâóþ 37б21–22, ВП мн. с. òàêîâàÿ41а2) демонстрирует лишь один пример местоименного — МП ед. ж. òàêîâîè119г6 [ИГДРЯ III, 214–216]. В парадигме òàêú, òàêúæå явно местоименные формыТП ед. м. òàöýìü 118а6, МП ед. с. òàêîìüæå 159в10, РП мн. òàöýõú 48б3 сосущест-вуют с членной формой МП ед. с. òàöýìü 42г19.
25 Некоторые формы, типа ИП ед. м. ìíîãú 114г12, ВП ед. ж. ìíîãó 116а4, ìíîã¹ 121г6–7 или ТП
ед. ж. ìíîãîþ 15б17, амбивалентны (именные? местоименные?).26 Впрочем, здесь ошибочен не только -ú во флексии, но и само окончание, возникшее в связи с
неверным отнесением этой формы к предыдущему ïî ïóòè (см. с. 819).27 Об этом контексте см. с. 806, в связи с формой ÷èíó.
Часть II. Исследования
822
Совершенно изолирована, на фоне десятков примеров регулярного место-именного склонения, форма èíû 43в14 в конструкции ñòð� Tòü ñòû �a ì÷�íêú… è èíûñåäìè òûñùü• è •ê �è• ìó �c; не исключено, что она представляет собой новообразо-вание по именному склонению, согласованное в РП с ñåäìè как существительнымед. ч. жен. рода (см. [ИГДРЯ IV, 116–117]), — однако другие примеры такого типанам неизвестны; альтернативное объяснение, также предложенное нами в I т.(с. 291), хотя и опирается на реально засвидетельствованные в Л формы по адъек-тивному склонению — èíûìè, èíûìü (ср. [ИГДРЯ III, 218–219]), исходит из пред-положения об описке — пропуске выносной õ в форме РП мн. ч.
Не имеет отношения к распространению адъективного склонения форма ïîÿòèìóæ ñâîãî 97г15, возникшая в результате контаминации ñâî и ñâîåãî, посколькупредшествующая ей форма существительного ìóæ была сначала воспринятаписцом как ВП мн. ч.
Возможно, самый ранний случай отпадения -æå в изначально конфиксальномместоимении íè÷üòîæå (ср. 11 примеров с -æå, а также íèêúòîæå и наречия íèêàêîæå,íèêîëèæå) отмечен на последнем листе рукописи на краю строки: íè÷òî 160б21.Поскольку в других списках представлено исконное íè÷òîæå, написание Соф едвали можно ассоциировать с редкими старославянскими новообразованиями такогоже типа [Вайан 1952, 170]. Следовательно, если это не описка, то мы имеем здесьдело с проявлением тенденции к устранению æå, активизировавшейся к концуXIII в. [Зализняк 2004, 195].
11. Числовые обозначения
В сфере числовых обозначений (изначально относившихся к разным частямречи) уже с первого листа Соф обращает на себя внимание утрата склонения словаäåñòü в составе названий десятков, осуществлявшаяся по типу второго десятка,т. е. с обобщением флексии -å (ср. [ИГДРЯ IV, 135, 268, 273]), причем особенноактивно — у слова ‘40’ (ср. собственно восточнославянское ñîðîêú [Там же, 176]):ïîñòèâúñ äí �è• ì �•òå• 1а10 (на месте ожидаемого в ВП мн. ч. -òè), äâó äåñòå ëý-òó è äúâó 54г12 (вм. РП дв. ч. -òó в результате «недоисправления» первоначаль-ного äâó íà äåñòå), òðè äåñòå ïîïðèùü ãíàíú áûâú 74в15–16, òðè äåñòå ëýòúõëýáà íå ÿäûè 123а1–2, ïî ÷åòûðèõú áî äåñòå äí �èè 135а5, èñïúëíüøåìúñ ÷åòûðåìúäåñòå äí �èè 135г17–18, âú ÷åòûðè äåñòå äí �èè 160г10. Напротив, в МП ед. ч. (в со-ставе названий чисел второго десятка, т. е. после íà) и РП мн. ч. указанное число-вое существительное сохраняет исконные флексии консонантного склонения, ср.:äâý íà äåñòå ÷àñòè 25в4 (и еще 5 примеров vs. ïî äåñòè ëýòú 39б3, с флексией по*i-склонению), ïòüþ äåñòú 63в20 (и еще 14 случаев).
В парадигме числового местоимения äúâà отражены две ранние инновации —распространение в Р–МП формы с окончанием именного склонения -ó, по-види-мому, являющейся морфологическим русизмом [ИГДРЯ II, 49; IV, 93–94] (3 при-мера в РП и 2 — в МП, наряду с исконным äúâîþ, представленным 4 примерамиРП), и усвоение в И–ВП сред. рода флексии муж. рода -à [ИГДРЯ II, 73–74; IV,94–95]: ðîäèâú æå äâà wòðî÷àòè 127а14.
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
823
Симптоматичны трудности, возникшие у писцов при согласовании числовогоприлагательного мн. ч. òðèå с собирательным существительным жен. рода *ā-скло-нения áðàòèÿ; так, если в РП сходство флексий позволило уподобить две формыценой введения семантически незакономерной формы мн. ч. collectivum: èíýõú òðè[стяжение, вм. òðèè] áðàòèè 26а15 (ср. также ïòü áðàòèè 93в12), то в ВП собира-тельное, сохраняя ед. ч., согласуется в падеже, но не в числе с нумеральной фор-мой pluralis: òðè áðàòèþ 26в9 (ср. сходный тип координации между подлежащим исказуемым типа ðåêîøà äðóæèíà) — между тем как грамматически «нормальное»употребление òðè áðàòû в данном случае могло бы затемнить семантический ком-понент целостности, важный при обозначении родных братьев. В других спискахнаблюдается сильнейшая вариативность форм, позволяющая предположить, чтописцы в каждом случае на свой страх и риск выправляли конструкцию протогра-фа, надежное восстановление которой именно в свете этой вариативности про-блематично — тем более что в соответствии с оригиналом (sÚn + ДП) и контек-стуальным окружением (ñ ïîñëýäüñòâóþùèìè... ñú àíôèìúìü• ëåwíòè¬ìü• è¬yïðåïèå� N) здесь ожидалась бы форма ТП: ср. ИП òðü¬ áðàU�ÿ, òðè¬ áðàòè¬, òð· áðàòèà,РП òðèè áðà� Uè, ДП + РП мн. (ДП ед.?) òðåìú áðàòüè, инновационный ИП + ТП òðèèáðàòü¬þ.
Числовое прилагательное ÷åòûðå, изначально изменявшееся по консонантно-му склонению, демонстрирует в исследованном материале исконные формы ДП(÷åòûðüìú), ВП (÷åòûðè), ТП (÷åòûðüìè), МП (÷åòûðüõú), однако в РП и МП отража-ет влияние *jo-основ: ÷åòûðü 140г19 (вм. -ðú, см. [Вайан 1952, 186]) и ÷åòûðèõú135а4–5.
Написание äåâòèè äí �èè 100г21–22 едва ли должно истолковываться как не-обычная форма мн. ч., но, скорее всего, отражает графическую антиципацию -èè.
Исконную флексию по *ī-основе в ИП ед. ч. сохраняет существительноеòûñùè 28а13. В то же время в контексте ÷èñëî wáðýòà¬òüñ• òûñùè •ä�¶• 108г13–14 форма òûñùè, если рассматривать ее с учетом греч. cili£dej id/ ’14 тысяч’ ичтения других списков •ä �¶• òûñùà, может быть интерпретирована как ИПмн. ч. — но в таком случае приходится постулировать ее принадлежность к*i-склонению (ср., с одной стороны, балтийские параллели на -is, с другой — какбудто бы инновационную форму ТП òûñùüþ в Палее 1406 г. [ИГДРЯ IV, 51,294]). Не исключено, однако, переосмысление контекста переписчиком, которыймог воспринять ‘1000’ + ‘14’ как «бессоюзное сочетание разноразрядных числи-тельных» [ИГДРЯ IV, 194] и тем самым более чем на порядок уменьшить количе-ство избиенных Иродом младенцев — с 14000 до 1014.
В Соф отражен процесс синтаксической унификации в составе конструкций счисловыми существительными, засвидетельствованный уже памятниками XI в., —согласование вместо исконного генитивного управления [Вайан 1952, 189; ИГДРЯII, 143], ср.: ïî òðüõú äåñòåõú äí �åõú 64г4–5 (так же, судя по отсутствию разночте-ний, в других списках — а следовательно, с большой степенью вероятности, и впервоначальном тексте Синаксаря), ïðýäàñòü è äåñòè âîèíîìú 96б8–9 (так же в Л,но в П âîèíú; впрочем, в греческом тоже ДП).
Часть II. Исследования
824
12. Глагол
12.1. Основы
В области образования глагольных основ специального упоминания заслужи-вает редкий глагол (ñú)äðåòè (ср. [Дыбо 1981, 205]), изменяющийся по образцуìðåòè (ñúäðîøà 27г17–18 vs. более обычных ñúäðàøà 144б19, ðàçäðàøà 5б16,124г15)28. Форма ãîðþùàìè 134а21–22 отражает контаминацию архаического*ãîð©ùàìè и вторичного ãîðù-, наблюдающегося в других списках [Koch 1990,545–546]. Аналогическая основа страдательного причастия от глагола îáóòè —îáóâåíú 86г17, противостоящая более древнему образованию с чередованием, от-меченному в Л, — wáúâåíú (см. т. I, с. 463), с учетом форм с ó в старославян-ском каноне и в моравском по происхождению переводе «Бесед» Григория Вели-кого [SJS II, 494] едва ли может быть расценена как инновация Соф. Архаичнуюформу пассивного причастия -òüðåíú отражают производные от глагола òüðòè:îòðåíú (áú¶� T) 128г17, ïðýòðåíú (áóäåòü) 88а20–21, отпричастное существительноеïðýòðåíèÿ 88б1 (но при тематическом аористе ïîòðîøà 21а14, предполагающемвторичный инфинитив ïîòðåòè). Наряду с причастиями ðàñòðåíú Л 2б24 (т. I, с. 34),íàòüðåíú Ю 199б, сохраненной южнославянскими списками формой 3 л. ед. ч.аориста wòðü (vs. wòðý С 20в1 — т. I, с. 70–71) и особенно формой 3 л. мн. ч. наст.вр. ïðåòüðþòü Ю 182г этот материал свидетельствует о живом функционировании вязыке переводного Синаксаря исконной парадигмы òüðòè, òüðþ. Ее активность —по крайней мере в сфере причастий и отпричастных существительных — под-тверждается неисконным девербативом от ïðîñòðåòè — ïðîñòðåíè¬ (118г12) вместозакономерного ïðîñòüðòè¬29. К тому же классу, что и òüðòè (а также æüðòè, êëàòè,áðàòè и др.) [Вайан 1952, 311 и сл.], — т. е. к числу глаголов, у которых основанаст. вр. отличается от основы инфинитива присоединением *j, изначально отно-сился глагол ìëåòè (< *mel-tei, ст.-сл. ìëýòè, в.-сл. ìîëîòè), ìåëþ. Закономернаяформа страдательного причастия прош. вр., ñìåëåíú (из ñú-ìåë-åíú), засвидетельст-вована у этого глагола в списке С (т. I, с. 685)30, однако в Соф выступает вторич-ное образование от неполногласной церковнославянской основы инфинитива —ñúìëåíú 130б5–6, по тому же типу, что и вторичные çàêëàí-, áúðàíè¬ [Вайан 1952,312]31.
28 Впервые зафиксированный глагол òüíàòè, òåíþ, очевидно, восходящий к переводу Синаксаря,
не сохранился в Соф вследствие лексической замены и представлен только в древнерусских и бол-гарских списках с середины XIII в., см. т. I, с. 687.
29 Образование этого существительного от вторичного причастия ïðîñòüðåíú (vs. исконного ïðî-ñòüðòú) по образцу æüðåíú, òüðåíú, а не от неполногласной основы инфинитива ïðîñòðå- доказываетсяпримерами из памятников XII в., устойчиво сохраняющих редуцированные, ср. материал IX томаСДРЯ: простьрени¬ СкБГ XII, 16в, КЕ XII, 182а, простьрениÿ Там же, 242б; причастные формы:простьреныими КЕ XII, 167б, простьреныимъ 186а, простьренýмъ 241б, простьренаго УСт к. XII,217 об.
30 Ср. также измелено ПКП 1406 (СДРЯ IV, 37); менее вероятно гиперкорректное псевдополно-гласное образование от неполногласной основы инфинитива.
31 Ср. также млена ГБ к. XIV [СДРЯ IV, 552], сомленъ Палея 1406 г. [СлРЯ XI–XVII вв., 26, 142]и даже съмьлена, с неорганическим ь, в Стихираре XII в. [Там же].
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
825
Форма страдательного причастия наст. вр. òåïåìè 102б12 отражает распро-странение тематического -å- из основы наст. вр. (ср. в [СДРЯ III, 401] s. v. зово-мыи 7 примеров на зовемыи; íåñåìî [Sadnik 1981, 6]), а также, может быть, и стра-дательного причастия прош. вр. (òåïåíú).
По-видимому, древнейший пример аналогического распространения -ñòè наинфинитив глагола с основой наст. вр. -ãðåá- — ïîãðåñòè 52б11–12 — отмечен ря-дом с исконным образованием ïîãðåòè 42б22, 56а7; другие примеры такого рода вСДРЯ наблюдаются с конца XIII в. (погрести КН 1285–1291, 525г, прогрестиПНЧ 1296, 36), но в основном в XIV в. (см. статьи выгрести, грести, загрести,погрети, подъгрести).
12.2. Настоящее время
В системе презенса заслуживает упоминания регулярное написание формы 1 л.ед. ч. нетематического глагола èìýòè с -ú (èìàìú 11а17–18, 37в14–15, 97г6 vs.äàìü 12г18, ¬ñìü 4г16, 52б2, ¬ìTü 87а8) и 1 л. мн. ч. ïîâýìû 91г7 [Соболевский1907, 161] vs. ¬ñìú 141а17. Единственная на весь обширный источник форма 3 л.ед. ч. глагола áûòè без -ñòü, т. е. ¬ 99а13 (в составе перфекта), может быть интер-претирована и как описка — недописанная ¬ñè, что кажется более вероятным нафоне греч. œsthsaj, хотя после амбивалентной формы аориста áú �T¶ замену перво-начального ¬ñè на 3-е лицо тоже нельзя исключать.
12.3. Будущее сложное
Сложное будущее образуется в Соф исключительно с помощью глагола-связкиèìýòè в наст. вр., причем в греческом этим формам соответствуют как синтетиче-ские формы: àçú óæå íå èìàìú ïîÿòè ¬ 11а17–18 (praes. ™pa…rw букв. ‘подни-маю’, зд. ‘живу (с ней)’), [Богородица] ñêúðáýòè èìàòü âèäýâúøè ñí �à íà êð � Tòý136а11–12 (luphq»setai fut.), ðîäèøè ñí�à• è âú è¬ðóñàëèìý æðü÷üñòâîâàòè èìàòü142а12 (ƒerateÚsei fut.), так и словосочетания с глаголом mšllw ‘намереваться;предстоять’: íèíåâãèè ïîãûáíóòè èìàòü 75в4 (mšllei… ¢fanisqÁnai), ñúãðýøèòèèìàòü è ïðèðàçèòè êú ã �ó 120б3–4 (mšllei pta‹sai kaˆ proskroàsai), ïîïðàíèèìóòü áûòè 120б16–17 (mšllei… katapathqÁnai); один раз параллелью к славян-ской конструкции служит аналогичная греческая с глаголом œcw: äà íå êòî § ¬ðå-òèêú èìàòü ãë�àòè 111б14 (œcV / œcoi lšgein), однако ввиду приведенных вышепримеров интерпретировать ее как кальку нет оснований: очевидно, стабильныйславянский оборот для выражения будущего просто совпал здесь с синонимичнойгреческой конструкцией. Напротив, сочетания инфинитива с глаголом õîòýòè, со-ответствующие греческому будущему и конструкциям с mšllw, не являются ана-литической формой будущего — это модальные обороты, выражающие неизбеж-ность или предопределенность действия и возможные с любыми формами глаголаõîòýòè: õîùåòü áûòè ñúñóäú èçáðàíú 15в6 (mšllei g…nesqai), ïîíåæå õîùþ óìðýòè•ëó÷å ìè ¬ñòü ÿêî õT �üÿíó• çà õ �Tà ìî¬ãî óìðýòè 64г16 (mšllw qane‹n), è óáü¬íú áû-òè õîò• è áýæ âú êîçàðû 73г1 (mšllwn foneuqÁnai), ïðîðàçóìýâú ñò�ãî ïîëèêàðïà•íàìýñòüíèêà ¬ìó õîòùà áûòè• ¬ùå ñûè æèâú ñàìú ïîñòàâè è ¬ï � Tïúìü• âú ñåáå ìýñòî139г3–4 (œsesqai), ¬ãäà õîòøå óñý÷åíú áûòè 143г7–8 (™n tù mšllonta ¢pokefa-
Часть II. Исследования
826
l…zesqai), ìó÷åíèÿ õîòùàÿ ïðèòè § á�à• ãðýõú ðàäè íàøèõú• è ïðî÷å¬ ìîëèòâîþóñòàâè 148б4 (melloÚsaj ™lqe‹n) и т. п.
12.4. Аорист
Единственным реликтом простого аориста является форма 1 л. ед. ч. íàâûêú62г13 (™did£cqhn, в других списках тематическая форма íàâûêîõú).
Только двумя примерами документированы в Соф формы сигматического ста-рого аориста (нетематического) от глагола ðåùè: 3 л. дв. ч. ðýñòà 65б13 (так и вдругих списках), 3 л. мн. ч. ðýøà 149в12 (Л ðåêîøà); им противостоят восемь те-матических форм — ðåêîñòà 16в22 (но в П ðýñòà), 96в13, ðåêîøà 8г14–15, 70б13,104в8–9, 1 л. мн. ч. ðåêîõîìú 113г7–8, а также íàðåêîøà 152г18, (õðüñòüÿíè) ñ íà-ðåêîøà 149в11 (на следующей строке — ðýøà). Следовательно, в данном аспек-те наш источник примыкает к тем «произведениям домонгольского периода», вкоторых «представлено соотношение, характерное для восточноболгарских па-мятников» [Пичхадзе 2008, 154], — т. е. преобладание тематических форм.
У глаголов с основой инфинитива на -’а < -ę в 3-м (и изредка во 2-м) л. ед. ч.аориста наблюдается варьирование форм без приращения и с приращением (или, втерминологии В. А. Дыбо [2000, 304], сигматическо-корневого и сигматическо-дентального аориста), а именно:
– у êëòè и производных — 1 пример êëòúñ 77б13 vs. двух без аугмента(çàêë 42б10, ïðîêë 145в4);
– у íà÷àòè / çà÷àòè — 5 примеров с аугментом (íà÷òú 48б20–21, 52г2–3, íà-÷àòú 130в22, 144в1, çà÷òú 91б10) vs. 5 с формами íà÷ и íà÷à;
– у ÿòè и производных — 73 примера с аугментом (âúçòú — 2 + 1 форма сприращением -òü, где [ь] перед начальным [j] местоимения þ перешел в [и]: âúç-òè þ 157а17; âúñïðèÿòú — 232; èçòú — 1; ïîÿòú — 9; ïðèÿòú — 1 во 2-м л. и 41 в3-м л.33; ÿòú — 15; ÿòúñ — 1) против 17 без аугмента (âúç — 3; ïîÿ — 234;âúñïðèÿ — 1 во 2-м л.; ïîäúÿ — 1; ïðèÿ — 10).
Остальные глаголы, которые, по данным А. А. Пичхадзе [2006, 128], могут вы-ступать в древнерусских памятниках с приращением, демонстрируют иную кар-тину:
– глагол áûòè, за вычетом форм, входящих в состав сослагательного наклоне-ния, и одной вероятной описки (ïîëîæåíà áû ãëàâà 157а2), употребляется во 2-м и3-м лице аориста только с аугментом -ñòü (более 650 примеров);
– только формы с аугментом отмечаются у ïðåáûòè (9 примеров);
32 Вероятно, к форме с приращением восходит и неуместный инфинитив âúñïðèÿòè 111б17–18
vs. Л, С ïðèÿ.33 О том, что аорист ïðèÿòú был для древнерусских книжников совершенно обычной формой,
свидетельствует преобразование конструкции с омонимичным страдательным причастием: 3-й пи-сец Соф заменил оборот, сохраненный другими списками (С) в виде ïðèÿòú áû� T, на ïðèÿòú è ñò�ûè135а20.
34 Любопытно соположение форм на -òú и без -òú в одном контексте: âú öð�êúâè áî ¬þ êëòúñãúòèíú• è òàêî ïîÿ äýâèöþ 77б13–14.
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
827
– только формы без аугмента (хотя и очень немногочисленные) наблюдаютсяу глаголов çàáûòè (1) и äîáûòè (2), семантически весьма удаленных от произво-дящего35;
– у глагола äàòè и производных 78 раз встречаются формы с приращением(âúäàñòü — 1; äàñòü — 27, îòúäàñòü — 2, ïðåäàñòü — 48) и 2 раза — без аугмента(ïðåäà);
– у глаголов с основой инфинитива на *r безаугментный аорист зафиксированповсеместно (от ïîæðåòè1 ‘принести жертву’ — 1, от ïîæðåòè2 ‘съесть’ — 1, от ïðî-ñòðåòè — 1, от óìðåòè — 43, в том числе 1 пример во 2-м л.), за исключением един-ственного примера — óìðåòú 76в4–5, который представлен в искаженном контек-сте, не находит подтверждения в других списках и, вероятно, вторичен;
– у глаголов, производных от âèòè и æèòè, количество форм аориста весьманевелико, но аугмент не зарегистрирован ни разу (ïîâè 103в19, ïîæè 111в2 — несчитая нерелевантного в данной ситуации исконного тематического образования2 л. wæèâå 105г15 [Koch 1990, 643]).
Таким образом, аугмент в аористе является нормой для áûòè и äàòè с произ-водными (более 730 примеров vs. 5) и существенно преобладает у глаголов с осно-вой на *ę (79 vs. 24), тогда как в кругу глаголов на *r и на -èòè представляет собойредчайшее исключение. Эти данные позволяют отнести перевод Синаксаря, отра-женный в Соф, к числу тех переводных памятников, где «приращение употребля-ется почти так же последовательно, как и в старославянских текстах» [Пичхадзе2006, 144].
Обращает на себя внимание параллелизм аористных образований с -íó- и безэтого изначально презентного суффикса у глагола äüðçíóòè: äüðçîøà 111б20 —äüðúçíóøà 105а17 (аналогично — у причастий прош. вр.: ïîäâèãúíóâú 23а2–3 —ïîäâèãú 59г19, ïîäâèãúøå 11в9; ïîòúêíóâú 61г13–14 — ïîòúêøå 125а7 [в тропаре]).
12.5. Имперфект
Среди форм имперфекта нестяженные образования в целом крайне редки(áûâààøå 117а4–5, íîøààøå 87а20), и лишь у глаголов áûòè и èìýòè формы на -ýà-(у áûòè — изредка с интервокальным йотом: áýÿøå 90в5, áýÿõó 65г5–6, 102а4, уèìýòè — регулярно: èìýÿøå, èìýÿñòà, èìýÿõó) доминируют над формами типаáøå, áõó, èìøå, èìõó (ср. также ñìýÿøå 117б18 — ñúìøå 145б12–13, çíàÿ-øå 4г11).
Неоднократно наблюдается выравнивание основы -è-глаголов по наст. вр. иинфинитиву, а также по аналогии с обычными стяженными образованиями типаâèäõó, ÷üòøå, ср.: ñëàâîñëîâøå 8г19–20, ñëüçñòà 16в17–18, ñëîâîñëîâøå 17а4,õîäõó 94в12, ÷þäøåñ 124б4–5, ïðèõîäõó 129в17, ÷üñòøå 131а5, 140а8 (фор-ма, возникшая в результате контаминации ÷èñòè и ÷üñòèòè), êðüñòñòà 136б19,ëîâøå 141б18, íîñøåòà 160г1–2 [Соболевский 1907, 163] — но: ñëàâëøå 10б22.
35 Как отмечает А. Вайан [1952, 345], глагол çàáûòè и в старославянском «несколько отклоняет-
ся от спряжения áûòè формой 2 и 3 лица аор. çàáû, страд. причастием çàáúâåíú и глаг. существи-тельным çàáúâåí謻.
Часть II. Исследования
828
Известное главным образом по восточнославянским памятникам употреблениеаугмента в имперфекте ограничено формой 3 л. мн. ч. (однако у всех трех основ-ных писцов): âåäõóòü óñýêíóòú 34б9–10 (в протографе между глагольнымиформами, очевидно, имелось местоимение è = греч. aÙtÒn), ãë�àõóòü ¬ìó 35в1,ñòðúãàõóòè è 40в4–5, 115в13–14, õîòõóòü è óñýêíóòè 70в6–7, 80а20–21, áüÿ-õóòü è 78а20, áèÿõóòü è 148г20–21. В семи из восьми примеров приращение фи-гурирует перед формой ВП местоимения è, в одном случае — перед ДП того жеместоимения. Во всех остальных случаях употребления 3 л. мн. ч. (ïîìûøëõóëþäü¬ 42б20–21, ãîòîâëõó íà æåðòâ¹ 64в21, ñâçàíè áî áýàõó• è õîòõó óñý÷åíèáûòè 80а7–9, ñâàðõó ñò�ãî 99г20–21, ÿäõó § ïëîäà ¬ãî 129в18–19, áõó ó÷àùå140б18–19 и т. п.), не говоря уже о других формах имперфекта, аугмент не ис-пользуется, в том числе и перед местоимением è, ср., например: ìîëøå è 19а11,wáëè÷øå è 78в12–13, ñë¹æøå èìú 101а6–7, âèäøå è 111г17, ÷üòøå è 116в14,âèäøå è–ãýìîíú 144б21; единственный контекст с 3-м л. мн. ч., в котором -òü невставлено перед местоимением è (в РП), содержит форму имперфекта в окруже-нии однородных форм без -òü: íú ¬äèíè äîñòîèíèè ñëûøàõó• ãðýøüíèè æå íåâèäõó ¬ãî• íè ãëàñà ¬ãî ñëûøàõ¹ 113в15–19. Тем самым наш источник подтвер-ждает и дополняет наблюдения В. М. Живова [2006, 210–211], согласно которомуписцы, снабжая флексию -õó в позиции перед è приращением -òü, старались «из-бежать того обсценного звучания, которое возникает при присоединении энкли-тических местоимений к форме мн. числа имперфекта»: по-видимому, этостремление отчасти распространялось и на неэнклитические формы местоименияè (например, ¬ìó). В большинстве случаев -òü отмечается параллельно с Соф и вдругих восточнославянских списках, однако в болгарских рукописях формы, со-ответствующие примерам на л. 115в13–14 и 148г20–21, демонстрируют отсутст-вие приращения. Эти факты наводят на мысль о появлении аугментных форм ужена древнейшей стадии бытования Синаксаря на Руси.
Несколькими примерами представлено в Соф употребление имперфекта отглаголов совершенного вида в значении «многократно повторявшегося в прошломдействия, каждый отдельный акт которого достиг завершения» [Маслов 1954, 81]:от ïðèòè — àùå áî êòî ïðèäøå ê íåìó… wáëè÷øå è 78в10–11 (Л -äåøè; П ïðè-õîäøå36), от ïîâèíóòèñ — ñò�àÿ òà âúçèñêà¬ìà áý íà áðàêú• § åëåóêàäèÿ êíç•íú íå ïîâèíøåñ 101б14 (каждый раз проявляла неповиновение; так же Л, П), íó-äèìú áøå æðýòè áýñîìú… íå ïîâèíøåñ 148г8–9 (Лс, Б72 ïîâèíîâàøåñ, П58 ïî-âèí©ñ); сюда же, может быть, относится следующий контекст, в котором, как ка-жется, описываются действия не просто повторяющиеся, но достигшие цели:èäîñòà [Адриан и Еввул] âú êåñàðèþ• äà ïîñýòèòà ñóùàÿ âú òüìíèöàõú• ìó÷àùþþ[С -þñ] áðàòèþ íàøþ• è øüäúøà ïîñýùàñòà ÿ• è óòýøàñòà è óêðýïëñòà ÿ• íú è¬ëèíû ó÷àñòà ñëîâó á �èþ• è ìíîãû § íèõú óáî êðüñòñòà 136б19 (С, Тп157 êð�ùàñòà;много раз посетили, утешили, укрепили, многих крестили). Учитывая, что в иссле-дованиях, посвященных собственно восточнославянским текстам, декларируетсяпреимущественная распространенность «перфективного имперфектива» [Маслов
36 Варианты, свидетельствующие об отмирании исконного употребления, ср. [Маслов 1954, 85–88; Зализняк 2008, 99].
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
829
2004, 141] в памятниках древнерусского происхождения [ИИВ I, 23; Зализняк2008, 98–99], приведенные формы можно было бы рассматривать в ряду восточно-славянизмов Соф. Однако В. Б. Силина [1995, 442] отметила в учительной частиПролога (по списку Л) «единичное употребление» «имперфекта предельных гла-голов» — èäåæå êîãî wáðùàøå ïîþùà âú öð�êâè... âúõîæààøå âú öð �êâü Л, 77г (всякийраз, как обнаружит). Принимая во внимание, что та же форма фигурирует и в дру-гих списках — П и Соф, 247а27 (сер. XIII в.) — и присутствует в источнике дан-ной статьи — Синайском патерике (îáðùàøå СинП, 283)37, мы предпочитаем воз-держаться от географической привязки этого специфического, редкого и контек-стуально ограниченного явления, все еще не исследованного на широком мате-риале различных по происхождению памятников.
12.6. Перфект
Перфект, по сравнению с простыми претеритами, употребляется в житийныхтекстах Синаксаря крайне редко: из 51 примера 42 приходятся на тропари (39форм 2-го л., 3 — 3-го л.), где использование аориста в соответствии с греческиммогло привести к нежелательному совпадению 2 и 3 л., ср. два перевода одноготропаря: ™gkatšmixaj — ñúìýñè 45б21 / ñìýñèëú ¬ñè 122в22–г1 — и, в особенности,синтаксически сложный тропарь Ефрему Сирину, содержащий обращение к свя-тому только в последней фразе, тогда как в основной части представлено метафо-рическое описание, в котором именно недвусмысленные формы перфекта позво-ляют соблюсти хоть какую-то синтаксическую связность: Îòú óñòú òâîèõú âîäúæèâîòà èñòî÷èâúøè áë �ãäàòè [вм. ИП áë �ãäàòü] öð �êâü íàïúëíèëà ¬ñòü• è óìèëåíèÿìèðîâè ðýêû èñòî÷èëú [вм. -ëà] ¬ñòü 129б4–7 (см. также комментарий в т. I, с. 681).В одном случае 2-е л. перфекта фигурирует на месте 3-го в греческом: á�ú• âüðúñòóì÷�íêú ïðîñëàâèëú ¬ñè 124в2–3 (™dÒxasen), что дает основания предположить прав-ку в процессе трансмиссии — замену первоначальной двузначной формы аориста*ïðîñëàâè однозначной, но неверной формой перфекта. Вне тропарей, т. е. в текстежитий, перфект употребляется (также на месте греческого аориста) только во 2 л.при передаче обращений и диалогов, что указывает на прямую связь этой формыс актом речи. О наличии данной категории в живой речи, очевидно, свидетель-ствуют два примера с перфектом без связки в 3 л. ед. ч. муж. рода, при том что вобоих случаях мы имеем дело с инициативой 2-го писца Соф (или его предшест-венника): ïðèÿëú 42в8 (на месте первоначального аориста — Л, П ïðèÿ = ™dšxato),èñòúëúêîâàëú 56в12–13 (искажение первоначального причастия, ср. П -àâú =˜rmhneÚsaj).
37 Аналогичное употребление в Супрасльской рукописи (511, 21) Ю. С. Маслов [1954, 128] ин-
терпретировал как пример «отсутствия значения совершенного вида в формах имперфекта», с чем,однако, трудно согласиться.
Часть II. Исследования
830
12.7. Плюсквамперфект38
Плюсквамперфект в форме -ë-причастия с имперфективным аористом от áûòèотмечен в Соф всего четыре раза. В двух контекстах представлено традиционноезначение действия, предшествующего другому действию в прошлом, причем вгреческом оба раза фигурирует аорист: íå wáðýòîñòà ¬ãî ïðåñòàâèëúñ áý óæå 2в16–17 (metetšqh); ïîñëàíú áý èãóìåíúìü• áýæòè• äà íå óâýäýíú áóäåòü• ÿêî ñðàöè-íèíà êð �Tòèëú áý 93в10 (™b£ptise). Однако если в первом случае все списки едины ввыражении глагольной формы, то во втором ряд восточнославянских (начиная сП) и южнославянские списки демонстрируют перфект (êð �Tòèëú ¬ñòü), использова-ние которого в данном контексте, возможно, спровоцировано необычностью плю-сквамперфекта в придаточном предложении при будущем времени в главном иоправдывается тем, что крещение сохраняло актуальность в момент события.
Еще в двух примерах плюсквамперфекту, употребленному в обычной для негофункции относительного времени [Зализняк 2004, 175], соответствуют греческиепараллели с причастиями (resp. аориста и наст. вр.) при аористе глагола ‘быти’:àï� Tëú• äüðçàòè ïîâåëý [Нисифору] áý áî íèñèôîðà ïîñòàâèëú ïîïîìü 13в11–12 (Ãn…ceiroton»saj); ëóêà ¬âàíãåëèñòú… äåñíóþ ðóêó [Иоанна Крестителя] âú ñâîèãðàäú ïðýíåñå âú àíòèwõèþ• ïðýìíîãàÿ ÷þäåñà òâîðùþ• èäýæå è çìèè íýêûè áý•íýêäå âú ïðýäýëýõú ¬ãî• óãíýçäèëúñ áý39 118а20 (Ãn… ™mfwleÚwn; так в боль-шинстве списков, но в Ак -èâúñ). В условиях повсеместного сохранения плюс-квамперфекта в первом контексте и почти повсеместного — во втором, а такжепри отсутствии в древнейших памятниках конструкций типа áý + прич. на -âúформу плюсквамперфекта в обоих случаях следует признать исконной, а предло-женную в I т. (с. 589) трактовку чтения Ак как первичного — ошибочной.
Особого рассмотрения требуют два примера употребления форм как будто со-слагательного наклонения. Первый представлен в рассуждениях о том, что былобы, если бы младенец Иисус остался в Иудее и был схвачен Иродом: если бы Онбыл убит, не свершилось бы спасение человечества, а если бы Он не был убит, этодало бы повод еретикам говорить, что Он не обладал человеческой плотью (см.т. I, с. 535). Интересующий нас оборот находится в придаточном изъяснительном(3) после главного, выражающего ирреальное действие (1), и зависящего от негоеще одного придаточного — условия, также со значением ирреальности (2), одна-ко сам по себе означает вполне реальное (для любого верующего) событие — зем-ное воплощение Христа, в греческом выражен аористом (™fÒresen) и в обоих язы-ках находится после однородной формы аориста (™gšneto — áú �T¶): (2) àùå áî íåóáü¬íú áû áûëú… (1) ìíýëî áû ñ ìíîçýìú• (3) ÿêî ïðèâèäýíè¬ìü áú � T¶• è íå ïî èñòè-íý wäýëúñ áû âú ÷ë�âý÷üñêóþ ïëúòü 105а10–11 ‘если бы [Иисус] не был убит, мно-гим могло бы показаться, что Он явился призрачно и не в действительности об-лекся в человеческую плоть’. В комментариях в I т. (с. 537) мы предложили дляáû конъектуру *áý (плюсквамперфект), хотя разночтений к этому пассажу нет. Но
38 Автор признателен П. В. Петрухину и Д. В. Сичинаве за ценные замечания по данному раз-
делу.39 Избыточный повтор áý, связанный с тем, что связка воспринималась как сказуемое при çìèè.
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
831
сходная ситуация наблюдается и в следующем контексте, где нет более никакихсослагательных форм, греческий оригинал также содержит аорист (ºrn»sato), аславянская форма в составе придаточного уступительного обозначает не ирреаль-ное, а нереализованное действие, причем предшествующее другому, — т. е. выра-жает значение, присущее плюсквамперфекту: wáà÷å àùå ¬ðåñè äî êîíüöà íå§âåðãëúñ áû [император-арианин Валент]• íú è âú öð �êâü ïðèäå ñëóæàùþ âåëèêîìóâàñèëèþ• è äàðû ïð·íåñå 111г19 ‘однако, хотя он и не до конца отказался от ереси,тем не менее и в церковь пришел, когда служил великий Василий, и дары принес’.В настоящее время грамматическая интерпретация обеих приведенных форм ка-жется нам вполне очевидной: на фоне обнаруженных еще В. Вондраком старо-чешских форм плюсквамперфекта с аористной связкой типа jakož mu by přikázalHospodin ‘[и фараон не послушал их], как и говорил40 ему Господь’ (ОломоуцкаяБиблия, начало XV в., Исх 7.13) [Сичинава 2004, 300] эти образования служат, нанаш взгляд, подтверждением идеи Д. В. Сичинавы о том, что «происхождениеславянского условного наклонения связано с одной из форм славянского плюск-вамперфекта, образующейся при помощи аориста вспомогательного глагола и l-причастия» [Там же, 292], и являют собой первые, древнейшие примеры даннойархаичной формы плюсквамперфекта в славянской письменности. При отсутствиисопоставимых образований в других известных восточно- и южнославянских па-мятниках статус плюсквамперфекта со связкой в виде аориста от áûòè как ещеодного возможного русизма в переводе Синаксаря остается, однако, гадательным.
12.8. Сослагательное наклонение
Все другие примеры со связкой áû, áûøà и -ë-причастием выступают в Соф вфункции сослагательного наклонения: 2 л. — àùå áû õîòýëú òî øüëú áû íà âúñòîêú97б3–4 (в греч. ‘если хочешь, можешь пойти’); 3 л. — àùå íå áûøà ñè èìýëè• âå-ëèêûõú è–çâýñòüíûõú íàäåæü• òî íå áûøà òîëèêú ìóêú òüðïýëè 47г18–22 (анало-гично — 28а17–20); è ìîëèñ ¬ìó• äà áû íå ñúãîðýëú è íå ñúãîðý 63б11; àùå áî áû íåáýæàëà [Богородица] íú ÿòú áû ìëàäåíüöü áûëú• è àùå óáü¬íú áû áûëú• òî ñïîíàáû áûëà ñï�ñåíèþ ÷ë�â÷üñêîìó 104г18–22; ìîëøå è §âðýùèñ õ�à• äà áû íå óìîðåíúáûëú 119г22, ìîëèøà ñò�ãî âàðôîëîìýÿ• è ñò�óþ ìàðèàìíè… äà áûøà è òè íå ïîãðçëè151б19–20. Примечательна архаическая форма условного наклонения без прича-стия (при наличии причастия в придаточном предложении): àùå áî áû ðå� c íîñèëúïëúòü• òî ïîñý÷åíú áû ìå÷åìü 105а14 (ср. аналогичную конструкцию в «Вопроша-нии Кирика»: ÿзъ радъ быхъ аже бы мне такоже бы(л). КН 1285–1291, 525б [СДРЯIX, s. v. радъ]; см. также [Соболевский 1907, 245; Зализняк 2004, 143]).
12.9. Супин
Последовательное употребление супина (например, ïîñëàøà ñò�ãî åyëàìïèÿ•êóïèòú õëýáú âú ãðàäú 18а10, âåäõóòü óñýêíóòú 34б10–11, èäîøà… ïðýòúñ39г3, èäå ïîêúëîíèòúñ 69а16–17, ïîñëàíú áûñòü ìàêñèìú• ó¬ïàðõúìü ìó÷èòúôàóñòû 140а20–21) нарушается лишь отдельными отклонениями. Так, на месте
40 По замечанию Д. В. Сичинавы, в латинском здесь plusquamperfectum: praeceperat.
Часть II. Исследования
832
греческой конструкции со значением ‘послав, сказал’, переданной в большинствесписков посредством двух аористов — ïîñëà è ðåc �, Соф демонстрирует оборот ïî-ñëà… ðåùè 103б13–14, где ожидался бы супин; однако, как известно, образованиесупина от глаголов на -÷è/-ùè не вполне регулярно (ср., впрочем, ëåöü в Синодаль-ном списке Новгородской I летописи, 103). В том же 2-м почерке инфинитив ещедважды отмечен после глагола ïîñúëàòè: ïîñëàíú áý èãóìåíúìü• áýæòè 93в10, ïî-ñëàâú âîÿ ñâîÿ èçáèòè ìëàäåíüö âñ 104в12, но здесь как форма инфинитива, таки — во второй цитате — зависящий от нее ВП, возможно, калькируют греческуюконструкцию. В обороте ëåãøè ñïàòè 12б15, соответствующем греч. katenecqe‹sae„j Ûpnon ‘заснув, букв. погрузившись в сон’ — т. е. конструкции без инфинитива,использование формы на -òè, вероятно, объясняется невыраженностью целевойсемантики. О наличии супина как живой категории в речи писцов Соф как будтосвидетельствует случай переосмысления, когда супин появляется на месте инфи-нитива: ïîâåëý îñëüïúøþ ¬ìó. íà ïóòè• è ãðäóùó ê íåìó êð � Tòèòúñ 5г22, — притом что в греческом оригинале и в других списках инфинитив не зависит от глаго-ла движения (греч.: ‘повелел крестить его, ослепшего в пути и идущего к нему’;Ф1: ïîâåëý ¬ìó wñëýïúøþ íà ïóòè êð � Tòèòèñ ãðäyùþ ê íåìó ‘повелел, чтобы он,ослепший в пути, крестился, идя к нему’).
12.10. Причастия
Вполне бессистемно, как кажется, используются в нашем источнике исконныеформы действительных причастий прош. вр. от глаголов на -èòè, образованные спомощью суффикса *-us- (-ü, -üø-), и более новые, хотя и обычные уже в началеписьменного периода формы с суффиксом *-vus- (-èâú, -èâúø-), ср.: ñëîæèâú èîñòàâëü 17в20. Вместе с тем ряд вторичных форм аориста на -è, которым в грече-ском соответствуют причастия, по-видимому, свидетельствуют о чуждости арха-ичных образований узусу писцов, воспринимавших формы на -ü в своих прото-графах как аномальные и стремившихся заменить их сходными формами, ср.ñòâîðè 80а4, 80г5–6 (в др. сп. -ðèâú) vs. греч. poi»saj — т. е. явно из *ñúòâîðü.
ИП ед. м. действительных причастий наст. вр. от глаголов с консонантнойосновой чаще всего выступает в Соф с южнославянской флексией -û (членнаяформа -ûè), однако это преобладание обусловливается прежде всего частотностьюсоответствующей формы глагола áûòè — ñû (ñûè), употребляющейся в тексте безкаких-либо вариантов, и столь же безраздельным господством -ûè в членныхформах других глаголов (10 примеров: ÷òûè 20в20, 25б8, ìîãûè 34б8, ìèìîèäûè60в17, ñâýäûè 70а13, âýäûè 98б3, 109б3, ñú çâýðüìè æèâûè 114а6, 115б22, ÿäûè123а2–3). В именной форме, напротив, южнославянская флексия -û использованатолько три раза: ñâýäû 17б13–14, èäû 22в2, âýäû 117б15, между тем как восточ-нославянское окончание -à встречается восемь раз (из них шесть — у 3-го писца):èäà 19б17, 122а11, ïàñà 32а13, 133г14, æèâà 124в12, íå âýäà 141б16, çîâà 142в18,ìèìîèäà 146а4–5. Симптоматично, что в Соф — рукописи очевидно не новгород-ско-псковской — не представлено дальнейшее развитие форм на -à, прежде всегохарактерное именно для северо-западного ареала [Зализняк 1993, 229–230], —смягчение согласной перед -à под влиянием основ типа õîä, тогда как в более
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
833
поздних псковских и новгородских прологах такие образования уже отмечаются,ср. разночтения к вышеприведенным формам: 19б17 — Л èä, 124в12 — П æèâ,133г14 — С ïàñ, 142в18 — Л çîâ, 146а4–5 — С ìèìîèä.
Именные действительные причастия преимущественно сохраняют исконныеформы словоизменения. Интересны в этом плане редкие даже и в более раннихпамятниках формы ВП ед. м. наст. и особенно прош. вр.: âèäý äõ�ú ñò�û âú ãîëó-áèíý îáðàçý• ëýòàþùü íàäú ñò�ûèìè äàðìè• è ñýäùü íà íèõú 10а1–2, áýñîâè æåïîâåëý… êàìåíü âåëè ñóùü• ïðèíåñòè âú åðàïîëü 31б13–14, âú êîíîáú âðùü 41б20,âèäýâú æå ñò�ûè çâýðü ãðäóùü íà íü 113а18–19, âèäýñòà è ðîäèòåë ¬ãî âú ñíý•âèíîãðàäú íà ÿçûöý ¬ãî íàñàæåíú è âúçäðàñòúøü• è èñïúëíüøü âñþ çåìëþ 129в15–16,wáðýòú êàìåíü ãëóáîêú• èìóùü ïîêðîâú ìàëú• êú ìîðþ ïîêëîíüøüñ 143а16–18 —и аналогичная форма РП мн. ч.: æèòåëü ñóùü 4г22. Любопытно, что архаиче-ская форма появляется даже в результате искажения текста, где изначально ника-кого причастия не было: âèäý è âú ñíý ñóùü êðóãú [в др. сп. ñóïðóãú — zeàgoj]âîëîâú 120б10. В ИП ед. ч. изредка наблюдаются формы ВП, демонстрирующиеунификацию прямых падежей: ïðèâåäåíú áú � T¶ êú àíòîíèþ• óíîøà• èìyùà [вм.èìóùü Л, П] áýñú íà÷àëíûè 11б21–22 (ср. èìû); ñúõîäùå¬ æå áý ïîïåëú ãîðùü48в1–2; в членном склонении: § ñò�ãî ðîæüñòâà… ÿâëþùèèñ wñìûè äí �ü 111а7–8,âèíîãðàäú æå ÿâëøåñ• õîòùèè ñ ïîäàòè ¬ìó ðàçóìú 129в21 (вм. ВП —mšllousan).
В ИП мн. м. членные образования действительных причастий демонстрируют,наряду с исконной флексией -åè, первый элемент которой отражает флексию кон-сонантного склонения (âúâüðãúøåè 114г7–8, æèâóùåè 118а21, 125г1, ìó÷àùåè129а15–16, §âüðãúøåèñ 151г22), нередкое уже в древнейших памятниках оконча-ние -èè [Вайан 1952, 152, 156]: ïðèøüäøèè 10в1–2, òâîðùèè 17а12–13, óïîâàþùèè17а13–14, ïðåñòîÿùèè 41а1–2.
В РП ед. ж. прош. вр. дважды отмечена флексия -èÿ, возможно, отражающаявлияние твердой разновидности адъективного склонения: àíüíû• íîâûÿ äúùåðå•áûâøèÿ èîàíà 39а8 (под влиянием íîâûÿ?), âúñïèòàâúøèÿ ¬ãî æåíû• æèòüíèöà…íàïúëíè 156в18–19 (но в позиции приименного определения употреблялся и ДП, сфлексией которого могла быть контаминирована форма РП, ср.: ïàì�U ôåwäîðûö �Tðöý ñòâîðèâúøèè ïðàâóþ âýðó 145а9).
Показательны формы с обобщением внеродовой и внечисловой флексии -å, ко-торые функционируют уже в качестве, так сказать, «преддеепричастий», в окру-жении правильных форм других частей речи, сохраняющих нормальное словоиз-менение: äø�à• âúçèäîøà íà íá �î• ðàäóþùåñ è âåñåëùåñ 2в2–3 (специально оформах мн. ч. жен. рода см. [Кузьмина, Немченко 1982, 316]), ñí�ó äèîêëèòèàíþ•õîòùå ïîÿòè þ æåíý 15а2–3, æåíû íýêûÿ ÷åòûðè… èæå ïðåäú èãåìîíúìü ñòàâøå• èîáëè÷èâúøå áåçáîæí¹þ ¬ãî èäîëüñêóþ ëüñòü 31г10–11, æåíû ïîñòüíèö… êðýïúêîwáë·÷èâúøå ñóðîâüñòâî çëî÷üñòèâàãî ö � Tð 66а18, ¬äèíîì¹ æå àðõèïó è »èëèìîíó• èàïî»èè wñòàâëüøå 68в12–13 (П wñòàâøåìú), Îçàðèâúøå ñâýòúìü òð � Pö ÷þâüñòâúìüóìà• äâ �îì÷�íöå òðåñúëíü÷üíî¬ ïîñòàâèëà ¬ñè âú êóïýëè 78г9, Ãëàçàòûìú òðüìú ñòîìúíàøåäúøèìú ëèêû• è ïðýøüäúøèìú ïó÷èíó ¬ôèwïüñêó• è ïðèøüäúøå íà ìýñòîíýê è wáðýòúøåìú êîðàáëü• è âúëýçúøåìú âú íü• è ïðýýõàâúøåìú âú ñòðàíó ôàðà-íèòüñêó 126а22 (здесь форма на -å сопровождается целым рядом правильно упо-
Часть II. Исследования
834
требленных однородных причастий), wáëàäàþùå âèêåðèÿ 131а1 (вм. дат. сам.), òà-êîæå è æåíû òðè• § ïðýñòîÿùèõú òó• âèäýâúøå ÷þäî• èñïîâýäàøà õ �à 144в10, ïðè-õîäùèìú æåíàìú áåñýäîâàñòà [Марана и Кира]• ó÷àùå ÿ íà äîáðîäýòåëü 160в23.Иногда подобные формы могут получить объяснение как кальки с греческого:âë� Döý õ �Tó. âýíöåíîñèöè ïðåäúñòàñòà• ïðèèìúøå ïðèñíîñóùå¬ è íåñòàðýþùå¬ñ ïðèñíî-ñóùüñòâî 5в12 (в V ошибочная форма ¢polabÒntej вм. ¢polaboàsai), [Сергий иВакх] õðü � Tÿíüñòâó íàâûêøå îêëåâåòàíà áûâøà êú ö � Tðþ 14б14–15 (maqÒntej), âèäýâúøåæå áûâúø嬕 ìóæ äâà õ � Tüÿíà 50б20 („dÒntej), ìîùè æå ¬ãî ëåæòü âú ïüðñýõú•÷þùå êîíå÷íãî âúñêðýøåíèÿ 76а9 (™kdecÒmenon) — однако такое толкование, не-сомненно, не распространяется на все случаи несогласования.
Так, едва ли чем-то иным, кроме отсутствия живого чувства склонения, обу-словлено использование незакономерных форм в следующих контекстах: àíàíèþïý� Tìè ïî÷òýìú• ÿêî ñ íèìü çà íû íåwñòóïíî• ìîëùàÿ 5г8 (вм. В=Р ед. ч. -ùà),äîøüäúøà æå êîñòíòèí ãðàäà• âú ëýòà àíàñòàñèà ö � Tð• âúøüäú ïðåáûâàøå âú öð �êâè•ïðåñò�ûÿ áö �à 6г5–6 (вм. ИП äîøüäú в С), âèäøå• ïðåîáèäùàÿ ìóêû• îáëè÷àþùàæå èäîëüñêóþ ñó¬òó• âåëèêúìü æå ãëà� Tìü• ïðîïîâýäàþùè õ � Tà 30г3–4 (вм. -ùà), Ïòü-÷èñëüíàÿ òâüðäîñòü ñòð � Tòîòüðïüöè• è íà èíû ìóêû• äüðúçíóâúøà 86г2–3 (вм. -øå),íóäèìú áú� T¶ ïîæüðýòè èäîëîìú• òè ÿêî íå ïîêîðüøàñ• ïîâýøåíú áú � T¶ 90г2 (вм. -ðüñили, в соответствии с греческим имперфектом, -ðøåñ).
Отклонения, свидетельствующие о весьма продвинутом процессе отмираниясклонения у действительных причастий и очевидной неуверенности писцов в ис-пользовании соответствующих форм, возможно, делают избыточными предло-женные в I томе интерпретации ряда форм как описок, искажений, кáлек, с объяс-нениями ad hoc в каждом случае, — или, по крайней мере, показывают питатель-ную среду, на которой столь бурно разрастались подобные описки41, ср.: ó÷èòåëèìóùå ó÷àùå ÿ 1г10 (ошибочная форма под влиянием предшествующих прич. вИП), âñýìú æå ñú ñòðàõúìü çîâóùå 4а4 (пропуск слога), ö �Tðâè æå òèðèäàòó èñòóïëü-øþ óìà ñâî¬ãî• è ïëúòü ñâîþ ÿäóùà 5а6 (РП в соответствии с греч. gen.?), åâñåâèè æåè õåðèìîíú• § á�à âúçìîãúøà… ïîñýùàþùàÿ• ñóùàÿ âú òåìíèöàõú• è ñò�ûèõú ì÷�íêúìîùè ïîãðåáàþùà• è äî ëýU � äåêè ì÷�òë ïðåáûâøà• è ìíîãû ïðåòüðïýâøà íàïàñòè• èñ-ïîâýäàíèÿ ðàäè ¬æå âú õ � Tà• íå ïîêîðèñòàñ 12а14 (ошибочная членная форма, види-мо, в предвосхищение следующей), âèäý ¬ï� Tïú• ·wàíú âú ñí �ý• ìóæ íýêî¬ãî ñëóãóäüðæ ìå÷ü 43а19–20 (видимо, пропуск слога), ìå÷üìü ñêîíü÷ñòàñ• áë�ãîäàðùå ã �àíàøåãî 43б10 (вероятно, описка), Òè áýàõó ïðè ìàêñèìüÿíý ö �Tðè• ó÷ùå ñëîâó á�èþ•è ìíîãû § íåâýðíûõú wáðàùàþùà êú á�ó 47в19 (фл. ошибочна — под влиянием пре-дыдущих à в этой словоформе), ¬äèíîþ âèäýâú çàèìîäàâüö äüðæùà ìüðòâüö• èíå äàäóùà ïîãðåòè è ãë�þùå 56а7 (вероятно, описка), ñíòà áûâúøà• è ïðýáûâàþùèèâú èñïîâýäàíèè• ïàêû wáýøåíà áûñòà 59б20 (вероятно, предвосхищение фл. сле-дующей формы), ðàçúãíýâàâúøàñ íà÷øà ñêðüæüòàòè çóáû ñâîèìè 106в4–5 (оши-бочная фл. — предвосхищение фл. следующей формы), wáýìà æå ñóùåìà òàìî èïîñòüíî¬ æèòè¬ ñúâüðøàþùà 126г5 (описка (пропуск букв) или переход на ИП),áõó ó÷àùå ñëîâó á�èþ… á�à èñòèíüíà èñïîâýäàþùà 140б21 (повторение фл. преды-дущих словоформ).
41 Далее в скобках даны комментарии из I тома.
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
835
В некоторых случаях именные причастия как будто отражают актуальные длядревнерусского языка процессы межродовой унификации в косвенных падежахмн. и дв. ч., однако при отсутствии соответствующих примеров в склонении при-лагательных эти примеры трудно признать убедительными. Так, при существи-тельном äâüðü и образованном от него äâüðüöà наблюдаются определения с флек-сией муж.-сред. рода (çàòâîðåíîìú äâåðåìú 2б5–6, §âüðçúøåìúñ äâüðöìú 70б4), ноэто едва ли может быть истолковано как результат межродового взаимодействия уродоизменяемых имен, а объясняется тенденцией к устранению склонения у при-частий и утратой категории рода у данного существительного, чаще всего высту-пающего во мн. ч. [ИГДРЯ I, 230–232]. Аналогичным образом интерпретируетсяДП причастия на -åìú при plurale tantum ìîùè: ìîùåìú ¬ãî ëåæàùåìú 34в20, ïðè-øüäúøåìú ÷üñòüíûìú ìîùåìú 128в10 [ИГДРЯ I, 231]. При duale tantum î÷è, кото-рое изначально относилось к жен. роду, а в прямых падежах согласовывалось сродоизменяемыми словами по сред.-жен. роду: §âüðçå î÷è ñâîè 75г15–16, âèäýñòàî÷è ìîè 135б6–7, 136а7 (цитата из Лк 2.30), — переход в сред. род, поддерживае-мый влиянием однокоренного *s-основного îêî [ИГДРЯ II, 125–126], проявляетсяв сочетаемости с причастием в ДП, имеющим флексию муж.-сред. рода: èñêî÷èâ-øåìà î÷èìà ¬ãî 29а16–17. Прежде всего утрата склонения причастиями усматрива-ется в следующем примере: ñú ñò�ûìè òðüìè ñåñòðýíèöìè• õîòùåìú íèæå äåâòèèäí �èè• ñêîí÷òè ïîäâèãú ì÷�íèÿ 100г20–21 (ДП соответствует греческому, хотяожидалась бы форма жен. рода, согласованная с ТП ñåñòðýíèöìè).
К ошибкам при пословном переводе восходят, по-видимому, формы ИП стра-дательных причастий с неверными родовыми флексиями: как и во многих другихслучаях такого типа, славянские книжники, встречая в греческом оригинале спря-гаемую глагольную форму сказуемого, передавали ее причастием, причем исполь-зовали немаркированную форму муж. рода, не затрудняя себя тем, чтобы соотне-сти ее с подлежащим [ИГДРЯ I, 168]: æåíû ïîñòüíèö… óñý÷åíè áûøà• òàêîæå• èã �• äâ�û• íîæè èçðýíè [П èçðýçàíè] áûøà 66а18–б1 (в греч. 3 л. мн. ч. аориста), ìî-ùè… ïðåíåñåíè áûøà 121г5 (в греч. 3 л. ед. ч. аориста).
Наконец, заслуживают упоминания причастия наст. вр. от глаголов совершен-ного вида либо нехарактеризованных по виду: ñú ñëüçàìè ïîâýäàÿ èãóìåíó áýæà-íè¬ äúùåðå 4г6, èñïîâýäàíèÿ [вм. -àÿ] æå õ � Tà• è ïðýwáèä èäîëû 52г14, âúõîäà íåäàäóùà íèêîìóæå 58в17, ïåòðó íå ïðîñòùþ ¬ãî 70в12, ðàöý íå §âüðçóùèñ 128в8–9 (ср. [Кузьмина, Немченко 1982, 290–291]).
Таким образом, при сохранении церковнославянской (scil. древнеболгарской)языковой основы, морфологический строй, отраженный в Софийском синаксареконца XII – начала XIII в., характеризуется наличием многочисленных восточно-славянизмов практически во всех пунктах, где древнерусский язык противостоялстарославянскому; иногда эти русизмы выполняют четко ощутимые орфографи-ческие и смыслоразличительные функции, порой выглядят как случайные вкрап-ления живой речи. Существенно реже встречаются в Соф свежие инновации древ-нерусской грамматики, пробивающиеся в других рукописях этого периода, —писцы в основном блюдут целостность морфологической системы переписывае-мого ими текста.
Часть II. Исследования
836
Литература
Вайан 1952 — Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952.Васильев 1972 — Васильев Л. Л. Труды по истории русского и украинского языков. München, 1972.Дыбо 1981 — Дыбо В. А. Славянская акцентология: Опыт реконструкции системы акцентных пара-
дигм в праславянском. М., 1981.Дыбо 2000 — Дыбо В. А. Морфонологизованные парадигматические акцентные системы. Типология
и генезис. Т. 1. М., 2000.Живов 2006 — Живов В. М. Восточнославянское правописание XI–XIII века. М., 2006.Зализняк 1985 — Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.Зализняк 1993 — Зализняк А. А. К изучению языка берестяных грамот // Янин В. Л., Зализняк А. А.
Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг. ). М., 1993. С. 191–321.Зализняк 2004 — Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 2004.Зализняк 2008 — Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2008.ИГДРЯ I — Историческая грамматика древнерусского языка. Т. I: Иорданиди С. И., Крысько В. Б.
Множественное число именного склонения. М., 2000.ИГДРЯ II — Историческая грамматика древнерусского языка. Т. II: Жолобов О. Ф., Крысько В. Б.
Двойственное число. М., 2001.ИГДРЯ III — Историческая грамматика древнерусского языка. Т. III: Кузнецов А. М., Иордани-
ди С. И., Крысько В. Б. Прилагательные. М., 2006.ИГДРЯ IV — Историческая грамматика древнерусского языка. Т. IV: Жолобов О. Ф. Числительные.
М., 2006.ИИВ I–II — «История Иудейской войны» Иосифа Флавия: Древнерус. перевод / Изд. подгот.
А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева, Г. С. Баранкова, А. А. Уткин. Т. 1–2. М., 2004.Крысько 1994 — Крысько В. Б. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М.,
1994.Крысько 2007 — Крысько В. Б. Очерки по истории русского языка. М., 2007.Крысько 2009 — Крысько В. Б. Об издании февральской минеи // Russian Linguistics. 2009. No. 1.
С. 65–99.Кузнецов 1997 — Кузнецов А. М. К истории форм сам и самый в русском языке // Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 9: Филология. 1997. № 4. С. 49–67.Кузьмина, Немченко 1982 — Кузьмина И. Б., Немченко Е. В. История причастий // Историческая
грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982. С. 280–411.Маслов 1954 — Маслов Ю. С. Имперфект глаголов совершенного вида в славянских языках // Во-
просы славянского языкознания. Вып. 1. М., 1954. С. 68–138.Маслов 2004 — Маслов Ю. С. Избранные труды. Аспектология. Общее языкознание. М., 2004.Пичхадзе 2006 — Пичхадзе А. А. Южнославянские традиции в древнерусской письменности: при-
ращение -тъ/-сть в аористе // Вереница литер: К 60-летию В. М. Живова. М., 2006. С. 129–146.Пичхадзе 2008 — Пичхадзе А. А. Южнославянские традиции в древнерусской письменности (лекси-
ка и грамматика) // Письменность, литература и фольклор славянских народов. XIV Междунар.съезд славистов: Докл. росс. делегации. М., 2008. С. 152–172.
СДРЯ — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1–9 (в печати)–. М., 1988–2012–.Силина 1995 — Силина В. Б. Видо-временные отношения // Древнерусская грамматика XII–XIII вв.
М., 1995. С. 374–464.СинП — Синайский патерик / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967.Сичинава 2004 — Сичинава Д. В. К проблеме происхождения славянского условного наклонения //
Исследования по теории грамматики. Вып. 3: Ирреалис и ирреальность. М., 2004. С. 292–312.СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 26. М., 2002.Соболевский 1907 — Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. М., 1907.Сумникова 1995 — Сумникова Т. А. Местоимение // Древнерусская грамматика XII–XIII вв. М.,
1995. С. 326–374.Шахматов 1957 — Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка. М., 1957.
В. Б. Крысько. Морфологические особенности житийной части Софийского пролога
837
Шульга 2003 — Шульга М. В. Развитие морфологической системы имени в русском языке. М., 2003.Diels 1932 — Diels P. Altkirchenslavische Grammatik. Т. 1. Heidelberg, 1932.Koch 1990 — Koch C. Das morphologische System des altkirchenslavischen Verbums. I–II. München,
1990.Sadnik 1981 — Des hl. Johannes von Damaskus ”Ekqesij ¢krib¾j tÁj ÑrqodÒxou p…stewj in der Über-
setzung des Exarchen Johannes / Hrsg. von L. Sadnik. Bd. 1. Freiburg i. Br., 1981.SJS — Slovník jazyka staroslověnského. I–IV. Praha, 1958–1997.