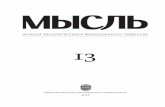Материалы к ранней истории тюрков. 1. Древнейшие...
-
Upload
archaeolog-ru -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Материалы к ранней истории тюрков. 1. Древнейшие...
И.Л. КЫЗЛАСОВ
МАТЕРИАЛЫ К РАННЕЙ ИСТОРИИ ТЮРКОВ.I. ДРЕВНЕЙШИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АРМИИ
Приступить к публикации материалов по этой теме меня побуждают дваобстоятельства. Во-первых, ныне резко возрос интерес к проблемам своего проис-хождения и ранней истории среди народов Евразии, в том числе тюркоязычныхнародов (коих на территории СССР проживало более 50 млн. человек). В то же времяэтот интерес сегодня удовлетворяется в значительной мере не трудами историков, аработами представителей самых разных групп творческой интеллигенции, в которыхмного того, что можно было бы'назвать «розовыми национальными мечтаниями опрошлом» и что по большей части не имеет отношения к подлинным процессам исобытиям этого прошлого. Во-вторых, на исследования специалистов всех гумани-тарных дисциплин все более заметные ограничения накладывают исходные позиции,согласно которым раннесредневековое и древнее тюркоязычное население по своемужизненному укладу расценивается как кочевники. Само это понятие порождает зара-нее заданное и, как выясняется при непредвзятом анализе, очень узкое и чрезвычайноусловное восприятие как археологических, так и исторических источников.
Первое из отмеченных общественных явлений порождено, с одной стороны, явнойнехваткой во всех отраслях тюркологии квалифицированных специалистов, с другой —осознанием ограниченности тех подходов к постижению названных проблем, которыепредлагает сегодня сама наука. Вместе с тем искренне стремящаяся к восполнениюимеющихся пробелов национальная творческая интеллигенция, как легко заметить,глубоко впитала в себя схематизм академического кочевниковедения и неизбежноотразила мифы современной науки в своих попытках осмысления этногенетических иисторико-культурных вопросов. Поэтому в ныне многочисленных изданиях, посвящен-ных обсуждаемой тематике, в том числе и тех, которые подготовлены некоторымиуниверситетами и научно-исследовательскими институтами, можно уже встретить ут-верждения о тюркоязычности и саков, и скифов, и многих более древних и совершенноневедомых нам народов (таких, как носители ямной археологической культуры).Основанием же служат лишь факты присущего им подвижного способа скотоводства,доения кобылиц и употребления кумыса, применения в бою воинов-конников и т.п.черты быта, никак не связанные ни с этнической, ни с языковой природой общества.
И поиски специалистов, и разыскания дилетантов (в первоначальном и необидномсмысле - «любителей») охотно ведутся лишь в заранее избранной сфере такназываемых кочевнических древностей. Легко понять, что уже в силу такого суженияполя зрения эти исследования не могут отвечать всем требованиям науки. Нельзязабывать важнейшую особенность работы с историческими источниками любого рода:при их осмыслении можно почерпнуть лишь то, что нами отыскивается, точнее то, чтомы готовы воспринять. Если при анализе любого древнего общества мы предпочтемметоду внешних сравнений способ реконструкции присущих ему внутреннихособенностей, то полученные результаты во многом изменят привычные нампредставления. Продемонстрировать сказанное в отношении наиболее существенныхчерт ранней истории тюркоязычных народов и вследствие этого изменить еевосприятие - и входит в мою задачу.
© И.Л. Кызласов, 1996 г.
73
Автор этих строк заинтересован в том, чтобы представляемые им материалы ивыводы стали достоянием широкого круга специалистов и поэтому планирует поэтапнопубликовать их на страницах центрального научного издания - журнала «Российскаяархеология».
Прежде чем начать изложение основных материалов, следует оговорить одноСущественное обстоятельство. На протяжении истории имя тюрок изменяло своезначение. Ныне (исключая известные случаи самоназвания Шгк) оно имеет сугуболингвистический смысл и обозначает все народы, говорящие на близких друг другу иисторически родственных языках так называемой тюркской семьи. Понятие «тюрки» вэтом смысле подобно другим терминам лингвистической систематики, таким, как«славяне», «балты», «иранцы» и т.д. Среди современных тюркских народов нет нифизического, ни культурного, ни мировоззренческого сходства - их объединяет толькоязык. Так было и в раннем средневековье. По-видимому, этот лингвистический смыслимя тюрок приобрело уже в устах средневековой арабской науки и было затемвоспринято европейским языкознанием.
По крайней мере до VIII в. дело обстояло иначе. Тюрками (Шгк) назывался толькоодин из уже многочисленных тогда тюркоязычных народов - а именно, создатель I и IIТюркских каганатов. Другие близкие по языку народы носили иные имена (карлуки,уйгуры, кыргызы, азы, чики и т.д.).
Разбору этой ситуации и связанному с ней взгляду на прошлое совершеннонеобходимо посвятить отдельную статью. Здесь же отмечу, что понятие «тюрки»будет применяться мною только в отношении конкретного раннесредневековогонарода, а в обобщающем смысле определение «тюркский» будет иметь лишьлингвистический смысл. Некоторую возможность разграничения предоставляет богат-ство форм русского склонения. От слова «тюрки» как в родительном, так и ввинительном падежах может быть образовано по две внешне различных формы.Первая из них («тюрок») традиционно указывает на отдельный народ, а вторая(«тюрков») - на всех носителей языковой семьи. Последнее обстоятельство исполь-зовано в названии этой работы.
Опуская спорные случаи, когда речь в восточных письменных источниках идет онародах, которых те или иные исследователи считают прямыми предками тюрок(равно4 как и упоминания римскими авторами I в. этнонимов, сходных по звучанию сШгк), необходимо признать, что само имя тюрок обнаруживается на арене истории,когда их представители впервые появились на китайской границе в конце династииСеверная Вэй (386—534 гг.), т.е. до 534 г. Наиболее ранние свидетельства о народе поимени 1йг1с (1'и-кйе) содержат летописи «Чжоу-шу» (завершена в 629 г.), «Суй-шу»(окончена частями в 629-636 и 641-656 гг.) и «Бэй-ши» (дописана в 659 г.) (Ьш Маи-18а1, 1958. 5. 1). Уже в это время стало известно, что тюрки «из оружия имеют:роговые луки с свистящими стрелами, латы, копья, сабли и палаши ... искусно стре-ляют из лука с лошади» («Чжоу-шу») (Бичурин Н.Я., 1950, с. 229), что «сила тюрокзаключается в конной стрельбе из луков» (слова императора Гао-цзу, сказанныемежду 615 и 617 гг.) (Ыи Маи-1за1, 1958, 8. 430). И на страницах всех последующихисточников (китайских, арабских, иранских, греческих, славянских и др.) вооруженныесилы тюрок обычно предстают в виде конницы. Поэтому многие полагают, чтоименно всадники являются исконным родом войск тюркоязычных народов. Однаковыясняется, что эти свидетельства не следует распространять за пределы сред-невековья. Берусь показать здесь, что первоначальной армией древних тюрков былапехота.
Древнейшими историческими источниками по нашей теме являются не свиде-тельства хроник соседних для тюркоязычных народов древних цивилизаций Азии иЕвропы, а данные древнетюркского языка, которые предоставляют нам наиболееранние известные письменные памятники тюрков - их знаменитые руническиенадписи. Опорой в поиске послужат две известные особенности семантического раз-вития слова - его движение от конкретности лексических значений к их все
74
возрастающей обобщенности и расширение числа предметов, явлений и действий,обозначаемых одним словом, на основе усматриваемого между ними разнообразногосходства (так называемые переносные значения слов) (Щербак А.М., 1994, с. 125-129). Вполне понятно, что направление изысканий будет ретроспективным: необ-ходимо проследить архаичный или утраченный смысл лексики.
1. О пехоте древних тюрков
Одним из основных терминов, собирающих вокруг себя различны^ лексическиевыражения войны и военного, дела, является краткое слово «и. В раннемсредневековье оно было общетюркским, поскольку обозначало войско во всехнадписях II Восточнотюркского и Уйгурского каганатов VIII в1. (КТб, 2: зй зйШрап 16ЛЪи1ит|с1ацу Ъоёипуу цор а!ту8 «выступив с войском, они покорили все народы, жившиепо четырем углам (света)», 12; ^апут цауап кик! Ьбп 1е§ ептз «войско моего отца кага-на было подобно волкам», другие примеры - строки 28, 32, 34, 37, 39, 45, 46, 47, 48(дважды); БК, 25 (дважды), 26 (дважды), 27, 30 (дважды), 31 (дважды), 32 (пять раз),34, 39, Ха 1 (трижды), 8 (дважды), X II; Тон, 14, 18, 25, 28, 29, 30, 31 (дважды), 32, 33(дважды), 35 (дважды), 36, 43; КЧ, 10 (дважды), 20, 22; Оа, 1; МЧ, 6, 7, 17, 23, 26, 31,33, 49; Т, 5 (строка дефектна) и ХТ, II, III (обе строки дефектны), V) (Малов С.Е.,1951, с. 423; 1959, с. 102; Текш Т., 1968, р. 370, 371; Кляшторный С.Г., 1980, с. 89, 90,92). Известно оно и в енисейских древнехакасских надписях 1Х-Х вв. - Е 26,8 и Е 43,3(Малов С.Е., 1952, с. 49, 79), - и в орхонской рунической книге Угя ЬШ§ первой третиX в. В Х-Х1 вв. слово зй встречается также в рукописях уйгурского и арабскогописьма (Древнетюркский словарь, 1969, с. 516; С1аизоп О., 1972, р. 781).
На глубокую архаичность слова зй указывает его более узкое значение «военныйотряд», сохранившееся в надписи БК (строка 32: Лк1 зй (аз^туз' егп' «передовой отрядвыступил (в поход)» (Древнетюркский словарь, 1969, с. 516) (ср. перевод С.Е. Ма-ловым МЧ, 26: б!к Ьодипуу Ьуцугп зйга кеШ «народ чиков был пригнан моим тысячнымотрядом»: Малов С.Е., 1959, с. 36, 41). Очевидно, что этот смысл первичен поотношению к обобщающему понятию «войско», а, значит, само слово возникло еще вэпоху, не знавшую не только регулярной, но и многочисленной армии, и перво-начально именовало любую группу воинов (ср. один из переводов этого слова,даваемый в словаре Махмуда Кашгарского 1072-1074 гг.: а!-'азкаг «воины») (С1аи-зоп С., 1972, р. 781).
Об исконности слова говорит и значение известных устойчивых сочетаний зй сглаголами, выражающих самые общие понятия: зй }огу- «отправляться в поход» (Тон,29: зй ргу1ут (лгтз «отправимся в поход, говорит он», то же - строка 35; строка 29:]огутазаг «если мы не пойдем в поход»; Бк, X II: зи )огур шпН кйпН _)Ш бсШз'ка «идя свойском день и ночь в течение семи суток»; Тон, 25, 35: зй }огу1йут «я приказалдвинуться войску»; МЧ, 6: зй ]отуйу «пошел с войсками», 17: зй ^гу]уп «я пойдувойной», 23: зй_)огусгут «я отправился в поход»), а также зй а^- «двигаться войском»,зй Ьйк- «собрать войско», зи Ьа§1а- «возглавить войско» (последние отмечены словаремМахмуда Кашгарского) (Древнетюркский словарь, 1969, с. 516). С этим словомсвязано и понятие «военачальник» - зй Ьа5у (Тон, 31; зй Ъа§у та! цауап 1агсш§ §ас1 Ьаггип«военачальником пусть будет шад тардушей - Инель-каган»; МЧ, 49: зй Ьа5у Ьеп «я -военачальник») (Тект Т., 1968, р. 370; С1аизоп О., 1972, р. 781) - один из немно-гочисленных известных титулов собственно тюркского происхождения (Шерваши-дзе И.Н., 1990, с. 83). Согласно прочтению С.Е. Малова, в Е 10,8 сочетание зй сглаголом Ьо1- (точнее с деепричастием Ьо1ир) означает «во время войны» (Ма-лов С.Е., 1952, с. 26).
1 Сокращенные обозначения письменных памятников: КТ - Кюль-тегина, Тон - Тоньюкука (по изданию:Малов С.Е., 1951); БК - Бильге-кагана (Могиляна),КЧ - Кули-чура,О -Онгинского,МЧ - Моюн-чура,ХТ-Хойто-Тамира (по изданию: Матов С.Е., 1959); Т - Терхинской (по изданию: Кляшторный С.Г., 1980); Е -енисейских (с порядковым номером). Цифра указывает строку текста.
75
Весьма общий смысл передают и слова, образованные от хи: глагольные формы8й'1а-, 5й1аЧ- и прилагательное 8й'1й§. 5Ша- означает «воевать, ходить войною,отправляться в поход» (КТм, 3: ХапШТ) ]агуяа 1е§1 зШаснт... 1ояиг егзапка 1е§1 5й1аси'т «яходил войною вплоть до Шантунгской равнины... я ходил войною вплоть до (народа)девяти эрсенов», то же - строки 3-4,4 (дважды); БК, 24, 25 (дважды), 26 (дважды), 28,32, 38, 39, 41, Ха 2 (дважды); иные грамматические формы: КТб, 2,8 (дважды), 12, 15,17 (дважды), 18, 31, 35, 39; БК, 40; Тон, 20 (дважды), 21, 23, 44; О, 7; ХТ, X, 3, 4).Смысл 8й'1аЧ— «вести в поход» (Тон, 18, 43: 8й1аЧсНт «я повел в поход войско», 53:Яауапутуп шШиНгшг «с моим каганом мы водили войска в походы» (Малов С.Е., 1951,с. 423; 1959, с. 102; Древнетюркский словарь, 1969, с. 517; Текш Т., 1968, р. 371, 372;С1аизоп С., 1972, р. 825). Обе глагольные формы встречены и в самой ранней надписиуйгурского письма - эпитафии из Уланкома (Щербак А.М., 1961, с. 24, 25). Слово8иШ§ «военный, обладающий войском» до сих пор, насколько известно, не встречалосьв рунике, но применено в сочинении АНип ^аги^ X в., выполненном уйгурским письмом(Древнетюркский словарь, 1969, с. 517),
Полагаю, приведенных материалов достаточно для заключения о том, что слово зйявляется очень древним и входило в ряд основной общетюркской лексики, связанной своенным делом (в этом качестве находим кй и в перечне древнейшей лексики,составленном А.М. Щербаком (Щербак А.М., 1994, с. 112)). Теперь предстоитуяснить, какого рода войско оно обозначало. Уже сам факт передачи при его помощинаиболее общих понятий исключает какое-либо специальное значение этого слова.Никакие оттенки его смысла не указывают на то, что древнейшие боевые отрядытюрков были конницей. Скорее напротив, в приведенной лексической группе естьявные свидетельства того, что первоначальное древнетюркское войско-ш былопехотой. Такова суть уже упоминавшегося словосочетания кй }оту- «отправляться впоход», поскольку ]огу- буквально означает не просто «передвигаться», а «идти,ходить» (Древнетюркский словарь, 1969, с. 274) и с этим значением (в более древнейформе Фор- /Фор-) реконструируется как общетюркская основа (Щербак А.М., 1994,с. 114).
У многих народов, в том числе и несомненно оседлых, конное войско обозначаетсякаким-либо специальным термином - именем существительным. Для примера укажемна исконно русское слово «конница» или заимствованное «кавалерия». В памятникахрунического письма ничего подобного обнаружить не удается. В единственном случае,когда автору эпитафии потребовалось подчеркнуть, что речь идет не просто о войске,а о коннице (БК, Ха1), это понятие передано описательно, словосочетанием а11уузй(Малов С.Е., 1959, с. 90; Древнетюркский словарь, 1969, с. 68) - буквально «войско,имеющее лошадей, конное войско» (слово а11уу, образованное от гЛ «конь» припомощи аффикса обладания -1уу и означающее «имеющий коня», в руническихпамятниках несет смысл «конный, на коне, всадник» (Тон, 4, 24) (Малов С.Е., 1951,с. 361; Древнетюркский словарь, 1969, с. 67, 68)). Дела не меняет то обстоятельство,что в этом же отрывке, когда далее речь идет о пехоте, автор применяет сочетание]ас!ау|й «пешее войско», так как именно это последнее выражение, отвечаяособенностям принятого в художественной тюркской речи принципа параллелизма, попостроению уподоблено предыдущему, а не наоборот. Вот полный контекст: 1аЪуабайуу «из! Ыг Шта'п аг1щу ^е^^ Ыг| зй§ ПЫ кип бШгйт ]аёау зйзт екшй кип яор (бШг11т)«конницу табгачей, отряд из семнадцати тысяч человек, я поразил в первый день,пехоту я на второй день (тоже) много поразил» (Малов С.Е., 1959, с. 15, 18, 22).
В рунических памятниках (а также текстах иного тюркского письма домонгольскоговремени) существует и другая лексическая группа, принадлежащая к основномувоенному словарю. Облик составляющих ее слов указывает на их происхождение отодной глагольной формы, настолько древней, что уже самые ранние известные нампамятники тюркской речи не застают ее самостоятельного употребления. Эта основавосстанавливается как *$йт|- (С1аи8оп О., 1972, р. 834). Происходящее от нее словозйт|й8 означает «сражение, война» (КТ, 15: ]е§1пш кит|й8 5иг|й§гш5 «он дал двадцать
76
сражений», подобное - строка 40; БК, 34; КЧ, 11, 16, 17; КТ, 42; (кШ) 1е§т о!ошг заз^уг ел! «в этом сражении (Кюль)-тегин был тридцати лет», та же форма — МЧ,16; КЧ, 9; зй'Пйз' Ьо1загбеп§ Наг ей! «когда было сражение, он направлял войско», 20:еЬта зйТ|й§ 1а§игп «он до своего дома довел войну» (Малов С.Е., 1959, с. 28, 29); МЧ,9: Нстй зйт|и§... 1(оцус1ут) «второе сражение я дал»). ЗйГ|й§ «сражение» причисляется кдревней общетюркской лексике (Щербак А.М., 1994, с. 112).
Другим производным является глагол зй'Пйз'- «сражаться» (КТ, 41: ци5и ШШц Ыг1азйг|йз'1шз «он сразился с Кушу-тутуком», 18: йб ]е§1гтш зй'Пйз'сНгтг «мы сразилисьтринадцать раз», подобное - строки 32, 35, 37, 41, 43, 44 (дважды), 45, 46 (дваж-ды), 47; БК, 28; Тон, 16, 28, 40, 41, БК, 25: уёия ЬаЗйа зйгцлзЧПт «при Ыдук-башея сразился», то же - строка 26 (дважды), 27, 28, 29, 30 (четырежды), 31, 34, 37; МЧ,13, 15, 16, 18, 29; Т, 25, 27; другие грамматические формы - БК, 32; Тон, 16, 49(трижды); КЧ, 10, 12, 15, 18; примеры сочетания с существительным зйГ|й§ показа-ны выше (Малов С.Е., 1951, с. 423; 1959, с. 102; Древнетюркский словарь, 1969,с. 517; Тект Т., 1968, р. 372, 373; СЬшхоп С., 1972, р. 842; Кононов А.Н., 1980,с. 88, 92). .
Особого нашего внимания заслуживает тот факт, что вместе со словами «битва» и«сражаться» от той же основы происходит название только одного оружия.Несомненно, что именно это оружие в древнетюркском обществе некогда былоосновным боевым средством — поэтому оно прямо соотносилось в сознании людей ссамим военным делом. В рунических надписях это оружие названо зйг)й§ (КТ, 35; БК,26; Тон, 28), а в более поздних памятниках уйгурского и арабского письма - зиГ|й(Древнетюркский словарь, 1969, с. 517; С1аизоп С., 1972, р. 834, 835, 838), именнопоследнюю форму А.М. Щербак считает общетюркской (Щербак А.М., 1994, с. 112).Это не лук, не стрела, не сабля и не аркан, которые мы готовы увидеть внутреннимвзором, когда речь заходит о воине-кочевнике. Этим словом обозначалось копье.Глубинная смысловая связь слов «копье» и «войско» предстанет еще ярче, если мыпримем предположение А.Н. Кононова о том, что производящей основой для зйт|й§явилась форма *зйп, в свою очередь происходящая от зй (Кононов А.Н., 1980, с. 88).Хотя это мнение не кажется достаточно аргументированным (ср. и третью гипотезу:.Тект Т., 1968, р. 111, 116).
Итак, при историческом взгляде на две основные лексические группы, связанные своенным делом, древнетюркское войско (зй) предстает перед нами отрядомкопейщиков (зйт|й§;1и§). Это впечатление усилится, если учтем, что для слова зиг|й5«сражение, война» у Махмуда Кашгарского отмечено и значение «драка на копьях»(Древнетюркский словарь, 1969, с. 517) или «пронзание копьем» (С1аизоп О., 1972,р. 842: аЬигаё \уа'1-тша'апа ша'1-ЬагЬ «ЪаШе, зреаппд опе апотег, \уаг»), а для совпадаю-щего по звучанию глагола зйг|и8—«пронзать копьем» (С1аизоп С., 1972, р. 842: зреагопе апотег). Ясно, что здесь сохранился древний и изначальный смысл слов. Если длянаглядности сравнить нашу лексику с соответствующей древнерусской, то по аналогиисо словом сеча «бой, сражение», этимология которого указывает на рубящий удар какна основу древнего славянского боя (основным оружием, вероятно, являлся топор, а немеч), для перевода древнетюркского понятия «сражение» пришлось бы сконструи-ровать слово колота / колотьё, ибо совершенно очевидно, что главным средством бояу древнейших тюрков был удар колющий.
Из этих данных со всей очевидностью следует, что слово зи изначально обозначалотолько пешее войско и древнетюркская армия представляла собою отряды копье-носцев-пехотинцев.
По-видимому, необходимо дополнить приведенные лексические материалы глаго-лом запб-, постоянно отмечаемым в рунических памятниках в значении «побеждать,поражать, громить»: зйзт хапбйутуг «их войско мы разгромили» (КТ, 46), зйзтзапбёут «их войско я разбил» (БК, 26, 30, 37; КЧ, 22 (зйзт запбсгу «его войско онразбил»; МЧ, 31), зйзт аша запбсг/т «их войско я там разбил» (БК, 31), ап1а запбёут«тогда я победил» (МЧ, 13, 14, 16 (дважды), 18, 29, 33, 45; Т, 25, 27) зйтцаз'сНгтг
77
запбёутуг «мы сразились и победили» (Тон, 28), зйтцВсНт «апбёут «я сразился ипобедил» (МЧ, 15; Т, 25, 27), запбур бШпр «победил и убил» (КЧ, 5) (см. еще запбсгут«я победил» в дефектных строках Мч, 12, 29, 32, 36 и запсйид в МЧ, 46).
Прямой смысл этого глагола - «колоть, вонзать* втыкать». С этим значением онреконструируется и для древнейшего пласта общетюркской лексики (Щербак А.М.,1994, с. 114), и известен самим руническим текстам (Малов С.Е., 1951, с. 419; 1959,с. 102). В последних он, как можно думать, всюду применен для описания действийкавалерийской пикой (перевод его С.Е. Маловым и А.Н. Кононовым «прокалыватькопьем», «пронзать копьем». Малов С.Е., 1951, с. 419; Кононов А.Н., 1980, с. 85).Так, Кюль-тегин в двух сражениях одинаково «двух мужей заколол (копьем) одного задругим» (КТ, строки 36 и 42; ек! еп§ иёуЗги запбсгу), в третьем «шесть мужей онзаколол» (строка 45: аНу еп§ капбйу) и в дальнейшем «заколол одного мужа» (строка45: Ыг еп§ запбёу), «произвел атаку и переколол (несколько врагов)» (строка 46:1е§сизапбйу), «двух мужей он заколол» (строка 48: ек! еп§ капбсгу), «заколол девять мужей»(строка 49: ^о^\17. еп§ $апбс!у). И всякий раз перед этим сказано, что он сражалсяконным, приведены клички его скакунов. То же находим и в памятнике Кули-чура: «насобственную (лошадь) севши, он бросился в атаку, пронзил трех мужей» (строка 15:о'гШк! Ышр ор!а.]'и 1е§1р йб еп§ запбйу; еще один случай употребления глаголавстречаем в дефектной строке 10).
Казалось бы, приведенные примеры VIII в. позволяют думать, что глагол «колоть»получил переносное значение «побеждать» в результате успешных действий ударныхотрядов закованных в броню рыцарей-копейщиков, столь свойственных тюркскойармии раннего средневековья. Однако, такое суждение не согласуется с обсто-ятельствами двоякого рода. Во-первых, в эпоху рунического письма тяжело-вооруженные конные копейщики не составляли в тюркоязычных армиях большинстваи, следовательно, их действия вряд ли могли привести к формированию лексикиобщего значения (основные силы войска - конные лучники или мечники - ведь немогли «переколоть», т.е. победить, противника). Во-вторых, известные случаи ис-пользования глагола в ранних памятниках уйгурского и арабского письма, несвязанные с пикой (само слово, обозначающее это оружие, заг^ац, образовано отданной глагольной основы), позволяют полагать, что его переносное значениесформировалось задолго до времени появления рассматриваемых древнетюркскихтекстов. Устойчивые парные словосочетания, имеющие значение «убивать» (запб- Ыб-буквально «колоть и резать», запб- иг- буквально «колоть и бить» (Древнетюркскийсловарь, 1969, с. 483, 484)), показывают, что некогда в глазах древних тюрков победадостигалась применением пехотного оружия.
Если не выпускать из внимания показанную связь основы 8апб- с порожденнойразвитием копья кавалерийской пикой и результатом ее применения, то наиболееправдоподобно вновь предположить отраженную в глаголе первоначальную главен-ствующую роль копья («колоть») в пехотных порядках древних тюрков. Вторымкомпонентом, судя по привлекаемой лексике, были кинжалы или короткие мечи(«колоть и резать»), К сожалению, собственно тюркский термин для меча остаетсянеизвестным, поскольку, как полагают, был рано заменен привнесенным изиндоевропейских языков словом яу!уб (Щербак А.М., 1994, с. 163); от основы Ыб-образовано слово «нож» (Ыба'к). Третьим видом древнейшего оружия, по-видимому,выступает булава («колоть и бить», иг- - основной глагол, ср. его производные: игуи«орудие, которым бьют», ипгу / игуу «удар», иги5 «драка, сражение», игиЗ-«сражаться»: Древнетюркский словарь, 1969, с. 614-616). Представление о пехотномвооружении, отраженном в лексике древних тюрков, может быть и еще подробнее(см., например, у Махмуда Кашгарского &а1ут|и / 5а1т|и «праща», образованное отглагола ха1- в значении «бросать, кидать, отбрасывать», но приобретшим смысл «бить,ударять»: Древнетюркский словарь, 1969, с. 482, 483). Однако источнком этой работыслужит лишь словарь памятников рунического письма, связанный с древнейшимсостоянием тюркской армии.
78
Рис. 1. Изображения пехотинцев. Таштыкская культура, I в. до н. э. Резьба по дереву. Хакасско-Минусинская котловина, Тепсей, склеп 1(по М.П. Грязнову)
Сегодня у нас нет данных, чтобы сказать, к какому времени относится та эпоха,когда древнетюркские воины были подобны древнегреческим дорифорам. Донекоторой степени можно опираться на косвенные свидетельства. Так, наиболееранние археологические культуры, среди носителей которых определенно было итюркоязычное население, - таштыкская (I в. до н. э. - V в. н. э.) и шурмакская (II в.до н. э. - V в. н. э.) в Южной Сибири - не предоставляют никаких прямыхсвидетельств выявленного по языковым данным состояния древнетюркской армии.Весомым аргументом в пользу изложенного, очевидно, служит факт преобладаниясреди многочисленных таштыкских изображений пехотинцев. Они нередко имеют испециальное вооружение в виде щитов в полный рост, тяжелого доспеха, длинныхмечей - рис. 1, 2). Но среди них есть только одно воспроизведение воина с копьем(рис. 1, 3), по большей же части все это лучники.
Можно предполагать, что свидетельства языка в нашем случае позволяютпроникнуть в историю тюрков значительно глубже, чем имеющиеся письменные иархеологические источники и раскрывают эпоху никак не позднее раннего железноговека, а, скорее, гораздо более глубокой первобытности. Показанную этимологиюслова 5йГ|и§ «копье» (как и первоначальный прямой смысл глагола яапб- «победить»),проясняющую его определяющую роль в вооружении древнейшей поры, следуетсопоставить с фактом отнесения филологами к пласту общетюркской лексики и словоц «стрела», ке5 «колчан», Фа «лук» (Щербак А.М., 1994, с. 112), ни одно из которыхне связано в своем происхождении с главными лексическими основами,характеризующими военное дело. Достаточно знать общую периодизацию историивооружения, чтобы почувствовать, что общетюркский лексический материал,выделяемый сегодня языковедами, не однороден в хронологическом отношении.Пожалуй, рассмотренная мною выше группа слов восходит к древнейшему этапупратюркской истории2.
Теперь от разбора слов и словосочетаний перейдем к разбору некоторыхвыражений, принятых в памятниках рунической письменности. В двух орхонскихэпитафиях крайнее напряжение готовой уступить врагу армии передано одной и тойже фразой: Шг1с ЪосЦт а&щ цата§1с!у ^аЫа^ ЪоНабу ег11 «тюркское войско довело доизнеможения (свои) ноги, так что (дело) могло быть скверным» (БК, 30, 31; КТ, 46,47). При переводах этого устойчивого выражения тюркологи связывают его смысл спредшествующими бою переходами, совершенными тюркской армией (Малов С.Е.,1951, с. 42; 1959, с. 21; Древнетюркский словарь, 1969, с. 414; ^ата$^-). Если принятьэто допущение, то следует признать существование древнетюркской пехоты нетолько в глубокой древности, но еще и в 30-е годы VIII в., когда были созданы обаписьменных памятника. Этот вывод также может быть доказан.
Строки руничесих памятников прямо свидетельствуют о том, что еще в последнейчетверти VII — середине VIII в., во времена II Восточнотюркского и Уйгурскогокаганатов, действительно, существовали пехотные полки, набранные из собственнотюрок. Так, в эпитафии Тоньюкука сказано, что войска Кутлуг-шада (будущегоЭльтерес-кагана) в 681-682 гг. составляли 700 человек и «две части из них быливсадниками, а одна часть из них была пехотой» (строка 4: ек! й1й§1 а11уу еги, Ыг и!и§1
2 Нельзя не обратить внимания на то, что для отмеченных словарем Махмуда Кашгарскогословосочетаний, связанных с военным делом тюрков, характерна особая, образность. Она, без сомнения,указывает на главные черты общественного быта, в котором формировалась. В выражении яй а^-,означающем «отправляться в поход», буквальный смысл глагольной основы щ- - «течь, истекать», а в яиЬик- «собрать войско» точное содержание глагола Ьйк- «запруживать, перекрывать». (Древнетюркскийсловарь, 1969, с. 48, 117, 132; С1аи.чоп О., 1972, р. 77, 324, Ь6§-: «армейская масса постоянно уподобляетсяводе»). Очевидно, что перенос на военные действия понятий, отразивших не только знакомство с мощьюводной стихии, но и знания по ее накоплению и использованию, не мог произойти в засушливых степях скочевым ведением хозяйства, он совершился в условиях оседлой жизни, основанной на орошаемомземледелии. Произошло ли это позднее эпохи рунического письма, или материалы XI в. выявляют болеедревнюю ситуацию?
80
Рис. 2. Изображения пехотинцев. Таштыкская культура, I в. до н. э. - V в. н. э. Резьба по дереву (/) икамню (2-7). Хакасско-Минусинская котловина: / - Тепсей, склеп 1 (по М.П. Грязнову); 2-4 - Подкамень(прорисовки Л.Р. Кызласова); 5, 6 - Салбык (прорисовки автора); 7 - Чалпан (прорисовка А.И. Готлиба)
81
]а<1ауег11). При описании более поздних событий (724 г.?) в эпитафии Бильге-кагана мывновь встречаем подобные сведения (строка 32): йб оуиг зйз! Ьаза 1сеШ ]аёау(у) )аЪугЪо1гу 11р а!уа!у кеШ «войско уч-огузов пришло, чтобы нас поразить, думая, что мыпешие слабы в бою». Для рассматриваемой темы особенно важно то обстоятельство,что армия одного тюркоязычного народа (уч-огузов) построила план своего походапротив другого тюркоязычного народа (тюрок) в расчете на встречу с пехотой. Нетсомнений, что огузы прекрасно знали особенности военных сил неприятеля. И наконец,в эпитафии Моюн-чура (758 г.) о врагах древних уйгуров сказано (строка 33): Ык ]игке<нт11§ ]ас!ау Ыг еЫ 8а§ур кеШ «пятьсот пехотинцев в полном вооружении раза дваперепугались». Хотя текст ущербен, речь в нем, по-видимому, идет о тюркоязычномпротивнике, так как перед этим говорится об огузах и татарах, о бегах, а ниже о том,что «тогда народ покорился мне».
Эти указания рунических текстов на пешее войско обычно объяснялись историкамито общим упадком общества и бедностью некоторых его членов (Кляшторный С.Г.,1964, с. 27; ср. с. 32: речь уже просто идет о 700 всадниках), то нехваткой лошадейиз-за бескормицы (Кляшторный С.Г., 1964, с. 41; хотя Бильге-каган сам начал поход)или войны на два фронта (Гумилев Л.Н., 1967, с. 314; ср. об отсутствии пехоты: с. 68,276, 277). Между тем лучше заменить домысливания прямым указанием еще одногоисточника. Так, в "Тан-шу" описывается поход в 641 г. предводителя сеяньто (частителе) Инаня, при котором было "каждому солдату велено иметь четыре лошади".Несмотря на это, при встрече с армией тюрок полководцы, "спешив конников, поста-вили по пяти человек, из которых пятый держал четырех лошадей, а четверо впередидрались". Летопись приводит и причину выбранной тактики: "Прежде сего сйеяньтос-цы в войне с Шаболо и Ашиною Шежы (предводители тюрок. - И.К.) одерживалипобеды пехотою", поэтому и на этот раз они прибегли ко всегда оправдывавшему себятрадиционному виду боя. В результате "при открытии сражения тукюеское войскобыло потеснено" (Бичурин Н.Я., 1950, с. 340, 341).
Приведенные данные о древнетюркской пехоте позволяют внимательнее отнестиськ описанию первого для 16-летнего Кюль-тегина боя, во время которого он "в пешемстрою бросился в атаку" (строка 32: ки! 11§ш ^а(Iаууп ор!а]и 1е§сН). Вполне вероятно,что этот военачальник в начале своей карьеры мог возглавлять пешие порядкитюркской армии. Случайно ли и в следующем описанном в эпитафии сражении — стро-ки 32, 33 - он трижды (в том числе "в самом начале") устремляется в схватку не насвоей собственной лошади, а на скакунах, принадлежавших другим витязям? В техслучаях, когда позднее он ведет бой на собственной лошади, это всякий раз оговари-вается — строки 35, 40, 42, 43, 45, 46, 49, - как, впрочем, и то, что он теряет в сраже-ниях своего коня: строки 36, 37, 43, 44. Здесь уместно привести назидание ЮсуфаБаласагунского, адресованное предводителю пехоты: ^а<^ау о^су Шзшр зеп от|с1т ]и§иг"поставив пеших стрелков, сам беги впереди" (Ои1ас1уи ЪШ§, 1069-1070 гг.) (Древне-тюркский словарь, 1969, с. 222: ]а(1ау).
Как бы то ни было, но факт остается фактом: даже тюркские аристократы VIII в.,основное свое предназначение видевшие в военном деле, не всегда предстают переднами в памятниках рунического письма в виде всадников.
2. О характере древнетюркской армии
Лексика рунических текстов позволяет выяснить, и из кого состояла древнетюрк-ская армия. Мы не встречаем здесь слов, этимология которых была бы подобна рус-ским "война - воин", "рать - ратник", "бой - боец". Применяются слова более архаич-ной природы и более широкого значения.
Во всех рунических памятниках УН1-Х вв. — и орхонских, и енисейских — воиныназываются словом ег (по подсчетам Т. Текина только в пяти эпитафиях II Восточно-тюркского каганата слово отмечено 33 раза (Тект Т., 1968, р. 325, 326)). Став эром,юноша может участвовать в сражениях: "в десять лет ... Кюль-тегин получил имя эра
82
(ег а1 ЬиНу), шестнадцати лет он вот что сделал...: мы пошли войною" (КТ, 30-31).В боях древнетюркский герой сам все время побеждает эров противника. Примерыподобного использования слова мы уже видели, разбирая глагол запс-, дополняя ихздесь, отмечу, что ег именует в текстах едва ли не только тех воинов (равно своих иливражеских), число которых известно точно и которые воспринимаются по одному,индивидуально или обобщенно в качестве войскового подразделения: Ыг еп§ о^ип иггуек1 еп§ иёуяги запсйу "одного воина он поразил стрелою, двух воинов заколол одного задругим" (36), а!гу еп§ запсёу зи (е§1зтШ ]Шпб еп§ цу1уб1ас1у "шесть воинов он заколол, всвалке он зарубил мечом седьмого" (45), 1(щиг еп§ е§1га 1оцу(1у "девять воинов он,окружив, разбил" (46), оп еп^... е§тр оШгИпиг "окружив, десять воинов мы убили"(47); ср.: ]е!л ]их ег Ьо1ту$ ]е11 ул.г ег Ьо1ур "(их) стало семьсот воинов, когда их сталосемьсот воинов..." (КТ, 13); Ье§ ЪуГ| ег Ъа§у "начальник над пятью тысячами воинов" (Т,7); Одиг ^иг ег Ъа§у "начальник над девятью сотнями воинов" (Т, 8).
Когда речь идет о группе воинов, число которых неопределенно, в надписи употреб-ляется слово етвп (С1аикоп С., 1972, р. 232) (часть тюркологов толкует данные написа-ния как ег^п - форму инструментального падежа для слова ег (Кононов А.Н., 1980,с. 159): и!иу 1ГК1П аг-ду]а егеп 1ег1р Ьагду "великий иркин бежал с небольшим количест-вом воинов" (34), кШ п§1ш§ аг егеп 1гШги у1утуг "мы отослали Кюль-тегина в сопро-вождении немногих мужей" (40), ]игса егеп "приблизительно сто воинов" (БК, 37) (естьслучаи применения егеп и с указаниями точного числа: 7 (0,5), 9 (КТ, 49), 17 (КТ, 11),500 (БК, Ха 11). Для нас важно, что егеп является архаичной формой множественногочисла от слова ег, устаревшей уже в эпоху рунического письма — она известна толькопо трем словам: Ьосшп, оу!ап, егеп (и возможно, огеп) (С1аикоп С., 1972, р. ХЫ1) (ср.разбор мнений: Щербак А.М., 1977, с. 88, 89). Быть может, не случайно, что все ониимеют прямое отношение к нашей теме.
Во всех енисейских эпитафиях отмечается имя умершего. И всегда особо подчерки-вается, что это имя эра - обычная формула: ег агут N... "мое имя эра Имярек". Еенередко переводят как "мое мужское имя", в западной тюркологии - "мое взрослое(асшН) имя" (С1аи8оп О., 1972, р. 192). Для подобных переводов имеются основания.У раннесредневековых тюрков, действительно, существовал обычай смены имени придостижении юношей взрослого состояния (мальчиковое, детское имя - Е 45,1: оу!апагут - тоже изредка упоминается в надписях). Однако приведенное восприятие нашейформулы все же нельзя признать точным. При наречении нового имени учитывалосьне биологическое возмужание, а социальная зрелость (ег егёапи агут тЬйут егйат1(т)(исип) "(ради моей) доблести я снискал доблестное мужское имя" - Е 5,1). И посколькуона наступала у каждого в разное время, нередко, как в случае с Кюль-тегином, ука-зывается и возраст, при котором юноша удостаивался нового имени. Исходя из над-писи на донышке одного из найденных на Среднем Енисее серебряных сосудов (айууЬо1 тН§ Ъо1иг) "будь(те) имеющим имя, будьте имеющим тамгу" (Кызласов И.Л., 1994,с. 202, рис. 34)), одновременно с этим человек получал право на личный гербовый знаки собственную пиршественную чашу, т.е. допускался в мужской круг со всеми егоособыми сначала общинными, а позднее дружинными обычаями.
Несомненно, что рунические надписи сохранили воспоминание о древнем тюркскомобряде мужской инициации (см. об этом: Кляшторный С.Г., 1984, с. 148, 149). Посвершению его подростки признавались полноправными членами общества, станови-лись не просто взрослыми (как это понимается современными людьми), а тем, что исегодня зовется "настоящими мужчинами" (ср. наблюдения над этимологией слова ег:"мужчина", первоначально просто "человеческий самец", позднее в таких ограничен-ных значениях как "мужчина (не женщина); воин (а г1§Ьип§ тап); супруг" (С1аизоп О.,1972, р. 192). Согласно енисейским эпитафиям, главным признаком мужчины-эра быладоблесть (егдат; особо показательно сочетание ег егсГат "мужская доблесть, доблестьэра"). Поэтому перевод именной формулы эпитафий как "мое геройское имя", избран-ный вслед за В.В. Радловым (КаШогГ \У., 1895, 3. 352) и С.Е. Маловым (Малов С.Е.,1952), представляется более верным. Быть может, еще точнее было бы в этом случае
83
оставлять ег без перевода и, подчеркивая его особый социальный статус, передаватьразбираемую формулу словами "мое имя эра".
Полагаю, сказанного достаточно, чтобы почувствовать неправильность переводафразы Ыг еп§ яапбйу (КТ, 45) как "он заколол одного мужчину" (Древнетюркский сло-варь, 1969, с. 175: ег). На поле сражения сходились древнетюркские мужи (в русскомлетописном смысле, вспомним: "бе мужъ бодръ и дерзокъ", "летние мужи", "с мужисвоими", "аще убьет муж мужа" и т.п.). Из таких мужей и состояло древнейшеетюркоязычное войско — армия эпохи "вооруженного народа". В наследство от тоговремени досталось более поздней поре рунических надписей употребление слова ег взначении "воин". Так (или древнерусским "муж") его и следует переводить в соответ-ствующем контексте (ср. необходимое дополнение, даваемое при переводах Дж. Кло-соном: "(г!§1Нш§) тап" (С1аизоп С., 1972, р. 192), и при исторических изысканияхС.Г. Кляшторным: "муж-воин" (Кляшторный С.Г., 1984, с. 148)).
Енисейские эпитафии дополняют словесный ряд, связанный с понятием "воин", ипроливают свет на древнейшую градацию войска.
Так, иногда воины обозначаются там словом оу!ап: §и 1еТ|1 )ей Ыт1 оу!ап ег11 "коли-чество войска составляло семь тысяч воинов" (Е 26,8). Само слово, являясь древниммножественным числом от оуи1, уже забытым в этом качестве к эпохе руническихпамятников, означает в них "ребенок, мальчик" (Древнетюркский словарь, 1969,с. 363). Такое значение вполне обычно и для енисейских текстов: оп а] Шеи о§цт оу!апЮусгут епп и1уагут "десять (лунных) месяцев меня носила моя мать, я родилсямальчиком, вырос эром" (Е 29,5); оу!ап агут §иЬи» упа! "мое детское имя ШубушЫнал" (Е 45,1). Еще чаще слово оу!ап имеет здесь смысл "сын" (ци_)с1а ципсц]ут ек1оу!апута е5121т-а ]апиз цугута ... ЬоктесИт "(жизнью) с моей супругой в тереме, сдвумя моими сыновьями, о горе, с моей единственной дочерью ... я не насладился" -Е 16,1; подобное: Е 1,1, Е9,1, Е 32,6, а также - Е 18,5, Е 26,2, Е42,8, Е47,9).
Примечательно, что это слово подчас употребляется в нескольких разных значе-ниях ("мальчик", "сын" и "воин") даже в одних и тех же надписях (Е 26, Е 32, Е 45).Отсюда очевидна не только производность для него понятия "воин", но и сохранение вэпоху рунического письма основного смысла термина. Следовательно, ясно, что,называя воинов огланами, герой надписи имеет в виду не все войско, а ту его часть,которая состоит из витязей младшего, последующего поколения. Нет сомнения, чтоподобное обозначение восходит к весьма удаленному прошлому, в котором основнымразделением общества было возрастное и представители разных поколений, обраща-ясь друг к другу, использовали семейно-родственную терминологию (ср. употреблениерусского "сынок"). Памятники древнетюркской письменности демонстрируют и ужеобозначившийся отход от первоначального лексического состояния. Так, в Е 3,6 иЕ 32,10 для обозначения молодых воинов встречаем словосочетания ег оу!ап (таксказать, "молодшие мужи"). По-видимому, для осмысления слова оу!ап в военномконтексте более всего подходит значение древнерусского "отрок". Возможно, естьоснование для сравнения части древнетюркских огланов с "сынами боярскими" - почтению С.Г. Кляшторного на Терхинской стеле (строка 7) среди военачальниковуйгуров названы ЮНз Ье§1ег оу!у Ьут| Ьа§у "тысячник над сыновьями бегов тёлисов" и1агс1и8 Ъе§1ег оу!у ЬуГ| Ьазу "тысячник над сыновьями бегов тардушей" (Кляштор-ный С.Г., 1980, с. 89, 91, 93). :
Былое членение древнетюркской армии (и мужского общества - эров) по поколе-ниям подтверждается и употреблением другой характерной лексики. В енисейскихэпитафиях при перечислении тех людей, с кем безвременно расстался умерший,обычно, кроме родни и владыки, называются и товарищи. В древнехакасских надписяхони обозначаются словом цасЫ или (в единичных случаях) адаз и е§, в эпитафиях Тувыобычен термин ез (он встречается и в орхонских надписях, в последних иногдаобозначает союзников - МЧ, 23, 24 (Малов С.Е., 1959, с. 94)). С тем же значениемупотребляются и парные словосочетания а(Ы е§ и ез цаёаз. Приведем примеры: апйуу
84
асЫута ап1а еыгш-'а. ас!§и езЧта аёугуИут "от моих верных товарищей, там, о горе, отмоих добрых товарищей я отделился" (Е 11,8 (Малое С.Е., 1952, с. 31, 32; Древне-тюркский словарь, 1969, с. 46: ап11уу; С1аизоп О., 1972, р. 177: ашНуу), другие случаисм.: Е 3,6, Е 42,6, Е 43,2); аё§11 яасЫут асг/гуЫут "с моими добрыми товарищами яразлучился" (Е 13,4, см. также: Е 21,1, Е 22,2, Е 25,6, Е 42,5, Е 48,4, Е 50,3, Е 51,1);аитуз ег аёазупуг Ш§ ег ас1§и е§1Ш2... "шестьдесят мужей - ваших товарищей, пять-десят мужей - ваших добрых товарищей..." (Е 26ДОХ
Что же представляют собой эти многочисленные "добрые товарищи"? (К этимо-логии слов адаз и ез см.: С1аизоп С., 1972, р. 72, 253, 254; Севортян Э.В., 1974, с. 203,204, 313-315.) Они бывают славными (ки!и§ дасЫут - Е 3,6) и знатными (н)агцаёаЗут - Е 17,3), они рядом в сражении (]иг ег ^аёа§ут гуагуп исип _)иг егеп еН§; оКигт1еЫик иСип айугуИут "так как я имел силу ста моих товарищей-эров и так как ясражался со ста героями, то удалился (т.е. умер)" - Е 10,2 (Малов С.Е., 1952, с. 26)),но и сами товарищи требуют большого внимания: верность в служении им отмечаетсянаравне со служением хану (цапут еНтка 1арёут Ы1§а о§ат 1арс1ут цайазут 1ар<1ут"я служил моему хану (и) моему владению, я служил моему мудрому огя (наставнику),я служил моим товарищам" — Е 13,2). Для понимания сути термина ез важно показатьи его, по-видимому, уже производное значение в орхонских надписях — КЧ, 7: (Ь)П§аезш исип а"1руп егсГаппп "благодаря тому, что он был мудрым в товариществе, богатыр-стве и доблести" (ср.: С.Е. Малов, 1959, с. 27, 28); Тон, 48^9; Шепз цауап ЬШ§ е§шибип а!руп исип... зи'Пизси' "благодаря тому, что Эльтерес-каган был мудрым в товари-ществе и богатырстве... он сражался", ср.: (Малов С.Е., 1951, с. 64, 69). Последниепрочтения следует сопоставить с переводами сходных фраз, вносящими новые оттенкисмысла в слово ез: ЪШ§ ез! саЬ ез1 Ьеп-б1с егйт (Тон, 7); киН сиг аШац Ы1§а ёз! саЬ ез! еп!(КЧ, 17) - "обладателем мудрости, обладателем славы был именно я" и "Кюли-чур былтаким обладателем мудрости и славы" (Древнетюркский словарь, 1969, с. 135: саЬ).Характерно, что эти фразы указывают на "товарищество" с сугубо мужскими,воинскими качествами.
Первоначальное содержание слова цайаз — "родич, родственник, родной" (словообразовано от заимствованного от китайского ца "семья" и его исконное этимологичес-ки точное значение "член одной семьи") (С1аикоп О., 1972, р. 578, 607; Шерва-шидзе И.Н., 1989, с. 66). Второй, производный смысл слова - "брат" (Древнетюркскийсловарь, 1969, с. 401, 402). В первом значении оно также употребляется в руническихэпитафиях. Это особенно ясно из отмечаемых парных сочетаний ^а уаёазут ("(моя)семья и мои родственники" или просто "родственники" - Е 41,3), кишт цайаЗут ("моиродственницы и родственники" - Е 3,1, Е 11,5, Е 45,7) и цаёазут китт ("мои родст-венники и родственницы" - Е 44,5) (Древнетюркский словарь, 1969, с. 326, 399, 402,405: дауаёаз'), а также ^ипси^ут цадазут ("моя супруга и мои родственники" - Е 25,1, атакже Е 29,3).
Однако воспринимать его здесь только в этом значении (Древнетюркский словарь,1969, с. 401, 402; С1аизоп С., 1972, р. 607: О. Клг. IX гТ.) неверно. Против единообраз-ного узкого смысла свидетельствуют парные употребления езхт цас1а§ут ("мои друзья-товарищи" - Е 18,4; е§1т цас1аз1агут - Е 16,2) (ср.: (Древнетюркский словарь, 1969,с. 9, 14), а также сочетания слова со столь крупными числительными, которые трудносоотнести с количеством реальных родственников (]иг ег яасЫут "сто моих мужей-товарищей" - Е 10,2; Е 42,2; улг цайазут "сто моих товарищей" - Е 49,1), но простосопоставить с приводившимися выше указаниями на число товарищей (Е 26,10).Совершенно верно поступал С.Е. Малов, переводя это слово и как "родственники", икак "товарищи" или "герои" (продолжая в последнем традицию В.В. Радлова: бегСепоззе, ёег СегаЬгпп (КасИогТ \У., 1895, 5. 361)) - иногда различно даже для разныхстрок одной надписи: Е 3,1,6 (см. также Е 10, Е 13, Е 16 и др.) (Малов С.Е., 1952).Согласуется с этим и дополнение Дж. Клосона, сделанное к основному значению
85
слова: «иногда использовалось более неопределенно, как "сосед, товарищ, друг"»(С1ашоп О., 1972, р. 607). Другое дело, что не всегда понятно, какой из двух смысловнесет тот или иной случай употребления слова цаёак в конкретной надписи (что рас-пространяется и на словосочетания: см. например, Ю1т ^ас^а8ут "мои старшие братья икадаши" - Е 23,4). Но это лишь показывает, что всякий раз задачу надо решатьотдельно.
Здесь для нас важно другое — новый пример использования семейной лексики дляобозначения воинов. Выходит, в древнетюркском обществе соратники именовали другдруга сородичами. В этом нет ничего необычного. Вспомним древнерусское обращение"братие", применявшееся в подобной же среде ("Не лепо ли ны бяшет, братие..." идругие примеры из зачина и текста "Слова о полку Игореве"), сохранение его до сегодня в военном и особенно в морском лексиконе ("братцы", "братва"). Понятно, что иэто выявленное здесь в отношении раннесредневековых тюрков обстоятельство вос-ходит к глубокой древности, к эпохе, когда представители одного поколения восприни-мались кровными родственниками.
Все изложенное не оставляет сомнения, что разбираемая группа древнетюркскихслов обозначала воинов — сотоварищей по ратному делу, соратников в прямом и изна-чальном смысле этого русского слова. Еще ближе к ней в семантическом и этимологи-ческом отношении стоит древнерусское "дружина". Совершенно очевидно, что мывновь встречаем здесь память о древнейшем (далеком от письменного периода)состоянии тюркоязычного общества. Слово "друг, товарищ, сподвижник" могло бытьраспространено на воинов лишь в ту далекую эпоху, когда царили представления опогодках — товарищах во всех коллективных делах, присущих их возрасту. У взрослыхмужчин среди таких общих дел, естественно, была и война. Понятно, что еслиогланами ("сынами"), называли воинов, принадлежавших к младшему поколению, тоэшами, адашами ("друзьями") и кадашами ("сородичами") именовали своих сверстни-ков. Таким образом, внутреннее членение древнейшего тюркского войска было двой-ным и основывалось на различии поколений (ср. древнерусское подразделение дружинына старшую и младшую).
Сказанное позволяет ощутить и еще одну особенность употребления разбираемыхслов. Можно полагать, что понятие "товарищ" в рунических памятниках распростра-няется на воинов вне зависимости от их социального уровня или по крайней мересохранило воспоминания о таком былом равенстве. С одной стороны, многочислен-ность товарищей, указываемая, как мы видели, в некоторых енисейских эпитафиях,вероятно, свидетельствует об их принадлежности к широким кругам воинского обще-ства. С другой стороны, в приведенных выше строках орхонских текстов (Тон, 7,48;КЧ, 7,17) уцелела память о том, что в их число попадали и сами высокие князья, идаже каганы (опять вспомним здесь известное для раннесредневековой Европы ужепережиточное, ритуальное родство вождя и его войска). Былое единство мужскогоколлектива сохранено и общим обозначением всех его членов (и кагана, и простолюди-на) одним словом ег, что уже отмечалось в литературе (Кляшторный С.Г., 1984,с. 148). Следовательно, в ранней истории тюркоязычных народов реально существо-вала эпоха, когда правитель (Ье§) был первым среди равных.
Мне остается рассмотреть историко-культурное значение одного слова, позволяю-щее восстановить общий характер войска в древнейшую эпоху. Это слово Ьойип(другая транскрипция - Ьийип). Оно весьма многозначно, что наиболее подробнопоказано материалами "Древнетюркского словаря" (1969, с. 108, 109): "1. население,подданные; народ; 2. народные массы, простой народ; 3. народ (как этническая общ-ность); 4. люди". Здесь нет необходимости разбирать эти и другие смысловые оттенкислова, чрезвычайно употребимого в рунических надписях (в указателе Т. Текинатолько случаев его применения в основном падеже, без всяких грамматических показа-телей отмечено 114 (Тект Т., 1968, р. 317)). Куда как важнее в связи с избраннойтемой показать еще одно, никем, насколько известно, не учитываемое значение, про-ливающее свет и на общую его семантику.
86
В памятниках рунического письма словом Ъоёип нередко обозначается войско.Говоря о древнетюркской пехоте, уже довелось показать это для фразы шгк Ъосшпайая яатакгу "тюркское войско (не народ!) утомило ноги" (БК, 33). В этом же письмен-ном памятнике находим и другие ясные примеры, позволяющие понять, что речь идеттолько об армии, а не обо всем народе: аИу сиЬ зоуйац 1ара зШасНт Ъосшпуу ап!аЪигсгут "на шесть чубов согдаков я ходил в поход, их войско я там победил" (стро-ки 24, 25); чугяуг Ьоёипуу иёа Ъакёут "я поразил войско кыргызов, когда они спали"(27, здесь же теми же словами - об армии тюргешей); ^а^1и^ Ъойипуу о1иг11т "я унич-тожил войско карлуков" (29); оуиг Ьоёип (с^иг Шаг Ыг1а (тНр кеШ "войско огузов,объединившись с (армией) токуз-татар, подступило (к нам)" (34).
Подобное употребление слова Ъос1ип не является особенностью одного текста и неприсуще только тюркам. Это общее явление. Подтверждение тому встречаем вдревнеуйгурской эпитафии Моюн-чура. Вот контекст, хотя и попорченных, но доста-точно понятных строк 7—8: цап $и&1 (ЫгГа) цагуНут ... \Л\т ^ата ^ит азтук кб§игс1акотиг 1ауаа ]аг и§игс1а ис 1иу1уу Шгк Ьосшп... "я столкнулся с ханским войском... япогнался за ними. Мы перешли Кара-Кум у Кёгюра и у горы Кёмюр на реке Яр трех-знаменное тюркское войско...". Тюркский Ьойил, имеющий три знамени, упомянут и визбитых строках 46-47. Полное текстуальное совпадение встречаем в строке 22 Тер-хинской стелы. Поскольку у тюркоязычных народов, как и всюду в средневековье,знамя отличало полководца, понятно, что в тексте таким образом указывается коли-чество вражеской армии. Совершенно очевидно, что в обоих этих случаях повест-вуется не о народе, а о конкретном войске. Сюда же, вероятно, следует отнести иуцелевшую часть строки 9 Терхинской надписи — речь в ней идет не об "отрядах пле-мени" (Кляшторный С.Г., 1980, с. 93), а о войсковых соединениях: ... Ъосшпу ЬуТ|а^ауа8(?) а(асиц Ьоёипу Ъут)а "тысячный отряд войска..., тысячный отряд войска добле-стного (?) Атачука" (десятиричная по форме система военно-административного деле-ния тюркоязычных народов - черта, прослеживаемая историками уже для гунно-сарматского времени (Кызласов Л.Р., 1984, с. 25, 26)). Никак иначе не можетбыть понято слово Ьойип и в окончании строки 10: цап агщ оуиг Ъосшп а!гу ;)иг зег|и1(? &ет|ип?) Ыг штап Ъосит ^а2уапгу "хан захватил истомленную огузскую армию -с шестьюстами ... (полковрдцами?) десятитысячное (однотуменное) войско".
Согласно Дж. Клосону (С1аи8ОпС., 1962, р. 11; 1972, р. 296, 297, 306), слово Ьосшпявляется архаичным множественным числом от Ьой и, буквально означая "кланы,рода", должно пониматься как "организованное племенное общество, народ" "в смыслеобщества, управляемого особым правителем". Надо заметить, что такое истолкованиене является строго этимологическим и не использует всего многообразия смысла, при-даваемого термину контекстом надписей. Корень Ьой, по тому же исследователю,«вероятно, первоначально "стан, величина человека", но в древнейший период онтакже ясно означает "род" (а с!ап)... значение, основное позднее, — вероятно, "проис-хождение (родословная - Нпеа§е)", то есть величина рода как числа семей однойкрови». "Древнетюркский словарь" (1969, с. 106-108) разделяет эти понятия междудвумя одинаково звучащими словами: I. 1. тело, туловище; стан, фигура; 2. рост;П. племя; род (?); народ одного племени, рода (?); скопление людей. Все это так -опираясь на известное (сибирские тюрки и сегодня подразделяют род на "кости" и"колена"), можно полагать, что коллектив кровных родственников некогда действи-тельно воспринимался как единое тело. Но что же в действительности представлялсобою древнейший тюркоязычный "народ" (Ьодип)?
Мы сейчас видели, что этим словом назывался не только народ, но и войско. Такоесовмещение понятий могло произойти при единственном условии - "народом" перво-начально величали у древнейших тюрков только мужскую часть рода-племени. Восшпсостоял лишь из полноправных свободных мужчин. Ими были, как показано выше, эры(ег). Когда в текстах рунических памятников речь ведется об обществе целиком, тооно всегда называется или просто Ъосшп, или Ье§1ег Ъошш ("беги и бодун") (например:БК, 1,2, Ха, 15, ХЬ, 13). Из этого, по-видимому, следует, что каждый древний Ъосшп
87
возглавлял свой Ье§ (Е 45,4: Ьойип Ьа§1аёут "я управлял бодуном"). В этом кроетсяприрода княжеских высказываний надписей "мой бодун" (ЪооЧтут). На этой основеформируется для Ьойип значение "подданный". Поздно приобретает слово ипроизводный этнический смысл. Все эти особенности следует учитывать при восприя-тии и переводе слова Ьодип в рунической письменности.
Итак, в результате проведенных историке-лексических разысканий следует заклю-чить, что первоначальной формой войска, известной древнейшему тюркоязычномуобществу, была пехота, вооруженная копьями. Она состояла из всех полноправныхмужчин коллектива, разделявшихся по поколениям. Пережитки такого былого состоя-ния "вооруженного народа", а точнее говоря, общинного строя, эпохи малых коллек-тивов, единство которых выражалось представлениями о кровном родстве, сохрани-лись до средневековья и нашли отражение в памятниках рунической письменности.Начатое в связи с изучением древнейшей истории военного дела исследование неиз-бежно привело к раскрытию и важнейших черт общественного устройства. Возмож-ности дальнейшей подобной работы весьма велики.
"Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется". Любой думающий человексочтет эти тютчевские слова за истину. Но абсолютных истин нет. Историку известнаспособность слов отзываться на настойчивое стремление понять прошлое. До сих порлексикология едва ли привлекалась для изучения ранней истории тюрков. Пораначинать.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бичурин Н.Я., 1950. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I.М.; Л.
Гумилев Л.Н., 1967. Древние тюрки. М.Древнетюркский словарь, 1969 / Ред. В.М. Наделяев, Д.М. Насилов, Э.Р. Тенишев, А.М. Щербак. Л.Кляшторный С.Г., 1964. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней
Азии. М.Кляшторный С.Г., 1980. Терхинская надпись. Предварительная публикация // Сов. тюркология. № 3.Кляшторный С.Г., 1984. Каган, беги и народ в памятниках тюркской рунической письменности // Востоко-
ведение. 9 (Ученые записки ЛГУ, № 412; серия востоковедческих наук, вып. 25). Л.Кононов А.Н., 1980. Грамматика языка тюркских рунических памятников УП-1Х вв. Л.Кызласов ИЛ., 1994. Рунические письменности евразийских степей. М.Кызласов Л.Р., 1984. История Южной Сибири в средние века. М.Малое С.Е., 1951. Памятники древнетюркской письменности. М.; Л.Малое С.Е., 1952. Енисейская письменность тюрков. М.; Л;Молов С.Е., 1959. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.; Л.Севортян Э.В., 1974. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы
на гласные. М.Шервашидзе И.Н., 1989. Фрагмент древнетюркской лексики. Заимствованный фонд // Вопросы языкозна-
ния. № 2.Шервашидзе ИМ., 1990. Фрагмент древнетюркской лексики. Титулатура // Вопросы языкознания. № 3.Щербак А.М., 1961. Надпись на древнеуйгурском языке из Монголии // Эпиграфика Востока. Вып. XIV.Щербак А.М., 1977. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. Имя. Л.Щербак А.М., 1994. Введение в сравнительное изучение тюркских языков. СПб.С/ЯИ5ОП С., /962. ТигкЬп апй Моп§о11ап ЗпкЛе.ч. Ь.С1аизоп С., 1972. Ап Егуто1о§юа1 О1спопагу оГ Рге-ТЫ«ееп1п-Сеп1игу Тигйзп. ОхГогй.Ьш Мао-ит, 1958. О!е СЫпешсЬеп МасЬпсЫе гиг СевсЫсЫе Лег (Ы-Тигкеп) (Т'и-Кие). В. I. Тех1е. МезЬадеп.КаШо#\У., 1895. О1е А11Шгк15сНеп 1п8СппгЕеп йег Моп§о1еь 5РЬ. Оппе Ыег.Те/ап Т., 1968. А Сгаттаг оГ ОгкЬоЬ ТигЫс. В1оотт;»1оп (1т11апа 11ту. РиЬНсайопя. ЦгаНс апд А1(аю Зепез.
V. 69).
Институт археологии РАН,Москва
88
IX. КУ2ЬА8ОУ
ПАТА (Ж ТНЕ ЕАКЬУ Т1ЖК1С Н18ТОКУ.I. ТНЕ МО8Т А1ЧС1ЕОТ ЕУГОЕ^1Е8 ОN ТНЕ АКМУ
8 и т т аг у
ТЬе 1п8спрйоп8 оп Ше ОгЫюп апд Уешяе! ргоу!де а \уау оГ гесоп8Ггисйп§ Ше апс!еп1 агту оГ Ше ТигКсреор!е8. ТЬе Егуто1о§у оГ Ьа81с уосаЬи!агу \уогд8 апд а де(а!1ед апа!у818 оГ де8спрйоп8 Ша1 тепйопед т1111агуорегайоп8 ГевйГу Ю те Го11о\у1п§. ТЬе соттоп \уогд Гог агту \уа8 "811". 1гя Пгя! театп§ 18 "а тШгагу дегасптепг, а§гоир оГ П§пгег8". 5исЬ соттоп \уогд8 а8 (Козе театп§ "го Ысе Ше Йе1д, го в,о го ч/га", "Ю §о тгЬ агту", "го§аШег агту", "1о Ьеад агту", "тШгагу 1еадег: аге а!8о ге!а1ед го 1г. ТЬе уегЬв "Го йг,ЬГ, Го §о го жаг", "Го пеад апагту" апд Ше ад]есйуе "тШгагу" \уеге Гогтед Ггот Ше 8Гет "811". Непсе, Ше угогд "8и" сои!дп'Г Ьауе Ьад а 8рес1а1теапт§ ЬиГ оп!у а уегу §епега! апд рптогсНа! опе. Р1г8Г Н \уа8 Ше пате Гог ап тГапггу апд соппесгед Ю Ше уегЬ"]ога" - "Го §о, го \уа!1с". 1г 18 поГ Ьу сЬапсе Шаг Шеге ш по 8рес1а1 гегт Гог "сауа!гу" 1п Ше гите 1п8спрГюп8. 1Г 1ядевспЬед Ьу Ше »огд сотЫпайоп "айуу ,чи" - "агту Шаг Ьа8 Ьогзея". А \уеа!сепед агту 18 саНед "Ше опе Шаг ПгезНе ГееГ оиг". ТЬе уегу апс!епг 8Гет 'Чит)" »ЫсЬ Ьадп'Г Ьееп ивед т Ше 8гЬ сепГигу \уа8 ивед Го Гогт шогдв \уЦЬ§епега! теап!п§8: "ЬаШе, \уаг", "Го П§Ьг", апд Ше пате Гог опе рагг1си!аг 1уре оГ агтв — "вреаг". Ва111е \уа8 дие! шШ8реаг8, Го П§Ьг теап( го 8реаг. ТЬе Пг8Г теап!п§ оГ Ше уегЬ "сапб" - "Го шп" к "Го сиг, Го яреаг". ТЬе дага оГ1т§и1811с8 Ге8Ййе8 Го Ше Гасг Ша1 Ше Пг81 агту оГ гЬе Тиг1с1с 8реаК1п§ реор!е8 соп8181ед оГ ГооГ 8о1д1ег8 ш!Ш зреагв.ТЬе Ы8Гопса1 дерШ оГ Ше8е даГа ехсеедв а!1 1спо\уп №г!Иеп апд агсЬаео!о§1са1 еу!депсе аЬои( Гпе ТиЛ8. ТЬе дагаоЬуюи81у деа!8 \у!Ш Ше рге-Тиг1с1с 8ос1еГу. ВиГ Ше ТигЫс тГапггу \уа8 тепПопед а!80 1п 1ех18 оп Ше еуепГв ЮоКр!асе т Ше т!д-7Ш - т!д-8Ш сепГипев. Еуеп 8исЬ ап8[осгаГ8 а8 КШ-геедп шеге ГооГ 8о1д1ег8. ТЬеге 18 оп!у опе \уогд,"ег", Гог 8о1д1ег8 - ЬоШ 1са§ап8 апд соттоп реор!е. ТЬе то8[ апс!епГ аппу соп818Гед оГ Ги11 п§ЬГ8 (апд едиа! п§ЬГ8)теп \уЬо Ьад §опе Шгои^Ь 1п1иа11оп. 1г соп818Гед оГ №о §гоир8: Ше е!де8Г опе ("ег") апд Ше уоип§е81 опе ("оу!ап" -"Ьоу8, 8ОП811). РатНу Гегт1по1о2У >уав ивед Гог 8о1д1ег8 оГ Ше яате абе: "цадаЗ" — "Гпепд" (оп§1па11у "ге1аг!уе").МетЬег8 оГ д!ГГегепГ ГпЬе8 \уеге саПед "е5" - "Гпепд". АН Ше.че Гас18 виррогг Ше погюп Шаг Ше 8ос1егу'8 агсЬа!с8у81ет (Ьеге: 1Г8 та!е рагГ) \уа8 д!у!дед 1пГо §епегаГюп8 оГ ециа! реор!е \у!гЫп Шет (ге1аг1уе8 ог Гпепдв). ТЬе агту\уз8 а!8о са11ед "Ьодип" - "реор!е". Непсе, оп!у Ше та!е8 оГа соттиш1у ог ГпЪе *еге саНед "реор!е". Еуегу апс!епгТиг1с1с Ьодип соп818Гед оГ Ггее ег8 апд у/а8 Ьеадед Ьу а Ье{*. ТЬе оШег теашп§8 оГ Ш18 \уогд аге депуайуе.
89